
Бесплатный фрагмент - Сочинительство сказок
Я далёк от стихов…
Я завяз в полупрозе…
Стихи

Когда-то моя мама любила стихи. Давно любила. Давно собирала их. Может, и не любила, но увлекалась. Это значит, что всё-таки ценила.
Зная это, я подарил ей три тома поэзии. Книги в те годы не ждали покупателя на полках, за книгами надо было охотиться. Они издавались миллионными тиражами, но растворялись в огромном Советском Союзе без следа. Все читали. Книги были самым надёжным развлечением и, как говорили, самым хорошим другом. Поэтому почти не получалось достать их. Книгу брали почитать у знакомых, и нередко отношения между людьми рвались из-за того, что кто-то не вернул книгу. Это называлось «заныкать». Книги были в цене. Не в смысле денег, а в настоящей цене: их уважали.
Долго я бродил вдоль прилавков центрального Дома Книги на Новом Арбате, но там были только книжульки в два десятка страниц. Для подарка они непригодны. И вдруг меня отозвал в сторону какой-то мужичок со шныряющими глазками.
— Чем интересуешься?
— Стихами. Маме на день рождения.
— Пойдём, покажу кое-что.
Он завёл меня под лестницу, огляделся, повернулся спиной к залу и достал из своей сумки три увесистые книги. Поэзия разных лет.
— Глянь. Сгодится?
Я повертел книги. Новенькие. Чистые. Пахнущие типографией.
— Сколько стоит?
Официальная цена каждого тома 2—94.
Мужичок содрал по 10 рублей за каждую — целое состояние для меня, студента.
К сожалению, не помню, удалось ли мне порадовать маму, но знаю, что мне жутко хотелось сделать ей приятно. Она же любила стихи.
Много лет эти книги стояли у неё на полке. Потом она положила их под кровать. В качестве подставки. Под ножки кровати, чтобы кровать приподнялась со стороны головы. Книги продавились, это естественно.
Когда-то она ценила поэзию. Ходила на поэтические вечера, переписывала стихи в тетради. Сейчас не читает, не ценит их. Она состарилась и опустилась. Она ценит только деньги, которых у неё нет. Она думает, что книги ничего не стоят, поэтому не ценит их. Использует их как кирпичи.
Как ни странно, увидев это, я не обиделся. Можно ли обижаться на больного человека? Кроме того, это её книги, я сам подали их ей. Хорошо, что она нашла им применение.
Сегодня многие не покупают бумажных книг, читают электронные. Мне нравятся электронные книги. Они хороши во многих отношениях: не пылятся, не занимают место, их удобно возить с собой в командировку или в отпуск. Но у электронных книг есть один колоссальный недостаток. Их нельзя подсунуть куда-нибудь в качестве кирпичей, на них нельзя сидеть, как на стуле, и ими нельзя растапливать печь.
Время

Последнее время меня подводит время. Да, именно так. Оно будто сорвалось с цепи, ну, вроде той лохматой собаки в соседском дворе, которая сошла с ума и стала бегать вдоль дороги туда-сюда наперегонки с машинами. Время стало другим. Что-то стряслось с ним.
Не в часах дело, не в стрелках, изображающих автоматический циркуль, и не увядающих чертах лица, бесцеремонно вылезающих из зеркала. Дело просто во времени.
Мне кажется, что его не хватает. Из-за этого я читаю по диагонали и всё теряю. Читать надо медленно, со вкусом. Гурманы отличаются умением наслаждаться и не спешить. Для гурманов нет времени. А я был гурманом. Раньше был. Гурманом во всём. Поэтому был счастлив. Я умел наслаждаться. Но сейчас кто-то заменил механизм времени. Внутреннего времени. Оно засуетилось. Оно обезумело. Оно пытается обогнать меня. Поэтому я потерял вкус. Я тоже стал суетиться. Внутри себя суетиться. Пытаюсь обогнать себя, обогнать мои желания, обогнать всё, что попадает мне в руки. Я не рассматриваю, а скольжу взглядом. Рикошет, а не взгляд. Рикошет всюду. Слушаю — не слушая, потому что надо успеть куда-то ещё. Читаю — не читая, потому что жадность схватить следующую книгу разрушает текст, рубит его, перебрасывает кусками с место на место. Всё стало пресным и бесцветным.
Если бы не время…
Кто-то подменил его во мне. Я боюсь не успеть.
Куда?
Просто не успеть. Всего так много. Раньше тоже было много, но я не боялся не успеть. Я просто был во всём, что делал. Наслаждался. И вот перестал. Побежал. Неправильно это. Неправильный ритм. Испорченный ритм. Испорченное время внутри меня.
Мне хочется танцевать под ночным небом, в плавном покачивании музыки, под убаюкивающим мерцанием звёзд, под тёплыми прикосновениями южного ветра. Но я знаю, что надо успеть что-то ещё. Что именно? Этого не знаю. Я же никуда не тороплюсь, зачем же спешить, зачем же обрывать удовольствие танца? Зачем лишать себя наслаждения?
Я спешу заглянуть дальше, не успев оглядеть то место, где я сейчас. Что-то испортилось во мне. Сломалось. Сместилось, как тектонические плиты. Сместилось и вызвало разрушительное цунами внутри меня. Всё разметалось. Всё превратилось в труху. Всё перевёрнуто. Всё перемешано.
Я спрашиваю про третье блюдо, хотя только притронулся к первому. Я не присутствую. Я убежал вперёд, ничего не ища там. Просто я боюсь не успеть. И не получаю того, что держу в руках. Теряю. Всё теряю. Ежедневно, ежечасно, ежеминутно.
Нет большего несчастья, чем сломавшееся внутри меня время. Нет больше пустоты, чем пустота моей суеты.
Хочу наслаждаться поцелуем. Вкусом поцелуя. Атмосферой комнаты, где поцелуй застал меня. Окружающими звуками. Вечностью этого поцелуя.
Хочу наслаждаться книгой. Поцелуем книги. Музыкой книги.
Хочу наслаждаться вином.
Хочу наслаждаться солнцем.
Хочу наслаждаться улицей.
Хочу наслаждаться жизнью.
Хочу найти мастера, который сможет исправить мои разладившиеся внутренние часы и вернуть меня в русло моего времени, чтобы сейчас было только сейчас…
Письма
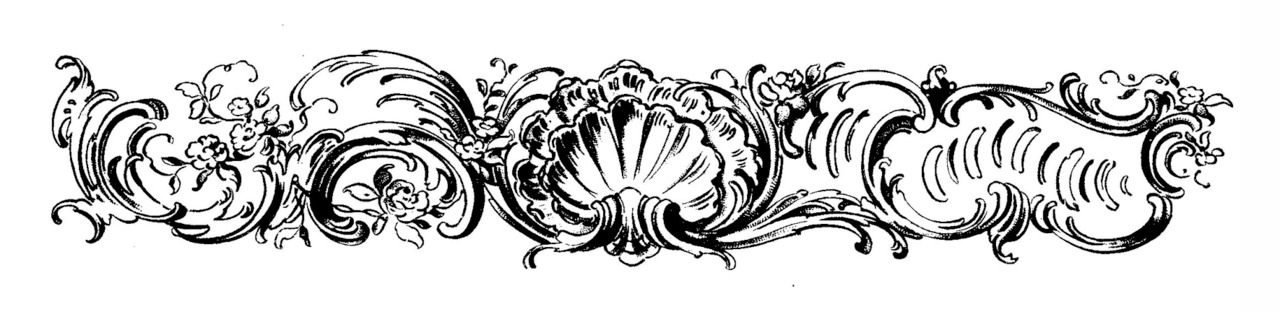
Мы писали друг другу письма. Часто и с чувством. Обычные письма на бумаге. Интернета ещё не было, он ещё не сделал нас всемогущими. Мы даже не догадывались о том, как изменится наша жизнь, наши письма, наше общение и мы сами. Изменимся к худшему.
Но в то время мы ещё не испортились. Нас переполняли чистые чувства. Мы признавались, что скучаем. Признавались многословно. При этом вспоминали что-то ещё, отвлекались от признаний, принимались рассказывать про вчерашние события. В письмах мы разговаривали. В письмах мы любили.
Встречаясь, мы разговаривали меньше. Нас пожирала страсть. Изголодавшиеся по желанной наготе, мы отдавались друг другу, теряя счёт времени.
Мы жили в разных городах. Не очень далеко. Три часа лёту. Иногда звонили по телефону. Ждали, соединят или нет. Не знали, застанем ли друг друга, услышим ли, скажем ли что-нибудь. Часто не заставали и тогда бросались к бумаге, чтобы высказаться.
Письма! Конверты! Какое это было удивительное время! Какое волшебное состояние охватывало, когда письмо попадало в руки. Какое предвкушение удовольствия!
Сначала посмотреть на просвет, чтобы увидеть письмо внутри и не порвать его, отрывая краешек конверта. Потом вытащить письмо, сложенное пополам. Несколько страниц. Повертеть их — до конца ли исписаны. И начать впитывать его в себя, дышать им.
Голос… О как я любил голос писем! Я их всегда слышал. Её голос звучал в каждой букве. Каждая строка пела её голосом. Клянусь — я слышал голос.
Наверное, это просто любовь. И чистота. И телепатия, рождённая желанием встретиться, обнять, раствориться друг в друге. И опять расстаться, чтобы отдаться бумаге, заполнить её чувствами. На расстоянии, разделявшем нас, ничто не могло быть важнее писем. Мы сами теряли свою значимость. Письма делались главнее нас. Мы зависели от них. Молились на них. Каждое утро заглядывали в почтовый ящик — пришло, не пришло? «Тебе письмо. Танцуй». Можно ли такое про SMS?
Любовь постепенно уходила, а письма оставались.
Невыносимость

«Превращение музыки в шум — планетарный процесс, которым человечество вступает в историческую фазу тотальной мерзости. Тотальный характер мерзости проявился прежде всего как вездесущность акустической мерзости: машины, мотоциклы, электрогитары, дрели, громкоговорители, сирены. Вездесущность визуальной мерзости вскоре последует». (Милан Кундера «Невыносимая лёгкость бытия»)
Любопытная точка зрения. С ней можно не соглашаться, но согласие и несогласие не имеют значения, когда речь идёт о литературе. Спор идёт уже не о книге, а о мыслях, прорвавшихся в атмосферу и живущих с тех пор самостоятельно.
Мерзость, о которой сказал Кундера, уже здесь. Она на улице. Она в телевизоре. Она в музеях. Она всюду. Но её нет во мне, и это значит, что она не вездесуща…
Читаю Кундеру с большим интересом. Сначала что-то не пускало меня, будто между мной и книгой стояла стеклянная стена: я видел текст, но не мог войти в него. А ведь в книгу надо войти, только тогда она откроет читателю всё глубоко личное, что поместил в неё писатель. Сколько таких книг приходило ко мне… и не давалось в руки. Они казались мне насмешкой, издевательством: я хотел их, но они отторгали меня — разве такое возможно? Отторгали моё неспокойствие. Эти книги требуют покоя. Внутреннего покоя. Это их условие. В них можно войти только при условии, если не мешают другие мысли. Даже тень посторонней мысли может уничтожить произведение, оно распадётся на отдельные слова и перестанет жить. Необходимо сделать эту книгу частью себя, и тогда только каждая страница будет открывать читателю правду о нём самом.
«Невыносимая лёгкость бытия» — не обо мне. Меня нет в этом произведении. Моих знакомых тоже нет. И всё-таки я увидел себя. Без малейших усилий увидел то, что живёт во мне. Живёт — как микроб, которому сейчас спит, но который проснётся при определённых обстоятельствах.
Кундера хотел обмануть читателя, втянув его в странную игру, где повествование важно, но не как сюжет, а как цепочка выдуманных знаков. У этих знаков нет ничего, никакого смысла, но человек цепляется за них, придаёт им значение. Но в действительности Кундера пишет совсем не об этом. Его игра не имеет названия, поэтому вводит в заблуждение. Возможно, так и надо поступать — ломать всё привычное. Не вокруг ломать, а в себе. Кундера не принуждает, он лишь рассказывает, и его рассказ может помочь читателю переменить в себе точку восприятия нашей действительности. В освобождении своём увидеть своё предательство и понять, что природа твоя — предательство. И многое другое понять. Кундера раскладывает карты для гадания, но карты открывает не Кундера, а читатель и сам же объясняет их себе.
Мне давно хотелось написать такую книгу, где одна закончившаяся история получает продолжение в чём-то или ком-то другом. И получается, что история не заканчивается. Ничто никогда не заканчивается. И даже закончившееся всё равно каким-то образом продолжается. Так уж всё увязано одно с другим. Так смог сделать Кундера.
С каждой страницей мне труднее оторваться от «Невыносимой лёгкости бытия». Каждая строчка уводит меня дальше и дальше от того меня, которого я знаю, и знакомит меня с тем, о котором я не ведал ничего, но который, быть может, даже больше меня, известного мне. Хитрец и плут этот Кундера. Я не должен был угодить в его сети, но попался-таки…
Обман

Люблю старые фотографии. Люблю старые газеты. Они пропитаны особым качеством.
Сегодня разглядывал фотографии отца, где он ещё ребёнок. Разглядывал молодую бабушку. До чего ж смешиваются чувства, до чего ж сложный замес ощущений! По сути, я смотрю на чужих людей, но я знаю, кем они доводятся мне. Если бы это были не мой папа и моя бабушка, то вряд ли я ощутил бы что-нибудь близкое к тому, что охватило меня сейчас. Бабушка очень привлекательна (с короткой стрижкой). Я вижу в ней женщину, но какой-то рычаг внутреннего табу не позволяет желать эту женщину. Вот был бы я молод, как она на той фотографии, встретились бы мы где-нибудь на танцах, что бы случилось? Она ведь так хороша! Не удержаться от поцелуя. Но если знать, кто она, то возникает противодействие: рвущаяся вперёд мысль прибивается гвоздём и не может двигаться никуда. То же и с лицом отца. Я вижу в том мальчике будущую историю жизни, мне известен тяжелейший итог его жизни, и нет никакой возможности изменить что-либо. Не поэтому ли его лицо кажется мне особенным? Я испытываю к нему определённые чувства лишь благодаря имеющейся у меня информации. Не обман ли это? Мозг подсказывает нам, что именно надо чувствовать, как режиссёр подсказывает актёру, какие краски нужно добавить для пущей выразительности образа. Сколько известно в литературе и кино историй о том, как зрелый мужчина вступает в сексуальную связь с девушкой, а позже выясняет, что спал со своей дочерью. И в нём всё меняется, хотя ничто на самом деле не изменилось. Какое коварство восприятия! Шарлатанство!
Фотографии всегда вызывали во мне чувство мистического восторга и будили фантазию. И дело не в том, что фотография — это застывшее время. Скульптура — тоже застывшее мгновение, но у меня, глядя на самое изумительное изваяние, не возникает вопроса: а что было до того и что будет дальше. Фотография же, будучи ограничена рамками, вызывает во мне любопытство. Мне всегда хочется заглянуть за эти рамки, за срез бумаги, ведь фотоаппарат выхватил только кусочек мира, а остальное пространство осталось где-то и продолжает жить, спрятанное от моего взора.
Но это касается лишь чужих фотоснимков. Мои фотографии оставляют меня равнодушными. Зная, как они сделаны и что с ними связано, во мне пробуждаются только воспоминания. А вот чужие…
Там целый мир. Там бесконечность. Там неведомые истории. Там жизнь до фотографии, жизнь после фотографии, жизнь во время фотографии. И мне хочется заглянуть в эти жизни.
Всматриваюсь в лица, в фигуры, в позы, в тени. Они вот-вот шевельнутся, двинутся ко мне, протянут руки, улыбнутся. Или уйдут туда, где фотография заканчивается. И я, конечно, пойду за ними. Пожелтевший снимок начала двадцатого века — это окно в другой мир. И не имеет никакого значения его качество, потому что фотография — только окно. У нас есть возможность заглянуть туда. Войти туда, остаться там. Множество раз можно заглядывать, и каждый раз мы будем видеть разное, потому что материал, из которого сотворён тот мир — наше воображение. Оно создаёт, оно исправляет, оно оставляет навечно и меняет одно вечное на другое вечное.
Иногда стоящие на полке фотографии пробуждают во мне ужас, потому что я чувствую их взгляд. Они смотрят на меня, наблюдают из своего окна. От них невозможно спрятаться, даже повернув фотографию лицом к стене. Отвернув их, я не избавляюсь от их присутствия. На самом деле они смотрят не на меня, а в моё пространство, где каждая точка содержит в себе целый мир, отражает целый мир, впитывает целый мир. Они смотрят на нас и видят нас лучше, чем мы видим их. Они могут спрятаться, застыть, притвориться несуществующими, притвориться плоскими картонками, оставаясь на самом деле живыми и безграничными, а мы не можем притвориться.
Вступая в контакт с фотографиями, я отдаю им мою душу. Они уводят меня к себе, отрывая меня от себя. Они затягивают, показывая мне то, что не видят другие. Мы становимся соучастниками величайшей тайны, куда не допускаются другие. Мы перешёптываемся, переглядываемся, обмениваемся нашими ощущениями. Кто угодно может, конечно, рассматривать ту же фотографию, но никто никогда не увидит то, что открывается мне, когда я проникаю сквозь плоскую картинку в «зазеркалье».
Бесспорно, фотоснимки являются пойманным мгновением. Но сам я занимался фотографией не для того, чтобы ловить время. Мне нравилось создавать. Фотографируя, я не копировал окружающую действительность, а изменял её. Взять хотя бы ракурс. Для меня это всегда был угол зрения не столько в физическом смысле, сколько проявление внутреннего взгляда на фотографируемый объект. Оптика — это не просто стекло, но кисть, с помощью которой создаётся изображение. Крупность, фактура, свет — всё передаётся оптикой, всё втягивается с её помощью в кадр, и нужно уметь отбросить лишнее во время съёмки, выстроить линии так, чтобы они удовлетворяли затаившееся внутри меня желание. Хорош мой снимок или плох — только я могу ответить на этот вопрос, и не словом ответить, не технически-профессиональным разбором, а откликом моих чувств на готовый отпечаток. Возможно, он не вызовет больше ни у кого ощущений, схожих с моими, возможно, не только не коснётся сердца, но вообще не обратит на себя внимание. Мне важно было увидеть на фотобумаге то, что я хотел увидеть — сотворённый мною уголок мира.
Фотография, как произведение искусства, тем отличается от любой другой фотографии, пусть даже выполненной на высококачественной профессиональной аппаратуре, что автор вытаскивает себя наружу и присутствует в каждом снимке гораздо больше сам, чем те, кого он запечатлевает. Они, объекты его внимания, становятся его отражением, преломляя его «я» в своих лицах, фигурах, позах, движениях. Художник не умеет просто копировать, он не способен срисовать линию такой, какая она есть в действительности, он видоизменяет её, оставляя лишь некоторую схожесть с оригиналом.
Мой взгляд приковывается к мшистой коряге в лесу, или к морщинистой коже старика в толпе, или к полупрозрачному лицу девчушки и вступает в непонятное общение с ними. Что исходит от людей и предметов, ставшими на несколько мгновений центром моего внимания? Что за сила заставляет меня смотреть на них, буквально прикипая к ним взглядом? Однажды я ехал в автобусе и увидел, как боковой солнечный луч упал на плечо красного пальто. В густых тёмно-коричневых тенях пассажиров это было единственное яркое пятно, но дело было не в цвете и не в свете. В том мгновении соединилось сразу всё: движение автобуса на повороте, когда все тени стремительно перемещаются, ощущение многолюдности и перегруженности пространства, внезапный косой свет и проявившееся будто из небытия красное пальто, которое на самом деле давно маячило перед моими глазами, но никак не обращало на себя внимания. И никакая фотография не передала бы охватившего меня восторга, никакой хроникёр не смог бы воспроизвести увиденное. Только художественное решение может справиться с такой задачей, хотя в данном случае речь могла быть только о кино, а не о фото.
Фотография — это книга без слов, история без текста. Фотография даже больше, чем книга, потому что каждый зритель рождает свою историю.
Следы

Уставшим людям
Больно!
За кошку бездомную, ободранную, мокрую и всеми забытую больно! За друга, жестоко избитого в узком ночном переулочке — больно! За наивных влюблённых, меж которыми вдруг кончились все отношения — больно! И не уйти от этого никуда.
***
Бесконечно-чёpная одежда особенно подчёркивала кладбищенскую белизну лица этой женщины. То было даже не лицо, а бесцветное пятно с бездонными впадинами глаз. Невидимая фигура смерти, укутанная в холодную шаль расставаний, стояла рядом, опустив ладонь на плечо женщины.
Между раскинутыми руками могильных крестов мерцал утренний туман. Женщина бессильно свесила голову, и такой одинокой казалась её тёмная фигура в равнодушной тишине.
О, смерть! Непреодолимая стена! Сколько можно биться лбом о твою сырую поверхность? Сколько можно надрываться криком, наклоняясь над пастью твоей бездны?
— Может быть, тебя вовсе не было? — тихо спросила женщина, продолжая какой-то разговор. — Ведь не мог ты быть, а потом перестать быть. Того только нет на свете, что и раньше не существовало. А то, что было, то и сейчас должно быть. И если ты жил, ты должен жить и теперь. Где же ты? Почему ты молчишь? Ведь я чувствую это твоё странное присутствие…
Она подняла руку и тронула пальцами свой бледный лоб. Синие прожилки обозначились под кожей от напряжения. Холодное дыхание тумана влажно скользнуло по её ногам, облитым чёрными чулками. Серый от сна ветерок лениво шевельнул длинную юбку, и мягкие складки чернильными волнами омыли чью-то невидимую щёку.
— Я знаю, ты здесь. Но ты молчишь. Почему вы все молчите, покинув этот мир? Или вам нельзя говорить с нами? — Она опустила усталую руку. Бархатный взгляд её остановился на свежем холмике земли. Что-то слышалось, но различить это что-то у женщины не получалось. Далёкий голос Тайны, который есть у каждого человека, едва уловимо полз между мутных капель тумана… Голос тайны… Разгадаешь эту тайну — человек станет с тобою единым целым, частью твоей, а ты — его. Может быть, ты разгадаешь то, что он сам не знает. Но это — пока жив человек… Когда же дверь бытия за ним закрывается, его тайны безвозвратно уходят с ним.
— Почему вы позволили себе умереть? Почему бросили нас? Неужели наша любовь к вам ничего не стоит?
И тут ей почудилось, что чей-то голос отчётливо произнёс слово «нет». Она не столько услышала слово, сколько почувствовала его в себе.
— Нет? Наша любовь — ничто?
И вновь ощутила в себе отзвук собственных слов — так слышится переливчатый звон колоколов, доносящийся из-за голубоватого лесного массива на горизонте — далёкий, едва уловимый, но тем не менее безошибочно угадывающийся. Ей показалось, что окружавший её туман начал впитываться в неё, и невидимые люди неторопливо стали проникать в её тело, выходя из невесомых капель тумана, их голоса что-то пели ей в самые глаза. Они пели о том, что любовь к человеку опустошает мир. Опустошает… Неужели? Разве это возможно?… Пока любви нет, жизнь струится безмятежно в своём русле, журчит, беззаботно напевает. Но приходит любовь, и всё закипает. Брызги, пена, шум бушующих чувств, пожирающий огонь. Всё наполняется безумной радостью и добротой. Всё наполняется движением, устремлением, нетерпением. Но ураган любви уходит, и тогда мир окунается в серый поток невзрачной прозы. Любовь уносит с собой поэзию и разбивает радугу над головой. Осколки падают вниз и ранят сердце… Маленькая любовь с громким истеричным голосом, маленькая уходящая любовь — ничто.
— Ничто. Но где же вы были раньше? Что же вы тогда при жизни сами любили такой любовью? Зачем рыдали от счастья? Зачем вены с горя вскрывали?.. — Она вдруг закрыла рот рукой. Глубокий бархатный взгляд её застыл. — И я… Неужели и я тоже заговорю, как вы? И я в соединении с Вечным узнаю и пойму всё?
Туман ласково погладил её по лицу. Чьи-то тёплые глаза улыбнулись ей.
— А как же сейчас? Почему не сейчас? Зачем тогда всё, если только за порогом я узнаю настоящее? Или… здесь тоже можно? Неужели мне придётся всякий раз возвращаться сюда, чтобы в конце концов понять полноту жизни и пользоваться ею здесь… Так ли? Неужели мне нужен этот необъяснимый человеческими понятиями кошмар?… Но ведь я знаю твёрдо, что есть этому объяснение…
Она ждала.
Туман отступал. Туман не хотел вступать в разговор.
***
Он опустился на землю, тяжело прислонившись спиной к мокрому стволу дерева, и только теперь почувствовал, как сильно устало тело. Оно было заполнено жидким железом, которое болезненно переливалось из мышцы в мышцу, заставляло сжиматься и не двигаться. Он положил надоевший автомат на колени. Деревянные пальцы не смогли выпустить оружие.
— О-о-о… — раздражённо протянул он и с усилием разжал стиснутые пальцы, покрытые холодной грязью.
Рядом сидели такие же люди. С такими же онемевшими руками. С такими же усталыми лицами. В той же грязи. У одного из-под мокрых волос текла тёмная струйка крови.
Он закрыл глаза. Травинка, прилипшая к губе, попала в оскалившийся рот. Он сплюнул, не открывая глаз.
— Как они там без нас? — вдруг спросил он.
— Кто?
— Дети, жёны…
Чей-то голос невнятно промычал ему что-то в ответ.
— Ведь если они не дождутся нас, мы виноваты будем в том, что они останутся одни. Только мы, никто другой…
— Лично я в эту дыру не напрашивался, — ответил чей-то голос справа, — нас сюда послали.
— Послали… Но устоять, выжить обязаны именно мы, а не эти золотопогонные рожи, загнавшие нас в кровавое дерьмо…
Кто-то надрывно закашлялся.
— Да ты что? Что орёшь?
— Кашляет человек, а не орёт, не видишь разве…
— Всё равно орёт! Мы тут все орём! Услышат ведь! И так затравили, говнюки, загнали, обложили со всех сторон…
Внезапная пулемётная очередь со стоном взбила комья земли и оторвала от дерева пару крупных щепок. Чёрные брызги ударили по лицу. К пулемёту присоединилась трескотня автоматов.
Он вжался в землю, ощутив всю тяжесть напрягшегося тела. Глаза успели скользнуть по чьим-то разодранным башмакам. Перед самым лицом шмякнулось, вжикнуло. Маленький камешек разлетелся под пулей. Над ухом просвистело.
Он с трудом нагнулся, чувствуя тянущую боль в спине, попытался ухватить откатившийся автомат и увидел длинный лоскут окровавленной кожи, оторвавшийся от кисти до локтя, где из-под заскорузлого завёрнутого рукава торчал клочок грязного бинта на вчерашней ране. Он поднёс руку к губам, лизнул след, оставленный пулей, и откусил мокрую полоску кожи.
— Ну, собаки, уделали! — прошептал он.
Справа, словно ворох пустой одежды под сильным потоком воды, скрючивалось от бесконечной пулемётной очереди безликое солдатское тело.
Он пошевелил пальцами.
— Ну вот… Начинаем игру…
Прищурившись, он нажал на спусковой крючок. Он не видел тех, в кого стрелял. Но он знал место, откуда рыгала свинцовая смерть. Он видел трусливо содрогавшиеся от выстрелов листья мокрого кустарника, видел пороховое дыхание автоматов.
— Вот она, Сказка Сказок, — бормотал он, — вот он, пучеглазый зелёный дракон, плюющий огнём. Вот он, Ад, со всеми его сковородками, с жареным мясом, с кровавыми подливами…
Воздух превратился в кашу, бурлящую болотной жижей и порохом. Грохот выстрелов слился воедино, стал огромным чёрным куском, колошматившим по телу, по ушам, по нервам.
— Интересно, — вдруг юркнула мысль, — зачем всё это? Испытание? Во имя чего? Зачем оно мне, если я погибну? Зачем оно мне, если выживу?
Он торопливо сплюнул попавшую в рот землю, отёр лицо левой рукой, зашипел змеёй и нажал на спусковой крючок. Какое-то время он громко хрипел, словно подпевая оружию, но неожиданно замолк, почувствовав, что магазин автомата давно пуст.
***
И ведь так всегда: всегда есть кто-то, кому в данный момент плохо, всегда есть кто-то, о ком мы не знаем и чьих криков о помощи не слышим. Но всегда мы слышим себя.
Что же это за любовь такая, если она окутывает нас завесой сладкого забытья? Если уши затыкает и делает чужую боль неслышной. Или так положено? Может быть, такова природа любви — упиваться наслаждением собственных чувств? Может, таково её свойство — обводить стороной, вести через цветущий сад, а не через трущобы? Может, на то и дается эта любовь, чтобы показать всю прелесть жизни, а потом вдруг бросить, уйти, покинуть, столкнуть лицом к лицу с невыразимой болью человеческой? Может, это хитрый ход, направленный на то, чтобы заставить человека эту боль лечить?
Как больно! Как больно выходить из уютной колыбели детства! Как больно, когда ласковые пальцы любви перестают тебя гладить! Как больно смотреть на поле страданий! И не уйти от этого никуда…
***
Он мог только сидеть, так как яма была неглубока и накрыта сверху деревянной решёткой. Он старался найти опору спиной, но стена скользила, уплывала куда-то в сторону, зыбко разъезжалась грязью. Связанные за спиною руки уже давно перестали чувствовать, но плечи болели, даже не болели, а кричали, и от невозможности избавиться от их крика он плакал. Рядом, наполовину залитый чёрной густой водой, лежал второй, но он его не знал. У этого второго не было лица, оно потонуло в грязи, было только ухо и грязный лысеющий затылок. Вероятно, этот второй уже умер, потому что давно не шевелился, не дышал, не реагировал на надоедливые капли дождя, которые громко барабанили по одеревеневшим складкам униформы.
Зачем эта яма? Зачем сюда бросают людей? Зачем их берут в плен? Он опять попытался сесть поудобнее.
— Выжил… выжил… выжил…
Он бубнил это слово с того момента, как увидел себя в яме. Сначала он попробовал подняться в полный рост, но ударился головой о решётку. Он пробовал звать на помощь, но никто не откликался. И слово «выжил» вдруг стало проклятьем, пыткой. Жизнь оказалась в сотни раз хуже смерти. Это был какой-то жестокий страшный урок: ты хотел жить, ты так цеплялся за жизнь, ты так боялся умереть, а теперь подавись своей жизнью, жри её до тех пор, пока она не опротивеет, пока не взмолишься о смерти! Знай, что такое смерть. Смерть есть, пока есть жизнь. Смерть страшна, только пока цепляешься за свою шкуру!
Он закричал, завыл, приподнялся на ноги, но рухнул, соскользнул по жидкой земле на спину, ткнувшись плечом в мёртвого соседа. Ему расхотелось шевелиться. Дождь бил в нос, затекал в ноздри. Он слегка повернул голову и увидел перед собой ухо покойника. Странная восковая фигурка, похожая на причудливую морскую раковину. В двух местах разбита и склеена запёкшейся кровью. Слизистый кусочек кожи иногда шевелился на самом кончике уха, дёргавшийся под каплями дождя, оторванный, чужой.
Наверху, высоко-высоко над решёткой, несколько раз поперхнулся громовыми раскатами небосвод.
***
Всё это уже было когда-то. Всё это уже пережито не раз. Рождающиеся воспоминания чувств подсказывают, что это не ново: страх, жажда, усталость, попытка отмахнуться.
Опять иду по кругу, по тому же заколдованному кругу, натыкаюсь на собственные следы, но опять и опять принимаю их за чужие. Что-то шевелится в душе, что-то готово вот-вот распуститься лепестками понимания, что-то знакомое, но ещё не узнанное. И опять бреду по кругу, устало шаркаю стёртыми подошвами сандалий, сбрасываю горячие капли пота с глаз. Сколько ходить ещё вот так? Сколько сжимать в руке щит и копьё? Сколько можно смотреть на распятые тела вдоль дороги?
Всё это уже было однажды… Вонючие рыжие быки с кольцами в сопливых ноздрях уже рвали меня пополам. Окружающая толпа радостно пялилась на казнь, щёлкая хлыстами, хлопая в ладоши, бряцая костяными ожерельями и напевая песню священного праздника… Всё это было! Было! Было! Зачем же опять? Почему снова смерть и животный страх перед ней? Я уже однажды кричал, в ужасе брызжа слюной, когда в ладони мои вбивали толстые гвозди, и тело больно провисало на поднятом кресте. Зачем же опять?.. Я уже видел толпу линчевателей, когда они долбили меня, отупевшего от боли, прикладами винтовок, а потом затягивали верёвку на моей шее. Зачем же опять?..
Зачем эта яма с покойником?
***
Она выбежала из волн и встряхнула головой.
— Почему ты не купаешься?
Он слегка отвернулся, чтобы скрыться от брызг с её головы, но не двинулся с места.
— Я не хочу. Не люблю купаться. Я люблю просто сидеть и слушать море, — он с улыбкой смотрел, как она ложилась на горячий песок и вытягивалась тонким телом под солнцем. Красивое тело. Красивая кожа. Красивый блеск солнца на загорелой женской коже.
— Странный ты какой-то. На море надо купаться, а не сидеть на берегу.
— Я не люблю.
— Разве можно не любить морскую воду? — не поверила она, нежно поглаживая песок мокрой рукой. — Ты только посмотри, как чудесны перекаты волн, какие они синие и прозрачные.
Он с удовольствием посмотрел на морские волны, затем с не меньшим удовольствием вернул взгляд к женскому телу. Лёгкая ткань купальника жадно облепила возбуждённые молодые груди. На загорелом животе подрагивали крупные капли воды.
— Да, море чудесно, однако во мне с детства живёт неприятное чувство, что в волнах скрыта опасность. — Он лёг рядом с ней и положил руку на её мокрый живот. В его душе на самом деле ютилось необъяснимое чувство страха перед мутными тенями, притаившимися в глубине моря. Далёкая память предков предупреждала о чём-то.
— Глупости! — женщина звонко шлёпнула его мокрой ладошкой по спине и залилась смехом. Она слегка выгнулась и ловким движением поправила впившуюся в бёдра резинку тесных бикини, на долю секунды показав тёмные волосы на лобке. — Глупости! Ты просто не умеешь радоваться!
— Чему радоваться?
— Всему, милый! Всему! Жизни! — Она придвинулась к нему, и её глаза сделались огромными.
— Может, ты и права, — ответил он, — может быть… Но разве можно научиться радоваться?
***
Это всё память. Эхо гулких подвалов. Непроглядные закоулки неосвещённых коридоров. Подозрительный шёпот неизвестного пространства. Знакомый звук собачьего рычания. Притягательная сила женского дыхания. Шум безбрежного леса. Завывание ветра в плохо притворённой двери.
Память…
Но чья память? О чём?
Не у кого спросить. Отголоски прошлого слышны не всем.
Терзающие ощущения в теле уходящего времени живут отдельно от человеческого разума и не поддаются логике человеческой мысли.
***
Он поднял голову. Неужели проклятая яма ему пригрезилась?
Хлопая порывами ветра, вздувалась брезентовая стена палатки. Слышался негромкий говор. Приподняв голову, он увидел себя на столе. Правая рука вздулась жёлто-зелёным пузырём и неправильно вывернулась.
— Выжил, — прошептали его слипшиеся губы, и он понял, что яма не приснилась. Вспомнилось, как сквозь ватную пелену предсмертного равнодушия он видел людей, вытаскивавших его из жидкой глубины, видел их пальцы, раздвигавшие ему веки. — Выжил…
Он лежал неподвижно.
Но зачем всё начинается сначала? Зачем вновь подкрадывается к нему трусливое тело, которому так не хочется становиться мёртвым куском мяса? Зачем выволакивают его из уютного бесчувственного тумана на свет, где так больно глазам и где нестерпимо кипят рваные раны? Откуда в людях столько чёрствого исполнительского долга?
— Ничего, солдат! Всем больно, когда болит. Ты терпи! — услышал он голос врача, когда от неожиданно вернувшихся чувств он закричал — санитары распарывали на нём грязную одежду, влипшую в гнойные места…
Всем больно! Но это до смерти, это пока жив! А он уже умер! Умер! Хватит! Смерть уже приходила к нему, она уже освободила его от страданий! Хватит! Кто дал этим белым халатам право лишать его смерти? Кто позволил им вернуть ему мучения?
Он взвыл.
Холодно звякнули в металлической посудине равнодушные окровавленные инструменты.
***
— И там действительно идёт война?
— Настоящая.
— Отсюда, когда смотришь бомбёжки и перестрелки через экран телевизора, всё кажется каким-то неправдоподобным… Такое ощущение, что крутят кино, а не репортажи с места событий, и мы видим статистов и актёров… Скажи, неужели тебе на самом деле приходилось убивать? — Товарищ вперил в него глаза из-за затемнённых очков; через коричневые стёкла просачивалось осуждение. — Тебе приходилось стрелять в людей? Что ты чувствовал при этом?
— Усталость.
— Усталость?
— Не от стрельбы… Усталость от всего, что было вокруг. А когда стрелял… Ты можешь не поверить, но мне легче делалось. Это вроде истерики. Не понимаешь? Ну, прокричишься, когда тебя гложет что-то, и становится легче. Разве у тебя такого не было?
— Странно. Может, ты не понимал, что от твоих пуль гибли люди? А если понимал, то неужели ты не мог отказаться убивать? Никто из вас ни разу не отказался?
— Приказ есть приказ.
— Это лишь оправдание.
— Я там не на курорте был, старик. Там все стреляют. Мужчина с оружием в руках не может не стрелять. Только ты зря думаешь, что от такой стрельбы кто-то получает удовольствие.
— Неужто, — приятель скривил рот, — неужто ты не чувствуешь вины? Ни вот хотя бы столечко?
— Нет. — Он взял стакан со стола и услышал, как нежно стукнулись кусочки льда друг о друга. Это был нежный звук из детской сказки. Трудно было поверить, что где-то продолжалась война. В стакане со льдом таится невероятная ложь для тех, кто не знает истины…
— Ну а если бы ты убил меня или кого-то из твоих близких? — не успокаивался друг.
— Во-первых, это вопрос из категории подлых. Во-вторых, я бы не знал об этом. Я ни разу не видел тех, кого убивал. Там нет лиц. Там есть фигуры врагов, контуры людей, но не люди. Там есть стволы автоматов, направленные в тебя, а лицо человека позади этого автомата тебя не интересует. Я воевал, а не расстреливал! — Он отхлебнул и ощутил обжигающее прикосновение холодного рома. — Я никогда не расстреливал. И меня убивали…
— Но это никому не даёт права! — друг негодующе сверкнул глазами, и негодование было видно даже сквозь тёмные стекла очков.
— Ты так думаешь? Ты до омерзения наивен. Ты же ничего не знаешь. Чего же ты хочешь от меня? Я досыта наглотался страха и ненависти. Я — калека. У меня крепкие руки и ноги, но я калека… Я лишён возможности вести нормальную жизнь. Ты не догадываешься, насколько трудно быть калекой… Ты называешь меня убийцей. Скажи мне, откуда в тебе эта ненависть ко мне и к таким как я? Я не сделал тебе ничего плохого, я не обидел ни тебя, ни твоих близких… Или ты просто хочешь пофилософствовать? Тебе нравится рассуждать о том, чего тебе не удалось испытать на собственной шкуре? Похоже, тебя привлекает именно это. Давай же, приступай. Только не повторяй одно и то же — убивал, убивал… На войне не убивают. Убивают в подворотне, а на войне воюют. И это уже не просто чья-то смерть, но целый комплекс, целый узел подлых, гадких, непоправимых поступков. И мы — перебегающие из окопа в окоп — просто ничтожные оловянные солдатики в большой игре больших мерзавцев. Мы не знаем сути этой игры. Но даже если бы знали, не смогли бы изменить ничего. Мы все — рабы государственной машины. И ты, просиживающий штаны в кабинете государственного департамента, ты тоже раб государственной машины… Одни почище, другие погрязнее, одни покрасивее, другие пострашнее, одни поумнее, другие поглупее. Кому-то предоставляется возможность выбрать оружие, а кому-то — нет. Вот и вся разница между нами… А что до войны, — он поднял стакан на уровень глаз и поболтал им, вслушиваясь в тонкий перезвон ледышек, — то пусть ты никогда не познаешь её на собственной шкуре. После войны не остаётся ничего. После неё начинаешь видеть только войну, всюду войну… А может, и впрямь жизнь — это война?.. Только война?..
Приятель моргнул, но не придумал, как продолжить разговор. Да и разговор ли это? Всплеск вечности, всплеск её скрученных в кольцо ошибок. Нет, не разговор. Просто взгляд упирается во взгляд, слово штыком бьётся о слово, непонимание отмахивается от понимания.
***
— Шумная плоть в заботах страстей, сплошной маскарад безымянных людей. — Она закрыла книгу и посидела молча. Потом повернулась лицом к тёмному углу комнаты, где лежал на диване муж. — Странные слова, правда?
— Угу.
— Ты спишь? — она сощурила глаза, но не разглядела его лица.
— А что такое? — он шевельнулся неясной тенью.
— Ничего. Просто я хотела поговорить.
— Поговори. Разве я мешаю?
Она вздохнула и повернулась к окну. За окном темнела синева, иногда проносились бледные сполохи надвигавшейся грозы, и тогда на потолке на несколько мгновений появлялись причудливые тени ажурной уличной листвы.
— Ты стал вести себя так, будто не замечаешь меня, — с горечью произнесла она.
— Неправда, я замечаю тебя.
— Тогда почему всё стало по-другому? Почему сегодня не похоже на вчера? Почему ты ведёшь себя не так, как прежде?
— Всё меняется, дорогая. Всё постоянно меняется. Что-то внутри нас умирает, на смену ему приходит другое. Разве это плохо?
***
— Ведь я люблю его! — плакала она, уткнувшись в плечо сестры. — Неужели он не понимает этого? Я люблю его, а он постоянно унижает меня, оскорбляет, издевается. И мне кажется, что делает он это не случайно, что это доставляет ему удовольствие. Он стал совершенно другой. Ничего от доброты, ни следа от былого радушия… Неужели пули всё вышибли из него? Он стал злой… «Если тебе что-то надо, дорогая, ты только скажи, я всё сделаю!» А в глазах — холод, лёд. Он стал ужасным. Почти мёртвым…
— Как же ты тогда любишь его?
— Ну я же не за это люблю! — она шмыгнула носом. — Я же совсем за другое.
— Ладно. За другое любишь, а за это что делаешь?
— Ничего…
— Так не бывает. Раз за что-то любишь, стало быть, за что-то другое не любишь. Будь честна перед собой. Чего в тебе больше?
— Ну… — она растерянно посмотрела на сестру, — не знаю. Просто я не могу принять его такого. Но и уйти от него не могу. Может быть, жалею. Не знаю.
— Ему не нужна твоя жалость, сестрёнка. Плевать он на неё хотел, а ты жалеешь его, хоть сама и признаёшься себе. Он зверем стал, и жалость ему не нужна. Жалость — та же слабость для него. А он слабость зубами рвёт. Потому-то тебе и кажется, что он издевается над тобой.
— Не может быть! Неужели…
— Вот тебе и «неужели»! — сестра отвела красивой рукой прядь волос с лица. — Ещё до отправки на войну он сказал однажды, что верит в человека, но не доверяет человеку. Это было давно, ты, наверное, забыла это, но я помню. Я ведь тоже была влюблена в него, поэтому многое в память врезалось. А что же он должен сказать теперь, когда с лихвой наглотался грязи и крови? Теперь-то вообще никакой веры ни во что не осталось в нём…
— Знаешь, он теперь даже любовью не занимается. То есть он занимается, но злобно как-то. Это не любовь. Теперь это просто секс. Всё у него как-то по-звериному теперь, жёстко, будто он насилует меня и в моём лице всю жизнь вообще…
Они замолчали и остались сидеть рядом, глядя друг другу в глаза, две сестры, две молодые женщины, два человека.
***
— Всё-таки я чего-то не понял, — сказал он, положив руку на плечо товарища.
Они остановились на мосту. Внизу лениво ползла свинцовая лента реки.
— Что-то скрыто от меня. Я прошёл через всё, что мне представляется возможным для людей, но так и не научился любить. Я не умею давать счастья людям, я причиняю только боль, как плохой врач. Я приспособился к какому-то ритму и не выхожу из него. Я презираю людей, презираю себя, но что с того? Какой смысл в моём презрении? Других презираю за то, что не испытали они моей участи, но смеют судить о моей жизни. Себя — за то, что ничего не вынес из такого опыта! Мне кажется, что я опустился ещё ниже. Я только терял, но ничего не приобретал. Печальный опыт. — Он взглянул вниз с моста и указал рукой на грязную городскую реку. — Вот и мы такие же. Тащимся еле-еле, как поток воды, а зачем и куда? Не знаем. Навернуться бы отсюда и прекратить всё разом, а? Может, человек получает понимание, когда сам решает уйти из жизни? Может быть, когда человек перестаёт бояться смерти, к нему приходит истина?
— Боюсь, что истина дожидается тебя на больничной койке. И если ты рискнёшь поставить точку, то врачи запеленают тебя в усмирительную рубашку, а жить заставят-таки…
— Но это уже было! Уже заставили, — вдруг сказал он, — это уже было!
Он взволнованно обернулся, как бы ища кого-то. Налетевший порыв ветра всколыхнул его волосы и воротник лёгкого плащика.
— Это уже было…
Он ощутил, как на него накатила волна знакомых чувств, знакомой дороги, знакомых следов. Волна ударилась о него, разбилась, снова собралась в вал и понеслась дальше. Он повернулся и посмотрел ей вслед.
— Господи! Ведь всё уже было! Зачем же снова и снова? Нужно совсем иначе!
— Ты о чём? — удивлённо смотрел на него друг.
— Да обо всём! — он засмеялся, схватившись за голову. Ветер дунул с новой силой. Пролетело несколько листиков. — Ведь это круг! Круг! А мы думаем, что это прямая дорога от рождения и до смерти! Тот же опыт, один и тот же, чужой ли, свой ли! Надо только посмотреть! Надо только понять! А мы, идиоты, ищем, ищем…
Он вновь громко засмеялся. И вдруг неожиданно вскочил на перила, прыгнул и полетел. Приятель вскрикнул, неловко протянул руку, стараясь схватить фигуру в плаще, но отшатнулся, увидев серую массу воды внизу. А человек в плаще летел вперёд и вверх…
Вперёд и вверх… Вперёд и вверх… Оставляя всё позади…
Круговерть

В надежде на присутствие счастья
Всё вокруг оплетено обманом. Сплошная ложь. Вpаньё. Вывернутые кишками наружу слова. Разве похожи они — сопливые, пьяные, истеричные, позабывшие собственное значение — на звуки моего детства?
Ма-ма. Па-па. Какие фарфоровые колокольчики исполнят более чистую песню? Где отыскать слова, которые в простоте и лёгкости своей смогут быть весомее?.. Ма-ма… Па-па… И разве сумеет хриплый оратор прокричать с трибуны что-нибудь новое и важное? Он способен только швырять в гудящую массу людей старые полинявшие иконы и напористо выкрикивать имена новых божеств, за спинами которых беснуется прежняя лживая мутность. И размахивает оратор длиннющими руками, желая сгрести в охапку толпящихся перед ним людей, чтобы смешать их с собственными идеями и вылепить из них что-то новое; оратор отрыгивает комочки слов, оплетённые паутиной обмана; отрыгивает и швыряет их людям в глаза. А те подхватывают их, обсасывают, смакуют, волнуются, нервно дрожат, напирают друг на друга… Кишит площадь, словно наполненное червями ведро. Люди слушают и уходят, бредут по улицам, проходят по незнакомым переулкам, вытаптывают газоны в скверах своего детства, задевают встречных и идут, идут, идут, пронизанные услышанными речами, опьянённые ими, одурманенные…
На одной из людных площадей стоял под огромным циферблатом городских часов человек и покуривал сигарету. Курить он не любил, но временами не мог избавиться от порыва желания ощутить во рту вкус сигаретного фильтра. Впрочем, это, конечно же, глупость. На самом деле ему хотелось, чтобы его славная Наташа внезапно появилась из-за спины, выдернула сигарету у него изо рта и наставительно (как мать) поведала в очередной раз о вреде никотина. Ему нравилась её заботливость, её нежная обеспокоенность.
Он любил эту женщину, её короткие волосы, девчачьи глаза с шаловливым огоньком, крупные белые зубы, которые приятно было ощущать при поцелуе, и легкую спортивную фигурку, похожую на мальчишечью. В ней невозможно было отыскать ничего от Самки, хотя он самозабвенно придавался любовным играм с этой полуженщиной-полуpебёнком. И не казалась она королевой, перед недосягаемой красотой которой хочется упасть на землю и рвать на себе волосы от сознания собственного уродства. И не Богиня она, к которой не смеешь прикоснуться, а лишь смотришь на её светящееся лицо с огромного расстояния, пытаясь уловить неземной взгляд и от него глотнуть теплоты, радости. Она была просто Женщиной, не попадавшей ни под какие категории. Любимой Женщиной. Счастливой Женщиной.
— Здравствуй, Сеpёженька, — чмокнула она его в губы, и он окунулся в пучину её удивительных нежных запахов. Всякий раз в подобные мгновения он с удивлением замечал, что сердце его становилось похожим на кусочек льда, подставленный под жаркие солнечные лучи. Его важный широкоплечий пиджак строгого серого цвета вдруг начинал сваливаться с него, и вместо Сергея появлялся тоненький мальчишечка лет пяти-шести. Окружающий мир разрастался вширь и вверх, делая стволы хилых берёзок толстенными брёвнами, вытягивая девятиэтажные дома под самые облака, раздувая невзрачных прохожих в значительные фигуры, придавая им значимость.
— Мама, — говорил он и тянул руку, покрытую цыпками, к Наташе. Она брала её в свою мягкую ладонь и вела его за собой, и Сеpёже казалось, что они вдвоём очень похожи на рыжую кобылу с белой звёздочкой на морде и её кривоногого жеребёнка, которых он видел летом в деревне. Он шёл, торопливо перебирая ногами с разбитыми коленями, иногда подпрыгивал, чтобы легче поспевать за мамой, и тогда пряжки незастёгнутых ремешков на сандалиях позвякивали. Наташа то и дело оборачивалась, встряхивала стриженой головой и улыбалась ему, и он от радости принимался грызть ногти на свободной руке и смеяться, потому что у него была самая лучшая мама на свете, красивая, тёплая, добрая и почему-то очень похожая на деревенскую рыжую кобылу с большими нежными и влажными ноздрями. Он видел снизу, как солнце бежало над ними, мелькало ослепительным пятном в тёмных высоких листьях берёз, теребило золотым ветерком короткие волосы на мамином затылке, и ему приходилось очень по душе такое солнце. Ещё Серёже нравился стук каблучков и лёгкая просторная юбка, которая трепыхалась при ходьбе и была очень похожа на снежный вихрь из мультипликации.
— Сергей! Что ты в самом деле? — оборачивалась к нему мама, когда он слишком сильно начинал раскачивать рукой, которая лежала в маминой ладони.
— Сергей Павлович, что-то ты себя шаловливо ведёшь, — Наташа обнимала его и, изящно изогнувшись, подставляла ему рот для поцелуя.
Краем глаза Сергей видел прохожих. Пухлые бульдожьи лица, заплывшие пуговки глаз, каракулевые воротнички, шуршащие чулки, жирные напомаженные губы, запах вина, одеколона, зубной пасты и пота. Всё плыло мимо, крутило зрачками глаз, разглядывало, осуждало, завидовало, обходило стороной. Сергей Павлович брал ладошку своей возлюбленной обеими руками, крепко сжимал и чувствовал, как под его пиджаком распрямлялось энергичное тело льва. В мышцах клокотала энергия, жарко пульсировала, жаждала выхода. И он неожиданно срывался с места, увлекал за собой Наташу и с громким смехом тащил её сквозь толпу.
— Поберегись! — кричал он, и люди шарахались в стороны. Многие из них только что созерцали эту неподвижную парочку в поцелуе и никогда бы не поверили, что разомлевшие тела способны через мгновение после томных объятий ураганом пронестись сквозь толпу.
А Сергей мчался с Наташей, летел, бежал, расталкивал, сшибал с ног, хохотал, не обращая внимания на недоумевающие лица, на погоду, на время, на обстоятельства. Он крепко сжимал пальцы Женщины и, обжигаемый их жаром, хотел лишь побыстрее закрыться от людей, попасть домой, запереться на ключ от многоглазого назойливого мира, зарыться в полутьме комнаты, запутаться в шуршании простыней и захлебнуться женским вздохом.
Нервно всплёскивался воздух.
Голое тело Наташи проникало в Сергея, обволакивало. Женщина переставала существовать вне Сергея. Она растворялась в нём. Сильные движения рук и ног сплетались в единое целое, превращались в длинную гибкую пантеру, которая скручивалась в тугой узел, затем стремительно разворачивалась, дёргалась, рвала свои эластичные мышцы, оглушительно хрипела и наконец падала без сил на мокрую от пота постель, разваливаясь на два истерзанных любовными ласками тела.
Они лежали молча и неподвижно. Сбившееся громкое дыхание металось по растревоженной комнате. Наташа не успокаивалась, то и дело вздрагивала животом.
Окно мягко шевельнулось синей занавеской, надуло её, словно пузатое привидение. Синий свет от занавески тускло плескался по столу возле окна, где были разбросаны учебники, тетрадки, ручки, карандаши и лежала обёрнутая в газету книжка про любовь и приключения. Серёжа сидел, уперев локти в стол, и жадно читал. Звонкие удары пиратских кривых ножей так громко вырывались со страниц, что Сергей боялся, что мама услышит их и войдёт в комнату. Но поединку было не до мамы и не до школы. Корабль качался в огромных волнах, разрезал носом шумную морскую пену, скрипел снастями. Два человека, падая ежеминутно на скользком полу, размахивали ожесточённо страшными ножами. Холодные лезвия со свистом рассекали плотный дождливый воздух. Но вот один из них дёрнулся, а на его рябом бородатом лице от удара лопнула кожа, брызнула кровь. И тут же тяжёлая волна накрыла его и смыла за борт. Победитель с трудом удержался на ногах, выронил нож и бегом направился к лестнице. Громко простучали его размокшие сапоги. Он сбежал по лестнице вниз, прыгнул в трюм и упал у тела связанной девушки.
— Теперь никто не разлучит нас! — выкрикнул он и с остеpвенением вцепился в верёвку зубами. Губы в крови. Над головой болтается тусклая лампа, вздрагивает свет… И вот девушка свободна. Она утомленно протянула к возлюбленному руки и заплакала.
За спиной распахнулась дверь, и в комнату вошла мама.
— Что ты делаешь?
Шторм мгновенно стих, корабль с влюбленными исчез в захлопнувшей книге.
— Почему ты не включаешь свет? — спросила мама. — Глаза испортишь… уроки сделал?
— Заканчиваю, мамуль. — Сеpёжа локтем отодвинул книжку и включил настольную лампу. — Мне не темно. У окна ещё совсем светло, мам, ты не беспокойся.
— Ладно. Скоро ужин.
И мама вышла, прикрыв за собой дверь. Занавеска качнулась. Сергей отодвинул её и выглянул в окно. Уже зажглись фонари, свет горел в некоторых окнах и в пустых витринах.
— Ты можешь сегодня остаться у меня? — он обернулся и посмотрел на кровать.
Наташа потянулась в сумраке, и тело её показалось ещё более зазывным, чем при свете.
— Нет. Я должна сегодня быть дома. Там какая-то родня приезжает. Надо матери помочь, — она поднялась и проскользнула в ванную, такая почти невидимая, почти ненастоящая, как из сна.
Опять ложь! Из какого сна, когда она ощутима, когда от соприкосновения с ней дрожит сердце и переполняется шипучими искорками, колючими, как иглы. Сплошной обман. Пеpедёpгивание карт. Дерево растёт не для того, чтобы давать тень, или чтобы украшать, или чтобы испускать кислород, а чтобы им топили печь. Пластика тела, танец, музыка, песни, оказывается, предназначены для продажи. Скульптуры из мрамора ваяются специально, чтобы у них откалывали носы, руки, уши. А невинные девы с лицом мадонны приходят в мир, чтобы немытые подонки насиловали их в мусорной подворотне… Но ведь это ложь! Ложь, потому что не для этого. И ложь, что это ложь, потому что происходит именно так. Издеваются, ломают, крушат, оплёвывают, уничтожают. Вьётся под ногами истоптанная тропинка жизни, корчится, виляет. Выходят на неё мастеровые в холщовых рубашках. Шнурками кожаными волосы перехвачены, чтобы в работе не мешались. Красивые, сильные, умелые, послушные руки несут молотки и топоры. И принимаются они за дело. Рубят вдоль тропинки стволы, валят деревья, чтобы из живой красы сложить мёртвую, чтобы вместо леса потянулись ажурные терема. В теремах сгрудятся люди, откроют школы, начнут жизни учить, об истине станут говорить. А у людей родятся дети, которые свалят новые деревья и сложат из них крепостные стены, чтобы истину защищать. Станут бороться за неё, убивать, пускать кровь, потому что истина дороже жизни…
— Не дуйся только, Серёженька, — Наташа лизнула ему руку. — Мне правда нужно быть дома. Ты же знаешь, что я всегда остаюсь, если могу. Я твой верный пёсик, ведь так?
Он грустно кивнул.
— Не провожай меня, я сама доеду! — воскликнула она и выпорхнула за дверь, щёлкнув английским замком.
Сергей Павлович опустился на кровать и долго сидел голышом без движений. В такие минуты ему казалось, что его обокрали до нитки, отобрали самое главное, чем он владел, самое нужное именно сейчас. Птица Счастья вырвалась из рук и оставила на ладонях ощущение пустоты… Но это всё не так. Опять проклятая ложь, которая притаилась в мозгу. Его не обокрали, ничто не отобрали, не лишили ничего. Наташа, чудесная, славная девочка, поселилась в его сердце, в нём самом, поэтому не может она пропасть никуда.
Сергей Павлович вытянул руки за голову и опрокинулся на спину. Постель овеяла его лёгким дурманом женской наготы, которую скрывали в себе помятые подушки и простыни. Он пошевелил ногами и посмотрел на кончики пальцев поверх своего голого тела. Странно оно выглядело отсюда. Выпуклая грудная клетка, плоские соски, живот совсем не виден, потому что провалился, зато сильно выступает отвратительное приспособление мужского организма в густых волосах, из-за которого виднелись ноги с кривыми пальцами.
— Урод, — проговорил он.
За дверью послышались голоса и джазовая музыка. Сергей Павлович прищурился, слегка приподнял голову. Щетина на подбородке тронула грудь. В сумраке тихой комнаты ясно слышалось веселье за стеной, а в щели затворённой двери желтел свет. Сергей Павлович пошевелил ногами, и в ту же минуту дверь распахнулась.
— Привет, Сеpгуля! — воскликнул отец и щелкнул выключателем.
Комната озарилась.
— Здравствуй, сынок! — за спиной отца показалась мать с бокалом шампанского.
— С днём рождения, — сказал отец, и позади него джазовая перепалка поднялась на пару тонов.
— Как вы здесь оказались? — удивлённо покрутил головой Сергей Павлович и оперся на локти.
— Так мы к тебе на день рождения пришли, — засмеялись родители. — Всё-таки шестнадцатилетние! Так что поздравляем. А ты бы поднялся, а то развалился нагишом на лежанке! Патриций…
Сергей Павлович вскочил, распахнул шкаф, быстренько натянул свитер и брюки, заглянул в зеркало и увидел своё мальчишеское лицо с первым пушком под носом. Он подошёл к родителям и поцеловал их.
— Мамуля, папка! Так здорово, что вы появились! А то я уже стал думать, что вы насовсем пропадёте, — он обнял их двоих и услышал знакомые запахи родительской одежды. Запах мыла, табака, духов, крахмальной рубашки и пудры.
— Что ты такое бормочешь? Что за глупости, сынуля? — всплеснула руками мать. — Как навсегда? Ну было дело, умерли мы, так что ж? Разве это помеха?
— Как у тебя дела в школе, Сеpгуля? — поинтересовался отец.
— Нормально. Сначала меня не очень трогали, когда вы в аварию попали. Говорили, что надо в себя прийти. Никто, правда, не знает, кто, когда и как в себя приходит… А теперь уже на всю катушку спрашивают по всем предметам. Всё-таки полгода прошло.
— Ты, сыночек, учись, — забеспокоилась мать, — а то я знаю, как ты всякие там приключения читал вместо уроков.
— Ну мам, — Серёжа недовольно тряхнул головой, — я же теперь самостоятельный. Сам всё понимаю.
— Молодец! — похлопал отец его по плечу. — Я всегда в тебя верил.
— Пап, — вдруг поднял глаза Сергей, — а умирать вам было больно?
Отец улыбнулся, потрепал сына по голове и обнял жену.
— Нет. Больно было, когда машина врезалась, когда кувыркались. Даже не больно. Просто тряхнуло сильно. Одним словом, какое-то неприятное чувство. Но это считанные мгновения, пока живы были. А едва освободились, умерли то есть, сразу почувствовалась лёгкость…
— Ну, — потянулась мать к столу, — надо нам выпить шампанского за твоё здоровье… Шестнадцать лет. Паспорт получишь.
Серёжа пошёл было к столу, но тут задребезжал телефон.
— Девочка, небось, звонит? — засмеялся отец.
— Да что ты так сразу, — надула губы мама.
Сергей подбежал к аппарату.
— Алло.
— Сергей Павлович? — протрещала трубка.
— Я.
— Это Геннадий говорит…
— Привет тебе, старик, — Сергей присел на стул и бросил взгляд на дверной проём, где виднелся край стола и бокал с вином. Мама выглянула на мгновение и скрылась за косяком.
— Слушай, Палыч, я задержусь завтра часика на два, ты предупреди начальство, ладно?
— Сделаю, — Сергей Павлович опустил трубку на рычаг. Он посидел неподвижно, пока не выключился магнитофон. Джаз смолк и наступила тишина. Равнодушная тишина. Безучастная.
Сергей Павлович прошёл в комнату к столу и отпил шампанского из бокала. Второй бокал был пуст.
Снова задребезжал телефон.
— Слушаю.
— Сеpёженька, — зашептала Наташа в трубку, — я со всеми делами управилась и могу у тебя появиться. Что ты делаешь?
— Пью наше шампанское.
— Не пей. Я скоро приеду, докончим вместе, — и в трубке прерывисто загудело.
— Сергей Павлович, сегодня на ночь ты получаешь в дар целый мир! — засмеялся он и нырнул в постель. Мир будет гибким, теплым, упоительным и, непременно, вздыхающим. Непременно. Он вдохнёт синеву комнаты и вернёт в неё вместо воздуха горячие невидимые губы. Ох, эти губы! Сколько их было?
Сергей вдруг увидел стол, себя за столом, где сидели перед ним женщины. Много женщин. Так много, что бесконечная вереница их скрывалась за вздувшимся зелёным холмом.
— Скажи что-нибудь нам, Муж, — проговорила одна из них, показав густые, как синька, глаза из-под пушистой пряди жёлтых волос.
— Разве я вам муж? — удивился он, невольно прикидывая число собравшихся перед ним особей женского пола.
— Муж! — грянул в ответ хор. Их было слишком много, чтобы Сергей Павлович сумел поверить в правильность их ответа. Видимо, подумал он, этих женщин загипнотизировал какой-нибудь очень способный маг и натравил на него.
— То есть вы, барышни, утверждаете, что каждой из вас я довожусь супругом? Иными словами, с каждой из вас я…
— Нет, — перебила его черноволосая красавица с глазами кошки и вишнёвыми губами. — Не с каждой. Далеко не с каждой. Но потенциально ты стал мужем. Ты же сам всегда утверждал, что Муж — это не просто партнёр по постельным оргиям. Это — Друг. Это — Помощник. Это — Любовник. Это — Мусорное Ведро, в которое можно слить дурное настроение… О некоторых из нас ты думал, представлял с собой рядом. Но большая часть тебе не знакома. И эти женщины думали о тебе в то время, как ты находился с другими. Ты давал нам понять, что мы привлекаем тебя чем-то, интересны тебе, дороги чем-то, что-то в нас ты любишь. То тебе нравился голос, то волосы, то фигура, то цвет глаз или одни лишь ресницы, Ты сам иногда не мог точно сказать, что именно привлекает тебя в нас. Но никогда ты не говорил о любви, хоть и готов был любить…
— Интересная мысль, — хмыкнул он.
— Ничего интересного. Кобель высшей пробы.
— Это я-то? — вспылил Сергей Павлович.
— Именно. У тебя в паспорте даже отметка соответствующая сделана. Не всегда тебе удавалось воплотить свои мужские помыслы в жизнь, но и слава Богу. И без того разбитых сердец не счесть.
— Но я не виноват. Вы просто слишком склонны к увлечениям.
— А кто виноват? Мы разве виноваты, что сердце жаждет любви и готово открыться любому добродетельному порыву? Мы разве виноваты, что ты привлекателен, что внешность твоя коварна? «Склонны к увлечениям»… А что это значит? Разве увлекусь я обезьяной или дрессированным крокодилом?
— Это не разговор! И вообще я почти никого из вас не видел никогда… Столько женщин! Да я и мечтать не мог о таком количестве!
— Это не оправдание, Муж. Мы тебя видели, мы тебя полюбили. А то, что ты об этом не знал, совершенно нас не интересует. Нам о тебе рассказывали, мы о тебе мечтали… Впрочем, ты, кажется, имеешь что-то сказать.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.