
Бесплатный фрагмент - Зёрна
Публицистические и литературно-критические статьи
…будь то «А» или «Б» — не важно,
словно семечкам в теплом грунте,
Время нам улыбнулось влажно:
в пробивающем почву свете,
в затихающей песне горна,
не заметив, как кто-то третий
отделяет от плевел — зёрна.
Анна Яблонская. Зёрна.

Для кого написана эта книга?
Для тех, кто любит публицистику и литературную критику.
Но более — для тех, кто их не любит, считает скучными и мало кому интересными.
Постараюсь их разуверить!
Автор
«Если пшеничное зерно, падши в землю…»
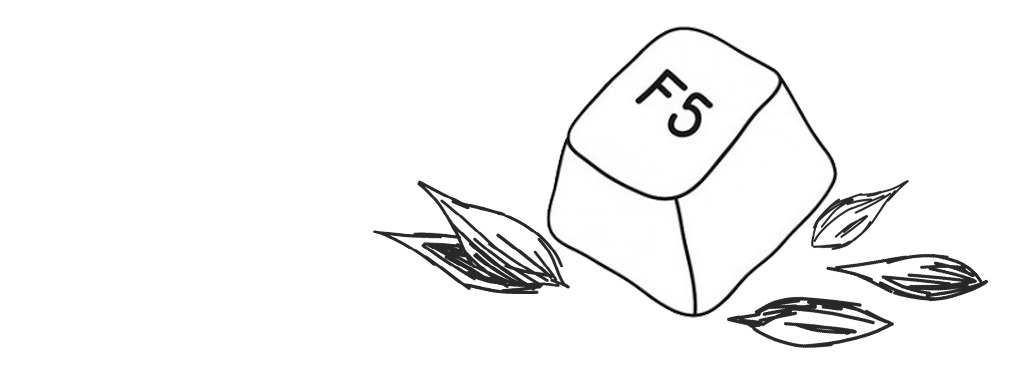
Одной из вершин осмысления биографии и литературного наследия Ф. М. Достоевского стал очерк новокузнецкой писательницы Любови Никоновой, посвященный его венчанию.
Произведение, имеющее подзаголовок «исследование с точки зрения православного таинства брака», было опубликовано в нескольких изданиях. Впервые оно появилось в 1991 году в газете «Кузнецкий рабочий», затем — в журнале «Литературный Кузбасс» и спецвыпуске роман-газеты «Кузнецкая крепость». Позднее бытование очерка значительно расширил японский профессор Коити Итокава из университета города Ниигата, познакомив с ним жителей Страны Восходящего Солнца. Но и это не стало последней публикацией. Спустя пять лет, претерпев редакторские купюры и преобразования в научный формат, текст Л. А. Никоновой вновь появился в сборнике материалов Межрегиональной конференции «Достоевский и современность», организованной к 175-летию писателя. И только в 2006 году был включён автором в книгу прозы «Мир благословенный».
Несмотря на столь обширный издательский ареал, никоновское Слово о венчании Достоевского так и не обрело широкую известность. Думается, загадка кроется не столько в сложности темы или ее интерпретации, сколько в особенностях очерка.
Он создавался в переломный и смутный для российской новейшей истории год. Крушение старых устоев отозвалось в обществе желанием найти новые идеалы. «В такие минуты, — как писал в своё время Ф. М. Достоевский Н. Д. Фонвизиной, — «жаждешь, как «трава иссохшая», веры, и находишь ее, собственно потому, что в несчастье яснеет истина».
Поиски истины и точек нравственной опоры развернулись в начале 90-х годов прошлого века по диаметрально противоположным направлениям.
Одни в нелегких условиях духовной дезориентации обратились к некогда утраченным ценностям. Сквозь толщу времен и событий к читателю стали пробиваться произведения русских авторов-изгнанников начала XX века, а также труды их соотечественников, подвергшихся репрессиям. Книги ярчайших представителей русской религиозно-философской мысли и почти забытых талантливых литераторов наконец-то вернулись на полки отечественной интеллигенции. В свободный доступ попали и ранее запрещенные религиозно-православные источники.
Все это не могло не задеть самые сокровенные струны Любови Никоновой, вдумчивого читателя и глубоко верующего человека. Она всегда следила за литературным процессом, и в начале 90-х, судя по сохранившимся записям в её рабочих тетрадях и переписке с издательствами, заказывала особенно много книжных новинок…
Другая часть общества, напротив, встала на путь отрицания православной веры и старых идеалов. Изъеденные скепсисом и безбожием, барахтающиеся среди осколков постмодернистской культуры, люди потянулось к оккультным наукам, сектантству, гипнозу, белой и черной магии. Подобные процессы, охватившие массовое сознание, ярко осветил в своем первом сборнике «Синий фонарь» (1991) только вступающий в литературу прозаик Виктор Пелевин. В его рассказах «Вести из Непала», «Девятый сон Веры Павловны», «День бульдозериста», «Мардонги», «Ухряб», «Хрустальный мир» вопрос о вере становится если не камнем преткновения для героев, то уж наверняка — навязчивой идеей или злой шуткой судьбы. Характерная для Пелевина религиозно-философская тема решается в русле литературного стёба, пародии, сатиры и гротеска.
В отличие от своего младшего современника Л. А. Никонова призывала читателя обратиться к первоосновам. К Слову, которое «было в начале». По ее мнению, верный ответ придёт только с осмыслением истинного значения слов. «Сейчас эти смыслы, к несчастью, потеряны», — считала она, — но восстановить гармонию возможно, углубившись в изучение христианских понятий, в освоение православной культуры в целом».
Неслучайно в период создания исследования о венчании писательница напряженно трудится над заметками о русской духовности «В сиянии любви и милости», что приводит ее к новым поворотам в воплощении религиозно-философской темы. Так, за год до появления очерка она создает цикл прозаических миниатюр «Хождение по святым местам», где обращается к истокам христианской культуры, детально рассматривает и по-своему осмысливает стержневые православные понятия, законы, символы и праздники. Некоторые из них дали названия её творениям: «Акафист», «Святая вода», «Введение во храм», «Благословение», «Любовь» и др. В тот же период в цикле миниатюр «Сокровище тишины» автор вновь погружается в символические значения христианских обрядов и ритуалов, стремится раскрыть изначальную природу православных символов и жестов: целование, моление, младенец сакральный, Господственная Пасха…
В таком контексте постижение сущности таинства брака на примере судьбы и творчества гения мировой литературы представляется как никогда знаменательным.
Стоит отметить, что очерк появился у Никоновой после пятилетнего периода работы научным сотрудником в новокузнецком музее Достоевского (1982—1987). За это время она основательно изучила архивные документы и биографические материалы о кузнецких днях писателя, обрела музейно-исследовательский опыт. Важнейшими итогами ее раздумий над эпистолярными и художественными страницами Фёдора Михайловича стали статья «Кузнецкий венец» (1986) и знаменитое стихотворение «Достоевский и Исаева в Кузнецке. 1857 год» (1987)…
Несомненно, никоновский текст рождался и в горниле событий духовной жизни Новокузнецка того времени. В 1989 году был восстановлен приход старейшего православного кафедрального храма — Спасо-Преображенского собора, а в 1991 в нем состоялось первое богослужение. Любовь Никонова, его прихожанка, с удовольствием присутствовала на возобновленных после долгого перерыва службах, участвовала в возрождаемых крестных ходах, лично общалась со многими священниками. Ее публицистические материалы по религиозно-православной тематике, то и дело появляющиеся в городской газете «Кузнецкий рабочий», свидетельствовали о глубоком, неподдельном и разноплановом интересе к жизни христианского мира. Весомым доказательством тому стали поэтические строки, вышедшие чуть позже из-под ее пера, о важнейших вехах в истории православных святынь Кузбасса: «Летел, летел собор над лесом…» (1992), «Стихи на обретение колоколов. Кузнецк. 1994» (1994), «Богослужение в кузбасском городке» (1995) и др.
Очерк о венчании Ф. М. Достоевского увидел свет в год празднования 170-летнего юбилея писателя и обретения новокузнецким литературно-мемориальным музеем его имени статуса самостоятельного учреждения культуры. Это было очень важно и значимо для Любови Алексеевны, ведь, как известно, юбилеи Достоевского и все события, происходящие в посвященном ему музее, она воспринимала как настоящее пиршество духа, то, что свершается «под знаком праздника».
Интересно, что создание очерка совпало с осуществлением важного культурного проекта. В 1991 году в Новокузнецке режиссер О. В. Морокова и сценарист Н. С. Серегина снимают документальную кинокартину «Кузнецкие венцы» о 22-дневном пребывании Достоевского на Земле Кузнецкой и о судьбе творческой интеллигенции в Сибири. Никонова помогает им. Реализуя себя в фильме не только как «актер», но и как исполнитель собственных поэтических творений, Любовь Алексеевна получает новый импульс к творчеству, возможность по-другому посмотреть на события многолетней давности…
Жанровое своеобразие очерка «Достоевский и Исаева: венчание в Кузнецке…» очень специфично. Несмотря на то, что автор называет его «исследованием», по сути мы имеем дело с современным трактатом.
В переводе с латинского слово «трактат» означает «обсуждение», «рассмотрение». Ещё его определяют как «научное сочинение в форме рассуждения (часто — полемически заостренное)». Именно такую структуру он и имеет. Перед нами — философско-теологический текст, содержащий постановку, изложение и разрешение конкретной, волнующей писательницу, проблемы: интерпретация первого брака Достоевского с точки зрения православных канонов. Продуктивно разрешить ее, представив ярко и обоснованно свою оригинальную трактовку, возможно только в рамках трактата. Вот почему Любовь Никонова прибегает к возрождению такой забытой и архаичной для нашего времени жанровой формы.
О родственности своего необычного текста «старомодному» жанру автор декларативно заявляет уже в названии — нарочито длинном, «неудобоваримом», намекающем на характерные трактатные заголовки. Если вспомнить, в них как раз и содержались подобные слова и обороты: «исследования о…», «опыты», «о началах», «о принципах» и др. Кажется, Никонова намеренно подобрала несколько отпугивающее, грешащее длиннотой и наукообразностью, название. Оно указало и на фундаментальный характер труда, и на ту культурную традицию, которая стала её ориентиром.
Некоторые издатели и редакторы, не понимая того, вносят вольные изменения в никоновский текст: сокращают название, изменяют его четкую трехчастную структуру и даже сильно купируют, лишая произведение публицистической составляющей. В конечном счете, подобные эксперименты приводят к потере базовых черт трактата, ретушированию авторского замысла, а значит, и к непониманию самой сути произведения и к его последующей недооцененности.
Логика мышления, присущая трактату, была органична для Л. А. Никоновой. Многолетняя работа учителем в школе способствовала ежедневному освоению жанровых норм, ведь не секрет, что крайним выражением трактата был и остается учебник.
Идею о соответствии дисциплинарного, систематичного, «учебного» типа текста особенностям творческого сознания писательницы подтверждают и ее читательские предпочтения. Вспомним, что в «Драгоценном списке любимых литературных произведений», завершающем очерк «Сокровенное свечение», она перечисляет родственные по духу и напоминающие трактат философские раздумья. Это теологические труды и историко-литературные изыскания «Выбранные места из переписки с друзьями» и «Размышления о Божественной литургии» Н. В. Гоголя, «Семирамида» («Исследование истины исторических идей») А. С. Хомякова, «Азбука победы» Святителя Николая Сербского…
Родственность публицистического высказывания Никоновой и традиционного трактата прослеживается и в структуре ее работы, и в способах аргументации.
Невозможно не заметить, что все части исследования «дышат» демонстративной систематичностью. Так, доказательство правильности авторской позиции начинается с презентации предмета исследования, затем происходит переход к обрисовке существующего положения дел, и только когда определены все позиции, писатель озвучивает собственную точку зрения. Затем скрупулезно приступает к доказательству правильности своей теории.
Примечательно, что ссылки на иные авторитетные мнения, как и в типовых трактатах, выполняют у Никоновой служебную роль, то есть предназначены для обоснования ее идеи, а потому фрагментарны и скупы.
Опытный взгляд сразу отметит, что пользуется она многочисленными источниками: воспоминаниями современников, точной хроникой событий, фрагментами из Священного Писания и молитв, теологическими текстами Павла Флоренского и художественными — Федора Достоевского (роман «Идиот»), его же эпистолярными посланиями и записями в книжке «Notes», неточными цитатами Александра Блока, высказываниями Амвросия Оптинского, воспоминаниями А. Г. Сниткиной и кузнецких свидетелей венчания… Но, несмотря на сложную вязь публицистического, религиозно-философского, эпистолярного, литературно-художественного и историко-краеведческого элементов, текст очерка сохраняет свою целостность и свежесть.
Подобно трактату, очерк состоит из трех частей: внешний абрис «грозного чувства»; интерпретации любви Достоевского и Исаевой и озвучивание своей точки зрения; трактовка второго брака литератора в качестве еще одного шанса исправить жизненные ошибки.
Доказывая свою правоту, Л. А. Никонова стремится «довести» аудиторию до накала мыслей и чувств. Такой способ доказательства эффективен и уместен, т.к. проблема, поднимаемая ею, не является до конца решенной, да и авторская мысль для многих достаточно сложна.
Писательница открыто заявляет, что до сих пор мы знакомы только с мирскими, подчас очень приземленными, объяснениями супружеского союза Достоевского и Исаевой. Но только христианский взгляд на таинство брака достоверно высвечивает взаимоотношения двух влюбленных сердец, только он может распахнуть перед поколениями XXI века новые горизонты в понимании жизни и творчества писателя.
На страницах исследования впервые говорится о невостребованности, нераскрытости православного аспекта в трактовке любви Достоевского и Исаевой. Хотя, по Никоновой, православно-христианский взгляд на «грозное чувство» и кузнецкое венчание изначально довлеет над всем:
«… среди волнений человеческой любви в сердце Достоевского не прекращалось высшее христианское чувство, образующее вокруг Марии Дмитриевны как бы «зону сострадания, милосердия, прозрачной нежности, участия».
Такая позиция не только придает особую ценность очерку, но и «реабилитирует» Исаеву как личность и, что особенно важно, делает кузнецкие дни романиста достоянием православной и общечеловеческой культуры, а не кратковременным и ничего не значащим эпизодом, ни в коем случае не очередной записью в «дон-жуанском списке».
Высшей точкой кузнецко-семипалатинского периода Любовь Никонова считает венчание Достоевского в Градо-Кузнецкой Одигитриевской церкви. «Всё разрешилось в храме», — пишет она и четко поясняет, что именно скрыто за этими словами: благодетельный кризис, очищение, «христианское омовение». Ведь Любовь, закрепленная таинством венчания, — своего рода отделение вечного от текущего, зёрен от плевел: «аффективное растворялось в христианском, земное очищалось небесным».
Согласно Никоновой, любовь писателя — многоуровневое и очень сложное чувство. Представляется оно через разные лики Любви, которые много сотен лет назад обозначил апостол Павел в Первом послании к Коринфянам:
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится…»
Любовь к Исаевой сделала писателя многоликим, т.к. сама была таковой: «зрелое чувство собрало в себе разные виды любви».
Линию этой могущественной движущей силы она определяет как крестный путь от алтаря до гроба. Все остальное — жизнь мирская.
«Если кузнецкое венчание (6 февраля 1857 года) явилось апофеозом первой любви Достоевского, „милосердствующей“, то его „верующая“ любовь достигла наивысшего выражения в первые часы после смерти Марии Дмитриевны (16 апреля 1864 года)».
Детально пересматривая все составляющие Любви Достоевского-христианина, автор, прежде всего, указывает на её спасительность. В своей спасительности она широка и всеохватна. Любовь литератора оберегает не только саму Исаеву, но распространяется и на её окружение: сына Пашу, первого супруга Александра Ивановича, даже на соперника по любви Вергунова. Ведь христианская Любовь — спасение и преображение духовное: её великая цель — «всеми средствами поддержать, спасти измученную, одинокую, недугующую душу».
Но трагедия Достоевского в том, что сделать это он не успел. Мария Исаева — «натура, сожженная отчаянием» — еще до кузнецкого венчания прошла точку невозврата:
«Достоевский состоял в браке с женщиной, уже уходящей с земли, уже почти не присутствующей в этой жизни — ни душою, ни телом».
Предрешенность гибели «отчаявшегося существа» сыграла роковую роль в разрушении «грозного чувства» и несчастье первого брака. Он «отдавал себе отчет в обреченности Исаевой», но «не представлял всей необратимости отчаяния, в котором несколько печальных лет провела его будущая жена», «не знал, как глубоко сидит в ней жало смерти». В письме от 14 июля 1856 года Ф. М. Достоевский с горечью сообщает об этом своему сибирскому другу А. Е. Врангелю:
«Она (Исаева — Е.Т.) доживает, может быть, свою последнюю мысль…»
Чтобы глубже разобраться в чувствах и мыслях Достоевского, автор очерка обращает нас и к личности самого романиста, и к внутреннему миру его спутниц по жизни. Такой двусторонний подход, пожалуй, осуществляется впервые. Многие, как правило, ограничиваются представлением только позиции писателя, рисуя его в выгодном свете, например, на фоне инфернальной, страстной, экзальтированной и неверной особы — первой жены. Ценность же рассуждений Л. А. Никоновой кроется как раз в обозначении сразу двух полюсов.
В своей Любви Достоевский вел постоянную борьбу за Исаеву со смертью, но проиграл. В этом смысле стоит вспомнить рассказ «Кроткая», включенный Никоновой в личный список «драгоценных литературных произведений». Здесь мы как раз наблюдаем развитие необратимого смертоносного процесса у обреченной на гибель героини. Сама же Любовь Алексеевна сравнивает Исаеву с другим литературным персонажем– Настасьей Филипповной Барашковой из романа «Идиот»:
«К моменту встречи со своим избавителем они уже сгорели в непосильной борьбе со злом, уже перешли грань, отделяющую жизнь от ее таинственного антипода».
В дневниковой записи 1864 года, которая родилась у гроба Марии Дмитриевны, писатель сверяет собственный опыт супружества с высшим идеалом, со Христом. Вслед за ним Л. А. Никонова измеряет уровень его семейного счастья мерой православного учения о жертвоприношении. Главная причина краха его первого брака видится ей в том, что «брачная жертва… была недостаточной». Это — великий грех, а значит — вечные страдания. Об этом нам говорит и Достоевский. «Дневниковая запись от 16 апреля 1864 года стала словом покаяния», — резюмирует Никонова, открывая тем самым неведомые тропы в прочтении романов Великого Пятикнижия. Она утверждает, что размышления о жертве у гроба жены соотносятся с главными православными таинствами — крещением, евхаристией и венчанием, в основе которых лежит именно жертвоприношение. По сути дневниковая запись Достоевского — это сверка «обетов венчания с их реальным воплощением в жизнь».
Второй брак Фёдора Михайловича, несмотря на «ряд поразительных совпадений», повторов рассматривается как противоположность первого. Это — еще один шанс, дарованный провидением, но шанс, которым он воспользовался сполна:
«Этими повторами как бы подтверждалась неукоснительная воля Божия, ведшая Достоевского именно таким путем к торжеству христианского брака. Вновь повторились обряды, священнодействия и молитвы святого таинства, и вновь была принесена жертва Богу и друг другу. На этот раз это была полная жертва с обеих сторон».
Раздумья о жертве, которую необходимо положить на алтарь семейного и супружеского счастья, невольно навевают мысли о зерне. Том самом, что возникает в эпиграфе к роману «Братья Карамазовы»:
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».
Эти слова из Евангелия от Иоанна традиционно связывают с развитием всего романного сюжета. Братья Дмитрий, Иван и Алеша становятся на путь «восстановления погибшего человека», о котором Достоевский говорил как о глобальной идее искусства XIX столетия. Принося жертву, каждый по своей мере, они должны войти в новую жизнь, преобразиться в иную форму.
Но идею крестного пути, то есть страдания и самопожертвования, которую воплощает эпиграф, стоит соотносить не только с основным текстом произведения.
В равной степени она принадлежит и посвящению.
Достоевский посвятил роман, то есть фактически принес жертву своим творчеством, милому ангелу — второй жене Анне Григорьевне. Семейная жизнь с ней стала для писателя символом того самого евангельского зерна — падшего во влажную землю, умершего и чудесным образом воскресшего вновь.
По следам одной газетной реликвии
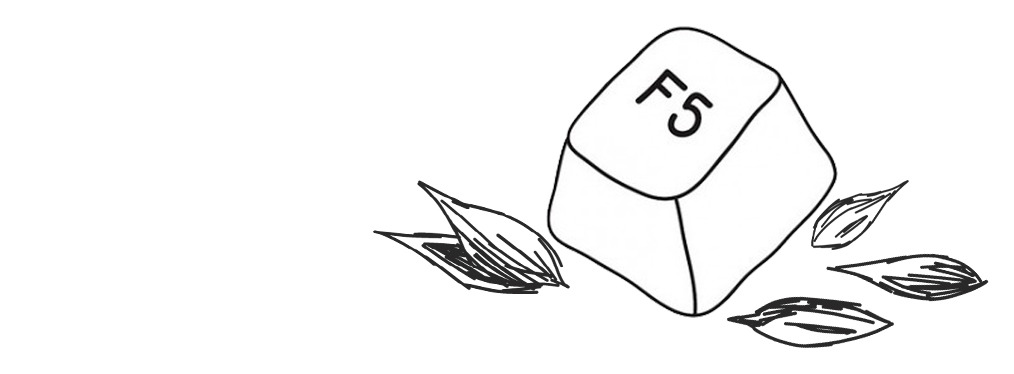
Первым исследованием по теме «Ф. М. Достоевский в Кузнецке» считается одноименная статья Валентина Федоровича Булгакова, последнего личного секретаря Л. Н. Толстого. Она была опубликована 10 октября 1904 года в иллюстрированном приложении к газете «Сибирская жизнь» и стала настоящей реликвией.
Как музею Достоевского в Новокузнецке удалось стать обладателем подлинного экземпляра этой газеты — наш рассказ…
«Если хотите — передарена»
О существовании экспоната в коллекции писателя А. Э. Лейфера и намерении владельца передать его гослитмузею в Омске узнал научный сотрудник новокузнецкого музея Достоевского Владимир Семенович Пилипенко во время очередной конференции.
«На круглом столе подводились итоги, — вспоминает он. — Когда слово было предоставлено Александру Лейферу, тот вышел к аудитории с дореволюционной газетой в руках. Писатель держал ее в развернутом виде, бережно упакованную в целлофан. Я обомлел: это же подлинник, где напечатана знаменитая статья Булгакова! А Лейфер тем временем уже передавал в руки омских коллег свой бесценный подарок. Сердце кровью обливалось от того, что из Новокузнецка прямо на моих глазах ускользает уникальный экспонат…».
Новокузнечане стали уговаривать А. Э. Лейфера и омских музейщиков изменить свое решение. Благодаря их убедительности и настойчивости газетная реликвия 1904 года была, как выразился Лейфер, «если хотите — передарена», и отправилась из Омска в Новокузнецк.
Позднее бывший владелец газетного экземпляра «предал печати» некоторые факты его истории. Оказывается, иллюстрированное приложение к «Сибирской жизни» хранилось среди его бумаг давно. Ему когда-то подарил его известный томский краевед Владимир Домаевский. О причинах, побудивших собирателя старины к столь щедрому поступку, А. Э. Лейфер сообщил в эссе, опубликованном в альманахе «Кузнецкая крепость»:
«Владимир Павлович знал, что меня интересуют всяческие подробности пребывания в Сибири Ф. М. Достоевского, а в этом воскресном приложении напечатана хорошо известная среди тех, кто этой темой тоже интересуется, небольшая статья „Достоевский в Кузнецке“».
Так подлинник газетного приложения, совершив путешествие длиною почти в 110 лет из Томска в Новокузнецк через Омск, поселился в музейной коллекции.
«Редактор-издатель П. И. Макушинъ. Дозволено цензурою»
До 1881 года в Западной Сибири не издавалось ни одной массовой газеты, были в ходу лишь периодические издания в виде губернских ведомостей.
Возникновение первых сибирских газет связано с именем Петра Ивановича Макушина — знаменитого общественного деятеля, мецената, подвижника-просветителя, издателя и редактора, предпринимателя, владельца первого в сибирском регионе книжного магазина.
Его паровая типо-литография наряду с «Сибирской жизнью» и всевозможными приложениями к ней печатала «Сибирскую газету», «Томский справочный листок», «Томский листок». Сейчас многие из этих раритетов хранятся в Научной библиотеке Томского госуниверситета, Иркутской областной универсальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского, Новосибирской научной и других.
Выпуск ежедневной политической, литературной и экономической газеты «Сибирская жизнь» осуществлялся Макушиным пять раз в неделю с 1894 по 1919 годы. Она, по утверждению томского исследователя Н. В. Жиляковой, «была крупнейшей частной ежедневной газетой», «самой распространенной и влиятельной в дореволюционной Сибири». В 1909 году ее тираж составлял около 9 тысяч экземпляров. А во время Первой мировой войны вообще достигал 15 тысяч!
Подписка на «Сибирскую жизнь» и прием объявлений осуществлялись в книжных магазинах Макушина в Томске и Иркутске, а также в специально созданных отделениях редакции в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Омске, Красноярске.
Чтобы сделать газету актуальной, увлекательной и популярной, редактор-издатель привлек к ее выпуску солидные творческие силы: депутатов Государственной думы, профессоров Императорского Томского университета, чиновников, некоторых политических ссыльных, а также представителей молодой сибирской интеллигенции — писателей, врачей, учителей. Сотрудниками и корреспондентами редакции трудились настоящие знаменитости того времени: Потанин, Волховский, Наумов, Клеменец, Голубев, Синегуб, Кон, Арефьев, Ленгник, Лепешинский, Сильвин и многие другие.
По данным 1913 года, в списке работающих в «Сибирской жизни» значилось 59 человек.
Со всех уголков Сибири в газету направлялись статьи, посвященные проблемам российской и зарубежной жизни, известия научного и практического содержания по разным отраслям, хроника текущих событий Томска и близлежащих городов и регионов, тематические научные публикации — исторические, бытовые, этнографические и географические очерки, а также беллетристика, повести, рассказы, стихотворения.
Редакция предъявляла к авторам определенные требования, декларируемые из номера в номер. Статьи и сообщения следовало в обязательном порядке «подписывать фамилией их автора с обозначением его адреса». Рукописи в случае надобности подлежали изменениям и сокращениям. Материалы, «признанные неудобными», хранились в редакции три месяца, затем подвергались ликвидации, а небольшие по объему заметки уничтожались немедленно.
Размер авторского гонорара в «Сибирской жизни» определялся по взаимному соглашению сторон, при этом автографы, «доставленные без обозначения условий вознаграждения», считались бесплатными.
Приобрести газету в начале XX века можно было как по подписке, так и в розницу. В 1904 году отдельный её номер стоил 3 копейки, а подписная цена, включавшая в себя доставку и пересылку, варьировалась в зависимости от места жительства читателя и срока оформленной им подписки. В Томске за годовую подписку покупатели платили 4 рубля, а за 1 месяц — 10 копеек. В другие города России — 5 рублей и 50 копеек соответственно. «Сибирскую жизнь» доставляли и за границу. Иностранным подписчикам в год это обходилось в 9 рублей, а на месяц подписка вовсе не оформлялась.
Обязательным условием выхода в свет газетных номеров была типографская помета на последней странице: «Дозволено цензурою». Как утверждают архивные документы, «Сибирская жизнь» всегда находилась под пристальным вниманием надзорных органов: подвергалась судебным преследованиям, приостановкам деятельности, неоднократным штрафам, конфискациям номеров, переживала аресты и высылку из Томска своих редакторов и корреспондентов. Поэтому немудрено, что взаимодействие с цензурными органами некоторые знатоки этого общественно-политического издания называют «значительной частью его истории».
«Сибирская иллюстрация»
Желание редактора-издателя держать руку на пульсе текущих событий, публиковать в «Сибирской жизни» интересные многим материалы привело к расширению издания за счет газетных дополнений.
Известно, что в период с 1903 по 1904 годы выходили воскресные, иллюстрированные черно-белыми фотографиями, приложения. В 1906 году — «Народные нужды», а в 1914—1917 годах — «Телеграммы «Сибирской жизни».
Кроме того, в 1903–1916 годах типо-литография Петра Макушина выпускала ежемесячные иллюстрированные тематические приложения, посвященные Сибири и выдающимся сибирякам, таким, например, как И. В. Омулевский, Д. И. Менделеев, а также сопредельным странам — Монголии, Китаю, Японии.
Редактировал воскресные приложения прославленный путешественник, исследователь, этнограф, яркий публицист и общественный деятель Григорий Николаевич Потанин.
С того момента, как он переселился в Томск на постоянное место жительства и вплоть до закрытия газеты в 1919 году, он значительную часть своего времени занимался «писанием рецензий и статеек для «Сибирской жизни». И хотя публиковался Потанин во многих периодических изданиях, всё-таки самые важные его работы увидели свет именно здесь.
В мае 1903 года Потанин совместно с Александром Михайловичем Головачевым, а также Елизаветой Петровной и Петром Ивановичем Макушиными создал воскресное иллюстрированное приложение к газете «Сибирская жизнь». Впоследствии он с особой любовью будет именовать свое детище «сибирской иллюстрацией».
На страницах нового, редактируемого Потаниным, издания появятся «портреты известных сибиряков и посторонних лиц, послуживших Сибири, их биографии, снимки с картин художников, сюжеты которых взяты из сибирской природы или сибирской жизни, виды Сибири, типы сибирского населения, образцы внешнего быта в Сибири, а также картины и сцены из жизни города Томска, так как это умственная столица Сибири». Словом, все то, что так живо интересовало творческую молодёжь, к числу которой принадлежал и кузнечанин Валентин Булгаков.
Он познакомился с Потаниным в Томске, во времена своей гимназической юности. В тот самый период знаменитый ученый и просветитель был поглощен деятельностью в «Сибирской жизни».
На склоне лет Валентин Фёдорович прочувствует эту встречу как судьбоносную и поставит её в ряд знаковых вех своей биографии:
«Томск. Гимназия. Новые товарищи. Знакомство с Григорием Николаевичем Потаниным, известным путешественником по Монголии и ученым».
Роль Потанина в расширении кругозора молодого Булгакова, в приобщении его к корреспондентской, научно-исследовательской, писательской деятельности неоспорима. В литературных мемуарах Булгаков известит нас о сроках, причинах и содержательной стороне их творческого взаимодействия:
«Знакомство это мое продолжалось года три и связано с увлечением моим, кажется, не совсем сознательным и искренним, этнографией. Я записывал в деревнях сказки, песни, читал литературу по фольклору, которой снабжал меня Потанин. Сказки, записанные мною, очень хорошие и большие, всего 28, напечатаны были в „Известиях“ Красноярского Подотдела географического Общества под редакцией Потанина. Были еще заметки по этнографии в других изданиях. В Томске вообще я делаюсь причастным к газетной работе».
Думается, эту «причастность» поддерживал и культивировал в юном даровании и Потанин. Редактируя «сибирскую иллюстрацию», Григорий Николаевич обеспечивал общедоступность интереснейших, иногда — малоизвестных, исследований и фактов широкому кругу читателей, продвигал целый спектр тем: от истории и этнографии до географии, литературного краеведения, земледелия, животноводства. Благодаря изданию иллюстрированных приложений он отчасти реализовал свою давнюю мечту — «создать орган, в котором отражалась бы артистическая жизнь Томска».
Несомненно, всё это нашло горячий отклик в душе начинающего корреспондента Булгакова. Позиция редколлегии «Сибирской жизни» сомкнулась с искренней и насущной потребностью будущего кузнецкого литератора «знакомить читателя с родиной, научить его ценить Сибирь и тех, кто работал на её благо»…
Несмотря на то, что Потанин всегда был истинным знатоком сибирских богатств, радел за процветание и динамичное развитие региона, в выпусках иллюстрированного приложения нет никаких пометок о его почти двухлетнем редакторском вкладе. XXIII воскресный выпуск, ставший экспонатом музея Достоевского, — не исключение.
Но имя исследователя не затерялось во времени. Сохранились архивные источники, свидетельства современников, доподлинно подтверждающие это. В том числе, мемуарная летопись «Как прожита жизнь», автором которой является наш земляк Валентин Булгаков:
«10 октября того же года (1904- Е.Т.), в особом иллюстрированном приложении к „Сибирской жизни“, издававшемся под редакцией Г. Н. Потанина, <я> поместил статью „Ф. М. Достоевский в Кузнецке“ с воспроизведением михеевских фотографий домика, где он жил, и церкви, в которой он венчался»…
«…с воспроизведением михеевских фотографий»
Те, кто хоть раз видел подлинник газеты, удивятся: какие еще «михеевские фотографии»? Там ничего нет! Булгаков, видимо, ошибся…
Действительно, внутри статьи, помещенной на первой газетной странице, имеется только одно фотоизображение. Писатель в военном обмундировании сидит возле небольшого, покрытого узорчатой скатертью, столика. В его руках — форменная фуражка.
Но где же домик Достоевского и церковь?
Ответ следует искать в особенностях вёрстки, существовавших в начале XX века.
Типовые номера «Сибирской жизни» верстались мелким шрифтом, в шесть колонок. Материалы ставили очень плотно, «сплошным потоком», из колонки в колонку, отделяя только заголовками. Рисунков или фотографий в газете не предусматривалось. Исключение составляли лишь картинки внутри рекламных модулей, привлекающие внимание к товару. Они были небольшие, размещались на начальной и конечной страницах.
Появление первых иллюстраций в «Сибирской жизни» относится к 1896 году, когда редактор-издатель П. И. Макушин «испросил разрешение иллюстрировать газету» в связи с желанием «дать читателю правдивые и живописные картины „торжества коронации“ и портреты разных лиц, и картины их жизни и природы Сибири». Он понимал, что с каждым годом возрастает количество читателей газеты, желающих полней и ярче представлять события и явления, о которых идет речь в корреспонденциях.
Выпуск новых иллюстрированных приложений словно впустил свежий воздух в газетное дело. Статьи стали верстать в три колонки, появились фото и репродукции, значительно расширившие как визуальные возможности изданий, так и кругозор читателей. В то же время эти новшества выявили недостаток опыта сотрудников, занимавшихся вёрсткой.
Система вёрстки в газете долгое время оставалась недостаточно отлаженной и гибкой. Подтверждением тому служат особенности расположения статьи Булгакова «Достоевский в Кузнецке». По задумке издателей, она должна была сопровождаться тремя черно-белыми снимками. Размещены они, по сегодняшним меркам, очень оригинально. Фотопортрет Достоевского располагается на первой странице вместе с текстом статьи, а два других изображения, автором которых как раз и является В. И. Михеев, перенесены на вторую полосу без каких-либо объяснений или указаний на их связь с предыдущим материалом. Ими стали, как удостоверяют подписи под фото, две достопримечательности города Кузнецка — старинная Одигитриевская церковь, в которой венчался Достоевский, и «Домик, где жил Достоевский, и улица, названная в память писателя его именем».
К слову, второй снимок Валентин Булгаков раскритиковал. В заметке «Несколько слов по поводу картины г. Вучичевича «Домик Достоевского в Кузнецке», увидевшей свет в одном из номеров томской газеты «Сибирский вестник политики, литературы и общественной жизни» в 1905 году, он называет его «довольно неудачным». Особенно заметной эта неудача стала потому, что фото Михеева «послужило оригиналом для картины» В. Д. Вучичевичу. Возмущенный Булгаков считал, что живая натура, а не фотография должна вдохновлять настоящего художника на создание бессмертных полотен. Изначальная подмена «первоисточника», по его мнению, не поможет живописной работе развернуться в достоверный, «интересный исторический сюжет»!..
Но вернёмся к вёрстке фотографий Михеева. Они оказались не только на другой странице, но и внутри научно-популярных исследований, не имеющих никакого отношения ни к Булгакову, ни к пребыванию Достоевского в Кузнецке: «Марал и мараловодство на Алтае» (автор — А.Г.) и «Чемал» (автор — Л-ма). Таким образом, начав «жить отдельно» от булгаковского текста, снимки практически «потерялись». Как, впрочем, и сам фотограф, которому до последнего времени удавалось скрываться от исследовательских глаз.
В этом смысле интересна путаница, возникшая в статье В. Н. Абросимовой «Ф. М. Достоевский в судьбе последнего секретаря Л. Н. Толстого (по материалам архива В. Ф. Булгакова)», где указано, что создателем всех трех (!) фотоснимков, опубликованных в приложении к «Сибирской жизни», является Василий Михайлович Михеев — русский прозаик, драматург, публицист, поэт и редактор, «юность которого прошла на таежных приисках близ Олёкминска».
На самом же деле автор фотографий — совершенно другое лицо. Это Виктор Иванович, а не Василий Михайлович, Михеев. Он «офицер глушайшей провинции» — поручик в составе кузнецкого гарнизона и фотограф, а не писатель. Жил в Кузнецке Томской губернии, а не в Олёкминске.
Некоторые моменты из жизни В. И. Михеева находим в литературных воспоминаниях братьев-кузнечан Вениамина и Валентина Булгаковых. С детских лет они хорошо знали Виктора Ивановича, дружески общались с ним, поэтому особых представлений его личность не требовала.
В мемуарной летописи «Как прожита жизнь» Валентин Фёдорович Булгаков называет Михеева «праведником», «другом всех кузнецких детей» и «добрейшей душой». Он сравнивает его с Дон-Кихотом и указывает на «две самые ценные и характерные черты» — «… во-первых, его любовь к детям, и, во-вторых, пристрастие к фотографии». Но, самое главное, писатель определяет роль его второго «пристрастия» в жизни провинциального города:
«Что касается фотографии, которой он занимался как любитель и при том совершенно бескорыстно, но в которой, однако, достиг значительного умения, то, надо сказать, что В. И. Михееву принадлежит большое количество очень интересных снимков тогдашнего Кузнецка и его достопримечательностей, как то: домика Ф. М. Достоевского <…>, крепости, водопада, церкви и других зданий, а также общих видов города — с крепости, „из-под горы“ и пр. Из этих снимков многие сохранились до сих пор. Некоторые из них были опубликованы, и это очень ценно, потому что в настоящее время часть старых кузнецких зданий и сооружений, например, таких как Богородская церковь, в которой венчался Достоевский, не существует. Между тем, не будь Виктора Иваныча, никто бы сделать снимки с этих зданий и сооружений не догадался».
Брат Валентина Фёдоровича Вениамин в повести «Годы отрочества», посвященной Кузнецку, несколько дополняет общую картину. Вот что он пишет о характере и привычках Михеева:
«Его прозвали „городской нянькой“ за любовь, ласковость и настоящее уважение ко всем нам — ребятам нагорной части города. <…> Иногда наша компания сидела у этого поручика Михеева на квартире, и он фотографировал всех нас, фотографировался вместе с нами, дарил нам фотоснимки, весело шутил, смеялся, угощал всех чаем и конфетами. Никаких лекций и наставлений этот милейший одинокий человек нам не читал, но по всем ребячьим вопросам отвечал, насколько сам был эрудирован. Мы никогда не видели, чтобы он хоть раз курил папиросу; к тому же он был трезвенник. У меня осталось на всю жизнь вот такое светлое и радостное впечатление от всех прогулок, посещений и бесед с поручиком Михеевым».
Но если «радостное впечатление» давно исчезло вместе с современниками фотографа, то плоды его трудов и поныне хранятся в старинных фотоальбомах кузнецких семей. Ведь провинциальный мастер, человек щедрый, добродушный и открытый, бескорыстно дарил их многим. Об этом, как видим, упоминают и братья Булгаковы. Очень жаль, что спустя десятилетия невозможно определить наверняка авторство многих снимков, так как соответствующие пометы на них отсутствуют. Но в собраниях российских коллекционеров встречаются и счастливые исключения.
В Интернет-ресурсах, у бийского собирателя старины Павла Коваленко, мне удалось обнаружить один из таких фотодокументов прошедшей эпохи. Это — двойной портрет «Мама с дочкой», выполненный на Алтае, в Барнауле, в начале XX века.
Что же рассказал он о своем создателе?
Видно, что работа над портретом проходила в специальной студии. Для создания семейного образа использовалась традиционная для того времени мебель — столик, покрытый светлой филейной скатертью.
Снимок был оформлен автором по всем правилам: позитивный отпечаток с изображением молодой женщины и малолетней девочки аккуратно наклеен на типовой картонный фотографический бланк розового цвета. Это придало законченный изящный вид работе и одновременно послужило сохранности. О размере фото «говорит» надпись на лицевой стороне — «Cabinet Portrait», то есть изделие соответствует формату 16,5 х 11,5 см.
На изнаночной стороне паспарту расположен штамп с витиеватыми рисунками и инициалом «М» (первая буква фамилии Михеев), нанесенный фиолетовыми чернилами владельцем фотосалона. Благодаря ему и определяется авторство.
Использование штампа и типовых стандартных бланков, а не их печать по специальному заказу, указывает на желание фотографа сократить расходы на производство, сделать услуги фотосъемки доступными для любого кошелька. Такой подход вполне согласовался с характером владельца салона и его названием — «Алтайская общедоступная фотография В. И. Михеева»…
***
Подлинник иллюстрированного приложения к газете «Сибирская жизнь» со статьей 18-летнего Валентина Булгакова стал одним из самых ценных экспонатов музея Достоевского в Новокузнецке. Он уже демонстрировался на выставке «Кузнецкий венец», посвященной 155-летию венчания писателя, а затем занял достойное место в постоянной образно-сюжетной экспозиции.
Стоит согласиться с Александром Лейфером, что небольшая статья о кузнецком венчании великого русского романиста не утратила своего значения и в XXI веке. И еще с тем, что в музейных фондах «она будет целее. И нужнее».
Драматургия о шахтерах vs
эвтаназия душ

Будущий писатель, профессиональный кинодокументалист Юрий Мирошниченко родился и вырос в Кузбассе. И хотя сейчас он живет в Новосибирске, Земля Кузнецкая навсегда запечатлелась в его памяти и литературном творчестве.
С детства драматургу были хорошо знакомы быт и нравы горняцких семей, условия их жизни. Именно на угольных предприятиях края, во время обычных трудовых смен коллектива шахты «Северная» он нашел своих главных героев — шахтеров и жителей небольших горняцких поселков. Нашел — и описал с присущей ему правдивостью и достоверностью, подчас не изменяя реальные фамилии и имена. Всех, с кем долгое время был знаком, с кем трудился в одной бригаде, кого хорошо знал и знает…
В 2011 году, к 70-летию автора, издательство «Сибирская горница» выпустило в свет двухтомник Ю. А. Мирошниченко «Непридуманные пьесы». Спустя несколько лет к нему присоединился такой же аккуратный томик «Непридуманных рассказов и сказок». Помощь в их публикации оказал Кемеровский областной общественный фонд «Шахтерская память» имени В. П. Романова и неравнодушные к творчеству писателя люди, среди которых — видные государственные и общественные деятели. А сын драматурга Михаил, которому посвящены «Непридуманные пьесы», составил своеобразное послесловие, где многочисленные критики, театроведы, искусствоведы, журналисты, кинорежиссеры, драматурги, а также народные артисты России дают положительную оценку литературному таланту его отца…
Желание автора постичь внутренний мир современника приводит и нас вместе с ним в одну из интереснейших субкультур, объединенных по общему профессиональному роду занятий. Это — шахтёры.
На страницах творений Мирошниченко возникают многогранные колоритные характеры, вырастающие в целостный собирательный образ горняка со всеми его достоинствами-недостатками, рекордами и падениями, радостями и горестями, немыслимым величием и каждодневной борьбой со слабостями. Словом, разыгрывается невероятная по размаху и глубине, реальная до парадоксальности, пьеса о шахтерской жизни.
Критик, литературовед Владимир Яранцев в статье «Все смеются» писал об этом так:
«Все дело — в людях, героях пьес, для которых обыденность — их будничная жизнь, иных обстоятельств не будет, не предвидится. Надо жить и поступать здесь и сейчас. И они делают это так рьяно, с таким избытком сил, что неизбежно перехлестывают, переходя границы данного события/обстоятельства, переполняя сосуд, превышая меру здравого смысла. В итоге же — анекдот, комедия, конфуз и курьез, из цепи которых и состоит жизнь таких переполненных жизнеэнергией героев. Вполне по-сибирски».
Остановимся на некоторых шахтерских типах, ярко обрисованных в драматургии Мирошниченко.
Первый из них — добрый, чудаковатый, живущий по принципу «ни кола — ни двора», знакомый почти со всеми, веселый и болтливый, мечтательный и увлеченный какой-либо идеей, неординарный в своем мировосприятии шахтер. Это и Федя из «Зверя-Машки», страстно желающий увлечь всех охотой; и фотограф Паша из «Поселка», в планах которого — создание кинофильма о «дорогом сердцу уголке»; и механик участка Анисимов из «Легенды…» — «человек играющий», погрузивший производственный коллектив шахтных слесарей в атмосферу военного времени; и Андрей Маруськин из «Снежного человека», пропагандирующий лечение от импотенции магнитами от ракетных установок и мечтающий поймать йети…
Критики неоднократно указывали на сходство этого литературного героя с «чудиками» Василия Шукшина и Александра Вампилова. Продолжая литературную традицию, Мирошниченко отдает своему персонажу-«чудику» развитие комической составляющей в пьесах. С ним он связывает и воплощение многослойного анекдота как жанра внутри драматического действа. Чудаковатого персонажа сопровождает мотив игры (розыгрыша) и активная репрезентация народного юмора: пословиц, поговорок, примет, присловий, детских приставалок, повторяющихся вопросов-прилипал, профессиональных баек… Как правило, с анекдота, курьеза, привносимого в пьесу таким персонажем, в определенный момент и начинается серьезный разговор о насущных проблемах современности, завязывается конфликт пьесы.
Стоит отметить, что, например, в комедии «Зверь-Машка» наряду с чудаковатым охотником-теоретиком Федей возникает «другой Федька» — «худой, улыбчивый, очень похожий на Федю, но не добрый, а заискивающий», на протяжении всего действа, произносящий, усмехаясь, одну реплику: «Ясно». Его появление — один из эффективных художественных приемов — отзеркаливание. Оно вносит дополнительный комический эффект, ведь зеркало изначально кривое.
«Милые сердцу чудаки» Мирошниченко хорошо «рифмуются» с такими однорепликовыми «ритмообразующими» персонажами, старшие братья которых — литературные герои Чехова. Становясь неотъемлемой частью новой коммуникативности в современной драматургии, странные однорепликовые герои организуют многоголосие, которое подчас важнее, чем сюжет, внешнее действие, атрибуты классической драмы.
Второй шахтерский тип — сильный авторитарный характер, лидер с гипертрофированным чувством собственного достоинства, тот, кого боготворят. Это яркая личность, проявляющая себя в сложных экстремальных ситуациях горняцких будней, готовая поднять из руин угледобывающее производство. Среди таких — волевой, жесткий и решительный директор шахты Ачинович («Кто убил Кеннеди»); Найдов/Найдин («Кони», «Стена плача»), на долю которого выпала почетная миссия — вывести из шахты последнюю лошадь Кузбасса; отчасти — механик участка Анисимов («Легенда о мятежном генерале»), бросающийся без лишних слов ликвидировать аварию на полевом штреке. Они ответственны и смелы, подчас — излишне эмоциональны. Их поступки никогда не укладываются в привычные схемы, а в карьере всегда присутствует резкая амплитуда колебаний. За что бы они ни взялись, все делают легко, играючи, препятствия только разжигают их азарт и жажду деятельности. Чтят профессиональные традиции, помнят отцов и дедов — основателей шахты и поселка возле нее, считают себя неотъемлемой их частью и в этом видят свою избранность.
Судьба данного персонажа очень скорбна и трагична. Как правило, он умирает. Смерть наступает, когда его вероломно отлучают от шахты, когда не по его воле рвутся корневые связи. Например, о причинах смерти генерала Анисимова («Легенда…») его коллеги говорят так:
«Его как от дела отрешили, так он и помер… Убрали с механиков. А что ему оставалось делать? Всю жизнь в шахте. И глаз тут потерял».
Суждено быть дважды убитым по коварному плану и главному герою «Стены плача» Найдину. Сначала он не по своей воле теряет собственное лицо, и жизнь утрачивает смысл, превращается в нескончаемый абсурдный маскарад. Затем, стремясь обрести утраченное, персонаж вообще погибает. Вместе с героем постепенно чахнут и его детища — шахта и рабочий поселок. Остается лишь «Стена плача», которую горняки «чувствуют в себе и с этим живут».
Такой финал пьесы символичен, особенно в свете событий, происходящих на шахтах кузбасского региона. Об этих деструктивных процессах правдиво и без прикрас пишет драматург Юрий Мирошниченко:
«…что стало с поселком, самой шахтой сейчас? Время не пощадило ее. В конце 90-х она попала в число бесперспективных. Несколько раз переходила из рук в руки. При этом никто себя не утруждал заботами о ней. Брали уголь там, где поближе, а потом и вовсе закрыли. Часть зданий взорвали, часть растащили по кирпичикам, а место заровняли бульдозером»…
Третий, но не по значимости, тип шахтерского характера — герои труда, честные труженики, почетные шахтеры, неоднократно удостоенные высоких государственных наград и материальных поощрений, пользующиеся уважением коллег. Шахта для них — всё. «Работа была для нас богом. Мы мерили все по этому богу», — признаются потомственные горняки. И они для шахты были и остаются движущей силой, тягловой мощью, образно говоря, «конями», на которых все держится.
В качестве персонажей-«коней» выступают: Фома Егоров («Поселок»), Александр Аркадьевич Швалёв («Кони»), Анисимов («Легенда…»). Но если Егорова писатель создает в виде некоего символа — «обобщенного образа покорителя недр», сродни «портрету в центральных газетах», то Швалёва и Анисимова рисует во всей сложности и противоречивости человеческой натуры. С одной стороны, мы видим их профессиональные достижения, почет и уважение, радости шахтерского труда. С другой — потерянное здоровье, отсутствие полноценного отдыха и несчастливую жизнь в шахтерской семье: доведенную до самоубийства жену, «утраченное детство» сына, пьянство с битьем подарочных сервизов, «новый костюм», который непонятно для чего шьется годами, ведь нет ни времени, ни желания его примерить. Склеивает эти две разбитые половинки людской жизни только работа:
«Именно труд, работа, в то время, когда упала на все цена, спасла нас, именно работа была тем местом, куда можно было уйти, чтобы выжить, остаться человеком».
Мирошниченко отражает в пьесах жестокие реалии шахты: искалеченные старые коногоны предстают с откушенным носом, перебитой спиной, лопнувшими перепонками. Шахтер по прозвищу Камбала живет с одним глазом, а начальник, ковыряющийся в носу, — без двух фаланг пальцев. Но даже при тяжелой работе, увечьях шахтовые «кони» не утрачивают теплоты, человечности, сострадательности. Так, они не позволяют администрации устроить аукционную продажу коней, с которыми в одной упряжке отработали ни один десяток лет. Вывод коней на-гора и последующий выкуп животных ветеранами шахты прочитываются как выкуп собственной души, ее освобождение из подземных недр. Это обретение ценностей, которые не продаются и не покупаются…
Некоторые герои Ю. А. Мирошниченко, такие как Найдов (Найдин), Ачинович, Песчанский, Швалёв, Полторацкий, «кочуют» из пьесы в пьесу, разворачивая в литературе свой индивидуальный жизненный сюжет, и, тем самым, выстраивая «по кирпичику» новую документально-драматургическую реальность — глобальную метапьесу по имени «непридуманная шахтерская жизнь».
***
Метапьеса о шахтерской жизни создавалась Ю. А. Мирошниченко на протяжении тридцати с лишним лет. В двухтомник вошли 11 драматургических произведений, написанных им в разные годы. Это своеобразные, в какой-то мере связанные между собой, истории из жизни работающих и вышедших на заслуженный отдых шахтеров.
Самая ранняя из пьес — «Зверь-Машка» — увидела свет в 1979 году. Наиболее зрелые создания автора — «Кто убил Кеннеди» и «Эвтаназия» — датированы 2010—2011 годами, две драматические сказки «Нос» — 2014.
Наблюдая за формированием художественного мира Мирошниченко, нетрудно заметить, что он постоянно проводит эксперименты с драмой как одним из основных литературных родов. Этот процесс связан с творческими исканиями автора, его попытками жанрового определения и уточнения собственных драматургических опытов.
Если пьесы, написанные в 70-80-ые годы, Юрий Анатольевич обозначает достаточно традиционно — комедия (или трагедия) в двух частях, то позднее, в XXI веке, мы получаем экспрессивные жанровые характеристики: комедия со свистом («Снежный человек», 2005); грустная комедия («Эвтаназия», 2003—2011); роман в диалогах («Кто убил Кеннеди», 2010); история одной жизни в двух действиях («Стена плача», 2009). Две пьесы «Нос» вообще становятся сказками…
В конечном счете, эксперименты над жанром раскрывают перед нами новые грани авторского «я», демонстрируют юмор драматурга, своеобычные способы и формы постижения реальности, а также тяготение более зрелого художественного текста к метафоричности и сатире.
Время действия метапьесы Мирошниченко — современность, место — российская глубинка. В аннотации к двухтомнику этот особый хронотоп сравнивается с городом американского романиста, лауреата Нобелевской премии по литературе Уильяма Фолкнера.
Прежде всего, потому, что обоим писателям удалось создать неповторимую локальную местность, ставшую универсальной моделью мира. Здесь человек каждодневно познает себя и своей жизнью пишет историю поселка — летопись одних и тех же родов на протяжении многих десятилетий. «Шахта для шахтера — это не только источник денег, — утверждает драматург. — Дело-то, как правило, потомственное, так что это уже история рода со всеми любовями, увечьями, победами и байками. Здесь все знают не только друг про друга, но и про родителей каждого и даже про дедов. У меня на шахте работали дядя, братья, отчим, отец с нее ушел на фронт и погиб…»
В автономном мире шахтерского посёлка нет никаких излишеств. Он складывается из вполне понятных и хорошо известных автору точек — достопримечательностей поселения: шахта, зал раскомандировок, любительская киностудия, редакция газеты «В бой за уголь», магазин, больница, сквер перед зданием шахты, котельная. Они же являются местами встреч и общения единственных в своем роде и никем не заменимых индивидуальностей. Сюда часто заглядывает свой поселковый журналист (Рассказчик), здесь «ловит» достойные вечности мгновения свой кинооператор и фотограф (Паша), самозабвенно творят, вдохновляясь буднями посёлка, свой художник (Степан Коблов) и свой писатель (Федя Фотинцев), и, наконец, круглосуточно стоит на посту законности своя милиция (Иван Погодаев). Вторых таких нет и не надо.
Автор тоже включен в этот локальный мир, ведь его непосредственное присутствие внутри развертывающихся событий — такой же безусловный и неподдающийся сомнению факт, как существование самого посёлка на географической карте страны. В пьесе он становится повествователем и выводится на сцену наряду с другими персонажами. С обретением собственного места драматург получает право «монтировать» сцены воспоминаний, вести отбор фактов и давать оценки происходящему. Кстати, именно с образом автора-повествователя в «Посёлке» тесно связан символический план комедии и ее проникновенный лиризм, который в конце повествования выливается в объединяющую всех мелодию, одновременно похожую на удары человеческого сердца и стук работающего шахтного компрессора…
***
Некоторые критики причисляют Юрия Мирошниченко к плеяде драматургов-документалистов, авторов пьес-вербатим (название восходит к латинскому слову «verbatim», что означает «дословно»). Думается, «непридуманная шахтерская жизнь» не является в чистом виде подобной пьесой, хотя некоторое сходство с ней обнаруживается.
Прежде всего, их роднит постоянный и жестко очерченный объем: все пьесы Мирошниченко состоят из двух действий, точно так же, как пьесы-вербатим укладываются в неизменный один акт продолжительностью не более часа.
И та, и другая пьесы развиваются в стремительном ритме и явно противоречат классическому репертуарному театру. Бесспорно, ритм задается драматургическим материалом с его неприглаженностью, иногда — шокирующей откровенностью, монологов и диалогов. При этом Мирошниченко достаточно умело, без вызова и провокации, свойственным вербатиму, «конвертирует» реальность в литературу, сохраняя общие с вербатим родовые черты: социальность, злободневность, опасное и острое приближение литературного текста к рубежу между театральными подмостками и современной жизнью.
Как и пьесы-вербатим, драматургия Мирошниченко сильна не столько социальной, сколько нравственной интенцией: сквозь бытовые неурядицы, мат, грубые шутки, анекдоты проступает душевный мир персонажей — реальные страдания и радости шахтеров, ничем не прикрытые мысли и чувства. В горняцких голосах мы слышим исповедальные ноты и надрыв, а на лицах обнаруживаем пот и полное отсутствие грима.
В отличие от вербатима, метапьеса Юрия Мирошниченко про шахтерскую жизнь достаточно литературна, несмотря на присутствие в ней ненормативной лексики, резкости и ноток пошлости, вносимых персонажами («Легенда о мятежном генерале», «Кто убил Кеннеди», «Кони», «Посёлок»). Видно, что писатель не стремится, подобно авторам пьес-вербатим, к полному отказу от «метафор», исключению из арсенала средств художественной выразительности музыки, танца, пластических миниатюр. Напротив, в пьесах «Кони», «Посёлок», «Стена плача», «Эвтаназия» именно они играют одну из ключевых ролей, создают целостность действа, раскрывают метафорический и символический планы литературного текста.
Действующие лица пьес Мирошниченко — люди читающие и думающие. Они всегда существуют в культурном пространстве: активно цитируют Достоевского и Солженицына, Тургенева и Хэмингуэя, Леонова и Бальмонта, Сент-Экзюпери и Бердяева, изучают Библию, видят во снах Льва Толстого и Николая Чудотворца, рассуждают о полотнах Микеланджело, знают самые свежие сообщения центральных газет, пишут письма Индире Ганди и Герою труда Николаю Батыю. Физически находясь на периферии, принадлежа профессиональной субкультуре, они остаются в центре событий, в курсе дел, всегда «на волне».
Сам автор произведений тоже включен в культурный процесс. Он неуклонно расширяет читательское восприятие, настраивая нас на литературные сопоставления и улавливание аллюзий, поиск реминисценций. «Стена плача» то и дело напоминает «Визит старой дамы» Фридриха Дюрренматта и «Человека без лица» Дэвида Моррелла. «Посёлок» ассоциируется с «Городом» Уильяма Фолкнера, «Рабы 48-го километра» — с «Кавказским пленником» Льва Толстого, а «Нос» не только апеллирует к одноименной петербургской повести Николая Гоголя, но по своей идейно-нравственной направленности может быть сравним со сказками Салтыкова-Щедрина. При этом созданный Юрием Мирошниченко шахтерский мир остается целостным и самодостаточным. Он, по выражению У. Фолкнера, «своего рода краеугольный камень Вселенной: если его убрать, Вселенная рухнет»…
***
Пьесы Юрия Мирошниченко вызывают неподдельный интерес и неоднократно ставились в столичных и провинциальных театрах. Тем не менее, во вступительной статье к двухтомнику знаменитый сценарист и публицист Александр Гельман с сожалением констатирует, что подобные драматургические находки «в последние годы появляются на сценах российских театров реже, чем они того заслуживают», потому что и актеры, и зрители «перестали интересоваться жизнью и судьбой простого, нормального человека».
Да, актеры подчас не представляют, как это можно сыграть.
Да, зрители зачастую не хотят видеть поток быта на сцене.
Но интерес к пьесам Мирошниченко почему-то не иссякает. Видимо, оттого, что он питается постоянным ощущением свежести и обновления, идущим от его драматургии. На наших глазах через возвращение к малой Родине происходит поиск нового понимания мира, формируется новый культурный опыт и другая эстетика, где есть иерархия ценностей и оригинальный персонаж, где присутствуют событие, жест, поступок.
В этом мы, почти согласившиеся на эвтаназию душ, остро нуждаемся.
Летопись «грозного чувства»
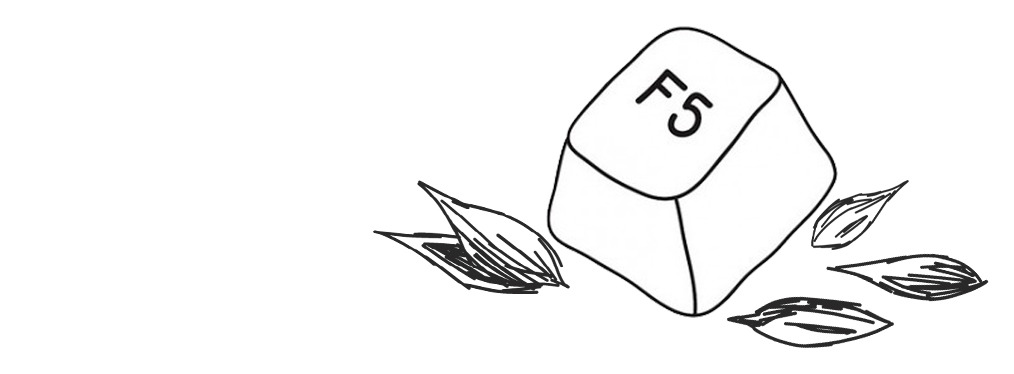
«Чтобы написать роман, надо запастись прежде одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно», — писал Достоевский в черновиках к роману «Подросток».
Таким ярким жизненным впечатлением, отразившимся в литературе и философии писателя, стала любовь к Марии Дмитриевне Исаевой, урожденной Констант, вдове коллежского секретаря, заседателя по корчемной части в городе Кузнецке.
Достоевский именовал свое чувство к ней «грозным». В своем эпистолярном наследии он оставил фрагменты его летописи — всего 39 писем разным адресатам: отчаянная попытка вырваться из круга жестоких обстоятельств, следы мучительных поисков себя и другого «горячего сердца», свежего художественного Слова. Острые любовные переживания писателя совпали со вторым вхождением в литературу, со временем воскрешения к новой жизни после четырехлетней каторги в Омске.
Две мощные взаимопроникающие творческие силы — любовь и литература — занимали все естество Достоевского в то трудное время. Они же стали для человека и писателя живительными и спасительными источниками…
Пролог. Смерть и воскресение из мёртвых
Но чтобы спастись, надо принять мысль о грядущей через мгновение смерти.
Надо уверовать в смерть и воскресение, принять Иисуса, искупителя наших грехов, как своего Господа и Спасителя…
22 декабря 1849 года на Семеновском плацу во время гражданской казни петрашевцев Достоевский был приговорен к расстрелу. Он испытал чувство, что скоро «будет со Христом»:
«… всем нам прочли смертный приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головою шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди и жить мне оставалось не более минуты».
До конца земного странствия писатель хранил живое и удивительное ощущение этого дня, в котором слились воедино Рождество, Голгофа и Пасха. Дня, в котором он, облаченный в белый бесконечный саван с глубоким капюшоном и длинными рукавами, вынужденный заглянуть за черту, обретет иную плоть, станет «существом инфернальным, как бы вышедшим из могилы и в саване блуждающим среди людей живых». Он узреет тайну жизни, услышит её неистовый и манящий зов:
«Я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть — вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это. Эта идея вошла в плоть и кровь мою. Да, правда! Та голова, которая создавала, жила высшею жизнию искусства, которая сознала и свыклась с возвышенными потребностями духа, та голова уже срезана с плеч моих. Осталась память и образы, созданные и еще не воплощенные мной. Они изъязвят меня, правда! Но во мне осталось сердце и та же плоть и кровь, которая также может и любить, и страдать, и желать, и помнить, а это все-таки жизнь!»
События на Семеновском плацу Достоевский пережил как смерть себя прошлого. Впоследствии он неоднократно будет возвращаться к этим томительным мгновениям в ожидании команды: «Пли!», к знакам смерти и пограничному состоянию «между двумя приговорами», между жизнью и чем-то новым, неизведанным, которое «будет и сейчас наступит», к которому испытываешь «неизвестность и отвращение».
Спустя много лет, в романе «Идиот», устами князя Мышкина он вновь вернётся к впечатлениям человека, который «двадцать минут или, по крайней мере, четверть часа, прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет».
«…Ему всё хотелось представить себе, как можно скорее и ярче, что вот как же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, — так кто же? где же? Всё это он думал в эти две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей; ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с ними… ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль: «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И всё это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!»…
События 22 декабря 1849 года стали знаковыми в судьбе Достоевского. Они превратились в новую точку отсчета его жизненных, литературных и религиозно-философских исканий. Внезапное изменение приговора и помилование литератор воспринял как воскресение из мертвых, а последовавшие за ним каторжные работы в Омске и бессрочную службу в Семипалатинске — как очистительное искупление. Впоследствии об этом Достоевский поведает нам со страниц «Записок из Мертвого дома», где главным персонажем станет его alter ego — политический заключенный, отбывающий Наказание за Преступление.
По дороге в Омский острог, на пути к воскресению, писателя ждал особый дар — Евангелие. Экземпляры Священной Книги 1823 года издания ему и его единомышленникам в Тобольской пересыльной тюрьме пожертвовали жены декабристов Н. Д. Фонвизина, А. М. Муравьева и П. Е. Анненкова, которые воспринимали петрашевцев продолжателями дела их мужей. Они снабдили осужденных пищей и одеждой, а в кожаный переплет Евангелия заботливо спрятали 10 рублей ассигнациями — небольшое подспорье каторжнику на первое время. По этому поводу Ф. М. Достоевский писал:
«Эту книгу с заклеенными в ней деньгами подарили мне еще в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время ее уже десятилетиями, и которые во всяком несчастном привыкли видеть брата».
Евангелие было единственной книгой, которую разрешали иметь при себе заключенным. Его Достоевский читал в течение четырех мучительных каторжных лет и постоянно делал пометы ногтем, карандашом, сухим пером, чернилами. С Книгой Книг писатель не расставался в течение всей жизни: она сопровождала его в путешествиях, была верным советчиком в трудные минуты, находилась всегда под рукой — на письменном столе или тумбочке возле кровати. Он гадал по ней и даже на смертном одре, предсказав по евангельской притче свою кончину, передал эту ценность своему сыну Фёдору.
Священное Писание озарило воскрешенного из мертвых. Томимый загадками бытия, Достоевский осознал свой крестный путь, на котором всякая встреча приобретает глубокий небытовой смысл, а любое событие представляется божественным даром.
На новом пути писатель стал искать свежее художественное Слово, способное отразить мысли и чувства заново рожденного человека: верующего христианина, религиозного философа, писателя мирового масштаба.
Он очень нуждался в понимании и надёжной опоре и жаждал встречи с горячим, готовым к исповеди, сердцем…
Встреча первая. Предчувствие и предугадывание
…Их первая встреча произошла задолго до действительной. Она случилась в «фантастической реальности», на тонкой грани жизни и литературы, в то самое мгновение, когда невозможно понять, было ли что-то или всего лишь разыгралось в воображении, приснилось, привиделось, померещилось?
Он — петербургский Мечтатель или бедный титулярный советник, наделенный способностью сопереживать; начинающий литератор, у которого «с недавнего времени слог формируется». Она — добросердечная, утонченная, сочувствующая, несколько наивная натура; униженная и несчастная, слабенькая, как росток.
Он еще не знал Её имени. Может, Варенька («Бедные люди»), Настенька («Белые ночи»)?.. Но силой фантазии и писательского таланта задолго до знакомства и подлинного узнавания создал характерный женский тип, «предугадал» главные черты своей музы: тоненькая, хрупкая блондинка средневысокого роста, добрая («сердце у нее рыцарское»), с болезненным, лихорадочным румянцем, игравшем на ее щеках…
Предвкушая радость встречи и повинуясь её роковой неизбежности, Достоевский эскизно очертил даже сюжетные ходы, которым суждено было воплотиться в его жизни. Позднее, сравнив литературные предвосхищения и истинные события, он будет искренне поражен: «Напророчил же я себе!»…
Наиболее остро мотив скорой и неотвратимой встречи с возлюбленной прозвучит в омском письме, адресованном жене декабриста Н. Д. Фонвизиной, в конце января — 20-х числах февраля 1854 года:
«Я в каком-то ожидании чего-то; я как будто все еще болен теперь, и кажется мне, что со мной в скором, очень скором времени должно случиться что-нибудь очень решительное, что я приближаюсь к кризису всей моей жизни, что я как будто созрел для чего-то и что будет что-нибудь, может быть тихое и ясное, может быть грозное, но во всяком случае неизбежное».
Через несколько месяцев Его Величество Случай, смешав реальность и литературу, разрешит предчувствия Достоевского в варианте «грозное».
Встреча вторая. Биографическая
Весна 1854 года, город Семипалатинск Томской губернии — время и место пересечения судеб Фёдора Достоевского и Марии Исаевой.
Он — бесправный солдат, отбывающий срок за политическое преступление; художник Слова, переживший долгое вынужденное молчание и грезящий о возвращении в большую литературу. Она — жена потерявшего служебное место и спивающегося чиновника; мать семилетнего шалуна Паши; дама, воспитанная в семье потомка французских эмигрантов, получившая прекрасное образование в женском пансионе и Астраханском институте благородных девиц; «довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная», разбирающаяся в музыке и отлично владеющая французским языком.
О ней в 1856 году Достоевский писал своему брату Михаилу из Семипалатинска :
«Это дама, еще молодая, 28 лет, хорошенькая, очень образованная, очень умная, добра, мила, грациозна, с превосходным, великодушным сердцем. Участь эту она перенесла гордо, безропотно, сама исправляла должность служанки, ходя за беспечным мужем, которому я, по праву дружбы, много читал наставлений, и за маленьким сыном. Она только сделалась больна, впечатлительна и раздражительна. Характер ее, впрочем, был веселый и резвый».
Факты биографии Марии Дмитриевны достаточно скупы. Родилась в 1824 году в Таганроге, позднее вместе с семьей переехала в Астрахань, где ее отец Д. С. Констант получил должность начальника таможенного карантина. Воспитывалась в многодетной семье, при этом каждому из семи детей отец старался дать хорошее образование. В «Астраханских ведомостях» того времени были найдены сведения о том, как Мария и ее сестра Варвара уверенно держали экзамен и произвели неизгладимое впечатление на приемную комиссию игрой на фортепьяно и декламацией стихов на русском и французском языках.
Но особенно всех впечатлил танец с шалью, исполненный Марией Дмитриевной. В романе «Преступление и наказание» он будет упоминаться как часть навек утраченного счастливого времени:
«Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила».
Мария… Имя музы Достоевского звучало по-особенному литературно. Это было имя Богородицы, в православной традиции означающее «госпожа», восходящее к древнееврейскому «Мариам». Оно вмещало в себя несколько дополняющих друг друга смыслов: «горькая», «любимая», «упрямая», «святая», «высокая», «отвергнутая», «печальная». И еще — в представлении Достоевского — ангельски светлая, дарующая желанное возрождение:
«Она была свет моей жизни. Она явилась мне в самую грустную пору моей судьбы и воскресила мою душу. Она воскресила во мне всё существование, потому что я встретил ее».
Но узнать все грани характера любимой Достоевский не успел: весной 1855 года Исаевы уезжают в город Кузнецк, куда глава семейства Александр Иванович был направлен заседателем по корчемной части.
Каким предстанет Кузнецк перед Исаевыми? Сколько раз посетит его Достоевский? И когда городские реалии сложатся в собирательные образы провинции — город Мордасов и село Степанчиково?
Об этом расскажут рукописи, произведения и письма.
Встреча третья. Эпистолярная
Место новой встречи Достоевского и Исаевой — мир эпистолярный, готовый в любой момент превратиться в страницу художественного романа. Форма постижения друг друга — интимное письмо.
Он — страстный влюбленный, терзаемый ревностью и «грозным чувством», преодолевающий разлуку ежедневным письмописанием, способный ради мимолетной встречи отматывать сотни верст из Семипалатинска в Кузнецк, готовый на шаг за пределы возможного, на жертву. Она — новый, постепенно раскрывающийся, чудесный образ: «что-то каждую минуту вновь оригинальное, здравомыслящее, остроумное, но и парадоксальное, бесконечно доброе, истинно благородное…». Женщина-ангел, томящаяся в далеком и чужом Кузнецке; «родная сестра» по вере, излучающая безраздельную православную любовь; муза с сердцем «удивительной младенческой доброты».
К сожалению, из богатейшей переписки влюбленных, которая длилась почти два года, сохранилось одно-единственное послание Достоевского от 4 июня 1855 года. В нем писатель определит их встречу, а значит и роман в письмах, и короткие кузнецкие дни, как глобальное событие, полностью перевернувшее представление о времени:
«Одно то, что женщина протянула мне руку, было уже целой эпохой в моей жизни».
…Спустя несколько месяцев после переезда Исаевых в Семипалатинск приходят пронзительные вести: глава семейства умирает, а Мария Дмитриевна остается одна без средств к существованию. Хоронили Александра Ивановича на чужие деньги. «Нужда руку толкала принять, и приняла подаяние», — признавалась она Достоевскому. Позднее эта фраза растворится в структуре романа «Преступление и наказание», а сами Исаевы дадут жизнь знаменитым литературным героям — супругам Мармеладовым…
Кузнецкие послания Марии, обрамленные черной траурной каймой, угнетают и подтачивают Достоевского. Убитая горем и отчаянием 30-летняя вдова с ребенком на руках, зажатая в провинциальный круг сплетен и слухов, недобрых замыслов «кузнецких кумушек» и советов семипалатинских «доброжелателей», заклинает о помощи и спасении, просит хлопотать о ней, об устройстве сына…
И за младенческим лицом женщины-ангела вдруг проступает совсем иной лик — Марии греховной и кающейся, Марии Магдалины, готовой выйти замуж из-за «куска хлеба» за «сибиряка, ничего не видавшего, ничего не знающего, чуть-чуть образованного, начинающего первую мысль своей жизни». Или, может, лик обреченной на неравный брак Вареньки Добросёловой? Зиночки Москалевой из города Мордасова?
Чтобы разобраться во всем, понять, кто же она, его возлюбленная, каков её выбор, Достоевский в первый раз приедет в Кузнецк на два дня, в июне 1856 года.
Встреча четвертая. Литературная
«Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого», — напишет убитый горем литератор своему другу А. Е. Врангелю…
Имя соперника — Николай Борисович Вергунов, 24-летний учитель рисования и чистописания в Кузнецком уездном училище.
Новая встреча Достоевского с Исаевой происходит в банальной, типичной, но очень жизненной и одновременно очень литературной ситуации — обстоятельствах любовного треугольника.
Он — один из претендентов на руку Марии; военный, из-за любви самовольно изменивший служебный маршрут, со дня на день ожидающий повышения в чине, а значит, и возможности сделать предложение, и скорейшего разрешения на брак; литератор, который не может писать, потому что «сам пишется». Она — потерявшая супруга, зрелая женщина в ситуации выбора; мать, обеспокоенная собственной будущностью и судьбою ребёнка. Та, которой всего лишь за полтора года будет суждено сменить платье вдовы на платье невесты, и своею противоречивой, полной стремительных метаморфозов судьбой, дать начало двум всемирно известным литературным персонажам — Катерине Ивановне Мармеладовой и Настасье Филипповне Барашковой.
«Отказаться мне от нее невозможно никак, ни в коем случае, — писал Ф. М. Достоевский А. Е. Врангелю 23 марта 1856 года из Семипалатинска. — Любовь в мои лета не блажь, она продолжается два года, слышите, два года, в 10 месяцев разлуки она не только не ослабела, но дошла до нелепости. Я погибну, если потеряю своего ангела: или с ума сойду, или в Иртыш!».
«Грозное чувство» вместило в себя и суровые ситуации, и угрожающие жизни личные катастрофы, и грозовые раскаты эмоций, слухов, сплетен, и очистительную, послегрозовую венчальную свежесть, и «невыносимое, уничтожающее счастье».
Предвосхитив сюжетную ситуацию «любовный треугольник» в ранних произведениях «Бедные люди», «Белые ночи», «Хозяйка», Достоевский переживёт её на собственном опыте, а в зрелости неоднократно возвратится к ней в «Униженных и оскорбленных», «Идиоте», «Вечном муже», «Братьях Карамазовых»…
Встреча пятая. Мысле-чувственная
Новая встреча писателя и его музы состоялась в беспорядочном клубке мыслей и чувств, в паутине авторского художественного сознания.
Он — страстный и ревнивый, жалящий мучитель-скорпион; «несчастный сумасшедший» с «неподвижной идеей в голове» («любовь в таком виде есть болезнь!»); не контролирующий эмоций и поступков, алчущий всецелого обладания «любимым существом» паук-собственник: «Ведь я на нее имею права, слышите, права!..»; страдалец, почти потерявший веру в добрый исход, готовый принять выбор любимой и пожертвовать собой: «её счастье я люблю более моего собственного». Она — ангел божий, с которым «связало страдание», агнец, ведомый на заклание временем и судьбой; та, которой предстоит сложный выбор между бывшим каторжником с сомнительной будущностью и бедным провинциальным учителем; несчастная жертва, запутавшаяся в неразрывных сетях взаимного мучительства:
«…несмотря на то, что мы были положительно несчастны вместе, мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу».
Размышления писателя о трагическом взаимодействии дуальной пары «жертва — мучитель», где во главу угла поставлено «эго», впоследствии обретет художественную плоть в «Идиоте», «Кроткой», «Преступлении и наказании», «Братьях Карамазовых». По мысли Достоевского, предотвратить закономерный полет кроткой жертвы на булыжник может только глубокая вера, жизнь по заповедям Христа.
Между «эго» и православным идеалом — Христом — он сделает единственно правильный выбор, и это позволит разрушить скрепы любовного треугольника, добиться у возлюбленной согласия на брак и побрататься с соперником Вергуновым. Все эти события произойдут в биографии Достоевского в ноябре 1856 года, когда он во второй раз, всего лишь на пять дней, приедет в Кузнецк.
Встреча шестая. Религиозно-философская
6 февраля 1857 года у алтаря Градо-Кузнецкой Одигитриевской церкви при большом скоплении народа вновь встретились, чтобы произнести венчальные обеты и навсегда соединиться на небесах, а также в бытовой жизни, литературе и религиозно-философских размышлениях, Федор Михайлович Достоевский и Мария Дмитриевна Исаева.
«Женитьба и посягновение на женщину есть как бы величайшее оттолкновение от гуманизма, совершенное обособление пары от всех (мало остается для всех). Семейство, то есть закон природы, но все-таки ненормальное, эгоистическое в полном смысле состояние от человека. Семейство — это величайшая святыня человека на земле, ибо посредством этого закона природы человек достигает развития (то есть сменой поколений) цели. Но в то же время человек по закону же природы, во имя окончательного идеала своей цели, должен беспрерывно отрицать его. (Двойственность)».
Он — жених; прапорщик Сибирского линейного батальона N7; «мужчина видный», «уже не молодой, лет тридцати восьми, довольно высокий, — выше, пожалуй, среднего роста», внутренне очень напряженный из-за присутствия в храме необычного шафера — соперника по любви Вергунова. Тот, кто в таинстве брака через соединение с женщиной углядел воскресение и свой путь, обрел жизненную основу. Она — невеста, облеченная светом кузнецкого венца; вдова коллежского секретаря; «худенькая, стройная и высокая», одетая «очень нарядно и красиво». Мария Одигитрия — Путеводительница человека и литератора, указующая путь, … но до последнего мгновения сомневающаяся в правильности собственного выбора.
«… высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего я, — это как бы уничтожить это я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и беззаветно. И это величайшее счастие».
Список свадебных расходов «Ultimatum», выпись из метрической книги Одигитриевской церкви, «Обыск брачный №17», разрешение командира батальона Белихова на брак, фотография и формулярный список священника Евгения Тюменцева, совершившего обряд венчания… Это лишь документальные осколки «грозного чувства» — всё, что осталось от уверений, слёз и разочарований, невообразимого одиночества и жажды успокоительной гармонии, от мучительных ожиданий, эмоциональных падений и взлётов Достоевского.
Кузнецкие впечатления и свадебные волнения вновь оживут спустя годы: в романе «Идиот» писатель отразит другие варианты разрешения «грозного чувства» — бегство невесты из-под венца, сумасшествие жениха, убийство одного из действующих лиц любовной драмы…
Через две недели после свадьбы чета Достоевских покинет Кузнецк.
Станет ли сердце одного «бесконечным источником жизни для сердца другого»?
Встреча седьмая. Неземная
«Увижусь ли с Машей»?
Особенно пронзительно зазвучит этот вопрос во время их последней земной встречи — 16 апреля 1864 года, у гроба Марии Дмитриевны.
Вырвавшись из круга кузнецких переживаний, он попадет в новый круг — в западню навязчивых мыслей и вопросов о возможности будущих встреч с умершей за пределами земного:
«Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек…».
Он — убитый горем муж; разочаровавшийся Мечтатель, не получивший в супружестве ожидаемой заботы и любви; философ, раскрывший для себя глубинные тайны семьи и брака, вплотную приблизившийся к зрелым воззрениям «Великого Пятикнижия»; блуждающий по кругу одних и тех же мыслей, одинокий покаянный странник. Она — остывающее тело на столе; сгоревшая от тяжелой наследственной формы туберкулеза, не дожившая и до 40 лет женщина со «странным, мнительным и болезненно фантастическим характером». Как и Он, обманувшаяся в надеждах на счастливый брак. Не родившая писателю наследников, но подарившая жизнь его будущим литературным героям; запоздалое творческое искупление и вечная молитва автора…
«Люди, любите друг друга» — кто это сказал? Чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ее стоят у кроватки, точно ждут ее… Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду?»
Спустя год после смерти Марии Дмитриевны Достоевский исповедуется Врангелю:
«Она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо… Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла — я хоть и мучился, видя как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, — но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землей»…
Встречи с Исаевой в реальном и мифологическом времени, постижение ее тайны — это решение Достоевским главных и мучительных художнических вопросов: возможности чуда как явления, христоподобия человеческого пути, воскресения через жертву.
«…человек стремится на земле к идеалу, противуположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву своего Я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна».
Приметить и ощутить тонкую материю чуда под силу не каждому. Оно открывается только тому, кто сам готов жертвовать. Кто чувствует присутствие чудесного в череде земных превращений: вдовы — в невесту, жеста молящих о похоронном подаянии Марии Исаевой и Катерины Мармеладовой — в указующий жест Богоматери Одигитрии.
Достоевский готов был на эту жертву. Поэтому его встречи с Исаевой продолжаются до сих пор…
Вертеп в палехском стиле
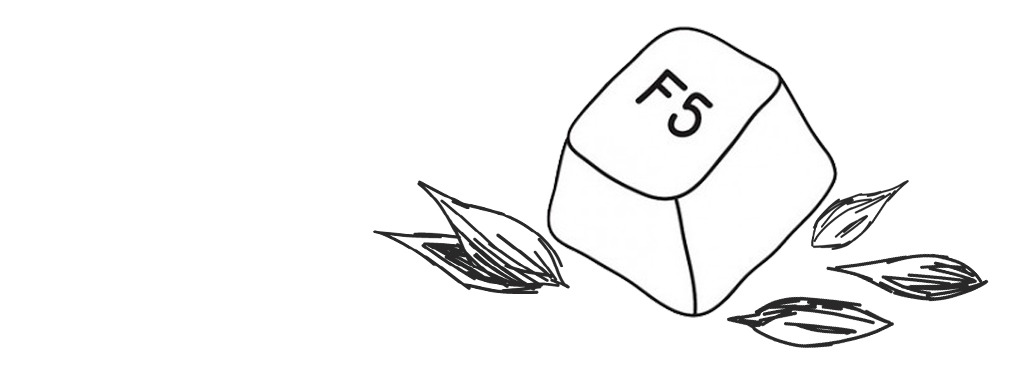
«Из Парижа как раз прислали великолепный вертеп — грот со Святым Семейством, над которым сверкало синее звездное небо, а вокруг стояли сотни всяких игрушечных животных: деревянные коровы, ослепительно-белые барашки с пышной ватной шерстью, причем на такую мелочь, как соблюдение масштабов, никто внимания не обращал…».
Эти строки из книги «Прощай, Африка!» принадлежат известной датской писательнице Карен Бликсен и посвящены одному из главных символов Рождества — кукольному театру, называемому в простонародье вертепом.
Такой уютный театрик, оживающий в рождественские дни благодаря песнопениям, нехитрым движениям рукотворных фигурок и особой подсветке, хранится в Новокузнецке. В 2009 году он был создан и передан в дар музею Достоевского профессиональной художницей Альбертиной Федоровной Фомченко. К сожалению, именно вертеп в палехском стиле стал последней её работой…
Первоначально слово «вертеп» означало «тайное укрытие», «пещеру, где родился Христос». Позднее так стали называть и театр особого типа. В нём исстари от Рождества до Крещения разыгрывалась одна-единственная пьеса — рождественская мистерия. Бесконечное её повторение во множестве вариаций — это и есть завораживающая магия вертепного театра.
Первые древнейшие вертепы, как считают учёные, появились ещё в XVI столетии, но науке и культуре известны вертепные ящики начиная с XVII века. Они были популярны в Польше, России, Украине, Белоруссии. Причем, на Руси приобрели необыкновенную популярность, став одним из любимейших святочных развлечений русского народа. Жаль, что эта традиция сегодня находится на грани умирания и неизвестна многим семьям.
Желание вернуть в повседневность культуру рождественских ярмарочных представлений и постановку семейных камерных спектаклей вдохновило новокузнецкую мастерицу Фомченко. Она давно желала сконструировать и расписать в палехском стиле рождественский театр. Замысел встретил горячую поддержку у сотрудников музея Достоевского, особенно — у супругов Мирович. Появление переносного славянского вертепа давало возможность познакомиться и с почти утраченными литературными текстами рождественских постановок, и с забытыми секретами кукловождения. Несколько месяцев в творческом союзе с художницей — и музей обрел ценный интерактивный экспонат. Теперь в Новокузнецке, не хуже чем в столичном «Кукольном доме» на Варварке, можно устраивать оригинальные действа по всем канонам рождественской мистерии!…
В вертепе Альбертины Фомченко нет ничего случайного. Он создан по особым художественным законам, в соответствии с образцами изготовления театральных кукол и декораций, но при этом имеет собственное «лицо».
В театральную ширму и вертепные фигурки А. Ф. Фомченко вдохнула все свои профессиональные знания, умения и опыт. Интенсивные занятия в Палехском художественном училище и Ленинградском Государственном институте театра, музыки и кино помогли ей впитать лучшие традиции иконописи, палехской росписи и наивного искусства, постичь законы создания парсунного портрета, переходного между иконописью и реалистической живописью.
Приемы, методы, техники разных творческих течений дали жизнь собственному неповторимому стилю, балансировавшему на тонкой грани самобытного и профессионального искусства. В своем альманахе «Портрет в русской традиции» она определила его как «преодоление надуманных стандартов и канонов официального направления в живописи». И хотя оценки её наследия подчас остаются противоречивыми, уровень профессионального мастерства подвергается критике, а подлинность работ — сомнению, ей удалось наиболее полно раскрыться в лаковой миниатюре, станковой живописи, книжной иллюстрации, в изготовлении кукол для театра. Ярким примером тому служит рождественский вертеп.
***
Вертепом называют и специальное устройство театральной ширмы, и особый спектакль. За триста лет он почти не изменился: та же многоярусная конструкция сцены, восходящая к средневековым мистериям и античному ордеру, тот же сюжет и действующие лица, тот же текст.
В русской традиции известны случаи создания одноэтажных, двухэтажных и трехэтажных вертепов. Не смотря на то, что некоторые считают исконно русскими одноэтажные вертепы, Альбертина Фёдоровна, вслед за многими классическими образцами, остановила свой выбор на двухэтажной конструкции как наиболее оптимальной для организации представления.
Дело в том, что одноэтажные театральные ширмы априори предполагают показ только одной части рождественского спектакля: или сюжета сакрального поклонения Святому семейству, или сцены в Иродовом дворце. В первом случае действо ограничивается торжественным благоговением перед новорожденным Христом и его родственниками, поздравлением зрителей с праздником святого Рождества. В таком виде, без персонажей земного мира, мистерия до сих пор сохраняется во многих христианских странах: Испании, Бельгии, Италии, Франции, Чехии, Польше и др.
Во втором случае, когда показываются только картины земного, Рождество становится событием сегодняшнего дня. Акцент переносится на народный театр: появляются комические сцены, снижающие уровень сакральности праздника, в действо вплетаются интермедии на местные темы с участием национальных персонажей. При таком положении дел Святое семейство помещается, как правило, слева от трона Ирода, или, как и сцены ада, выносится за пределы вертепного ящика.
Некоторые умельцы при изготовлении театральных конструкций особо выделяли третий, самый нижний, ярус — ад, куда Чёрт утаскивал Ирода. Для постановки этой части мистерии специально сооружали трехэтажные вертепы.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
