
Бесплатный фрагмент - Я+Я. Жизнь карикатуриста
Прелюдия
Начато 29.06.02 в больнице Рамбам,
в изоляторе онкологического отделения,
во время обработки радиоактивным йодом.
Сокращенный вариант издан в октябре 2017.
Борис Эренбург
Хайфа, Израиль — 2017

Посвящается мне самому
каким я был, каким я стал и каким я буду
когда (если) окончу эту книгу
а также моим родителям, моей жене
и моим доченькам
а кроме того всем тем, кого я упомянул
и о ком забыл упомянуть
да простится мне это

Моя фамилия — Эренбург. Не «Люди, годы, жизнь», разумеется: и люди иные, и годы не те, и жизнь другая. И вообще, с покойным Ильей Эренбургом я не встречался никогда. Впрочем, «с покойниками не встречаются»…
Должен предупредить: в этом повествовании (назову его пока поэмой в прозе, стихах и карикатурах) будет немало реминисценций из моих любимых авторов. Ведь к месту процитировать — одна из основ творческого процесса!
Так вот, я, Борис Эренбург, карикатурист серебряно — бронзового ряда, вдруг задумался. Видно, пришло время перетряхнуть, освежить свои воспоминания, перетасовать их, как колоду карт и сдать самому себе. И попытаться понять, что же получилось…
Кроме того, есть еще одна причина. Меня всегда до боли будоражит ощущение безымянности, неузнанности, одиночества. Какие массы наших братьев остаются непохороненными, а если похороненными — неопознанными, а если опознанными — никем не вспоминаемыми. А ведь каждый заключал в себе вселенную чувств, мыслей, обещаний…
Так и в нашей памяти. Мы встречаем множество людей, оставляющих в нас короткую вспышку полувзглядом, полусловом, полуделом… Две души соприкоснулись и вновь разошлись по своим орбитам, продолжая существовать в параллельных измерениях, полузабыв о том, что в каждой из них отныне заключена частичка сияния — тления — тьмы другой.
Как здорово сказал И. Бродский:
«…из забывших меня
можно составить город…»

Кстати, нечто подобное я испытываю и по отношению к вещам. Они для меня — как живые существа, и многие из них вполне заслуженно упомянуты здесь…
Иногда, когда я опускаюсь в прохладные нижние ярусы моей памяти, я встречаю тех, о ком не вспоминал долгие годы, а то и десятилетия. Они терпеливо и покорно ждут моего зова, и я вдруг с ощущением тяжкой вины понимаю, что вот о нем я не думал с тех пор, как покинул Россию, а вот о ней — и того больше.
А ведь с ним я четыре года сидел за одной партой, и однажды я ел у него дома жареных плотвичек, пойманных в речке Самарке его старшим братом…
А ведь ее лицо на черно-белой фотографии нашего класса я целовал тайком долгими детскими вечерами…
Вот поэтому то, что я пишу сейчас, лишь робкая попытка создать пантеон всех тех, кто зажег хотя бы малую звездочку на небосклоне моей души-вселенной, являющейся продолжением нашего общего макрокосма. Все эти малые и большие звезды разгораются, мигают, гаснут, образуют созвездия, галактики, системы.
Я понимаю, что это — Сизифов труд: попытка пересчитать звезды и дать им имена.
Однако в своем частном небе я сам себе хозяин и удостою внимания лишь то, что захочу, будь то черная дыра или белый карлик, крошечный осколок астероида или шумная комета, то ли прорезавшая темноту, то ли затмившая сияние моих небес.
Написать все это я решил давно. И вот сейчас, наконец, решился. Это поможет мне навести порядок в моих беспорядочных записях, записках, разобрать все, что лежит в коробках и коробочках, а уж потом… А уж потом я увижу, можно ли сделать из всего этого что-то интересное для других. Думаю, что можно…
Моя жизнь хоть и не Одиссея или Робинзонада, все же были в ней события исключительные, выделявшие меня из фона и даже делавшие известным не только ближайшему окружению. А тщеславие никогда не было мне чуждо. Что мне было чуждо всегда, так это чванство! Может быть, именно поэтому и отношения у меня с людьми обычно хорошие. Меня любят, да и я себя люблю…
Здесь уместно вспомнить фабулу одного рассказа, некогда читанного мною. Изобретен компьютер, записывающий, фильтрующий и складирующий в памяти человеческие жизни. Каждый может быть выслушан, но лишь то, что найдено необычного, оригинального и поучительного, заслуживает хранения в памяти машины.

К крайнему разочарованию героя рассказа, ни один из сюжетов его биографии не получает права на жизнь в памяти компьютера, настолько эта жизнь была банальна.
Так вот, надеюсь не оказаться в положении этого незадачливого старика — думаю, что мой рассказ заслуживает… впрочем, старик тоже так думал…
А если честно — вот уже около года я прохожу всякие процедуры и обследования:
Ты выбираешь позу так и сяк,
Чтоб чашу жизни дохлебать со смаком,
Вот тут-то жизнь тебя поставит раком,
И в теле заворочается рак…
Именно это на самом деле и подвигло меня взяться за перо.
Болезнь вроде и не угрожает уже унести меня раньше срока, но все же она — первый звоночек к длинному перечню всего, что может со мною случиться. Нечего далеко ходить — на днях я неожиданно умер. Умер ненадолго, не успев даже испугаться. Просто почувствовал вдруг, что нахожусь внутри собственного тела, не имея ни малейшей возможности управлять им: ни шевельнуть пальцем, ни издать членораздельный звук…
Будучи в кристально ясном сознании, я метался-крутился внутри черепа-саркофага.
Так мечется абсолютно целый танкист в подбитом, недвижимом, наглухо задраенном танке. Окружающее мелькало в амбразурах глаз и лючке полуоткрытого рта.
Через несколько секунд связь с телом начала восстанавливаться: вначале пальцы правой руки, затем сама рука, губы, голос…
Первые строчки вылились у меня в стихотворную форму, и добрался я по волнам рифм до переселения моего в Израиль. Все то, что произошло с тех пор, я еще не успел переварить, осмыслить и просмаковать. Собственно, этот переезд я считаю своим вторым рождением — а ведь смешно писать воспоминания, когда тебе за 30.
Стройность прозаической же части прерывается моей женитьбой, то есть на 19 году моей жизни. Из дальнейшего я позволил себе описать лишь сугубо избранное, и лишь то, что непосредственно держится корнями в прошлом. Дело в том, что мое Я постепенно превратилось в МЫ, и траектория моего повествования резко изменилась с изменением массы: два тела — две души — две энергии. А впрочем, дело не в женитьбе…
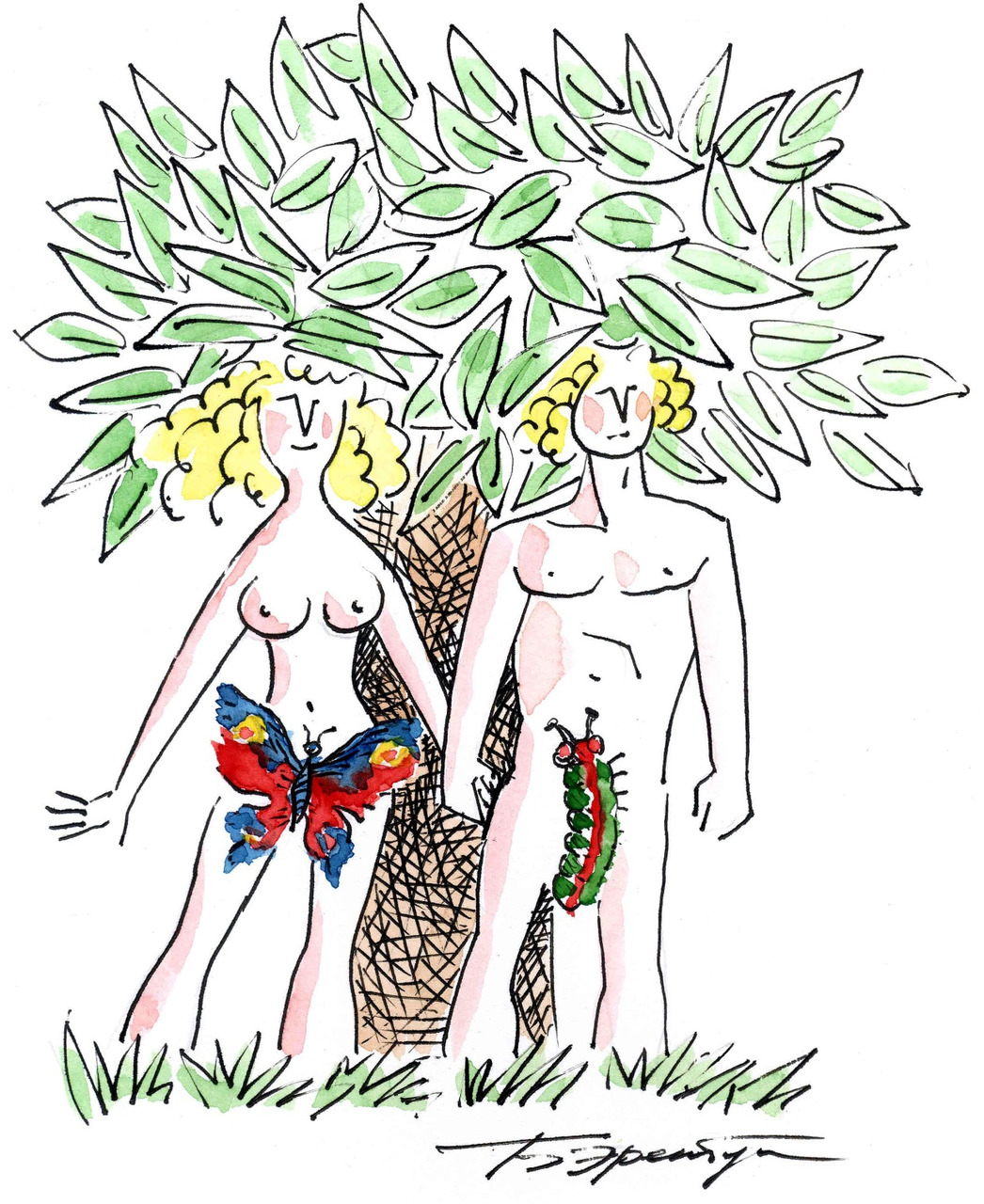
Только теперь я понял, почему Толстой ограничился «Детством, отрочеством, юностью»…
И не говорите мне о счастье созидания, об упоительности власти, о сладости плотской любви даже. Все эти радости зрелого возраста — лишь убогие попытки воссоздать утраченный рай. Я — родом из детства… Ведь детство — самый важный, серьезный и значащий этап в жизни любого. Весь дальнейший и долгий период взросления — на самом деле длительная агония, расплата за предыдущее блаженство — конечно, для того, детство которого было счастливым. Мое — было! Доказательство — сюжет из семейной мифологии, когда, в 3—4 летнем возрасте, я произнес: «Какая хорошая земля, что она дает такие красивые цветочки!». Только счастливый и в меру упитанный ребенок может выдать такое!
В пятидесятых, а точнее 25 июня 1955 года моя душа выбрала временным пристанищем мое тело, названное моим именем. Этим мистическим триединством даты рождения, трех с чем-то килограммов младенческой еврейской плоти и имени Борис (обрусевшее Барух — благословенный — в честь деда моей матери, погибшего от рук фашистов) продиктована сложная система связей, видения и восприятия мира и даже то, что я сижу сейчас и пишу эти строки.
Меня волнует и история тех лет, и фильмы той поры, и предметы того времени. Те годы были насыщены чертами, следами и знаками предшествовавших 30—40 лет, которые (черты, следы и знаки) впоследствии усиленно стирались и нашими, и не нашими из побуждений противоположных и в итоге исчезли с глаз долой — но не из сердца вон…
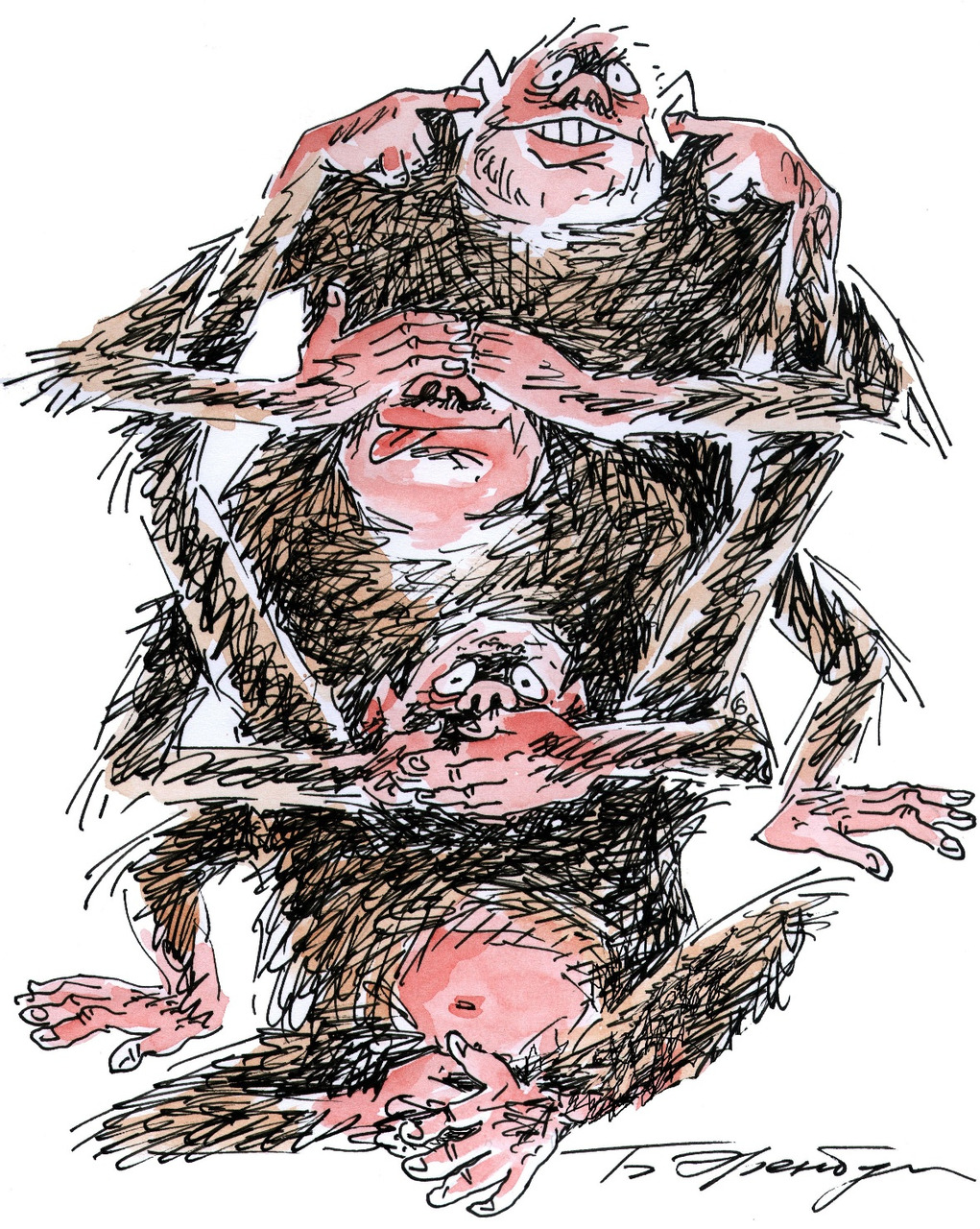
Из трех первых Ленинградских месяцев своей жизни я, естественно, не помню ничего.
Мои воспоминания начинаются с военно-морской базы Североморск, Мурманской области, где я 3—5 летним тесно «подружился» с матросами в казармах, с тренажерами на базе военных самолетов, с отцовским кортиком и с его же «Макаровым», приносимым домой до и после дежурств.
Помню я пикник на скалах, поросших мхом и травой. Помню белую ночь и внезапное появление сестры. Помню, что у меня часто менялись няни, и одну из них звали Нина. Помню, как на Новый год мне подарили игрушечную саблю, сломанную мною на сладующий же день в попытке перерубить завалинку двухэтажного деревянного дома. А вот кораблей я не помню совершенно…
Там, в Североморске, я начал заикаться, и возникновение этого дефекта, с переменным успехом сопровождающего меня до сего дня, я связываю с поездкой на военном грузовике через бурный поток.
Водитель, рядом с которым я сидел в кабине, напугал меня, шутя, что мы тонем… Родители предпринимали попытки вылечить меня от этого недуга: первый раз — в Бузулуке, у какой-то деревенской ведуньи, завязавшей на моем запястье ниточку и снабдившей святой водой, второй — в Уральске, на сеансе гипнотизера Виноградова, третий — в Челябинске, на этот раз силами конвенциональной логопедши.
Иногда, приходя со службы, отец приносил мне несколько листов чистой бумаги. Свои первые рисунки я хорошо помню, и даже помню, что они немного сердили отца.
Я рисовал человечков — видимо, солдатиков, но руки у них росли из талии, и отец никак не мог с этим смириться. Так начинался тернистый путь карикатуриста: с искажения действительности, будирующего мнение публики…
В Североморск отец получил распределение после окончания с отличием Военно-Морской Медицинской Академии, в Ленинграде, в 1955 году. Североморск был выбран из-за северного стажа: год за полтора, — вместо Севастополя, предложенного ему, как отличнику. Мечтал отец о научной карьере, но жизнь распорядилась иначе. Лучшие его годы были отданы армии, а после демобилизации он работал невропатологом в железнодорожной больнице Челябинска.

Родился он в Речице, Гомельской области, в 1926 году. Всего детей у Израиля Сендеровича Эренбурга (Еренбурга) и Шифры Данциг было четверо: мой отец Семен, его брат Самуил, утонувший в Днепре еще до моего рождения, дочери Броня и Люся (Лея-Ривка), моя любимая тетя до конца ее жизни.
Бабушку Шифру я не застал в живых. Знаю я ее лишь по фотографии, и она мне очень симпатична.
Был у дедушки в Речице брат, Мойше-Нахман. Одного из сыновей его звали, как и моего отца, Семен (Сендер), второго — Давид, дочь — Гита. Выражаясь языком Торы, Семен родил Мишу и Борю, Гита — Гену и Ольгу. Контакта особого с ними у меня не было.
Дедушка Израиль вышел из религиозной семьи, сам же был воинствующим атеистом. Он воевал в 1-ю Мировую, был контужен и провел два года в австрийском плену. Вернулся из плена с прогрессирующей глухотой, с которой не мог смириться до самой смерти. Дед не выносил слухового аппарата, и общался я с ним в основном посредством записок. Жил он в Речице на улице Урицкого, в половине дома, с садиком и огородиком. Все он делал сам: плотничал, столярничал, садовничал.
Хозяйство вела тетя Броня, его незамужняя дочь, всю свою жизнь прожившая рядом с отцом. Около дома цвели лилии, которые в Израиле называются «Кочующий еврей». На ватных подоконниках дозревали помидоры.
Давид однажды приехал из Прибалтики с дочерьми — красавицами Эллой и Люсей. Сейчас они живут в США. Существует пляжная фотография братьев, которую я именую «Три богатыря».
Вообще с отцовской стороны в Белоруссии: в Речице, в Гомеле, в Калинковичах, — было много родственников, которые периодически появлялись у деда в доме.
Однако я совершенно не помню, кто они были. Помню парня — по-моему, офицера, по имени Ким. Он жил по Урицкого, в квартале, прилегающем к Советской. Самое время хотя бы сейчас начинать строить генеалогическое древо, пока еще живы немногие, кто мог бы пролить свет на его нижние ветви — тем более, что две линии: отцовская и материнская, — родственны. Три поколения назад существовала огромная семья, в которой сменились и мать, и отец. Дети — не кровные — породнились, и одним из побегов явился ваш покорный слуга.
Отец был человеком спокойным и мудрым. Редко-редко я видел его в гневе, но эти моменты скрижально врезаны в мою память. Врезаны в мою память и моменты иного плана. Как-то, не помню, зачем, отец поехал в командировку в Москву — Ленинград, и взял меня с собой. Я смутно помню перипетии этого путешествия — помню лишь, что в Ленинграде мы навещали моего Речицкого друга детства Мишку Пугача. Но самое главное, чем знаменательна была та поездка: отец купил мне настоящий огромный свежий ананас, увиденный нами в окне случайного вагона-ресторана… Это был мой 14-й день рожденья.
В Израиль отец приехал очень больным, мама не надеялась, что он перенесет переезд. Однако болезнь отступила, и он прожил еще шесть полноценных лет, наслаждаясь жизнью в стране, которую полюбил с первого взгляда, и принимая эти годы как подарок судьбы.

Другом отца в Североморске был сослуживец дядя Миша Черенков. Я его помню, так как он подарил мне две инерционные машинки, прошедшие со мною долгий путь и оставшиеся на одном из его этапов. Последняя весточка от него пришла из США…
Что еще можно сказать о моем отце? Одна трогательная деталь: он панически боялся находиться в обществе некрасивой женщины, — как бы кто не заподозрил, что это его жена.
«Как причудливо тасуется колода! Кровь!» Однажды, встретив меня в обществе однокурсницы Люды Ионовой, моя тетя Минна ничтоже сумняшеся воскликнула: «Ах, вот и твоя девушка!».
Я мгновенно среагировал: «Ну что вы!!! Мы с ней только учимся вместе!». Люда, девушка далеко не безобразная, страшно обиделась, и мне стоило усилий загладить этот инцидент.
Форма для меня всегда была и есть — увы — важнее содержания. Пусть это признак легкомыслия, пусть неглубокости — я не стыжусь в этом признаться. Может быть, меня просто мало били… Впрочем, и у Высоцкого, помните:
«…И меня два красивых охранника
Повезли из Сибири в Сибирь»…
Не «ретивых», не «жестоких», а именно красивых, молодых, в щегольских фуражках и выглаженной форме с красными погонами…
Мама моя, Софья Шапиро, родилась в 1925 году, в Лунинце Брестской области. Те, кто помнят предвоенную историю, уже догадались, что ее родной язык — польский.
У ее родителей Мойше (Моисей) Шапиро и Ревекки Боруховны, кроме нее, было еще трое детей: дочери Люта (Лия, старшая), Минна (младшая в семье) и сын Сёма (Шломо).
В конце 30-х семья получила визу в Австралию, но в последний момент уезжать раздумали. Когда началась война, половина семьи: Ревекка с Софьей и Минной эвакуировались, а те, кто остались, остались навсегда…

Благодаря титанической энергии бабушки Ревекки все тяготы были преодолены, обе дочери стали врачами, вышли замуж. Бабушка же, опять-таки в силу своего совершенно неуемно-деятельного характера, осуществляла безумный проект своей жизни. Будучи в преклонном возрасте, душевно (но не физически!) больная, живя в спартанских условиях, на деньги, выбиваемые из дочерей, она построила в Лунинце огромный бревенчатый дом. Этого дома я никогда не видел, а после смерти бабушки он был продан за гроши. Я сталкивался с ней редко, стало быть, и любить ее не мог. Но до сего дня ее личность вызывает во мне огромное любопытство, смешанное с полумистическим ужасом и ассоциируется с Голдой Меир. по-цветаевски:
«Сколько возможностей вы унесли,
и невозможностей сколько?»
Мама — человек очень импульсивный и многогранно талантливый. Будучи глазным врачом по профессии, она всегда жила литературой, музыкой, языками. На протяжении всего нашего многолетнего знакомства я помню ее то играющей на пианино «Беларусь», одним из немногих предметов, кочевавших с нами по военным городкам, то рассказывающей нам с сестрой сочиненные ею самою рассказы и сказки, то разыгрывающей интермедии также собственного производства.
Среди ее многочисленных знакомых была бузулукская поэтесса Людмила Горская, посвятившая ей строки:
«Забудь про все восторги мира,
Забудь про счастье без границ,
Когда глядят глаза Шапиро
Под сенью бархатных ресниц…»
Мама всегда были склонна к депрессии, переросшей в болезнь, требующую постоянного медикаментозного лечения. С отцом она жила, как за каменной стеной. Он же в ней души не чаял.

Переехав в Израиль в 1990 году, мама была буквально опьянена этой страной, быстро выучила язык — возможно, помогла база, заложенная в еврейской школе, где она училась в детстве.
Неожиданно она начала рисовать, писать акварелью и сочинять афоризмы, которые охотно печатала местная русскоязычная пресса.
Смерть отца в 1996 году выбила ее из колеи, но, несмотря на свое не самое благоприятное душевное состояние, мама оправилась от страшного удара и долго продолжала оставаться активной, как творчески, так и по жизни.
Вышел из печати ее авторский сборник, честь проиллюстрировать который она предоставила мне. Оказалось, что у этого тепличного растения имеется мощный внутренний стержень истинно истинно творческой и деятельной натуры. Она посвящала массу времени клубу пенсионеров, в ее расписание трудно было прорваться даже нам, ее детям… Умерла она в 2008 году…
Несколько слов о моих близких родственниках. Муж тети Минны Владимир Абрамович Лейцин работал на Челябинском цинковом заводе, был кандидатом технических наук. Когда-то его приглашали в США преподавать, но он не решился, да и сложно было…
У их дочери: Лии — (в честь Лиона Фейхтвангера) сын Миша, у Аллы — дочь Михаль.
Муж тети Люси, Александр Александрович Кузнецов — русский, родом из Карелии, моложе жены на несколько лет. По профессии строитель, он в должности прораба построил множество Речицких многоэтажек, в том числе ту, в которой они переехали от дедушки.
Там они жили с детьми Димой и Аней до своего переезда в Челябинск на рубеже 60-70-х годов. Помню, он первым в дедушкином квартале купил телевизор, и соседи приходили в дом деда болеть за Португалию-Англию на чемпионате мира по футболу 1966 года.
Дима родил Пашу и Дашу, Аня — Кирилла и дочь…
Дядя Саша не был идеальным супругом. На моей памяти он несколько раз уходил к другим женщинам и каждый раз прибивался обратно, а однажды он был осужден на год за что-то, связанное с его работой. Последний раз он ушел, когда дети были уже взрослыми, и на этот раз состоялся развод.
Однако о тете Люсе и детях он продолжал заботиться — вся его жизнь проходила на разного рода руководящих должностях. Для он меня ярчайший пример хорошего, доброго человека, которым безалаберная жизнь распоряжается весьма по-своему.

Я был красивым ребенком. Знаю, что все матери любят рассказывать о красоте своих чад… Моя мама часто рассказывала о беременных женщинах, приходивших поглядеть на меня, чтобы мое обаяние передалось их зародышам, о какой-то футбольной команде, члены которой на одном из вокзалов передавали меня из рук в руки… Но существуют фотографии, подтверждающие ее правоту.
Впоследствии я был симпатичным парнем, сейчас я — впрочем, тут не место…
Раньше я всегда выглядел старше своего возраста.
В Челябинском периоде жизни два фотохудожника: Володя Тронягин и Сережа Жатков потратили на меня довольно много фотобумаги…
Волосы у меня черные, раньше очень-очень, позже просто волнистые. На сегодняшний день эти волны ничем себя не проявляют, так как стригусь я коротко — начала просвечивать лысина. В этом смысле я — логическое продолжение нашей мужской линии: дед был попросту лыс, отец был обладателем довольно жидкого волосяного покрова, едва прикрывавшего обильную лысину… Тело с годами оказалось склонным к полноте. Правда, сейчас, после всех медицинских злоключений, я сильно похудел и вновь хоть куда…
Физически я весьма крепок, можно сказать, силен. Всегда считал и считаю я себя здоровым, как бык. Даже сейчас, когда я восполняю таблетками отсутствие щитовидки. Видимо, эта моя вера удержала меня по эту сторону смерти, когда, 20-ти летним, я перенес неудачное удаление аппендикса, и последовавшие за этим еще две операции по спасению украсили мое тело страшными шрамами. Они, эти шрамы, неизменно обращают на меня внимание публики и дают простор толкам о криминальном происхождении. Я, как правило, никого не разубеждаю — помните «Человека со шрамом» Моэма?
Характерная черта моей внешности — усы, которые сопровождают меня почти всю жизнь. Однажды, в институте, я попробовал их сбрить, и в результате месяц ходил замотанный в шарф, как иранская женщина, пока не вернулся мой привычный облик.
С тех пор никаких экспериментов над собою я уже не ставлю. Здесь, в Израиле, я настолько типичен, что у меня проверяют на улице документы после каждого теракта: все арабы похожи на меня…
Кроме того, из-за усов все считают меня записным Дон-Жуаном, хотя на самом деле я банальный бабник — но об этом позже.
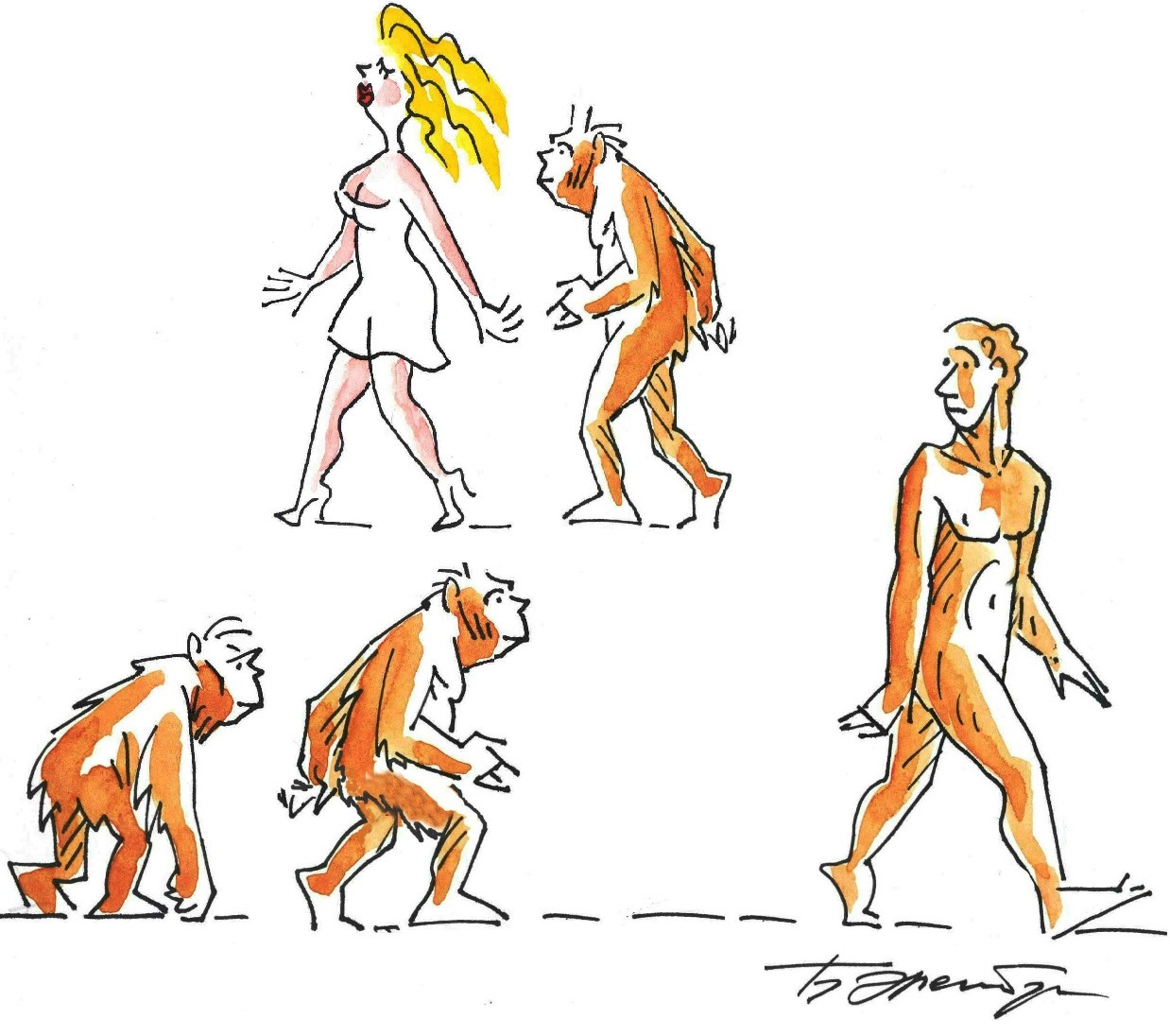
А вот бороды я никогда не отпускал — моя постоянная небритость не в счет! Ведь бородач у меня, как правило, ассоциируется с интеллигентом, серьезной личностью, классиком. Что поделаешь — всякие разночинцы и основоположники социализма основательно отпечатались в моей психике…
Благодаря моим усам я — легкая добыча для моих собратьев-художников — кто только не рисовал меня. Я мог бы заполнить выставочный зал средней величины портретами и шаржами, героем которых явился. Усатый шарж работы кубинского карикатуриста Лазаро, превратился в нечто вроде моего торгового знака…
Каков же я, что же я такое? На этот вопрос ответить и просто, и сложно. Просто — потому, что я себя очень люблю и ценю, сложно — потому, что я привык относиться к самому себе с изрядной долей юмора и подтрунивания, переходящего в веселое самоистязанье.
Я человек очень способный, у меня хорошая память и ясный, трезвый ум. Именно эти два последних качества не позволяют мне всерьез считать себя гением, хотя склонность к подобной самооценке я испытывал всегда.
А вообще основное мое свойство — инфантильность. Доказательством служат многие мои поступки, некоторые из которых могут показаться нелогичными, некоторые чрезмерно оригинальными, а отдельные даже и неправдоподобными.
Это качество унаследовала моя младшенькая, Леночка, томная мечтательница. Правда, началось все это у нее в несколько пугающих формах запаздывающего развития речи и моторики…
Старшая моя доченька, Аллочка, острозубая и жадно живущая 40-килограммовая «модель», напротив, по всем пунктам шла с опережением графика — если не считать ее долгожданности…
Когда мое 30-летие праздновалось за вином и сластями на месте моей работы, я прочел присутствовавшим сочиненное мною тем же утром следующее шестистишие:
«Мне было в этот день не до веселья,
Хоть и не стоило больших усилий
С обычною веселостью держаться:
Ведь по тому, как на меня смотрели,
Как руку жали и цветы дарили,
Я понял вдруг, что мне не девятнадцать…»
Вот с таким ощущением я и живу…

Оттого-то мне постоянно кажется, что жизнь моя — все еще черновик. В какой-то степени это удобно: я сердцем чувствую, что все можно поправить, дописать, дорисовать, даже сжечь.
Но вместе с тем, мой трезвый начитанный ум не дает мне забыть, что время не повернуть вспять, что не все и не всех можно вернуть, что рукописи не горят… и бывает мне от этого очень горько.
Однако я верю в фантастическую идею существования параллельных миров: где-то там я сумел поступить иначе, чем здесь, и быть с тем — с той — с теми, с которыми мне быть так хотелось…
Как я уже писал, 5 лет мы жили в Североморске. В 1959 году родилась моя сестра Ира — очень близкий мне человек, живущая ныне тоже в Израиле со своим мужем Игорем и двумя милыми детьми: Димой (старшим) и Анечкой, умницей и моей любимицей.
Из Североморска отца перевели в Бузулук, Оренбургской области. Ему много приходилось ездить на учения — помню частые упоминания о Тоцком, в районе которого эти учения проходили, об одном из генералов — сыне Чапаева.
С Бузулуком связано у меня очень многое, и прежде всего год, который в памяти моей значится годом самого в моей жизни необъяснимо-безоблачного счастья: год 1963. Странно, ровно 40 лет спустя, я склонен считать 2003 год самым необъяснимо-страшным («…велик был год и страшен…»).
Как же я был рад, когда спустя много лет мне в руки попала книжка, посвященная Бузулуку, выпущенная Южно-Уральским книжным издательством незадолго до моего назначения там завотделом художественного оформления.

Жили мы в Бузулуке вначале на улице Пушкина 10, в доме на 4 семьи. Там был огромный двор, в котором был еще один жилой дом, сараи, какие-то бочки… А в щелях под стенами, за пучками молочая, гнездились жучки — «солдатики» в замысловато расписанных черно-красных мундирчиках…
А в соседнем дворе (слева) подрумянивались на солнышке самодельные кирпичи… А в соседнем дворе (справа) строился новый дом… подумать только, сегодня этот дом уже старый!
Коммунальные условия были скромны — лишь через несколько лет, в Уральске, я впервые познал прелести центрального отопления, ванной и туалета не типа сортир.
Раз в неделю мы с отцом ходили в баню, находившуюся в 5 — 6 кварталах. Думаю, что мог бы найти все упомянутые места, окажись я снова в Бузулуке. По дороге мы болтали, «учили» таблицу умножения… А дорога в детский сад связана у меня с мамиными уроками по втягиванию живота. С тех пор живот у меня почти всегда втянут: и в прямом, и во всех возможных переносных смыслах. Есть в таком способе бытия определенная доля искусственности, но — форма требует…
Среди моих приятелей были Сережка Волков, живший в 3-х или 5-тиэтажном доме по дороге к центру города — «Серый Волк», как называла его моя тогда крошечная сестренка, одноклассники Коля Пирогов и Сашка Абрамов, уехавший впоследствии в Феодосию, сосед по дому Сережка Царев, с которым я периодически дрался, дворовые и соседские девчонки.
Отец одной из них, Тани, дядя Миша Репин, поймал как-то здоровенного сома, которого мы ели всем двором.
Двух других я однажды начал дразнить «деревенскими» — можно подумать, что я сам был очень городской… Эту дразнилку услышала мама и устроила мне головомойку.
Головомойка удалась — с тех пор я очень осторожен в выборе подобных определений. Отец этих двух, то ли старший сержант, то ли старшина, имел мотоцикл с коляской и держал кроликов, которых периодически резал. Я его за это не любил…
А животных я любил всегда, особенно собак. Периодически они ко мне приблуждались: Мушка, Смелка… Смелку захватили собачники, несмотря на то, что я ее обеспечил ошейником. Собачников я тоже не люблю…
Вообще мне гораздо жальче бродячих животных, нежели (ну, скажете вы, дает!…) людей. Люди сами накликают на себя всякие проблемы: болезни, войны, браки… Животные же совершенно беспомощны; кроме зубов и когтей нет у них ничего, чтобы защитить себя от людей: ни денег, ни парламентского лобби, ни…

Врезалось мне в память, как какой-то мужик пригнал к нам во двор и безуспешно пытался продать отцу ГАЗик. Неплохо зарабатывая, мои родители не имели тех символов: машина-дача-стенка, — служивших, как правило, определением благополучия, «упакованности». По моему, они отнюдь не страдали от их отсутствия. Скромная советская электробритва «Бердск» сопровождала отца 30 — 35 лет (каково качество?!), и с ним приехала в Израиль. Лишь здесь он сменил ее на «Филлипс» с плавающими ножами и прочими прибабахами.
Единственным фетишем родителей были книги. Это вот отношение к жизненным благам унаследовал и я, правда, с некоторыми поправками. Насчет машины я бы…
Вот, например, один из 20 рассказиков серии, написанной и опубликованной мною в Израиле.
«Когда я был евреем в России, я не хотел водить машину. Я не хотел ни водить машину, ни даже ее иметь. Трудно объяснить, почему…
Возможно, потому, что машина, как символ социального благополучия, стоила кучу денег? Не стоила она денег только тем, кто получал ее вместе с водителем. А так как получения водителя мною не предвиделось даже в самых розовых снах, по этой и разным другим причинам я взял и переехал в Израиль.
Но евреи — удивительный народ. Несмотря на то, что стоит она по-прежнему кучу денег и что получения водителя не предвидится и здесь, мое отношение к вопросу значительно потеплело.
Ведь в Израиле машина — друг человека. Иногда — единственный. В ее ласковом урчании ты слышишь поддержку своим тирадам по адресу козлов, которые…
Она бережно подхватывает твои шорты с их содержимым и твою спину, озабоченную чтением вынутого из-за дворника извещения о штрафе за стоянку в неположенном месте, и перемещает все это в пространстве и во времени, которые оба, как известно, весьма относительны.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
