
Бесплатный фрагмент - Вспоминая Африку (важное… и не очень)
Сыновьям, внукам и внучкам,
и правнуку — посвящается
Очутившись в Африке, я жаждал
узнавать все больше и больше,
и мне все было интересно…
Э. Хемингуэй
Годы работы в Африке: военным переводчиком языка суахили на Занзибаре (1965—1966, вместе с Володей Овчинниковым), журналистом — заведующим Бюро Агентства печати «Новости» (АПН) в Танзании (1978—1982) и в Уганде (1985—1990, одновременно корреспондентом АПН в Руанде и Бурунди), и дипломатом, первым секретарем Посольства России в Эфиопии (2001—2002), — оставили столько воспоминаний, что невольно задумываешься: в самом ли деле всё это было?..
* * *
Рассказывать, или писать, в строгой последовательности — не представляется возможным. Поэтому пусть это будут зарисовки, с отступлениями, где это возможно.
Начну издалека, воспользовавшись замечательной строкой, что встретил на одной из страниц газеты «Советский спорт»: «… я перекинул мостик через волны памяти в ту далекую пору — и сразу оживают детали…». В моем случае, точнее и не скажешь.
НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА…
НА «ПУГОВИЦЕ ЗЕМНОГО ШАРА»!
Восемь лет назад я написал и опубликовал своего рода заметки — «На Занзибаре, немного о себе и других» в книге «В Египте и на Занзибаре (1960—1966 гг.). Мемуары советских военных переводчиков» (М., Издательство «Memories», 2011. 200 с., с илл.).
В этой книге «мои» страницы — 102—198. В них — то, что помнил. А на 165-166-й — о той самой встрече, что вынесена в заголовок этой заметки. Приведу некоторые строки:
«…Событием для нас стал заход теплохода «Грузия». Было это весной 1966 года. С советскими туристами! В выходной с Володей пошли к порту, на рейде которого стояла «Грузия» — белоснежная, красивая, и даже изящная. Возвращались через живописный сквер… Решив передохнуть, присели на скамейку в тени раскидистого манго. Приметили — в нашу сторону идет белый, средних лет человек. Он приблизился, видим — наш, советский, то ли казах, то ли узбек. Турист. Узнав, что мы русские и работаем здесь, сказал, что он — из Ташкента, попросил помочь пройти туда-то и туда-то.
Беседуя по пути, я обмолвился, что скоро домой, женюсь, моя невеста — дочь ученого-спиртовика, преподавателя одного из институтов в Москве. Наш узбек, услышав это, вдруг остановился и спросил, не тот ли это…? И произнес — Малченко. Он назвал фамилию отца моей будущей жены! Сказал, что был его студентом, а потом под его руководством защитил кандидатскую диссертацию. Короче, он сразу забыл о своей просьбе и пригласил нас на теплоход отметить это неожиданное знакомство…
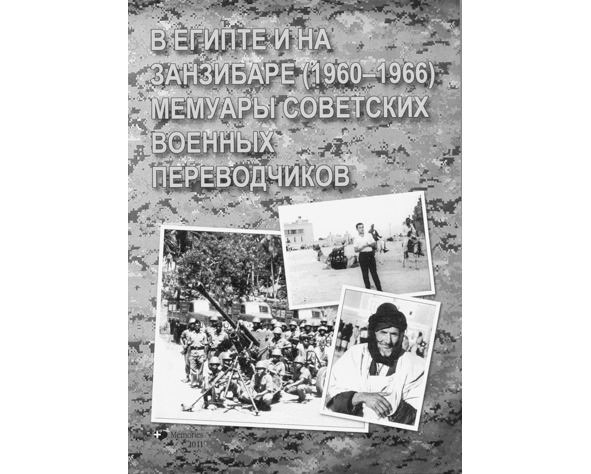
Можете себе представить: встретить человека из далёкого Ташкента, который знает моего будущего тестя! И где — на Занзибаре! Этой пуговице на Земном шаре!»
* * *
Эта фраза (о «пуговице…») принадлежит не мне, а первому корреспонденту ТАСС на Занзибаре Юре Устименко. Он был командирован на остров в середине 1964 года. Для него это была вторая зарубежная командировка. До нее он, выпускник МГИМО, в течение трех лет — в 1960—1963 годах — работал военным переводчиком с английским языком с советскими военными советниками в Египте. На этой «основе» мы быстро подружились: Юра — бывший военный переводчик и журналист, я — военный переводчик и почти журналист. Помогал ему переводами с суахили заметок из местных газет, а он мне — в общении с занзибарским журналистским сообществом.
Как-то вскоре после знакомства Юра вдруг спросил: «Олег, знаешь, куда ты приехал? Это же пуговица на Земном шаре! Посмотри на глобус — и с лупой не найдешь!»
В 1980-х Ю. Устименко работал корреспондентом ТАСС в Сан-Франциско.
* * *
В 2011-м писал о «Незабываемой встрече…» исключительно по памяти — то, что помнил и забыть не мог.
…Наступил 2014 год. Прихожу к маме. Она передает мне большой свёрток, перевязанный бечёвкой (в мае 2018-го она скончалась, за четыре дня до 97-летия. Но рад я, что за месяц-полтора до кончины мама моя успела прочитать бóльшую часть этих заметок. Она сказала: «Алик! Неужели ты всё это помнишь?»).
А в свёртке том — почти ВСЕ мои письма, когда-либо написанные с 1957 по 1990-й годы: будь то родителям (отец многие годы работал за границей), или — невесте, потом жене. А также и письма жены моим родителям, когда я работал в Африке.
Эти письма хранил, и сохранил, папа (он умер в 1998 году), о чем ни я, ни сестра моя, Наташа, никогда не знали. Между тем, многое из уже опубликованного, как и упоминавшийся выше очерк, писал я по памяти. А память-то — вот она, в письмах! Потому и получается (наверное, получилось), что на многих страницах в этой книжке воспоминаний, как говорил Маяковский, «гвоздями слов прибит к бумаге я».
* * *
Просматривая эпистолярный «архив», обнаружил свое «занзибарское письмо» от 28 ноября 1965 года Оксане — будущей жене. И в нем — в деталях ВСЁ о встрече с «узбеком» (каковым он вовсе и не был!), и отнюдь не «весной 1966 года». Чем и хотел бы поделиться с читателем:
«…Днем, в выходной, прошлись с Володей по городу. А в это время полно туристов наших растеклось — теплоход «Аджария» (ошибся я в том очерке, назвав теплоход «Грузией») утром пришел. Вдруг к нам подходит один казах и спрашивает, как пройти к порту. Я сказал: «Мы вас проводим» — и пошли вместе.
Разговорились. Оказывается, он сейчас — профессор в Алма-Атинском университете на кафедре планирования и учета. Пришли с ним на корабль. Он привел нас в ресторан, спросил: «Чем угостить?» Мы выбрали армянский коньяк, и на его вопрос «Сколько?» — сказали: «Ну, грамм 200», имея в виду — на двоих, совсем забыв при этом — а сколько это будет. Любопытно: расплачивался он не рублями, как мы ожидали. При выезде за границу рубли обменивались на так называемые боны, «имеющие хождение только на борту теплохода», сказал нам этот турист (в те годы советским не разрешалось вывозить с собой рубли за рубеж).
Наш новый знакомый не поскупился — перед нами появились два полных бокала по 200 грамм! Конечно, отпив понемногу, на этом и остановились — выпить больше не было никакой возможности: кругом жара невыносимая, а нам надо было возвращаться домой, на службу. А потом он купил нам по бутылке коньяку, блок сигарет «Солнце» (болгарские), дал 2 цветные кинопленки (8 мм), 6 цветных позитивных фотопленок.
…Мы шли и удивлялись. Рассказал он и о себе, что 20 лет просто выкинуты у него из жизни, т.к. занимал высокие административные посты в республике, и только 3 года назад перешел на научную работу. В прошлом году получил звание профессора.
Потом опять пошли с ним в город за покупками — долг платежом красен. Ходили по закоулкам — и мы купили ему отрез на костюм.
И вот снова идем к порту. Он спрашивает, женаты ли мы. Вова ответил, что жена его — медик, а я сказал, что собираюсь вот-вот жениться, что ты (Оксана) — в пищевом институте. Он спросил: «У Гатилина?» (в 1960-х гг. — ректор МТИПП, московского пищевого института, сейчас — Университет пищевых производств). Я говорю: «Кажется, да». И пошло… Он перебрал всех ваших начальников. И тут я спросил: «А не знаете ли вы Малченко?»
Он как шел, так и остановился: «Да мы же с ним 15 лет работали вместе! Я был его аспирантом». Тут я обалдел, и сказал, что твоя фамилия — Малченко. А он говорит, что знал тебя, когда ты «ходила еще без штанов», и прибавил, что об этом же скажет при всех на нашей свадьбе. И начал он рассказывать об Андрее Леонидовиче — и то, что он болен, и о том, что живете вы на улице Горького. Точно! И планировку комнат указал точно! И что твой папа — очень хороший его друг!
После всего этого он сразу же назвал себя моим тестем и сказал, что обязательно приедет на свадьбу и будет тамадой!!!
Обо всем этом мы говорили, пока не вернулись на борт теплохода. Познакомились с его женой, он сразу же с ней обо всем поделился.
Вышли мы на верхнюю палубу — подышать свежим воздухом. И тут у меня мелькнула мысль — а что если нам после свадьбы отправиться на отдых в какую-нибудь страну: Польшу, Чехословакию, Венгрию? Сказал об этом Володе. Поделились этим с нашим новым знакомым и другом (он-то побывал в 21 стране (!) и знает, что и как). Он сказал, что «путевки стоят чепуху, 170—180 руб. одна». А потом: «Слушайте, а зачем вам ехать в какую-то Венгрию? Приезжайте ко мне в Алма-Ата. Вам такой устрою отдых! Беру все расходы на себя!» Дословно пишу.
Вернувшись в каюту, стали записывать адреса. Зовут его — Бутин Мажекен Есенович, Алма-Ата, Октябрьская д… И добавил он: «Если соберетесь, вам нужно только позвонить, больше ничего не нужно. Остальное я устрою всё сам». И ушел куда-то, а вернулся с двумя бутылками «Шампанского».
Скоро, сказал М.Е., кто-то из его знакомых приедет сюда, так он обещал через него снабдить меня пленками и фотопленками на год вперед! Он даже не спросил, согласен я или нет. Сказал, как отрубил, и баста!
Такого рода людей я еще не встречал! О вашей семье очень тепло отозвался, и о папе и о маме твоей. Он, чудак, и меня предупредил, что «Оксана — хорошая девушка». Как будто я этого и сам не знаю!
А уж под самый конец нашего визита попросили Мажекена Есеновича отослать телеграммы в Москву (с наших судов можно отсылать в любую точку страны, договорившись с капитаном). Я послал тебе, и общую от нас с Володей — в институт.
Когда прощались, Мажекен Есенович поцеловал нас обоих. Возвращаясь домой, всю дорогу говорили о нем.
Вот такой у нас был сегодня день. Редко они бывают, но бывают…».
* * *
Вернувшись в Москву в июне 1966 года и справив свадьбу в июле, спросил своего тестя, Андрея Леонидовича Малченко, знаком ли ему М. Бутин. На что А.Л. ответил — помнит его, был у него такой аспирант.
Его дочь Оксана пошла по стопам отца — окончила МТИПП, где многие годы преподавал профессор Малченко. Кандидат химических наук, до 1997 года — ведущий научный сотрудник, она — автор статьи об отце «К 100-летию со дня рождения Андрея Леонидовича Малченко», опубликованной в журнале «Пищевая промышленность» в 2004 году (№4, с. 122—123).
И найдите, читатель, в библиотеке журнал «Вопросы истории», 2000, №10. В рубрике «Возвращение в историю» в статье «Всегда любезный, всегда молчаливый товарищ» Оксана рассказывает о своем двоюродном деде, дяде Андрея Леонидовича.
Это — очерк, основанный на архивных документах ОГПУ (пока их вновь не «закрыли» в начале 2000-х), о расстрелянном 18 ноября 1930 года Александре Леонтьевиче Малченко — соратнике Ленина по созданию в 1897 году петербуржского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». На известном фотоснимке Александр Леонтьевич — рядом с Лениным, а в изданиях 1930-х годов и позднее его фигура на снимке заретуширована. И только после реабилитации в 1958 году Малченко «вернули» на это фото.
* * *
Прочитав в 2014-м собственное «ноябрьское 1965 года» письмо из Занзибара, в котором указан адрес Мажекена Есеновича, задумался — можно ли «связаться» с его родственниками? И рассказать им словами «очевидца» о той давней встрече на далеком Занзибаре с их папой, дедушкой, прадедушкой…
И мне повезло! Благодаря… Салиме Сагиевне Кунанбаевой! Она — ректор Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай Хана, член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор филологических наук.
Салима Сагиевна стала первой, давшей свое согласие стать членом Международного редакционного совета (созданного в начале 2014 года в соответствии с требованиями Высшей аттестационной комисии) журнала — «Азия и Африка сегодня», где с 2003 года я работаю первым заместителем главного редактора Алексея Михайловича Васильева (тогда член-корреспондент, в декабре 2011 года избран академиком Российской академии наук).
Никаких других «контактов» ни в Алма-Ате, ни в Казахстане вообще у меня до сих пор не было. Обратился к С.С.Кунанбаевой с просьбой найти родственников «моего» Бутина, и в октябре 2014-го получил от неё координаты его сына — Ерке-Булана Мажекеновича.
У нас завязалась переписка… Ерке-Булан прислал мне две книги, написанные к 100-летию его отца, Мажекена Есеновича («Парыз»), и его мамы («Кос-Маке»). Обе на русском и казахском. В ответ отправил ему «В Египте и на Занзибаре…», с указанием тех самых страниц с коротким воспоминанием (по памяти) о его отце.
В начале мая 2015 года Бутин-мл. предложил мне поделиться впечатлениями о его папе в сборнике по итогам предстоявшего вскоре форума бухгалтеров Центральной Азии, посвященного 105-летию со дня рождения М.Е.Бутина. Разумеется, согласился я с радостью: пусть и его близкие, друзья и соратники узнают, быть может, чуточку больше об этом человеке!
Вспомнив ту самую «далекую» (и по времени от наших лет, и по расстоянию: Занзибар — Алма-Ата!) встречу с Мажекеном Есеновичем Бутиным, не могу забыть впечатлений о нем. Меня, в общем-то, случайного знакомого, он принял, только узнав, кто станет моей женой (точнее — дочь кого), словно родного, как близкого родственника. Да назвал себя моим тестем! Ну, а о его хлебосольстве и говорить не приходится…
Удивительно широкой души человек! А перед глазами — его удивительная улыбка и лучистые глаза. Уже полвека минуло, а встреча с Мажекеном Есеновичем — как будто встретились вчера! Воистину так, когда читаю-перечитываю фрагменты того письма…
Очень жаль, что он так рано ушел. Впрочем, как и его научный наставник Малченко Андрей Леонидович — в 1971 году в день рождения (!) собственной дочери. И было ему ровно 67 лет. Он пережил два инсульта: первый — в 1963-м, прямо на кафедре, когда читал лекцию студентам, и в 1966-м. С недугом он справился, учился писать и говорить, и ходить тоже. До последних месяцев-дней жизни курировал своих аспирантов…
Сожалею также и о том, что мы с Оксаной (в июле 2018-го справили 52 года свадьбы) так и не воспользовались приглашением Мажекена Есеновича «справить медовый месяц в Алма-Ата». Молодые мы были тогда, да и забывчивые…
P.S. В июле 2015 года этот очерк был опубликован в сборнике — «Известия» Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. 2015, №2 (9), c. 24—28. Интересно, что в Приложении к сборнику — «Кто есть кто в научном сообществе бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии» — есть и «страничка» обо мне, да еще с фото.
«КОРРЕСПОНДЕНТ» АПН НА ЗАНЗИБАРЕ
Весной 1965 года я и мои сокурсники (всего 7 человек) заканчивали V курс в Институте восточных языков (ИВЯ) при МГУ, где изучали суахили. Это первый из африканских языков, преподавание которого в 1960 году началось в ИВЯ (с 1970 года — Институт стран Азии и Африки МГУ — ИСАА МГУ).
Язык суахили? Что в нем «особенного»?
Попробую рассказать, но коротко.
Главное — сегодня на суахили разговаривают и понимают его (для многих он — родной) не менее 200 миллионов африканцев из более чем миллиардного населения стран Африки южнее Сахары (при населении всего континента — в 2018 году — 1 миллиард 277 миллионов человек: на 100 миллионов меньше, чем в сегодняшней Индии, не намного уступающей Китаю).
В Танзании (с 1967 г.), Кении (с 1974 г.) и Уганде (с 2005 г.) — это государственный язык, их население ныне — более 155 миллионов человек. В ареал распространения языка суахили входят: Бурунди и Руанда, восточные провинции Демократической Республики Конго, юг Сомали, северные районы Замбии, Малави и Мозамбика, Сейшельские и Коморские острова, и восточное побережье Мадагаскара. Другими словами — вся Восточная Африка, значительная часть Африки центральной. Или — на 20 процентах территории Африканского континента преобладает язык суахили.
Небольшой экскурс «в историю вопроса» в нашей стране.
…Еще в конце XVIII века в России появились первые сведения о суахили. Тогда Петербургская академия наук опубликовала издание о всех известных к тому времени языках мира, в котором упоминался… язык «соваули»; приводились числительные от 1 до 10 на этом языке, некоторые имена существительные. Эти данные о суахили долгое время оставались единственными, известными в России.
…В Википедии, в Интернете вообще, много разнообразной информации об истории изучения африканских языков в Советском Союзе. Здесь же отмечу, что впервые преподавание суахили началось в 1957 году в Московском институте международных отношений (МГИМО), затем в 1960-м — в МГУ (в ИВЯ), а с 1961 года — в Университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы (сейчас РУДН).
Настоящими «провидцами» были те, кто тогда в Москве, «наверху», принимали историческое (думаю, именно так!) решение: из всех языков Черной Африки советским студентам изучать суахили!
Ещё в 1966 году первый президент независимой Ганы Кваме Нкрума (1909—1972) предлагал объявить суахили единым всеафриканским языком, но эта идея не нашла тогда широкой поддержки. Спустя четыре десятилетия, в 2004 году, по решению «африканской ООН» — Африканского Союза (преемник ОАЕ — Организации Африканского Единства) язык суахили стал 6-м рабочим языком этой организации — после (в алфавитном порядке) английского, арабского, испанского, португальского и французского. И — первым среди всех африканских языков!
«Kisu hiki kizuri…»
1 сентября 1960 года на первом занятии в ИВЯ наш педагог — Наталья Вениаминовна Охотина (1927—1999; кандидат филологических наук, ученица патриарха советской африканистики, члена-корреспондента АН СССР Дмитрия Алексеевича Ольдерогге (1903—1987), преподававшего на Восточном факультете Ленинградского университета) — сказала, что изучать мы будем язык суахили.
Начало преподавания этого языка и создание в ИВЯ кафедры африканистики было, безусловно, отражением существенных перемен во внешней политике СССР после ХХ съезда партии (1956). Страна становилась более открытой для внешнего мира, и круг ее интересов в сфере политики и экономики существенно расширился.
Незабываемое впечатление оставило первое занятие «африканским языком». Наталья Вениаминовна вкратце рассказала о языке суахили, а потом подошла к доске и написала мелом крупными буквами нечто странное: «Kisu hiki kizuri kilianguka chini». И произнесла эти слова. Для нашего слуха они прозвучали очень необычно! Еще более необычным оказался перевод — «Нож этот красивый упал вниз»! Почему именно это предложение было выбрано нашим учителем? Уже не узнать…
Н.В.Охотина, заместитель заведующего кафедрой африканистики в ИВЯ, заложила в нас основы грамматики суахили — языка, непохожего, например, на западноевропейские (как, впрочем, и другие африканские языки). Доставала неведомо откуда тексты на этом языке, запомнились, например, «Desturi na Tabia…» («Обычаи и нравы…» какой-то народности, кажется, zaramu), словари — суахили-английский и англо-суахили англичанина Фредерика Джонсона…
* * *
К концу V курса учебы в ИВЯ каждому из нас предстояла годичная практика, т.е. работа по специальности востоковеда-африканиста. Боря Пильников выбрал ТАСС; Саша Довженко, два Володи, Макаренко и Овчинников, — Московское радио, редакцию вещания на Африку, в том числе и на языке суахили; Ира Федосеева и Толя Луцков (самый старший из нас, ему было 26, преподаватель английского языка) — академические институты.
Я выбрал Агентство печати «Новости» (АПН) — организацию, созданную недавно, в 1961 году, «корни» которой — это Совинформбюро времен Великой Отечественной войны. Стажировку начал в феврале 1965 года в Главной редакции Африки (ГРА).
Работа очень понравилась: кроме переводов, поручали что-то писать, редактировать и т. д. Направляли брать и интервью. Так, в одной из московских газет прочитал заметку о каком-то сотруднике одного из факультетов МГУ, который знал чуть ли не 20 иностранных языков, в том числе и… суахили! Глазам своим не поверил: как так? Мы, студенты ИВЯ, учим суахили уже пятый год, а вот какой-то человек в нашей стране УЖЕ его знает!
Одним из моих кураторов был Сурен Григорьевич Широян, заместитель Главного редактора ГРА. Получил от него разрешение взять интервью у этого «некто», а потом направить его в Бюро АПН в суахилиговорящих странах Восточной Африки — в Танзании и Уганде — для публикации в тамошней прессе. Увы, из этой задумки ничего не вышло — мне не удалось найти «героя» газетной заметки. И был ли он на самом деле?..
В апреле в ИВЯ поступил запрос из Министерства обороны СССР — «нужны переводчики языка суахили». Для группы советских военных специалистов, работавших на Занзибаре, островной части Объединенной Республики Танзания.
Они прибыли на Занзибар в марте 1964 года, через два месяца после революции 12 января 1964 года — «народной», «антифеодальной», «антиимпериалистической», как писала советская пресса, по приглашению Революционного Совета Народной Республики Занзибара и Пембы. В западных СМИ революционный Занзибар называли «Кубой в Африке» и рассматривали как угрозу распространения советского влияния на всем Африканском континенте. Напомню, в те годы «холодая война» набирала обороты, как и идеологическое противостояние Запада с Востоком. И Занзибар обратился за помощью — к СССР, Китаю, ГДР…
В этой первой группе советских военных на Занзибаре было два переводчика — с английским языком. Между тем, чуть позднее, в апреле 1964 года, китайские военспецы приехали с собственными переводчиками — с суахили! Выбор руководства кафедры и дирекции Института пал на Володю Овчинникова и меня.
Когда Сурен Григорьевич узнал о моей предстоящей поездке на Занзибар, попросил, по возможности, информировать о перспективах работы АПН в островной части Танзании. При этом он не скрывал недоумения: почему Владимир Прокопьев, первый заведующий Бюро АПН в Дар-эс-Саламе, работая уже почти год в Танзании, ни разу после посещения Занзибара, несмотря на запросы, так и не удосужился отчитаться.
Из Москвы — на Занзибар
Прежде чем рассказывать, выполнил ли я задание, полученное в АПН, и вообще о нашей с Овчинниковым работе военными переводчиками, не могу не поделиться тем, как мы с Володей добирались до этого экзотического острова.
Столько лет прошло, многое стерлось из памяти, но само «путешествие» помню в мельчайших подробностях.
…В Минобороны нам вручили красные (общегражданские) загранпаспорта и по 10 долларов разными купюрами «на непредвиденные расходы». При этом строго указали, а фактически — запретили рассказывать, кому бы то ни было, о конечной точке поездки, и главное — «ни с кем не разговаривать на суахили»! На английском — пожалуйста.
Вечером 16 июня 1965 года из Шереметьево на самолете Ил-18 мы долетели до Каира, в те годы — крайняя точка «Аэрофлота» в этой части Африки. Там — пересадка на самолет другой авиакомпании. Нам предстояло лететь по маршруту: Хартум (Судан) — Аддис-Абеба (Эфиопия) — Могадишо (Сомали) — Найроби (Кения) — Моши — Танга — Занзибар (Танзания).
В Каире приземлились ближе к ночи. Наши стюардессы подсказали, что о посадке на интересовавший нас рейс в Хартум сообщат в аэропорту. Около двух часов провели в зале ожидания. Там было многолюдно, оживленно, работали кафе и бары, сувенирные лавки и неведомый нам с Володей доселе магазин «Duty Free»… Выйдя из туалета и увидев стоящего у входа уборщика-араба в белом до пола одеянии, я подумал: а вдруг здесь принято давать чаевые? И уже протянул, было, ему 1 «бумажный» доллар, как проходивший мимо какой-то европеец с негодованием в голосе чуть ли не закричал: «Ты что делаешь? Ни в коем случае! Забери! Тут могут подумать, что он украл этот доллар, и выгонят с работы. Здесь с этим строго! Если хочешь, дай ему пару монет». И я его послушал, но «мелочи» у меня не нашлось. Вернувшись к Володе, рассказал ему о разговоре с этим «бывалым» европейцем…
Из Каира на американском «Дугласе-9» с остановками в Хартуме и Аддис-Абебе долетели до Могадишо. Первое «приключение» случилось в Хартуме, где приземлились ранним утром. Здесь планировалась часовая остановка. Показалось странным, что пассажиров расположили не в здании аэропорта, а в каком-то ангаре на летном поле. Прошел час, второй… Наконец, нам объявили о каких-то неполадках с самолетом. В общем, задержка составила много часов, и за все это время — а около полудня температура зашкаливала за 45 градусов, и в ангаре дышать было нечем, — пассажирам подали лишь 1—2 стакана воды или сока, другого «питания» не предлагали.
В Могадишо с удивлением обнаружили, что многие сомалийцы — служители аэропорта — общались между собой на суахили! Но, следуя строгому «наказу», не решились проверить свои познания в этом языке. В столице Сомали пересели на винтовой «Фоккер» компании «Кения Эйруэйз».
Еще вылетая из Каира, знали, что в Найроби нас ожидает ночевка.
В те годы практически все аэропорты по нашему маршруту, за исключением, пожалуй, каирского, с наступлением темноты и вплоть до рассвета не принимали и не отправляли самолеты ввиду недостаточной технической оснащенности, а может быть, и по соображениям безопасности.
Надеялись побывать в городе, размять ноги, да и просто отдохнуть от многочасового перелета. Но не тут-то было!
В аэропорту Найроби я и Володя, как и другие транзитные пассажиры, устремились к стойке паспортного контроля. Кенийские пограничники не мешкали, звучно штампуя печати на визах в паспортах. Ожидая своей очереди, обратили внимание на сотрудников Посольства СССР в зале ожидания, которые встречали или провожали кого-то.
Наши паспорта — красные, «молоткастые» — вызвали, как мы заметили, некоторое замешательство у кенийцев. Очередь застопорилась. Спросив, в чем дело, говорим: «У нас есть визы, выданные Посольством Кении в Москве. Разве этого недостаточно, чтобы выйти в город?» В ответ — молчание.
Вскоре подошел старший офицер. Взглянув на нас, перелистал паспорта, отложил их и попросил отойти в сторону, сказав, что покинуть аэропорт нам не разрешается. Не получив внятных разъяснений от кенийских пограничников, мы обратились за помощью к советским дипломатам, благо они находились буквально рядом. Один из них, взяв наши паспорта, переговорил с офицером. И вот слышим: визы, выданные Посольством Кении в Москве, «недействительны в Кении, необходимы визы, выданные МИДом Кении в Найроби»!
Попытки объяснить, что мы «транзитники» и оставаться в Кении не собираемся, толку не возымели.
* * *
По прибытии на Занзибар в Генконсульстве СССР узнали причину столь повышенного «внимания» к нашим персонам в аэропорту Найроби. Год назад, т.е. летом 1964 года, на рейде кенийского порта Момбаса был задержан советский теплоход с военной техникой, предназначавшейся, по утверждению кенийских властей, сторонникам Огинги Одинги — главного политического противника президента страны Джомо Кениатты.
Скандал был немалый. Из Кении выдворили нескольких советских дипломатов, двух из трех работавших там корреспондентов ТАСС, были закрыты корпункты АПН, газет «Известия» и «Правды».
Один из «пострадавших» тассовцев — Владимир Иванович Астафьев — «перебрался» в АПН, под его началом я стал работать в африканской редакции агентства, куда в 1973 году перешел из Института Африки. От него тоже узнал некоторые подробности той давней истории с теплоходом.
Отношения между СССР и Кенией оставались после этого «инцидента» прохладными еще очень многие годы, вплоть до начала 1980-х.
Работая в Танзании в 1978—1982 годах заведующим Бюро АПН, а другими словами — руководителем совзагранучреждения, по службе часто общался с послом Юрием Алексеевичем Юкаловым (1932—2003).
В одной из бесед он сказал, что вместе с женой собирается побывать в соседней Кении: его пригласил коллега — советский посол (обычная практика — наши послы в странах-соседях нередко обменивались приглашениями такого рода). И уже подал документы на получение виз в кенийское посольство в Дар-эс-Саламе. Прошло несколько дней, и Юкалов сообщил — кенийцы, такие, мол, и такие, дали визу жене, а ему — нет!
Мне тоже не повезло. Не раз и не два я обращался в посольство Кении в Танзании на предмет получения визы, чтобы в Найроби аккредитоваться как корреспондент АПН, имел на руках официальное письмо АПН, адресованное Министерству информации Кении. Всё было тщетно…
* * *
Но на этом наше приключение в аэропорту не закончилось, чем и запомнилось!
Вплоть до вылета утром к нам приставили… полицейского с винтовкой (!). Всю ночь провели с Володей на одной койке в полицейском участке внутри аэропорта, в сопровождении вооруженного полицейского ужинали и завтракали (на что и потратили те самые доллары «на непредвиденные расходы»). Даже в туалет ходили «под конвоем». Более того, попытка выйти из зала ожидания и покурить на свежем воздухе была пресечена полицейским свистком. Стоит ли говорить, что в аэропорту Найроби мы ни словом не обмолвились на суахили. Иначе, нетрудно представить, какова могла бы быть реакция кенийцев…
Утром следующего дня на том же «Фоккере» мы продолжили путешествие. Пролетая над Килиманджаро, увидели снежную шапку на ее вершине — незабываемое зрелище! Это была удача! Потом узнали, что нам повезло: как правило, она окутана густым туманом или облаками, сквозь которые очертания Килиманджаро практически невидимы. И действительно, когда спустя годы я многократно пролетал по этому маршруту, редко-редко удавалось полюбоваться этим высочайшим пиком Африки…
Наш самолет совершил посадку в аэропорту Моши — города у подножия Килиманджаро. Так мы оказались в Танзании. А затем, после часовой стоянки и еще через час, приземлились в Танге, на берегу Индийского океана.
Подлетали на небольшой высоте — из иллюминатора взгляд охватывал весь небольшой городок, утопающей в зелени: кругом пальмы, сквозь кроны деревьев кое-где едва проглядывались улочки, а снижаясь к аэродрому, увидели и горожан — кто с повозками, кто на осликах, а кто-то, помахивая кнутом, подстёгивал овец или коз (немногочисленных, правда)…
В Танге нас ожидала двухмоторная «Цессна». Пассажиров в салоне было немного — 25—30, не больше, европейцев среди них — единицы; африканцы — в яркой, красочной, многоцветной национальной одежде, но кое-кто из мужчин и в цивильных костюмах с галстуком.
Покидая Тангу, пересекали Занзибарский пролив и вскоре приблизились к острову — Пемба. Он показался большим — летели над ним пару минут. Покрыт зеленью, но виднелись и проплешины. И чуть ли не сразу же по курсу самолета показался «зеленый ковер», плотный, нескончаемый.
Это был остров Занзибар! А правее от него, чуть вдали, отчетливо просматривалось побережье Африканского континента.
…Днем 18 июня, т.е. почти через двое суток после вылета из Москвы, приземлились на Занзибаре. С посадочной полосы (короткой, непригодной для больших авиалайнеров; она же и взлетная) самолет неторопливо выруливал на стоянку, чуть ли не касаясь крылом выстроившихся, словно солдаты, кокосовых пальм.
Аэродром небольшой, а здание аэропорта, выкрашенное в белый цвет, и вовсе скромное — двухэтажное, с десятком арок по фасаду, украшенных национальными танзанийскими флагами, за которыми проход по всей его длине. Над центральным входом возвышалась диспетчерская вышка. За невысокой оградой — немногочисленные встречающие (или любопытствующие), а перед ними всего два полицейских. Было солнечно и безветренно.
Самое первое, неожиданное и яркое впечатление: едва вышел на трап, на меня буквально дыхнуло чем-то влажным и жарким, воздух какой-то «тяжелый», а руки словно обложили влажной и теплой ватой! Вот они — тропики!..
Выполняя задание АПН
На третий день по прилету на Занзибар поинтересовался в Генконсульстве о Прокопьеве, зав. Бюро АПН. С ним мы «разминулись» — утром 19 июня, т.е. на следующий день после моего приезда, он вернулся в Дар-эс-Салам. Об этом узнал от вице-консула Бориса Николаевича Чиркина (товарищ отца по совместной работе в Норвегии в 1954—1959 годах).
На руках у меня было письмо С.Г.Широяна для генконсула Геннадия Иосифовича Карлова с просьбой оказать содействие в моей журналистской работе. Но консул был в отпуске, и письмо я показал Чиркину. Мне повезло — он курировал пропагандистскую работу консульства, отвечал за распространение литературы, поступавшей из Москвы, но главным образом — из Бюро АПН в Дар-эс-Саламе. И помог: ввел в курс дел, познакомил, как тогда был принято говорить, с «информационно-пропагандистской обстановкой» на Занзибаре.
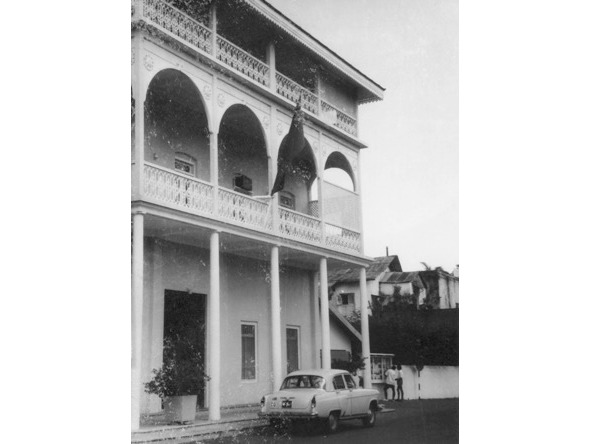
Памятуя о задании Широяна, в первые два месяца выкраивал время, как правило, по вечерам (после 17.00, хотя многие учреждения к тому времени уже были закрыты или закрывались — такова занзибарская специфика) и в выходные дни, чтобы знакомиться с прессой — тогда еще частной, издаваемой индо-пакистанской общиной, с редакторами газет. Посещал книжные магазины — их было всего несколько.
Свое руководство — подполковника Виктора Михайловича Григорьева (в 1966-м стал полковником, а военную карьеру завершил в середине 80-х в звании генерал-лейтенанта) и моего непосредственного начальника майора Бориса Николаевича Линёва — не уведомил, кто я и что. Не сказал о письме из АПН на имя консула, не говорил и о «походах» по газетам. Наверняка они догадывались, но явных препятствий не создавали, и замечаний я не получал. Хотя бывало и так — Линёв говорил: «Все личные дела — после работы»…
Случалось это тогда, когда корр. ТАСС Юра Устименко, получив какое-либо приглашение, пытался вызволить меня у начальства под видом переводчика. Но обычно все эти мероприятия проводились в первой половине дня, и отлучиться мог только с разрешения. Отсюда результат — «после работы». Исключений почти не было.
Единственное свободное время, которое имел, это обеденный перерыв — 1,5 часа. Разумеется, многого не сделаешь. Правда, один-два раза в неделю удавалось быть свободным после 12-ти. Старался использовать эту редкую в тех условиях возможность с наибольшей эффективностью. В общем, делал, что мог.
В зависимости от встреч c занзибарцами, причастными, так или иначе, к сфере информации, представлялся: корреспондент АПН, внештатный сотрудник АПН или переводчик при Генконсульстве. Пока в сентябре Виктор Михайлович не надоумил: «Олег, кончайте ходить по этим частным газетам. Вы все-таки военный переводчик. Могут подумать, что вы там что-то рассказываете и о нас» (в отличие от Линёва, он ко всем своим подчиненным в группе военспецов обращался только на «вы»),
Так сказал мне В.М.Григорьев, а домой я написал более обтекаемо: «…В начале сентября непосредственное начальство запретило работать по линии Агентства ввиду местной обстановки».
На этом моя «журналистская деятельность» завершилась. Тем не менее, довольно объемистое письмо на имя С.Г.Широяна я направил в Москву. А по сути, это отчет — на 12 страницах машинописного текста через один интервал, на тонкой, почти «папиросной» бумаге, дабы облегчить вес дипкурьерам, и нестандартного формата — на листе умещалось 45—47 строк («синюю» копию сохранил — копирка почему-то оказалась синей).
Представляю его на суд читателей.
Письмо в АПН. Сентябрь 1965 г.
В Главную редакцию Африки
«Здравствуйте, уважаемый Сурен Григорьевич!
Более двух месяцев нахожусь на Занзибаре. Акклиматизация прошла нормально, здесь оказалось не так жарко, как представлялось, но до лета (здешнего) времени достаточно, привыкнуть можно.
С первых же дней приступил к своей непосредственной работе. Время она занимает много, распорядок дня в местных условиях неудачный: работаем с перерывом до 17 часов, т.е. когда все учреждения закрыты или закрываются.
Мы прилетели 18 июня и, как узнал, Прокопьев улетел отсюда 19-го. Ни встретиться, ни поговорить с ним не удалось. Генконсула также не было, он в отпуске, поэтому с Вашим письмом обратился к вице-консулу Чиркину Б. Н. Именно он и является как бы ответственным за пропаганду и распространение советской литературы на Занзибаре. Имел с ним несколько бесед. Попытаюсь кратко изложить их суть.
До декабря 1964 г. в консульстве распространением наших материалов практически никто не занимался. Вся имевшаяся литература лежала навалом, бесконтрольно. Поначалу наладили распространение более-менее свежей литературы, газет и журналов, затем постепенно разошлось всё оставшееся.
В настоящее время на адрес консульства поступают следующие материалы:
Из Лондона — «Совьет Уикли» (около 200 экз.)
Из Дар-эс-Салама (Бюро АПН) — «Ньюс фром Совьет Юнион» (80 экз.)
Из Найроби (Бюро АПН) — «Совьет Ньюс» (130—150 экз.)
Из Москвы и «Международной книги» (помимо книг):
«Интернейшнл аффеарс» — 10 экз.
«Калчер энд Лайф» — 10 экз.
«Совьет литерча» — 10 экз.
«Москоу ньюс» -– 50—60 экз.
«Нью Таймс» — 20—30 экз.
«Совьет Юнион» — 20 экз.
«Советская женщина» — 10 экз. (но почему на французском языке???)
Также поступают брошюры, книги и некоторые издания на английском языке самого различного характера. Начинает поступать из Москвы и литература на суахили.
Возможности распространения
Сейчас, в чем я мог убедиться, распространяется все, что поступает. Газеты и журналы расходятся через 1—1,5 недели после прихода очередной почты в консульство. Основные «потребители» их — индийцы и арабы (более грамотная часть населения), главным образом подростки и юноши. В меньшем количестве — африканцы, причем взрослые. Имеются постоянные клиенты, регулярно посещающие консульство, которым предлагаются и книги. В целом, литература распространяется сейчас более устремленно, среди тех, кто может читать и имеет интерес. Каждого посетителя спрашивают, что именно его интересует. Запросы самые разнообразные.
Каналы распространения
1. Официальные места — министерства (здравоохранения, финансов, сельского хозяйства и др.). Сюда по договоренности направляются в ограниченном количестве книги, красочные журналы «Совьет Юнион» и «Калчер энд Лайф», а также «Интернейшнл аффеарс». Журналы в виде подарка раздаются некоторым влиятельным лицам.
2. Общественные места — колледжи, публичные библиотеки, клубы-бары, аэропорт. В колледжи направляется художественная, политическая (которой не особенно много) и, если есть, учебная литература. В библиотеки, клубы-бары, на аэродром время от времени поступают, брошюры, журналы, еженедельники. Литературу принимают охотно, изъявляют желание получать постоянно. Буду пытаться регулярно снабжать библиотеки, клубы-бары.
3. Специалисты по месту работы (наши военные советники) — регулярно распространяются, в основном, еженедельники и бюллетени АПН, которые получаем из Дар-эс-Салама.
4. Магазин «Мапиндузи (на суахили — „Революция“) Бук Шоп» — функционирует под наблюдением и руководством Молодежной лиги партии Афро-Ширази (АШП). Соотношение литературы нашей (от «Международной книги») и китайской, поступающей в магазин, — 1/3 и 2/3. Однако это вовсе не говорит о том, что к нам там относятся хуже, чем к китайцам. Консульство направляет сюда только газеты. Берут охотно и хорошо расходятся.
С 3 по 14 августа в «Пипл’с клабе» (самый большой клуб на Занзибаре) проходила выставка-продажа советской книги, на которой экспонировались образцы книг на английском и суахили, а также фотовыставка: всего было представлено около 300 снимков и фотоплакатов, переданных в свое время из консульства. Вся выставка была оформлена на суахили — «плод» усилий моего товарища (мы прибыли сюда вдвоем) и моих. Судя по отзывам посетителей, выставка имела большой успех.
Фотовитрина консульства
В начале июля с.г. на стенах нашего консульства появилась витрина (ночью освещается). В консульстве КНР она появилась значительно раньше, а в начале августа и в Посольстве ГДР — правда, у них есть здесь «Дом дружбы ГДР-Занзибар», где фотовитрина обновляется постоянно.
До того как была подготовлена наша фотовитрина, часть снимков передавалась в «Мапиндузи Бук Шоп» для демонстрации в витринах магазина. Сейчас же фотовитрина консульства оформляется и обновляется при нашем активном участии раз в 10 дней (у китайцев реже, причем текстовки чередуются: раз на английском, другой — на суахили; у немцев — на суахили).
За период с июля по первую неделю сентября демонстрировались 6 витрин на следующие темы:
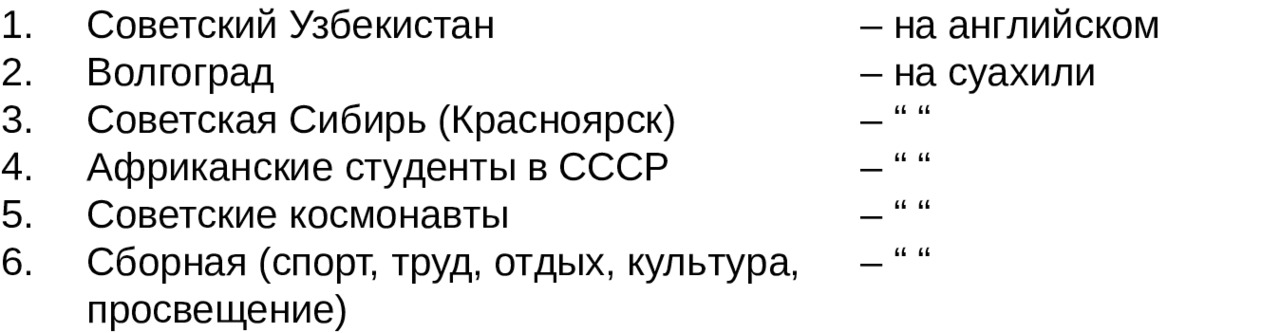
Расположение нашей фотовитрины выгодно отличается от других (КНР и ГДР). Здание советского консульства своим фасадом выходит на одну из самых оживленных улиц — «Каунда Роуд», поблизости от резиденции президента. Витрина пользуется большой популярностью.
Я разговаривал со многими из тех, кто осматривал ее. Наибольший интерес вызывают фотографии, касающиеся жизни африканцев в нашей стране (именно поэтому витрина №4 продержалась свыше 20 дней), а также, как удалось выяснить в ходе разговоров, митинги солидарности, праздники в СССР, парады, карнавалы, наши восточные республики.
Чиркин говорил, что часто приходят невыразительные фото, которые «не смотрятся». Например, серия о молодых скульпторах Советского Союза, или о золотодобывающей промышленности (очень мелкие) и т. п. Вот и с последней почтой пришли снимки о Бакинской нефти. Прямо сказать, не совсем удачные, больше половины неинтересны (например, человек идет по улице, или кто-то что-то делает среди стальных труб и т.п.).
На мой взгляд, африканцев заинтересуют фотографии, рассказывающие о колхозном движении в нашей стране (кооперативном на Занзибаре), можно было бы прислать фото об одном из наших колхозов или совхозов. Наверняка интересными окажутся снимки о выращивании и производстве риса в СССР (как раз сейчас в стране ведется кампания за увеличение производства риса). Или серия о школах и строительстве школ.
Можно подумать о сериях фотографий на такие темы: жизнь советского Севера (зима); Женщины; Советская армия, флот; Ленинские места; спортивные мероприятия; свадьба — с пояснительным текстом, как молодые люди женятся у нас. Здесь жены покупаются за 400—1000 шиллингов — сумма большая, если учесть, что средняя заработная плата не превышает и 200 ш.
Желательно присылать больше крупных цветных фотоснимков, красочных, эффектных.
Распространение материалов АПН (статьи и бюллетени)
Материалов приходит много, большая часть их устаревает. Первое неудобство состоит в том, что посылается всяческая информация, второе — английский язык. В этом и состоит основная трудность: материалы на английском языке используются в весьма ограниченном количестве.
Чтобы яснее представить, какие возможности существуют для распространения материалов АПН, привожу следующие данные о печатных изданиях Занзибара, опубликованные в справочнике «Юнайтед Рипаблик Пресс Дайректори 1964/65»:
«Квеупе» («Рассвет») — бесплатная правительственная газета, суахили, выходит 3 раза в неделю, тираж 8000 экз.
«Африка квету» (можно перевести как «Африка для нас») — частная еженедельная газета, суахили, тираж 800 экз. Редактор и владелец — М.А.Рехани, мэр города Занзибар и вице-председатель партии Афро-Ширази (выходит очень нерегулярно).
«Самачар» (С.) — частная еженедельная газета (воскресная), английский и гуджарати. Владельцы — М.Х.Мастер и Р.Х.Мастер (тираж не указан).
«Занзибар Войс» (З.В.) — частная еженедельная газета (воскресная), английский и гуджарати, тираж 800 экз. Владелец — Занзибар Войс Ко. Лтд. Редактор З.Е.Кассем.
В справочник включены еще две газеты, которые в настоящее время не выходят:
«Кипанга» («Сокол») — еженедельная, суахили, орган Молодежной лиги партии «Афро-Ширази», тираж 200 экз.
«Мфаньякази» («Рабочий») — двухнедельная, суахили, орган Федерации революционных профсоюзов Занзибара, тираж 500 экз.
Выходит еще бюллетень — «Заньюс». Ежедневный, бесплатый, издается отдельно на английском и суахили, тираж сравнительно большой. Его директор номинально С.С.Абдулла, но фактическим главой является Абейд Салем (прокитаец). Печатаются исключительно материалы агентства Синьхуа, наши материалы не проходят.
Никакого отношения к Занзибару этот бюллетень не имеет. Свой транспорт. Создается впечатление, что «Заньюс» финансируется китайцами. По воскресным дням идет широкая распродажа китайских журналов, полученных, как мне удалось выяснить, из «Заньюс».
И последнее, издается еженедельный правительственный бюллетень «Расми за Серикали» — «Правительственные Указы». Весь текст — на суахили, приложение (изложение бюллетеня) — на английском. Основные подписчики — правительственные учреждения.
Как сообщил Чиркин, основную часть более или менее пригодных материалов АПН он направляет в Департамент информации и радиовещания. Через Ахмеда Яхья — заместителя руководителя департамента, относится к нам хорошо, мог бы и лучше, если больше общаться. Это пожелание Чиркина учту.
В департаменте нет средств для перевода на суахили, поэтому наших материалов по радио проходит мало, а в газетах «Квеупе» и «Африка квету» пока ничего не печатается (по крайней мере, за 2,5 месяца моего пребывания здесь не встретил ни одного). Между тем, департамент рассылает имеющуюся у него информацию во все газеты.
Этот департамент представляет для нас особый интерес. Недавно закончено строительство своей радиостанции, время вещания увеличилось, а недели полторы назад было установлено новое оборудование, позволяющее вещать на всю Восточную Африку, Мозамбик, Конго, Замбию. В связи с этим принимаются меры с целью расширить использование наших материалов через радио.
К этой работе привлечен и я. Пока вместе с Чиркиным отбираем материалы, специально предназначенные для радио, а их, к сожалению, мало. Задача ближайших дней — посетить департамент и переговорить с Яхья, которому благодаря помощи Юрия Устименко, корреспондента ТАСС, я уже представлен.
Ахмед Яхья берет наши фильмы на суахили, но их мало. За 2,5 месяца в одном из кинотеатров, их всего три, в разное время демонстрировались журналы — один на суахили, другой «Гости из далекой Африки» — на русском.
Желательно, правда, не знаю, в наших ли это возможностях и компетенции, присылать побольше киножурналов на суахили, лучше — цветных: ведь на Занзибаре зелено-зелено!
Познакомился пока с редакторами газет «Занзибар Войс» и «Самачар» и имел с ними несколько бесед.
Тираж «З.В.», как утверждает З. Е. Кассем, достигает 3000 экз., из них 1700 — на Занзибаре, и 1300 расходятся на Пембе. Газета потеряла многих читателей после революции: англоговорящие и многие представители азиатской общины покинули страну.
Газета публикует материалы, предоставляемые ей департаментом информации, АПН, АДН (ГДР), Синьхуа, ТАСС, перепечатывает статьи из разных газет. С готовностью печатает наши материалы (список опубликованных статей прилагаю). Хотела бы больше получать материалы о жизни советского народа, о новых достижениях в науке и технике, сельском хозяйстве, о жизни африканских студентов в СССР, проблемные, имеющие отношение к Африке, в особенности к Восточной Африке.
Почти в каждом номере печатаются китайские статьи, много немецких, а также АПНовские, получаемые из Бюро АПН в Дар-эс-Саламе (последние два месяца по неизвестным причинам почти ничего не поступало), и, в большей мере, из консульства Сейчас пытаюсь постоянно снабжать как «З.В.», так и «С.».
Редактор «Самачара» указал, что тираж газеты достигает 6000 экз. (до революции — 9000 экз.). По его словам, 1900 экз. распространяется на Занзибаре, остальные — в Кении, Танганьике, Родезии. Газету интересуют, в основном, те же материалы, что и «З.В.». Но «Самачар» несколько отличается от «Занзибар Войс»: две полосы отдает хронике из разных стран мира, меньше рекламы.
Пожалуй, оба редактора склонны к преувеличению. Мне еще ни разу не довелось видеть эти газеты в продаже.
Обе газеты рассылаются по всем министерствам, общественным местам и подписчикам. Редактор «С.» дал следующие цифры: 34% читателей — из азиатской общины, 29% — европейцы, 37% — африканцы.
После встреч с редакторами обеих газет складывается впечатление, что Кассем с большей готовностью может принимать и публиковать наши материалы. Можно сказать, что эти две газеты охвачены нами успешно.
Постоянно функционирует здесь «Бритиш Информейшн Сёрвис» и «Америкэн Лайбрэри», которую посещают, в основном, арабы и индийцы, а английское агентство — африканцы.
Китайская пропаганда
Китайцы в информационном плане развернулись очень широко. В каждой библиотеке, школе, клубе в аэропорту, в «Мапиндузи Бук Шоп» можно встретить: «Чина» (на суахили — «Китай») — ежемесячный журнал на суахили; «Ньюс буллетин» — издается посольством КНР в Танзании; «Пекин ревью» «Чина реконстрактс», «Чина’с скриин», «Эвергрин» -– все на английском.
Довольно часто в кинотеатрах демонстрируются их киножурналы (на суахили и английском) и художественные фильмы (с титрами на английском). О бюллетене «Заньюс», китайской фотовитрине и публикациях в местной прессе писал выше.
Какие будут пожелания?
Хотелось бы, чтобы среди наших материалов, присылаемых сюда, побольше было имеющих отношение только к Африке, ее проблемам. Статьи политического характера (о НАТО, колониализме и империализме, дискриминации и т.п.) — позубастее. Они хорошо идут. Это пожелание Чиркина.
Было бы замечательно, если бы часть наших материалов шла на суахили и таким образом проблема охвата нашей пропагандой суахилийских газет «Квеупе» и «Африка квету», в особенности первой, решалась бы гораздо успешней. Наша литература в подавляющей массе — на английском. Здесь это идет, но воздействие минимальное.
Чтобы осуществить эту задачу с большей эффективностью, следует знать специфику этих газет. Размер газет маленький — меньше, например, четверти полосы «Правды»; объем — 4 полосы. В них публикуются материалы, касающиеся почти исключительно Занзибара. В «Африка квету» реклама занимает 80% всего объема газеты, в «Квеупе» половина последней полосы отдается хронике типа нашей, рекламы вообще нет, за исключением расписания киносеансов.
Какие статьи могут пойти в этих газетах? Размер должен быть как можно меньший, не больше 1,5—2 страниц печатного текста. Писать короткими, простыми фразами, более понятно, не загромождать специфическими терминами. Что им нужно? Может быть, начать с того, что такое социализм. Знакомить с нашей теорией нужно возможно проще. Лучше серия небольших статей, каждая из которых на одну какую-то тему, чем одна большая.
Пойдут статьи, имеющие отношение только к проблемам Восточной Африки. Возможно, стоит подумать над тем, чтобы прислать сюда специально подобранные статьи для этих газет, в особенности для «Квеупе», и дать полномочия консульству редактировать их, если возникнет необходимость, с тем, чтобы здесь, на месте, перевести их на суахили, и уже суахилийский вариант предлагать этим газетам. Мы с товарищем приложили бы все наши старания в этом деле.
Может быть, стоит связаться с издательством иностранной литературы в Москве и с «Международной книгой», чтобы больше, в смысле количества наименований, присылали политической литературы на суахили. Я не знаю, есть ли в Бюро АПН в Дар-эс-Саламе и Найроби переводчики (из местных) с английского на суахили?
Совершенно случайно натолкнулся недавно на брошюру-бюллетень, издаваемую в Даре, очевидно, кубинским посольством или консульством на суахили — «Кьюба Хабари» («Новости Кубы»). Хороший язык и интересная информация.
Консульство сейчас получает явно недостаточно таких журналов, как «Интернейшнл Аффеарс», «Совьет Юнион», «Калчер энд Лайф». А между тем, есть адреса 35—40 лиц — членов правительства, членов Революционного совета, влиятельных деятелей, — симпатизирующих нам и которым можно было бы регулярно посылать эти журналы. Чиркин просит посодействовать, чтобы количество их было увеличено раза в два.
С Карловым беседовал сразу же после его возвращения из отпуска. Беседа была деловой, короткой. Если будет необходимость — поможет. А пока — держать связь с Чиркиным. Просил передать благодарность за Ваше письмо.
Вот, пожалуй, и все. Что забыл, напишу в следующую почту. Если что не правильно — подскажите…».
* * *
По словам С.Г.Широяна, это письмо обсуждалось на заседании Правления АПН, «что бывает крайне редко», и получило «очень хорошую оценку». И папа мой узнал о нем каким-то образом, наверное, от своего друга Чиркина, написав: «Твой отчет слушали на Правлении АПН!»
Широян передал мне слова тогдашнего Председателя Правления АПН Бориса Сергеевича Буркова: «Надо же! Корреспондент без году неделя — и такой отчет!» Но не был я тогда никаким «корреспондентом», а лишь учился стать им…
…В 1967 году, завершив обучение в ИВЯ, пришел в Агентство. Сурен Григорьевич привел меня в кабинет Главного редактора ГРА Николая Арсентьевича Сметанина. Вкратце разговор свёлся к тому, что меня готовы взять на работу, а через год-два — направить редактором в помощь заведующему Бюро АПН в Танзании, а затем, еще через несколько лет, и заведующим Бюро в какую-либо африканскую страну.
На первый взгляд, карьерные перспективы были неплохими. Но, вернувшись домой, прикинул: «Год-два — это 1969 год, а может быть, кто знает, и позже. А что затем? Трудно загадывать…». И выбрал аспирантуру, куда и поступил в ноябре 1967 года, — в Институте Африки АН СССР.
И все же этот отрезок работы на ниве журналистики поспособствовал тому, что в 1973 году, закончив аспирантуру, я продолжил свою карьеру именно в Агентстве печати «Новости». И спустя еще 5 лет не раз посещал Занзибар, работая в Танзании заведующим Бюро АПН (об этом — ниже).
РАБОТАЯ НА ЗАНЗИБАРЕ
Писуч я оказался до писем домой из Занзибара (некоторые «процитировал» выше). Приведу одну цифру: только Оксане, будущей жене, отправил 30. Кроме одного (я их нумеровал), все эти письма сохранились (в некоторых разные даты: дописывал их в разные дни перед очередной «почтой» в Москву).
Содержание многих — собственно о переводческой работе на редком «восточном» языке — может, думаю, быть интересно читателю.
При этом замечу. Мы с Володей Овчинниковым стали в 1965 году вообще первыми (!) советскими студентами-стажерами, да еще военными переводчиками, работавшими в тогдашней Африке южнее Сахары. Но осознание этого пришло много позднее, а «подсказал», много-много лет спустя, Аполлон Борисович Давидсон, мой наставник по истории Африки со студенческой скамьи в ИВЯ.
Подчеркну также, что перед отправкой на Занзибар мы не получали «сверху» никаких «инструкций», «напутствий» или «наказов», вроде того, что на нас ложится «ответственность» за поручаемое дело, что мы — «советские», и этим всё сказано.
Нам, молодым парням, было не до этого: радовались, что скоро будем на «родине» суахили, точнее, Kiunguja — суахили занзибарского (Unguja — Занзибар на суахили: так занизибарцы называют свой остров). А это, считали англичане, — King Standard of Swahili, или «Эталон языка суахили — занзибарский». Главное же, как я понимал, — не подвести Институт, меня (нас) рекомендовавший.
Но сначала о том,
Как суахили стал «моим»
В первом письме из Занзибара, 21 июня 1965 года (через 5 дней после вылета из Москвы), я писал:
«…18 июня часов в 6 вечера успешно приземлились. Как приятно было снова очутиться на земле! Ведь в Хартуме, при жаре 46 градусов, проторчали 8 часов на аэродроме, пока чинили самолет, на который пересели в Каире с нашего «Ила».
Лететь было интересно. Сначала Русь, ночью Черное море и Турция, Каир, утром — пески, пески, пески и горы, но чем южнее, тем больше зелени и воды, и даже тучи, когда пролетали над высочайшим пиком Африки — Килиманджаро. В Найроби ночевали в аэропорту. А утром «свеженькие» и отоспавшиеся вылетели на Занзибар.
Погода здесь, в городе Занзибар, отличная. Тепло, но не жарко. Солнце какое-то ласковое (первые впечатления оказались очень обманчивыми — круглый год температура 30—35 градусов, при стопроцентной влажности — тропический климат!). Море прохладное, берег песчаный, вода цвета необыкновенного, лазурная, прозрачная, правда, довольно соленая. А кругом пальмы, наверху — огромные кокосовые орехи. На деревьях удивительные цветы цветами — яркие, сочные. Зелень — везде.
…К работе в военном лагере Chukwani (Чуквани) — в 10—12 километрах от города — приступил лишь сегодня. Это была настоящая работа — всё время говоришь на суахили. И здесь встречаю значительные затруднения. Особенно в разговорном языке. Понимаю много, но вот сам говорю нередко через пень колоду. Ну, ничего, месяца через два надеюсь говорить более свободно.
Распорядок дня: с 8 до 12, с 12 до 14 — обед и отдых, и с 14 до 17—18 часов (а темнеет здесь ровно в 17.30).
29 июня. — …Вечером был на встрече с представителями печати, пригласил корр. ТАСС Юра Устименко. Имел очень приятную и содержательную беседу с редактором и издателем газеты «Zanzibar Voice», получил приглашение и в ближайшие дни нанесу ему визит. Здесь же, на встрече, пришлось впервые переводить с английского на суахили. В целом, справился неплохо, но очень волновался.
4 июля. — …В нашей группе (человек 15) два переводчика с английского. Они рассказали, что с английским переводом у них мало что получалось: рядовые солдаты их не понимали; сержантский состав тоже не силен в английском; немного толку от лейтенантов с капитанами, хоть как-то знающих этот язык. Обучение шло с превеликим трудом, впустую терялось время…
Солдаты занзибарские — новобранцы, коих следует научить строевой, боевым навыкам, обращению с оружием и т.д., в массе своей — бывшие крестьяне, неграмотные, выходцы из беднейших слоев населения — вообще едва знают разговорный английский, а о военных терминах и говорить не приходится. Складывается так (да и китайцы подали пример, прибыли сюда с собственными переводчиками на суахили), что без суахили — никак!
Kifaru, mzinga, papa, и taptapu…
…Перед поездкой на Занзибар я знал, что «kifaru» — это «носорог», а «mzinga» — «улей». Как же удивился, когда в Чуквани услышал, что на военном суахили «kifaru» — это «танк» (очень удачное сравнение!). А «mzinga» — это «пушка»! И вот почему.
На Занзибаре пчелиные ульи устраивают не на земле, как у нас, в России, а привязывают веревками высоко на ветвях деревьев. И представляют они из себя не наши «домики», а выдолбленные изнутри достаточно крупные поленья гладкоствольных (курсив — мой) деревьев, в том числе и пальм. А какой главный «элемент» у пушки? Правильно — ствол! Поэтому «mzinga» и стала «пушкой».
Таковы были мои «открытия», когда оказался на Занзибаре. В завершение этой словарной эквилибристики (невоенной) не могу не привести еще несколько примеров: «акула» на суахили — это «papa», «папа, отец» — «baba», а «мама» — и на суахили «mama».
В разговорном суахили «переводчик» — это «taptapu». Не слышатся ли, читатель, в этом слове характерные звуки пишущей машинки — «тап-тап-тап…»? Узнал о нем на Занзибаре. В словарях его не найти — там есть только литературные «mkalimani» и «mtafsiri».
Да и не многие танзанийцы знают это слово, если они не выходцы из Занзибара. Во всяком случае, убедился в этом многими годами позже в Дар-эс-Саламе. Так, «старший» по местному штату в Бюро АПН Диксон Марадуфу, профессиональный журналист и блестящий переводчик с английского на суахили, услышав от меня это «taptapu», искренне удивился: «Неужели? Никогда не слышал!» Правда, сказал, что никогда и не был на Занзибаре. Не знали этого слова и другие танзанийцы, работавшие в Бюро…
Отсутствие разговорной практики на суахили давало о себе знать в первые месяц-два. По крайней мере, я это осознавал. Володе было легче — с III курса он уже практиковал суахили, «подрабатывая» на иновещании Московского радио, был переводчиком и диктором, общался с занзибарцами Раджабом и Сейфом Ахмедом Харуси, которые по контракту работали на радио в редакции суахили в начале 60-х годов.
* * *
8 июля. — …На днях побывал в Mapinduzi (суах. — Революция) Bookshop — книжном магазине Молодежной лиги (типа нашего Комсомола) правящей партии Афро-Ширази, единственной на Занзибаре, в котором пройдет «Выставка социалистической книги». Переводил на суахили тексты для наших фотоплакатов. В общем, выполнял «поручение» начальника нашей группы военных советников подполковника Григорьева: «Чтобы не болтались без дела, все же вы (т.е. я и Володя) — военные».
По субботам (уже тогда выходными на Занзибаре были суббота и воскресение) проводим занятия по суахили для наших военных: два часа — автодело, два часа — только суахили. А после 13.00 — мы свободны.
13 июля. — …Посетил министерство образования — для будущего диплома нужны некоторые данные о развитии образования на Занзибаре после революции. Приняли меня хорошо. Разговаривал с высоким начальством на суахили и английском. Кстати, сейчас говорится на суахили гораздо свободнее.
…По советским «лекалам» с Володей придумали разные упражнения физподготовки для занзибарских солдат: бег на 100 метров, эстафетный бег, метание копья, диска, ядра, бег на 5 миль (8 километров). Я судил бег на 5 миль — отвез «спортсменов» к старту на машине, а потом ехал за ними по пятам. А еще — перетягивание каната. Очень увлекательное зрелище! Соревнуются, как правило, полицейские с солдатами. И все время побеждали «наши» солдаты.
2 августа. — …Задались целью — составить для наших военных словарь на суахили. Пока записываем на карточки русское слово, а внизу — на суахили. Придерживаемся алфавитного порядка (чем это закончилось, уже не вспомнить…).
23 августа. — …Чем больше читаешь суахилийские газеты, вчитываешься, все больше и больше убеждаешься, до чего же красивый язык суахили! Встречаются очень интересные обороты речи.
Был у нас такой случай. После обеда отдыхали, я собирался соснуть, а Вова увлекся газетами. Уже почти задремал, и вдруг Овчан рассмеялся, да так заразительно, что я проснулся. Оказывается, он выискал на суахили слово «дровосеки». Когда зачитал, я тоже рассмеялся, до чего же просто! Ну, а после этого было уже не до сна, его как рукой сняло.
«Дровосеки» на суахили я не запомнил. В наших Русско-суахили словарях оно не значится. Как-то позвонил Володе, спросил, но и он не вспомнил…
4 сентября. — …Когда с головой окунаюсь в работу, чувствую себя совсем по-другому, как-то на своем месте. Посещение здешних кинотеатров кажется чем-то второстепенным…
18 сентября. — …В субботу поутру проводил занятия по суахили с нашими офицерами. Это очень терпеливые и старательные ученики. Такие занятия начинают приносить если не удовольствие, то удовлетворение…
27 сентября. — …Рабочий день прошел сегодня на радость плодотворно, даже самому понравилось: наговорился, напереводился. В Чуквани работаю в разных подразделениях. Наши офицеры показывают и рассказывают, а я перевожу — устройство и пулемета, и карбюратора, гранаты и зенитки, разборку-сборку автомата…
* * *
Конечно, пригодилась учеба и занятия на Военной кафедре МГУ (с I по IV курс), когда занзибарцам объяснял, что такое «мушка» и как целиться «под яблочко». Примерные аналоги последних двух «терминов» есть, разумеется, и на английском. Но английского языка рядовые солдаты не знали. А мой непосредственный начальник, Борис Николаевич Линёв, обучая солдат как стрелять, командовал: «Целься в мушку, и под яблочко!». Но невдомек ему было, что на Занзибаре яблони никогда не росли (и не растут!).
Пришлось мне на стенде рисовать условное «яблоко» и рассказывать (на суахили), как именно через «мушку» надо целиться. В общем, я придумал — «Tizama („смотри“) mushka» и «Lenga („целиться, целься“) pod yablochko». Эти «термины» и использовал, а мои подопечные в Чуквани вполне их понимали…

Автор — студент I курса ИВЯ со значком
3-го разряда по стрельбе. Вручил лично начальник Военной кафедры МГУ полковник Михаил Михайлович Маслов
за 3-е место (96 очков из 100
из мелкокалиберной винтовки
в положении «лёжа» на дистанции 50 метров) на соревнованиях среди «курсантов» гуманитарных факультетов МГУ (февраль 1961 г.).
Переводы, переводы…
20 октября. — …За переводами время летит очень быстро. И главное, полезная работа — 5—10 новых слов, которые быстро запоминаешь.
4 ноября. — …С кинопередвижкой консульства приехали вечером в Чуквани и показали фильм «Чапаев». Надо было видеть, КАК солдаты реагировали!
Пока экран — большое белое полотно — солдаты растягивали и привязывали к пальмам, я вкратце рассказал им о сюжете картины, о том, что в России произошла революция, началась гражданская война, были «красные» и «белые», кто такой Чапаев и т. д. Синхронный перевод в микрофон не получался. Порой меня просто не слышали, в особенности, когда баталии в картине «захватывали» занзибарцев — они начинали что-то кричать, выражали свои эмоции очень непосредственно. Например, когда каппелевцы шли в атаку или когда Анка-пулеметчица стреляла по врагам.
10 ноября. — …6 ноября на вилле консула был грандиозный прием в честь Октября. Место красивое, уютное. Гостей было много. Присутствовал и президент Каруме, он произнес очень теплую речь, которую, правда, Корнеев не совсем точно и удачно переводил — переводил сухо и общими фразами.
Я так и сказал ему после приема. Он не обиделся — через пару дней пригласил нас с Володей к себе, показал подарок, который выписал для сынишки, — автодорогу с машинками, работает на батарейках…
7 ноября переводил у консула Карлова на личной беседе с очень высоким лицом. (Кто он? Если тогда не написал, сегодня разве вспомнишь?)
Обучать солдат приходилось, порой, и на собственном примере — стрелять из пулеметов и автоматов, метать гранаты. Так, наш офицер, отчаявшись научить новобранцев обращаться с гранатометом, целиться и стрелять по фанерной мишени (на расстоянии порядка 30—40 метров — каким-то образом они промахивались, пуляя то по мангровым зарослям, то в пальмы, между которыми и устанавливалась мишень), обратился ко мне: «Олег, ну покажи ты им, как надо стрелять — ничего у них не получается!..».
«Базуку» (так солдаты называли гранатомет) я впервые держал в руках, но выстрел удался: хорошо усвоил «теорию», переводя на занятиях по его изучению. От мишени остались одни щепки…
* * *
На полигоне рядом с Чуквани обучали солдат навыкам строевой подготовки, выполнению тех или иных команд, совершать марш-броски. Проходили и учения с боевой стрельбой.
В один из дней боевой подготовки Линёв подошел ко мне: «Олег, сейчас идем в „атаку“. Ты им скажи и предупреди, чтобы позади нас никто не стрелял!» Я бегом к командирам — сержантам, лейтенантам…
Оказывается, такое случалось, и не однажды. Борис Николаевич рассказывал: «Веду в атаку солдат, рядом со мной лейтенанты, сержанты, и вдруг сзади, в спину, раздаются выстрелы, автоматные и пулеметные очереди, а патроны-то — боевые!..»
И на этот раз, устремившись с ним и командирами-занзибарцами вперед и пробежав пару десятков метров, слышу выстрелы. «Ложись!» — закричал Линёв. Я тут же перевёл — «Lala chini!» и успел оглянуться назад: стреляли из траншеи, где залегли пехотинцы второй волны «наступления». Солдаты наши от испуга попадали ниц. Потом Линёв, рассвирепев, устроил выволочку занзибарским офицерам, и я с трудом находил нужные слова…
* * *
Cразу ли получалось у нас с переводом на суахили? Конечно, нет. С чего всё начиналось по приезде на Занзибар?
…Вместе с Линёвым впервые приехали к месту работы в Чуквани. Он представил нас тамошним командирам, а те — своему личному составу. Я сразу ощутил доброжелательное к нам отношение со стороны занзибарских военных.
Оказавшись в окружении солдат, нас расспрашивали, откуда и кто мы, где учили суахили. Мы рассказали, что из Москвы, учились в университете. Удивительно, но кое-кто из них слышали и о Москве, и о МГУ. Но когда я назвал мой институт ИВЯ на суахили — «Chuo Kikuu cha lugha za Mashariki» — начались расспросы…
Наша беседа продолжалась еще некоторое время. А когда мы отвечали на вопросы или что-то разъясняли, стал замечать: к нам внимательно прислушиваются, у кого-то появляются улыбки на лицах, а некоторые и вовсе смотрели на нас с нескрываемым любопытством.
И вдруг кто-то спросил: «Mnazungumza lugha gani?» («А на каком языке вы говорите?»). Вопрос я, конечно, понял. А увидев удивление в моих глазах, этот «кто-то» сказал: «Tunaanguka kwa kucheka!» («Мы умираем со смеху!», дословно — «Мы падаем от смеха!»), и все вокруг дружно рассмеялись.
* * *
Занзибарцев мы понимали. Но, видимо, обороты нашей речи, построение фраз, те или иные слова из нашего не слишком богатого словарного запаса были для них непривычны. Наверное, мы говорили излишне академично, слишком «грамотно», строго придерживаясь грамматических норм. Одним словом, говорили мы, скорее всего, на литературном языке суахили. А разве могло быть иначе?
Тексты, которые были у нас в ИВЯ под рукой на I—III курсах, это, в основном, сказки, рассказы об обычаях и традициях племен и народностей в Восточной Африке, пословицы и поговорки, некоторые произведения танганьикского писателя Шаабана Роберта, и т. п.
Учебных пособий на суахили и о суахили просто не хватало, а текстов «сегодняшних» не было, и взять их было неоткуда. Танганьика и Кения, для которых суахили — родной язык, в 1960—1961 годах были еще британскими колониями, да и позднее закупать литературу и прессу на суахили, а также словари было возможно только через Лондон. Нужна была валюта, а её на «наш» язык, если и выделяли, то явно недостаточно.
За первые четыре года учебы в ИВЯ грамматику языка суахили, которую преподавала Наталья Вениаминовна Охотина, мы усвоили на «отлично». Читать научились тоже, занимались переводами с русского на суахили и с суахили на русский. И «разговаривали» на суахили между собой — с 1961 года этими занятиями в нашей, первой группе суахили в ИВЯ, руководила Нелли Владимировна Громова.
Но у нас не было военных текстов на суахили, а военной тематикой вовсе не занимались. В первом советском «Суахили-русском словаре», изданном в Москве в 1961 году, военные термины практически отсутствовали. Правда, надо отдать должное этому словарю, в который перед отъездом на Занзибар не удосужился заглянуть: в нем можно обнаружить и «танк», и «пушку» как вторые значения каждого из приведенных выше суахилийских слов.
На первых порах пришлось нелегко, мы спрашивали-переспрашивали у занзибарских военных, знавших английский, что и как из «военного» называется на суахили, и учились на ходу.
* * *
13 января 1966 г. — …Начиная с 8 января, мы готовились к салюту в честь 2-й годовщины революции 12 января 1964 года. Салют в здешних условиях — дело хлопотливое. Его дают из разных точек, в том числе и с островков, расположенных поблизости. Получилось так, что я попал на Черепаший остров. Этот остров славен тем, что там обитают громадные морские черепахи.
На катере с солдатами и офицерами добрались туда затемно. Полчаса-час бродили по острову — искали место для зениток. И совершенно случайно набрели на одну черепаху. Действительно, громадина! Ей ничего не стоит перевезти на панцире двух человек — груза как будто не чувствует. Разбудили мы ее шумом и фонарями. Шипит она громко — так она дышит. Передвигается как бы нехотя. Отползла чуть в сторону, в кусты, и замерла. Спрятала голову под панцирь, и была такова.
На этом острове до революции была тюрьма для африканцев, а еще раньше — сюда привозили рабов. Мы даже видели огромные огороженные ямы, к которым с опаской приближались. Как раз в них и содержались рабы…
1 февраля. — …Отправились в субботу в архив — найти что-то интересное для будущих дипломов. Приходим туда, узнаем, что к чему, и просим показать каталог — опись архива. Приносят толстенную книгу, а времени у нас, чтобы просмотреть её, — всего ничего. Мы же хотели, чтобы этот каталог дали нам до понедельника.
Если здоровались на английском, то уж дальше разговор пошел на суахили. Поначалу нам отказали, сказав, что каталог у них всего в одном экземпляре. И тут Овчан блеснул!
Он так заговорил на суахили, что архивисту и его помощникам стало как-то неловко от того, что у них имеется даже этот единственный экземпляр. Я наблюдал за их лицами. Сначала расплылись в улыбке, а затем просто просияли! В конце концов, Вова их уговорил, мы дали им расписку и ушли с каталогом, страшно довольные.
6 февраля. — …Слушал выступление президента Занзибара Каруме на митинге, посвященном 9-й годовщине партии Афро-Ширази, на площади Mnazi Mmoja (в переводе с суахили — Одна пальма. Тогда это был, скорее, пустырь, где росли две-три кокосовые пальмы).
До чего же его трудно переводить на русский! Его недостаток — перескакивать с одной темы на другую, и снова к первой возвращаться. А если он начинает шутить — гиблое дело! Смысл более-менее ясен — и его шуток, и пословиц, и поговорок. Но начинаешь переводить на русский — ерунда получается. Не успеваешь. А в переводе, если потеряешь одну мысль, о второй и не догадаешься. В общем, попарился!
7 февраля. — …Интересная встретилась мне статья в одной из местных газет. Я диву дался! Типично антиамериканская, в саркастическом тоне, столько в ней издевки, насмешки! Получил удовлетворение. А как красиво, весомо звучит всё это на суахили!..
16 февраля. — …Позвонил Володя Корнеев из консульства, передал, что мне переводить делегату от ВЛКСМ, приехавшему сюда по приглашению Молодежной Лиги партии Афро-Ширази.
Это Дмитрий Тулаев, а для меня просто Дима. С ним знаком, работает он в КМО (Комитет молодежных организаций) СССР зам. зав. отделом Африки, и знает тех, кого и я знаю в КМО.
Везёт же здесь на знакомых! Его начальник — Орлов! «Владислав Иванович — „большой человек“, секретарь парторганизации КМО», сказал он мне. Помнишь, говорил тебе о нем. Попросил Диму не забыть привет ему передать.
В штаб-квартире Лиги завязался очень интересный и полезный разговор о молодежи у нас, о Комсомоле в первые годы Советской власти, о молодежи в новом Занзибаре. Переводил, наверное, часа два. Обсудили многие важные вопросы о сотрудничестве молодежных организаций наших стран, да и сам узнал многое из того, что меня интересовало.

Счастливый жених пишет невесте.
* * *
Дмитрий Тулаев окончил МГИМО с китайским языком. В дни визита на Занзибар был он на приеме в посольстве КНР, после которого рассказал мне удивительную историю:
«Здороваясь с китайцами, говорю им на китайском: „Здорово, ребята!“ — Молчание и вытаращенные глаза в ответ. Снова — „Ребята, здорово!“: повторяется то же. „Я же к вам на китайском языке обращаюсь!“ — Глаза расширяются… „Вы что, китайский язык не знаете?“. Тут что-то дошло до них, и один у другого, в присутствии африканцев, говорит на английском (!): „Он у нас спрашивает, знаем ли мы китайский язык?“. Африканцы держатся за животы…».
Как говорится, комментарии излишни. Что могу сказать? Мы приехали на Занзибар в самый разгар идеологической войны между Москвой и Пекином. Китайцы называли нас «ревизионистами». Вот, наверное, и Тулаев оказался для них «ревизионистом», с которым «нужно ухо держать востро».
Мы, китайцы и «mzungu»
(или — не всё так просто…)
Идеологический конфликт (или «раскол») между СССР и маоцзденунским Китаем, начавшийся в конце 1950-х годов, нанес свой «отпечаток» и на взаимоотношения советских и китайских военных советников на Занзибаре. Ощущалась недоверчивость, напряженность, мы были чужими друг для друга. Разумеется, чувствовалось и соперничество: кто лучше — мы или они — проявит себя в боевой подготовке занзибарцев. Уверен, этим пользовались (во благо себе, конечно) военное и политическое руководство Занзибара.
Китайцы работали в военном лагере на соседнем острове Пемба поблизости от административного центра Чаке-Чаке. Сколько их было? Вряд ли больше, чем советских. Встречались ли мы с китайскими военспецами? Практически нет. В городе я их ни разу не видел. Даже не запомнил, на каком транспорте китайцы приезжали на репетиции парадов — всегда приезжали первыми, раньше нас.
Запомнилась первая из очень редких встреч с ними. В конце декабря 1965 года началась подготовка к военному параду в честь 2-й годовщины революции. Репетиции проходили на Mnazi Mmoja.
На первую репетицию наша группа во главе с Григорьевым прибыла позднее китайцев, вокруг которых уже собралось несколько занзибарских военных чинов. Виктор Михайлович вежливо поздоровался с китайским коллегой, тот, улыбаясь, начал разговаривать с ним, на русском.
С Володей стояли поодаль, рукопожатиями с китайцами не обменивались, но жестами поприветствовали друг друга. Я с любопытством посматривал на китайских «суахилистов» (их было три-четыре) — молодые ребята, все одного роста и в одинаковых белых рубашках навыпуск, черные брюки. Вели себя как-то скованно, и, когда переводили, чуть ли не в рот смотрели своим офицерам, беседовавшим с занзибарцами. Почему-то подумал тогда, что дисциплина среди самих китайцев была строгой, ничего лишнего, только работа…

Занзибарские командиры и советские военспецы на плацу лагеря Чуквани. Автор — справа от фоторепортера (светлые брюки, рубашка навыпуск).
Через некоторое время Виктор Михайлович подозвал меня: «Олег, надо сходить к ним. О чем они там говорят? Попробуйте послушать». Не спеша, делая вид, что прогуливаюсь, сделал несколько шагов в сторону китайской группы. Моя «прогулка» не осталась незамеченной, кое-кто стал оборачиваться в мою сторону — видимо, я был плохим актером.

Подойдя еще ближе, услышал: «Mzungu anakaribia» («Белый приближается») — сказал негромко один из занзибарских офицеров, что стоял рядом с китайцами. И все они разом замолчали, всякие разговоры в их группе прекратились. Мне ничего не оставалось, как ретироваться. Чувствуя, что за мной продолжают наблюдать, шел к нашей группе, «не поспешая». В голове промелькнуло: «А вдруг они догадались, что я их слышал?»
Эта фраза — «Белый (mzungu) приближается» — меня поразила! Для занзибарцев, оказывается, я был вовсе не русский (суах. — mrusi) или советский (msoviet), для них все равно оставался «белым»! Не сомневаюсь, что и между собой занзибарские военные нас так и называли — «wazungu» («белые»).
* * *
Небольшое отступление. Я не филолог-языковед, а историк-африканист, практиковавший (и практикующий) суахили. Хотел бы поделиться некоторым мыслями, быть может, небесспорными, но имеющими прямое отношение к тому, о чем уже рассказал, а шире — к тогдашним советско-занзибарским отношениям.
Mzungu — это собирательное значение «европеец» на суахили. Так трактуют все известные словари языка суахили, включая танзанийский «Kamusi ya Kiswahili Sanifu» («Толковый суахили-суахили словарь») — первый такого рода, изданный в 1981 году Институтом изучения суахили Дар-эс-Саламского университета. И советские — «Кamusi ya Kiswahili-Kirusi» («Суахили-русский словарь») (1961 г., 18 000 слов), о котором уже упоминал, и его новое издание 1987 года (ок. 30 000 слов). Среди авторов последнего — Н.В.Громова, Н.Г.Фёдорова. И Володя Макаренко — сокурсник по группе суахили (скончался в 2002 году, это была первая потеря среди нас).
В том же значении «mzungu» указан и в «Русско-суахили словаре» (М., 1996, ок. 30 000 слов). Один из его составителей — Саша Довженко (пожалуй, лучший тогда «суахилист» в СССР). Он подарил мне экземпляр этого словаря с автографом — «…с простым напоминанием о том, как молоды мы были! 26.9.2002» — в день моего 60-летия.
Но я вспомнил, что рассказывал о «mzungu» нам в ИВЯ на уроках «разговорного суахили» Хассан, племянник последнего занзибарского султана, — «носитель» языка. По его словам, «mzungu» называли не всякого белого (к тому же, в суахили есть «mweupe» — букв. «белый человек»). «Mzungu» относилось, прежде всего, к тем «белым», которые когда-то колонизировали Восточную Африку, фактически и султанат Занзибар, бывший британским протекторатом с конца XIX века и вплоть до декабря 1963 года, когда он обрел политическую независимость. И в этом значении, с явным негативным оттенком, это слово укоренилось в сознании африканцев. Не сомневаюсь: меня назвали «mzungu» именно в этом смысле.
Позволю себе высказать еще одно соображение об этимологии этого слова.
Не является ли «mzungu» производным от глагола «zunguka»? (выделено мною. — О.Т.). В переводе одно из значений — «ходить вокруг», «обходить». А чем занимались в Африке европейцы-первопроходцы? Они «ходили» и «обходили», а за ними колонизаторы делали то же самое (!), завладевая той или иной территорией. На мой взгляд, такое происхождение слова «мзунгу» имеет право на существование.
Добавлю. Как говорила мне Нелли Владимировна. Громова, в Танзании есть такая легенда, или притча: когда-то, впервые увидев белого человека, местные жители воскликнули: «Mzungu!» («чудо», одно из значений этого слова. — О.Т.), а потом белых стало так много, что они стали говорить: «Walituzunguka!» («Они нас окружили!»).
* * *
…К несостоявшейся «прогулке». Ход моих мыслей был примерно такой: «Что же получается? Мы — русские, советские, никаких колоний не имели, приехали помогать, и меня/нас называют „белыми“, как когда-то колонизаторов?!»
Об услышанном я доложил Григорьеву, поделился с ним и своими догадками. Но не сразу — китайцам с занзибарцами хотел показать, что не расслышал сказанное в мой адрес, поэтому лишь какое-то время спустя направился к своему начальнику. Григорьев, несколько озадаченный, переспросил: «Выходит, нас здесь „русскими“ или „советскими“ не называют, а называют „белыми“?! Нехорошо!» Наверняка начальник нашей группы сообщил об этом «наверх», в Москву.
Не всё так просто складывалось для нас на революционном острове…
* * *
17 февраля. — …Закончилось пребывание наших делегаций. Это означало работу, работу и еще раз работу. Но с каким удовольствием и старанием я делал её! Собственными глазами видел, как устанавливались дружеские отношения, как росло взаимопонимание, налаживались нужные контакты…
Завтра выступлю на суахили с докладом для солдат в Чуквани о 48-й годовщине Сов. Армии.
Вчера вечером — прием у президента Каруме, частный, неофициальный, длился 40 минут, были Тулаев и я. Беседовали дружески, вообще к нам Каруме хорошо относится.
А поутру ездил с Димой в северный район страны (Мкокотони), на митинг. Жители собрались как на праздник — нарядно одетые, веселые и оживленные. Нас, представленных как «Ujumbe kutoka Urusi» («Делегация из России»), встретили, я бы сказал, очень одобрительно — долгим рукоплесканием вперемежку с криками, точнее, «улюлюканьем» (что трудно передать словами — это надо слышать!) голосистых занзибарок. Что на Тулаева произвело большое впечатление.
Выступавших было немного. «Ораторами» оказались местные партийные и молодежные активисты, среди них — бойкая девушка. В нашу честь устроили «прием»: под навесом у домика партийного отделения на широченной подстилке — гора (без преувеличения!), плова. На земле вокруг нее — циновки, на которые и усаживаются гости. Все ели руками, я тоже. Плов понравился — вкусный, аппетитный. Настоящий!
Любопытно, что перед трапезой и после неё «обслуга», вооружившись кувшинами с водой, полотенцами и тазиками, обходила гостей, предлагая умыть руки.
23 февраля. (На приеме в нашем консульстве по случаю Дня Советской Армии) — …Я находился у стола, где расположились члены правительства. Володя сидел рядом с президентом. Консул Карлов выступил с речью, и Володя переводил на суахили; потом — Каруме, и Володя переводил на русский. Когда Каруме выходил из-за стола для выступления, он чуть ли не обнял Вовку, мол, «пойдем, переведёшь». Конечно, мой друг переводил без сучка и задоринки…
8 марта. — …Сегодня, воспользовавшись свободным днем (все-таки советский праздник), отправились в архив поработать. Взялся за ознакомление с подшивкой «Kweupe» за 1964 год, а Вова — с подшивками других газет. Для меня «Kweupe» интересна тем, что первый ее номер вышел через 5 дней после революции, она правительственная, и в ней неплохая информация о событиях первого года после революции. Вроде бы договорился, что с субботы до понедельника буду брать подшивку домой…
22 марта. — …По субботам и воскресеньям обычно сижу дома и обрабатываю «Kweupe». Материал уникальный, в других газетах — и местных, и зарубежных — информации о Занзибаре — кот наплакал. Пока лишь собираю материал, а обрабатывать буду дома. Очевидно, это и будет темой моей дипломной работы (так оно и вышло).
…Дома печатал, а не писал от руки. Вова «раскопал» где-то машинку с очень красивым шрифтом, одно удовольствие печатать…
31 марта. — …Вчера в 4 часа дня поехал с вице-консулом Чиркиным на самый южный конец острова — в местечко Макундучи, где устроили просмотр нашего фильма «Крушение эмирата» и двух киножурналов на суахили. В поселке электричества нет, и показывали фильм с кинопередвижки.
Народу собралось уйма. Дети устроились прямо перед экраном — белым полотнищем, привязанным к пальмам, а взрослые сзади. Перед началом рассказал вкратце о содержании картины, и когда упомянул об эмире и революции, свергнувшей его, раздались бурные аплодисменты. Вернулись домой поздно, в 11-м часу…
Не только о суахили
8 июля 1965 г. — …Вчера в стране был национальный праздник — Saba Saba, на суахили это «Семь Семь», т.е. 7-е июля — 11-я годовщина образования партии TANU — Африканского национального союза Танганьики — в континентальной части страны.
Вечером гуляли с Овчаном по городу и наблюдали национальные пляски. Хотя европейская цивилизация и танцы берут свое, однако местные обычаи, традиции и пляски все еще сильны. То, что европейская музыка и танцы становятся здесь все более популярными, можно было убедиться, когда в «Пипл’c клубе» устраивается вечер танцев под джаз-оркестр. Здесь уже не встретишь национальных одежд.
10 июля. — …Нас пригласили на мусульманский праздник. Огромное скопище народу (если это вообще применительно к крохотному острову Занзибар) собралось на Mnazi Mmoja. Всё поле окружено неоновыми лампами. В центре — две трибунки с площадкой для почетных гостей. Мы тоже могли бы быть среди них, но решили пойти на это торжество с занзибарцами, которые учились и работали в Москве, и Вова их знает.
Вся площадь сидит и слушает, как имамы читают (я бы сказал, поют, и очень неплохо) суры из Корана, так или иначе связанные с памятью пророка Мухаммеда. Даже школьники, и те пели на арабском языке. Через какое-то время разрешалось уходить, но почти все оставались на своих местах. Мы сидели на земле, нас изредка окрапывали благовонной водой — таков обычай.
Торжество длилось больше часа. Мусульманские обычаи сохраняются — женщины сидят с одной стороны, а мужчины — с другой. Но не строго: мы с Володей сидели рядом с женой и сестрой нашего знакомого.
13 июля. — …Побывали в гостях у «наших» занзибарцев. Мое имя — Олег и Алик — переиначили, и я стал Али — им легче так произносить. Познакомились с родителями. Семья весьма образованная: муж — сейчас учитель школы — и его жена учились и работали в Москве, брат мужа 5 лет учился в Египте, сестра жены учится в 10-м классе (всего 12 классов) частной школы. У мужа машина. Дом их одноэтажный, мебель европейская. Вообще в здешних магазинах мебель местного производства, но вполне современная.
23 августа. — …C Володей впервые увидели занзибарку, немолодую, у которой одна нога — двумя ладонями не обхватишь! Другая — «потоньше», но тоже очень распухшая. Шла с боку на бок, и медленно-медленно, трудно ей было.
Вечером рассказали об этом нашему врачу — майору медслубжбы. «Это — слоновая болезнь, распространена в тропиках. Её „большую“ ногу видели? Она как у слона, очень похоже». А потом добавил: «В городе и мужчины попадаются. Но вообще таких людей немного». Мы не стали спрашивать, как бороться с этой чудной болезнью, излечима ли она. И вдруг майор спросил: «У вас сейчас какая обувь. Ботинки? Хорошо, но когда наденете сандалии на босу ногу, обходите лужицы, там всякой заразы полно».
…Побывали на противоположной — западной — стороне острова. По дороге повстречали мальчишек, которые поймали какого-то зверька. Остановились, попытались поиграть с ним. А ребята — начеку, опередили меня и подсунули ветку дерева. Зверек прыгнул, схватил ее зубами, «чик» — и из одной ветки получилось две. Оказывается, зверек этот хищный, лакомится курами (а сам-то он меньше нашей белки) и зовут его «чече» (cheche). И тут вспомнилась мне морская рыба «буджю» (buju), у которой вместо зубов — два больших резца: перекусят и палку! А кроме змей есть здесь еще «ящер» — варан «гуругуру» (guruguru). Страшное животное: укусит — человек теряет сознание и, не приходя в него, умирает. Противоядия пока что нет…
6 сентября. — …Сегодня нам снова «повезло». Видели «прокаженных», о которых предупреждал нас тот самый майор, но говорил, что «лепра — так он называл эту болезнь — не заразная». Мы это уже знали, слышали на одной из лекций в ИВЯ. Но «слышать» и «видеть» все-таки вещи разные.
* * *
Это были пожилые мужчина и женщина, одетые в хлам, попрошайничали на углу Gizenga Street. Названа так в честь Антуана Гизенги, соратника Патриса Лумумбы, убитого в Конго в 1961 году, был вице-премьером в его первом правительстве. Улица в городе не центральная, и не улица даже, а улочка, где и двум велосипедистам не разъехаться, не говоря о мопедах. Но самая «торговая»: вдоль нее нескончаемые магазины и магазинчики. Хозяева больших «торговых точек» с большим выбором импортных товаров — индийцы, а тех, что поменьше — африканцы. Владельцев-арабов совсем немного, и все они люди очень почтенного возраста. С утра до вечера здесь полно покупателей.
Кто-то подавал этим нищим, они благодарно кивали, ждали нового подаяния. Заметил, что прохожие не выказывали никакой брезгливости к ним. Понаблюдав чуть-чуть, я тоже подал им пару монет — прямо в ладони, не притрагиваясь к ним (на всякий случай).
…Перекину «мостик» в конец 1970-х. В Дар-эс-Саламе мы с Оксаной тоже встречали «лепрозников», правда, не часто. Они тоже нищенствовали. Как и обычные попрошайки, многие — «бомжи» (это слово появилось в «нашем» лексиконе лет через десять). Они ночевали на тротуарах, где придется, улегшись на картонки — печальное зрелище. Нередко рядом с прокаженными, поблизости от них, видел европеек — «сестер милосердия», средних лет, благообразных, из лепрозория, одного из них. Был ли тогда, в середине 60-х, лепрозорий на Занзибаре? Не спрашивал. В Танзании больных слоновой болезнью я не видел, альбиносы встречались…
* * *
10 сентября 1965 г. — …Есть в городе «Африка Хаус» (до революции — английский клуб). И тут — бильярд! После работы придешь сюда, сыграешь партию, и уже отдохнул. А потом — это хорошее место для «свиданий» — деловых встреч. Здесь же и дребезжащее пианино. Изредка играю, и даже собрал недавно нескольких любопытных: как же, русский, совсем молодой, — и играет! И еще — есть «хитрая машина»: опустишь в щелочку монету в 50 центов — играет одна пластинка, опустишь шиллинг — сразу три подряд…
«Африка Хаус»…
Он находился неподалеку, через пару переулков от дома, где мы жили.
Перед входом в клуб — две миниатюрные латунные пушки на деревянных лафетах. Парадная массивная двустворчатая дверь, украшенная медными «шипами» и узорами в арабском стиле, выполненными искусными резчиками по дереву. («Занзибарские двери» — воистину произведения искусства изделий из дерева! Не поленись, читатель, загляни в Интернет.)
После ухода англичан внутреннее убранство «Африка Хаус» («колониальное», как можно было догадаться) сохранилось в неприкосновенности. Что мне запомнилось?
В фойе — чучело леопарда, кое-где на стенах пробковые шлемы — типичный головной убор британских путешественников (и колонизаторов тоже), и охотничьи трофеи: головы буффало, антилоп «Томпсона» и гну, бородавочника, водяного козла; кожаные кресла, некоторые покрыты светлыми чехлами; неяркие светильники, прикрепленные к потолку медными кручеными цепочками. Внутри — на нижнем этаже — прохладный полумрак…
В этой «Африке», как, называли клуб наши офицеры, на первом этаже располагались гостиничные номера, а на втором с просторной открытой верандой — ресторан и бар. Обилие разнообразных напитков поражало — джин и виски разных марок, какие-то ликеры, вина. В жаре, которая на Занзибаре не отпускала ни вечером, ни по ночам, «крепкое» не принимали даже офицеры, ну а мы с Володей, молодые парни, и подавно.
Правда, однажды впервые попробовал джин. Мои старшие товарищи, офицеры, подсказали — со льдом, тоником и ломтиком лайма (лимоны на Занзибаре не росли). Через какое-то время почувствовал: голова светлая, а ноги — ватные! Пиво предпочитали голландское «Amstel» — в бутылках, пол-литровых или 0,7 литра, не помню, и стоило оно недорого (для нас, по крайней мере) — 2 или 3 шиллинга. Пробовали и местное пиво «pombe». По вкусу это хмельная брага, мутная, желтоватая: то ли из бананов, то ли из какого другого фрукта (обратившись к словарю, выяснил — из бананов и сорго).
Здесь же, на втором этаже, и бильярдный стол, но не такой, на котором играл я в парке Горького или в доме отдыха МГУ в Красновидово. Он и ýже, и короче, и лузы у него не «строгие», а чуть пошире. Почти новенький, сукно в прекрасном состоянии. И предназначен для «Снукера», игры «английского» происхождения. Не бесплатный: опустишь в настенный счетчик монетку в 50 центов, и примерно на полчаса включаются потолочный вентилятор (работал бесшумно) и три лампы над игровым полем.
Наши военспецы предпочитали привычные «американку» или «русскую пирамиду». Мне же «снукер», о котором раньше и не слышал, показался не менее интересным. Сначала у меня мало что получалось, у Володи тоже, но постепенно дело пошло. Научили играть в него посетители «Африки» — занзибарцы (из «зажиточных») и иностранцы; китайцев среди них не было.
…и «Король снукера на Занзибаре»
Однажды удалось выиграть партию у завсегдатая «Африки Хаус», которому до этого всегда проигрывал, и не только я и наши офицеры, но и многие другие посетители.
Он — занзибарец, индиец или пакистанец, в общем, «лицо азиатского происхождения» (имя забыл). Уже немолодой, неряшливо причесанный, в потёртой одежде. И всегда какой-то «взвинченный», нервный, без умолку болтавший; может быть, жевал какую-то «травку», глаза с желтизной…
Местные называли его «Королем снукера на Занзибаре». Свидетельствую: проигрывал он крайне редко, и никогда — когда был трезв! Когда приходил «в форме», никто его не обыграет! Очень деловито и скоро «разбирался» со всеми шарами и своими «соперниками». И проиграл он мне в состоянии некоторого подпития, что было очевидно. Требовал реванша — я наотрез отказался: хотел оставить как сувенир, на память, этот выигрыш у «короля». О чем прямо и сказал ему (Володя был свидетелем моей «победы»). После этого он долго со мной не разговаривал…
* * *
16 сентября. — …Вчера был сумасшедший день. Всё началась с того, что президента Танзании Джулиуса Ньерере ждали в течение добрых шести часов. И это как раз в то время, когда солнце в зените, жарко страшно.
…Прошелся по улицам — они были неузнаваемо пустынны. Все жители словно облепили маршрут, по которому должен был проезжать президент. Он же прилетел к вечеру, когда солнце стремительно пытается спрятаться…
Ньерере показался мне приветливым и симпатичным, жители встречали его восторженно. Кортеж машин оказался на удивление длинным. Было в нем и два грузовика, «пассажиры» которых играли на народных инструментах и пели — и это еще больше взбудоражило народ. Был среди них один танцор, одетый в какую-то шкуру, наверное, в собачью. Танцевал самозабвенно.
На всем пути следования президента висели флажки и флаги Танзании. На Mnazi Mmoja веселыми огоньками играла иллюминация, всюду виднелись транспаранты с патриотическими лозунгами.
После короткого отдыха состоялся прием в «Народном клубе» (People’s Club).Поздним вечером в муниципалитете в честь президента был устроен концерт. Первое, что меня поразило, — это оркестр! Да, да! На сцене — девять скрипок, контрабас, арабский инструмент — годун (типа наших гуслей), два аккордеона и ударник. Рядом с ним — хор. Оркестр играл очень плохо, и фальшиво, нередко «не в такт», и звук какой-то не такой. Да и хор — так себе. Но они старались, это было заметно. Много солистов-певцов никудышных. Но была одна девушка — и симпатичная, и голосок приятный, очень музыкальная. Слушать было просто приятно, а зрители встречали и провожали ее восторженно.
И ещё — комедийная постановка (!). Тоже откровение для меня. Почти все играли просто здорово. Сценка называется «Навязчивость квартиросъемщиков», построена исключительно на местном юморе, иногда трудно переводимом. Зрители хохотали почти беспрерывно…
18 октября. — …С каждым днем становится все влажнее. И это самая неприятная штука. К жаре можно привыкнуть, но вот к тому, что у тебя везде и всё «течёт», всё какое-то липкое — привыкнуть вряд ли удастся. И часто моемся, и душ принимаем — помогает часа на 2—3, не больше…
…По радио Танзании слышал наше «Полюшко-поле», обработанное под твист. Здорово, здорово, здорово, и даже очень! А по радио Занзибара передавали нашу революционную песню.
12 ноября. — …Работает здесь в одном из колледжей наш преподаватель — по линии ЮНЕСКО. На такси — всего 5 миль. Там показывали кино — «Крушение эмирата» на суахили. Я немного пообщался, познакомился. Ребята хорошие, приветливые.
Что такое педагогический колледж? Это интернат, типа нашего. Живут и учатся бесплатно. Мальчики живут в здании колледжа, а девчонки — в городе. Учатся 2 года.
Мы приехали к самому ужину. И пока ребята ужинали, я поиграл в пинг-понг… Наконец, встретился (как узнал позже) с чемпионом колледжа. Первую партию продул, вторую довольно легко выиграл. И тут я так взмок, скинул рубашку и продолжал сражаться. Поначалу проигрывал, все-таки устал. Ну, а под конец сократил разрыв и выиграл — 2:1 в мою пользу. Ребята были в восторге.
Потом все вместе отправились смотреть еще один фильм «Коммунист», правда, на английском. Конечно, переводил, чтобы поняли основную идею…
3 декабря. — …Одна из примечательностей «Каменного города» (Stone town) — это разносчики кофе на улочках и в переулках. Их немного, все они — полуарабы, молодые ребята, лет 20—25. Одеты неодинаково, но похожие друг на друга. Куртка-распашонка с разнообразной и разноцветной вышивкой, опоясаны белой тканью, на голове — неизменная белая же «тюбетейка» с арабской вязью. На лямке за спиной у них латунный «самоварчик» в арабском стиле с длинным носиком и краником, на боку — карман, в нем — стопочка фарфоровых чашечек, держа две из них в ладони, постукивают ими, как кастаньетами, и покрикивают — «Kahawa, kahawa! Unataka kahawa?» (Кофе, кофе! Кому кофе?» А в другой руке — кувшин с водой.
Спрашиваю — «Kahawa moto?» («Кофе горячий?»). Тот, с неизменной улыбкой на лице, радостно отвечает: «Да, да. Конечно!» Быстро вытаскивает из «кармана» чашечку, ополаскивает ее водой из кувшина, также проворно подносит к кранику — и порция готова. Кофе крепкий, ароматный…
«Stone town», и русский самовар во дворце султана
«Каменный город» — район в городе Занзибар, занесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подробнее о нем можно узнать в Интернете. Здесь же расскажу, чем нам с Володей он запомнился, иными словами, что мы видели и где побывали «в свободное от работы время».
Это, прежде всего, Beit el Ajaib (араб. — Дом чудес) — самое красивое архитектурное сооружение на Занзибаре, воздвигнутое в 1883 году по воле султана Сейида Баргаша. И высотное, с изящными колоннами, уходящими ввысь, по центру возвышается башня с часами — миниатюрная копия «Биг Бена» в Лондоне. При нас часы работали.
Дом был окружен легкой оградой из кованого железа, окрашенной в черный цвет. Парадная деревянная дверь выгравирована изречениями из Корана, ступени у входа из белого с серыми прожилками мрамора. Как и султанский дворец, имел электрическое освещение, и в нем уже тогда, в конце XIX века, был лифт (!). В этом просторном «Доме чудес» занзибарские султаны принимали иностранных гостей; после революции 1964 года здесь размещались офисы некоторых правительственных учреждений.
Стоя лицом к «Дому чудес», справа от него — Арабский форт, построенный арабами в начале XVIII века на месте, где находилась португальская церковь (первые португальцы, ведомые Васко да Гама, появились на островах в 1499 году; к концу XVII века были выдворены арабами). После революции он получил новое название — «Ngome Kongwe» (суах. — «Старая крепость») и стал местом проведения государственных торжеств (на одном из которых мы с Володей побывали), а также приемов дипломатических миссий.
Султанский дворец находится недалеко слева от «Дома чудес». В январские события 1964 года он не пострадал. Это, собственно, не дворец, а большой трехэтажный особняк в арабском стиле, с широкой террасой вдоль фасада, укрываемый кокосовыми и «бутылочными» пальмами за высоким ажурным белокаменным забором.
Побывал там один, Володя был занят на работе. Дворец — на ремонте, здесь хотели создать музей. Детали интерьера не помню, как и экспонаты. К тому же, многие помещения были закрыты для осмотра. Но в одном из залов поразил меня огромный, литров на 15—20 серебристый самовар!
Он стоял в нише в стене, и перед ним — табличка на суахили: «Samovari»! Надо же, подумал я, этот язык вобрал в себя русское слово, добавив в окончании лишь одну букву «i», и звучит оно мягко, как все суахилийские слова, и музыкально, как и в целом суахилийская речь. По крайней мере, на Занзибаре. В континентальной части Танзании, в меньшей степени, а в Кении — в большей, суахилийское произношение гораздо жестче и не столь мелодичное.

У самовара в султанском дворце. Справа налево: сын Олег и Андрюша,
его дед Олег. Занзибар, апрель 2017 г.
Спросить о происхождении нашего русского самовара и как он попал к султану — было не у кого: музейных работников только предстояло найти. Сопровождавший меня занзибарец, молодой офицер, этого тоже не знал. Оставалось только гадать да предполагать: неужели это подарок той самой русской графини? О которой говорил мне Юра Устименко: в здании кинотеатра «Эмпайер», на верхнем третьем этаже, жила русская графиня, невесть, когда попавшая на Занзибар. Встретиться с ней мне не довелось…
К моему глубокому сожалению, всё, рассказанное выше о «Доме чудес» и султанском дворце, за полвека кануло в Лету. Побывав на Занзибаре в 2017 году, увидел обветшавшими оба этих сооружения, особенно «Дом чудес» — стоит бесхозным, вид — жалкий, часы — не работают. А в султанском дворце, ставшим музеем, очень хилым, однако, я не обнаружил того самого самовара. Спросив о нем гида, услышал: «Сейчас, сейчас покажу…». И показал — на третьем этаже (можно было бы подняться и на лифте, но со времен сбежавшего султана он так и не заработал) в комнате-спальне стоит на столике меж двух кроватей его «копия», литров на 5. «Мой» самовар, большой, исчез, и, наверное, давно…
* * *
16 декабря. — Купил на свадебное платье (видно, предусмотрительным я был!) гипюр: 4 ярда — больше 3,5 метров (белый, есть и др. цвета и с разными рисунками). Он здесь дешевый…
19 декабря. — …Сегодня ночью не спал совсем: решил посмотреть, как выглядит «африканский рассвет». Ночью вообще ни зги не видно, только звезды сверкают в черном небе. И впервые увидел Большую медведицу в перевернутом виде — ведь Занзибар ниже экватора. Рассвет наступает в 5.30 и за 15 минут становится светло, как днем. Но что самое интересное — сначала увидел луну, вернее, серп, потом постепенно начали розоветь облака, а краски были самые разные, вплоть до серого. Ночью так же душно, как и днем, и комары одолевают. К утру чуть-чуть свежеет, да и то ненадолго — солнце сразу вступает в свои права. Спать лег в 6 утра…
9 февраля 1966 г. — …Вчера, после работы, довелось повеселиться и отдохнуть душой. Мы смотрели… футбол! Сначала играли местные команды. Играли неплохо, более-менее технично, и голы были! А потом… Потом было то, что, пожалуй, нигде больше и не увидишь! Играли министры (госмужи) и члены Революционного Совета (высший орган власти, всего — 32 человека) (тоже мужи) — друг против друга. Наверное, когда-то они действительно могли играть. Но сейчас у них иногда получалось так, что необыкновенно веселило публику.
Удивительно, но и у нас в стране «госмужи», в том числе и депутаты Госдумы, начали играть в такой футбол чуть ли не сразу после известных событий начала 1990-х, и «играют» до сих пор. Более того, эти «игры» раз-другой транслируются в новостях по федеральным телеканалам.
31 марта. — …В Макундучи живет около 5 тысяч человек. Место красивое… Разговорился со школьниками. Они показали школу для девочек, а потом один из них повел нас показать свой дом, и мы оказались среди африканских хижин.
Все они глиняные. Основа их — это прутья и тонкие стволы деревьев. Получается что-то похожее на каркас. Между прутьев закладываются глиняные «кирпичи», очень плотно. На крыше — плотно застеленные пальмовые ветви, настолько плотно, что потоки дождя скатываются с них, «как с гуся вода».
Дверей вроде бы нет, и в то же время они есть: плетёные опять же из пальмовых ветвей створки. Накрепко привязываются к дверному проему, и создается такое впечатление, будто они на пружинах.
Комнатушки в таких хижинах крошечные, однако, две кровати поставить можно. Окон как таковых нет, просто одно или два отверстия на одной стене, выше головы. Пол — та же земля, что и рядом с хижиной.
Там, где стоят хижины, — земля выбита, ни одной травинки, и она отчаянно красная — краснозём, а вокруг хижинок — буйная растительность.
Картинка очень красивая — «карточные домики», малыши-несмышлёныши бегают вокруг, мамаши сидят, каждая у своего дома — кто чем занимается… Есть здесь и футбольное поле. Мы видели, как ребята играли, а болельщики — как болельщики во всем мире, разве только трибун нет.
Поговорили и с учителями. Они знают английский, живут в каменных современных домах, но тоже очень скромно. Уже заметил, что как в городе, так и в деревне в сколько-нибудь приличном доме обязательно есть «приёмная». Это — самая светлая комната, два современных кресла, диванчик, столик миниатюрный, разные народные безделушки, фотографии родных и портреты членов правительства, транзистор небольшой, керосиновая лампа. На полу либо красивая циновка (обязательно разноцветная), либо какой-нибудь простенький коврик.
…Из коридора то и дело высовываются любопытные члены семейства — малыши. Очень стеснительные, наверное, впервые увидели «белого». А если вдруг спросишь у них что-нибудь на суахили, тут же прячутся…
Мангапвани, Бубубу
На Занзибаре я побывал не только в Макундучи, на юге острова, или в Мкокотони, на севере.
В августе 1965 года к нам приехали на побывку проходившие стажировку в Дар-эс-Саламском университете Нина Григорьевна Фёдорова — преподаватель суахили в Университете дружбы народов им. Патриса Лумумбы, а до этого работала в МГИМО (скончалась в 2017 году); молодой ученый-африканист из Ленинграда Андрей Жуков (ныне покойный). И… наша с Володей сокурсница Ира Федосеева! (кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института языкознания РАН, многие годы заведовала аспирантурой). По такому случаю начальник Григорьев предоставил нам два «выходных», чтобы познакомить гостей с достопримечательностями, как мы тогда говорили, «революционного Занзибара».

Справа налево: Володя Овчинников, Ира Федосеева, Таня Устименко
(жена корр. ТАСС Юры Устименко), автор. г. Занзибар, август 1965 г.
Одна поездка состоялась в местечко на западной стороне острова, в 25 километрах к северу от города. Это — Mangapwani (суах. — Арабский берег). В общем-то, это небольшой поселок, а рядом с ним самый обычный песчаный пляж, каких множество на побережье острова. Но здесь, в скалистом берегу, сохранилась небольшая пещера, в которой содержались перед отправкой в другие страны рабы, доставляемые сюда с континента.
Из истории известно, что в течение веков Занзибар был крупным центром и перевалочным пунктом работорговли на восточном побережье Африки. Первыми торговцами рабами были португальцы, а затем, в основном, арабы, перебравшиеся сюда с Аравийского полуострова, из султаната Оман. Отсюда и происходит название «mаnga» (суах., ист. — Аравия, а также — арабы) и «pwani» — «берег».
Мы зашли в пещеру. В полумраке увидели вбитый вдоль стены толстый металлический прут, а на нем — что осталось от цепей с разбитыми кандалами. Тогда это место никем не охранялось, у новой власти не было планов создания там какого-либо музейного объекта.
По пути в Mangapwani проезжали деревню, тоже на побережье, с занимательным названием — Bububu. Что оно означает? Трудно сказать, тогда не спрашивали. Лишь позднее, когда вплотную начал изучать историю Занзибара, и узнав некоторые ее «страницы», пришел к некоей версии, которой и хочу поделиться.
Сюда, к этому местечку, по соседству с которым находилась одна из загородных султанских резиденций, в 1905 году из столицы было проложено одноколейное железнодорожное полотно, протяженностью всего-то километров 15. По нему «курсировал» паровоз с тремя вагонами. Была даже создана «Занзибарская железнодорожная компания» с головным офисом на Бивер-стрит в Нью-Йорке. И это на Занзибаре, крохотном острове! Но такова была, наверное, прихоть султана.
В настенном календаре «2004. Moments in Zanzibar History», из которого и почерпнул эту информацию, есть фотоснимки тех лет. На одном из них — поезд на железнодорожном мосту, очень коротком — едва ли больше 10 метров. На другом архивном снимке: паровоз с тремя вагонами стоит на полустанке, рядом с вагонами — несколько пассажиров с провожающими или встречающими их, а на заднем плане, совсем близко от состава, — пальмы на побережье океана.
К этому хотел бы добавить, что в 1880-х годах султанский дворец уже освещался электричеством, а в июле 1906 года электрические фонари появились и на улочках — город Занзибар стал первым в Восточной Африке, получившим уличное освещение. Как видно, Занзибарский султанат вполне шел в ногу со временем.
Полагаю, что звуки «пыхтящего» паровоза и подсказали сообразительным занзибарцам название конечной точки этого уникального маршрута — Бубубу (как тут не вспомнить «происхождение» упоминавшегося выше слова «taptapu»! ).
Следы этой «трассы» вряд ли сохранились — тропическая флора поглотила ее со временем…
Из писем родителям
(январь — февраль 1966)
«…Воды холодной, со льдом из холодильника, пьем много — в день приблизительно две полуторалитровые бутылки. Без этого нельзя…
Мое любимое лакомство — это крепкий-крепкий и сладкий чай с куском хлеба с маслом и джемом. Джемы австралийские и на редкость вкусные!
В смысле питания здесь не пропадешь. И чего только нет! Можно сказать, из всех стран мира. Но все же с русским вкусом сравнения и быть не может. Нет здесь селедки, и все тут! Нет копченой колбаски. Нету! А черного хлеба и подавно! Маринованные огурцы не те, вареная колбаса обязательно с перцем — посмотришь, и отвернешься. Бекон — еще туда-сюда. Ветчина какая-то «недоделанная», и т. д. и т. п.
Для меня самый вкусный фрукт — это манго, плоды мангового дерева. Они имеют тонкий, нежный запах, необыкновенно вкусны и сладкие. Дерево старого манго впечатляет. Ствол толстый, в два-три обхвата двумя руками, и крона — необъятная! Под одним таким деревом можно усадить до 75 человек! Сам был свидетелем. Встанешь под него — любой тропический ливень не страшен.
Цитрусовых здесь много, и они очень дешевы. В разгар лета на 1 шиллинг (1/8 нашего рубля, т.е. 12 копеек) можно купить корзину мандаринов. Для местных шиллинг — это сумма, т.к. средний заработок, например учителя, — 140—160 шиллингов в месяц, а продукты, особенно в частных магазинах, очень дороги для них.
Кокосовые орехи — тоже моя слабость. Их сок (суах. — madafu, сок ореха молочной спелости) пью всегда, если прохожу мимо продавцов орехов. Он действительно освежает! И еще как! Приятный, прохладный, чуть-чуть сладковатый. Никакая вода, будь она холодным лимонадом или просто вода со льдом, сравниться с ним не может. При любой жаре и духоте достаточно одного ореха, чтобы жажду как рукой сняло. И главное — с медицинской точки зрения сок весьма полезен. Африканцы пьют его в больших количествах, а потому, говорят, и детей в семье у них много…
…25 декабря начался месяц Рамадан, пищу можно принимать только после захода солнца. В такой жаре это моментально сказывается на здешних верующих — они ходят днем, как сонные мухи. Зато вечером их не узнать. На набережной народу в это время — тьма-тьмущая. А если учесть, что на днях здесь открылся ресторан с поэтическим названием — «Радость у моря» (Furaha ya baharini), можно представить, что здесь творится. На фасаде здания ресторана — единственная в городе электрическая реклама. В самом городе электричества много: на столбах лампы дневного света, указатели поворотов — все достаточно современно. Но стоит чуть-чуть отъехать от города, и попадаешь словно в «вечную темноту». Только изредка фары автомобилей прорезывают её, словно какие-то волшебные лучи, да среди пальм нет-нет, да и мелькнет крохотный огонек коптилки…
На набережной разбит сад — «Народный сад» (Bustani ya wananchi), где обычно и днем и по вечерам отдыхают только индусы (ошибся я здесь, следует читать — «индийцы»). Понаставлено великое множество всяких лотков, магазинчиков, передвижек, туда-сюда снуют продавцы сладостей, фруктовых напитков, фруктов… Место очень оживленное.
…В дневное время ехать по городу — одно удовольствие. Жизнь течет размеренно, и машины нехотя бегут. Все шоферы — люди чрезвычайно вежливые.
Вообще, вежливость здесь бросается в глаза и проявляется буквально во всем. Если даже встретились случайно незнакомые люди, они будут приветствовать друг друга добрых две-три минуты. На языке суахили таких приветствий более чем достаточно. Еженедельно мы с Володей проводим занятия по суахили для наших военспецов, так однажды я исписал этими «приветствиями» целиком большую классную доску, и то места не хватило. По-русски многое звучит странно. Вот пример: на «До свидания» или «Счастливо» нужно отвечать «Спасибо» — «Ahsante». И это слово здесь, пожалуй, одно из самых любимых.
Велосипед — это личные «автомобили». Их просто много. И ухаживают за ними даже лучше, чем за автомобилями. Они всегда чистые, яркие, блестящие. А когда молодой человек везет девушку, да еще в национальной «буибуи» (buibui) — черной атласной накидке-покрывале (в которой европейке не побывать и одной минуты даже вечером — моментально мокрым становишься) — зрелище необыкновенное! Какое достоинство написано на его лице! Поневоле обращаешь внимание на сей транспорт…
Есть здесь и общественный транспорт — автобусы. Автобусов мало, и появились они как «организованный транспорт» только после революции, т.е. два года назад. Их основное назначение — связывать жителей деревень с городом. Эти автобусы на дороге — короли. Довольно редко они позволяют обогнать себя. При их скорости до 50 миль в час (это 80 километров), да при том, что дороги узкие, хотя и очень добротные, нужно иметь отвагу, чтобы решиться на обгон.
В страдную пору — в период уборки урожая гвоздики — они перевозят на себе столько груза, что просто диву даешься — получается весьма солидный двухэтажный автобус. Перевозки на них не очень дорогие, и крестьяне охотно пользуются ими.
Работу на общественных началах здесь нужно понимать несколько по-иному, в сравнении с нашим понятием. В условиях Занзибара «работа на общественных началах» (суах. — kazi ya kujitolea) является выгодной для государства и удобной для населения. Выгодной для государства потому, что у правительства не хватает еще средств, чтобы полностью финансировать то или иное строительство, и оно использует население на таких работах, его энтузиазм. Будь то строительство деревенской школы или деревенской больницы, точнее — медпункта; будь то прокладка или ремонт дороги. Помимо постоянно работающих, к ним присоединяются и горожане, и крестьяне. А если в деревне строится школа — ее строят все жители деревни, от мала до велика. Правительство направляет только необходимые строительные материалы и руководителя работ.
После революции прошло 2 года. Срок очень малый, чтобы можно было говорить о резком повышении уровня жизни местного населения…».
Немного о кино на Занзибаре
14 июля 1965 г. — …Всего в городе три кинотеатра — «Эмпайер», «Маджестик» и «Одеон», и, как правило, два сеанса — в 6.30 и 9 часов вечера, бывают и утром, и днем — но только в выходные. Перед началом фильма звучит гимн страны, а на экране появляется портрет президента Каруме или национальный флаг. Затем, если фильм двухсерийный, демонстрируется реклама — отрывки из других фильмов, которые вот-вот выйдут, — всего на 10—15 минут. Во время показа фильма в самом интересном месте устраивается перерыв — можно отдохнуть, попить воды в буфете, курить разрешается. По окончании сеанса опять звучит гимн, все встают. Вот такие обычаи…
…Позавчера с Вовой смотрели фильм об Элвисе Пресли — симпатичный малый и хорошо поет. Для нас такие фильмы — это тоже один из способов усвоения английского языка.
3 августа. — …По понедельникам идут только индийские фильмы. Решили дерзнуть, и пошли смотреть «Геркулес». И до этого у меня было определенное мнение об их фильмах. Теперь я лишний раз в этом убедился. Фильм-сказка, но очень примитивная и наивная, много небылиц и варварской силы. Приблизительно так: «Враг хитер, в нем звериная злоба, смотри в оба». То бишь, кто-то против кого-то строит какие-то козни. А Геркулес — друг угнетенных. Весь фильм: козни, борьба-драка и изредка индийские национальные танцы и песни. И все это тянется 3 часа.
Правда, завтра идет фильм «про шпиёнов». А они очень интересные. Так всё закручено, завинчено, что любо-дорого смотреть, главное — много стреляют. Такие наблюдения: когда «герой» удачлив — в зале крики, возгласы одобрения и даже «чепчики» вверх бросают — от удовольствия, наверное. То же самое повторяется, когда «герой» только появляется на экране или же он возникает вновь в самые «ответственные» моменты.
Часто ходим на различные «исторические» фильмы, типа «Робин Гуд», «Пираты…» и «Гладиаторы» (грандиозное, именно так, впечатление на меня произвела киноэпопея «Десять заповедей» (Ten Commandments) — библейская история про Моисея). Эта кинопродукция, главным образом, англичан и итальянцев с французами, но дублированная англичанами. Вот потому, что они дублированы англичанами, мы и ходим на них: язык очень чистый, бóльшая часть понятна.
24 ноября. — …Смотрели американского «Тараса Бульбу». Фильм очень неплохой. Здорово у них получалось кричать «запорожцы». Массовые сцены, как правило, очень красивые. Но все же много и отсебятины. Смешно было слышать на английском «Я тебя породил, я тебя и убью». Роль Тараса актер исполнил на должной высоте, да и вообще все артисты играли хорошо. Конечно, американцам было трудно, но видно, что они старались…
23 марта 1966 г. — …За последнюю неделю смотрел два очень хороших фильма. Прежде всего, английский «Of human bondage» — «Бремя страстей человеческих» по Сомерсету Моэму. На меня фильм произвел большое психологическое впечатление. Дает хорошую пищу для размышлений. После такого фильма и смотреть больше ничего не хочется.
Недавно купил себе Даниэля Дефо «Молль Флэндерс» на английском. Сейчас читаю.
12 апреля. – …Видели фильм про авантюриста, орудовавшего в Лондоне в 1904 году — Рокамболь. Имя что-то больно знакомое. Но картина сама чепуховая, примитивная, и пока интересных фильмов что-то не предвидится…
* * *
Еще немного о том, что запомнилось. Кинозалы небольшие, человек на 200—250 каждый — это всего 10—15 рядов. За ними — отдельные ложи на 3—4 человека. Туда билеты были подороже, но именно эти места мы и занимали — так распорядился наш начальник Григорьев, пояснив, что «не обеднеем, да и почище там». Что оказалось сущей правдой! Еще не зная об этом «указании» Григорьева, однажды купил обычный билет. По ходу сеанса почувствовал некие «покусывания», которые не прекращались, пока не вышел из кинозала. А по возвращении домой принял душ. Думаю, читатель уже догадался, о ком идет речь…
Яркие киноафиши («импортного» производства) завлекали зрителей. Фильмы были разные, в основном, голливудские боевики и комедии, сериалы (как правило, с негритянскими актерами в главных ролях) и вестерны, фильмы на библейские темы, индийские мелодрамы с титрами на английском языке и без, множество картин про «кунг-фу» (я, к примеру, посмотрел все фильмы с участием Брюса Ли) и про боевые искусства монахов Шао Линя, первые ленты про «агента 007» с Шоном О’Коннори.
Демонстрировалась и «Великолепная семерка». В Москве было столько восторгов по поводу выхода ее на советские экраны! Когда посмотрел этот фильм (наверное, в 1967 году, уже вернувшись в Москву), он показался мне знакомым — уже видел, но где? Потом вспомнил: на Занзибаре! Но там, в череде многих других вестернов, эта лента не произвела на меня никакого впечатления — обычная, средняя картина, видел и получше.
Познакомившись вдосталь с этой кинопродукцией, мы с Володей все реже стали ходить в кинотеатры, и уже не обращали внимания на «зазывную» афишную рекламу…
При входе в «Эмпайер» увидел однажды объявление, что в такой-то день здесь пройдет заседание цензурного (!) комитета по просмотру поступавших на острова кинолент. Только после этого понял, что означают «крестики» (один, два, три, или их отсутствие) на рекламе того или иного фильма на последней полосе в местных газетах: для зрителей существовали возрастные ограничения. Удалось выяснить, что заседания комитета проходили раз в неделю.
Регулярно на экранах появлялись китайские киножурналы (на суахили и английском) и художественные фильмы (с титрами на английском). Мне было интересно: много ли зрителей ходят на эти фильмы? Сходил в кино несколько раз (Володя отказывался составить мне компанию), и оказалось — немного. Фильмы — про войну с Гоминьданом, партизанскую войну, войну в Корее… Если действие картины как-то связано с американцами, то в титрах они — непременно «свиньи», «негодяи», «убийцы», «сволочи» и т. п. На что занзибарцы реагировали никак, в зале — тишина. Другое дело — американские ленты: ковбойские, комедии, детективы. Народу — битком…
Ужасны ли «фильмы ужасов»?
5 декабря 1965 г. — …В «Одеоне» смотрели черно-белый фильм «The Night Walker» — «Ночной гуляка», так я перевел его для себя с английского…
Столько лет прошло, а фильм этот помню! Произвел такое впечатление, что многие годы спустя, увидев в афишах «Режиссер — А. Хичкок», что-то говорило мне: «Не надо, не ходи смотреть».
Никогда прежде фильмы ужасов я не видел. В Москве слышал о Хичкоке, вернее, о его фильмах читал в журнале «Советский экран», в «Литературной газете». И был уверен, что режиссер «Ночного гуляки» именно Хичкок (но нет, в Интернете указан другой американец). Признаюсь, после просмотра несколько дней ходил вечером по городу с опаской, ощущал внутреннее напряжение. Не скажу, что оглядывался по сторонам, но прислушивался, не идет ли кто сзади. А в голове звучало — правду писали наши газеты и кинокритики вместе с ними: Хичкок — это фильмы про ужасы. Своими впечатлениями поделился с Володей (смотрели-то вместе). С той поры, когда жили на Занзибаре, он, видимо, любитель острых ощущений, всё подначивал меня — «Пойдем в кино, скоро будет новый фильм ужасов».
Из того же письма — «…О кино можно писать много. Вообще-то, это интересная тема для изучения: кому и что больше нравится. Например, почему на „Геркулес“ пришло очень много африканцев, даже больше, чем индийцев? Я еще не встречал африканца, знающего хинди».
Погода, и кофе… с нашей сгущёнкой!
17 марта 1966 г. — …Март (после середины), апрель и май — вроде бы сезон дождей. И, наверное, он уже начался. Вчера было +27, на небе низкие темные тучи, море бурлит, ветер свищет.
Разница в 5—6 градусов сразу можно ощутить! А однажды, когда вдруг внезапно разразился тропический ливень, — у меня от холода даже мурашки побежали по телу!
Но что самое страшное — это молнии. Вернее, не столько молнии, сколько гром. У нас такого не услышишь никогда. А здесь так — знаешь, что будет сейчас греметь, и вдруг такой треск, что непроизвольно, инстинктивно вздрагиваешь.
Сегодня денёк вроде бы ничего, солнца не видать и небо в тучах. Но вот завтра будет настоящая парилка. Если только появится солнце. Даже сегодня через тучи пекло очень сильно…
Вообще же, погода здесь — постоянная: что летом, что «зимой». Уж если идет дождь, так он «проливной», но недолгий. Если тучи, так это тучи, темно-темно серые, закрывающие горизонт. Ну, а если солнце — так от него спасенья нет. Для меня проблема — как уберечь мой длинный нос.
Шляп здесь соломенных, как ни странно, днем с огнем не сыщешь, и если есть, то они куцые, прикрывают только макушку. Правда, продаются китайские, так их пусть китайцы и носят — уж больно идиотский вид. С горем пополам раздобыл некую разновидность пластмассовой шляпы с более-менее широкими полями. Но у нее есть минус — макушка моя от жары просто преет. Чуть высунешься на «ярко солнышко» — и лоб мокрый…
Без темных очков ходить нельзя — глаза испортишь, даже если сидишь в тени. Но местные их почти не носят. И как они могут терпеть? Для меня это остается загадкой…
…Вова что-то приболел. Страшенный насморк у него, глаза слезятся — ну, в общем, вирусный грипп. Говорит, что даже в Москве так не простужался. А вот где подхватил эту простуду?
Кому-то покажется странным — жара (и днем, и ночью) и простуда. Между тем, «всё зло от кондиционеров» (как в здешних фильмах — «всё зло и соблазн от женщин»). Это — опасная штука. Мы заметили, что среди наших болеют очень часто консульские работники. Всё дело в резком перепаде температур. Там, где «кондишен», — сухо и прохладно. Стоит выйти из этой комнаты — и тебя сразу обдает жаром, создается такое ощущение, будто тебя обволакивает что-то липкое и слизкое. А если практиковать эти частые смены «микроклиматов» — как раз здесь-то и кроется «hatari», что в переводе — «опасность»…
О питании. Убедился, что никакой климат, будь то тропический, не в состоянии повлиять на мои позывы к чревоугодничеству. Как в Москве, так и здесь, заметил: если плотно позавтракаю, то чертовски голоден уже к 12-ти часам. И наоборот, если только перекушу, то и обедать не тянет…
Утром и вечером пьем кофе. Он очень вкусный, не местного производства, растворимый, привозной — Nescafe из Швейцарии, в баночках по 50 и 100 граммов. Поначалу к нему повара покупали сливки, а сейчас за нашим столом появилось «Сгущённое молоко» — нашенского производства! Правда, этикетка на банках не такая, как в Москве, сине-белая, на ней — симпатичная ребячья мордашка, цветная (наверное, такая сгущёнка идет на экспорт). И она гораздо вкуснее кенийской, что здесь продается.
Месяца два-три назад начал замечать, что правая ступня начала у меня неметь. Признаюсь, чуть струхнул (а вдруг заразился чем-нибудь), но затем выяснилось, что и у других наших случалось то же самое. Оказывается, все дело в том, что здесь не хватает витаминов! Парадокс, но это так. Во всех фруктах, без исключения, витаминов не хватает: фрукты созревают, но не дозревают, т.е. не успевают «налиться» (то же слышал и от знакомых советских врачей, работавших в Танзании).
Начали пить кофе со сливками, и постепенно всё стало на свои места. Значит, молоко помогло. Кефира, ряженки или ацидофилина здесь просто «hakuna», то есть — «нет»…
Немного о разном
…На третьем-четвертом месяце работы на Занзибаре позволил себе вольность — бороду решил отрастить. Это сейчас я белый, как лунь, да и макушка лысая — тогда же шевелюра была черной, правда, редкая. А борода оказалась густой, кучерявой и… коричневато-рыжей! Как и у арабов, попадавшихся изредка в магазинчиках и на узких улочках города.
В этой связи.
Однажды вызвал меня к себе Виктор Михайлович, говорит:
«Я вижу, вы по вечерам любите прогуливаться. Имейте в виду — вас в войсках называют mwarabu Ali (араб Али) (действительно, занзибарцы называли меня Али, видимо, для них это было „производное“ от Олега). Вы — человек гражданский, приказывать вам не могу, но советую — уберите свою бороду. Такие же бороды были и у арабов».
Я внимательно слушал, а мой начальник продолжал:
«А что они — занзибарцы — сделали с арабами 12 января 1964 года? Наверняка знаете — очень многих вырезали. Если не хотите себе проблем, избавьтесь от бороды. В темноте вы и в самом деле похожи на араба: высокий, длинноватое лицо, а тут еще и борода!»
Виктор Михайлович еще добавил, что об этой «проблеме» ему рассказали немецкие друзья, которые обучали сотрудников занзибарских органов безопасности.
Конечно, бороду я сбрил. Григорьеву не стал говорить, что в лагере Чуквани меня иногда звали еще и «babu Ali» — «дед Али», когда был с бородой.
Этот разговор произвел впечатление: оказывается, дружба — дружбой, как нам, стажерам суахили, казалось, но за нами спецслужбы Занзибара следили…
* * *
…За нашим здоровьем следил майор медицинской службы. Он предостерегал: соблюдайте личную гигиену — «Работая в лагере, после рукопожатий, не подносите руки ко рту: возможны кожные заболевания». Последнее наши офицеры-курильщики восприняли всерьёз, и вот что придумали.
В Чуквани солдаты, да и офицеры тоже, частенько «стреляли» у них сигареты (английские «Rothmans» или «Dunhill», американские «Philip Morris» или «Lucky Strike»; местные табачные изделия, например, «Scissors» в зеленой пачке, мы не покупали — черный табак, очень крепкие и без фильтра). Отказывать было не принято. И наши военспецы, дабы не подцепить какую-нибудь заразу, предлагая сигареты, открывали пачку не со стороны фильтра, как обычно, а с противоположной!
Этот «способ» пригодился мне много позже — в Танзании и Уганде, где тамошние журналисты, люди скромного достатка, часто просили: «Nipe sigara» — «Дай закурить».
Маленькая деталь. Я невольно сравнил солдатские уборные в Чуквани и в военном городке в Вышнем Волочке, где после IV курса проходили двухмесячные военные курсы, приняли присягу и стали младшими лейтенантами. И сравнение — в пользу Чуквани. Там — туалеты, чистота, никаких запахов. Хотя и сколочены из досок, с крышами, покрытыми тростником и пальмовыми ветками. Был приятно удивлен. (В Могадишо же довелось увидеть — сомалийцы нужду справляли, порой, под ближайшим деревом или кустом.)
* * *
…Занзибарская валюта того времени была крепкой. Судите сами.
Китайская авторучка, похожая на «Паркер», с золотым пером в 14 карат, — 3 шиллинга. Эти ручки оказались, что называется, «самыми-самыми», нужными подарками-сувенирами для моих друзей в АПН, подарил ее и Сурену Григорьевичу Широяну.
Стоимость одного ярда (0,9 метра) костюмной ткани из Гонконга (например, «тропик») не превышала 1,5—2 шиллингов. Именно такова была настоящая цена.
Приведу такой эпизод. В магазинчике в «Каменном городе» невольно подслушал разговор покупателя с продавцом, который, разговаривая на суахили, называл цены — «эта ткань стоит полтора, а вот та — 2 шиллинга за ярд». Посетитель ушел, покупка не состоялась. Подождав немного, подхожу к продавцу. У него перед этим на английском справлялся о ценах, он говорил — «3 шиллинга, 4» и т. д. за те же самые ткани. Спрашиваю у него, теперь на суахили: «А почему мне называл цены в два-три раза больше?» От удивления он рот раскрыл…
…Курица на рынке стоила 3,5 шиллинга, и считалось, что это «дорого».
Расскажу, что видел и слышал — в цветном документальном фильме «Это Занзибар», снятом советскими операторами на островах вскоре после революции 1964 года, а копия была подарена президенту Занзибара А. Каруме накануне её 1-й годовщины. Мы показывали его в Чуквани.
Один из сюжетов — на рынке. Покупатель спрашивает продавца кур: «Bei gani?» («Почем?»), услышав в ответ — «Shillingi tatu u nusu» («3,50»), махнув рукой и недовольно отворачиваясь от него, бурчит — «Chukua mwenyewe!» (по смыслу — «Оставь себе!», дословно — «Бери сам!»). Занзибарские куры отнюдь не украшали наше «меню». Сколько их ни варишь — мясо жесткое, не прожуешь, а если пожарить — цыплят табака не получится…
…В магазинчике на Gizenga Street продавец спросил, женат ли я. Услышав, что пока нет, тут же выложил на прилавок фирменный запечатанный пакет и сказал, что в нем… бандаж для беременных! Я только собирался жениться, но о таком «предмете» не имел никакого представления, да и не знал о его существовании. Разумеется, бандаж купил, чем несказанно удивил свою невесту по возвращении в Москву. Этот занзибарский «сувенир» послужил еще и ее подругам…
…На улицах нас одолевали настырные мальчишки-попрошайки, без устали повторявшие: «Shillingi moja! Shillingi moja!». Не отдав этот самый «один» (moja) шиллинг, редко удавалось избавиться от них.
«Дом холостяков»
Некоторые наши офицеры приехали без жён и жили в «Доме холостяков», на суахили «Nyumba ya wajane» — так назвали его занзибарские военные. Туда и мы с Володей поселились.
Старшим в доме, и по званию, был молодой майор, чуть более 30 лет, — блондин с волнистой шевелюрой, голубоглазый, с прищуром век, спортивного вида и …главный «курильщик» — с сигаретами не расставался. Фамилию его не помню, но запомнился мне он тем, что был очень похожим на известных киноактеров — Гунара Цилинского, или Цилинскиса (его наиболее яркая роль в кино — советский разведчик Николай Кузнецов в фильме «Сильные духом», снятом в 1967 году) или Николая Олялина (играл, в частности, в киноэпопее «Освобождение»). Правда, курносый, в отличие от его «двойников». Майор был и шофером небольшого «фордика» с открытым верхом, на котором мы отправлялись на работу в лагерь Чуквани.
Жили с Володей в отдельной комнате на верхнем, втором этаже, куда со двора вела металлическая лестница. В ней — два окна-«бойницы», высокие и узкие: одно выходило в сторону океана, другое — во двор, и балкончик. В оконных рамах с рычажком — полупрозрачные матовые стеклянные жалюзи. Держали их всегда открытыми, в горизонтальном положении — так легче проветривалось. Если случались ливни с порывистым ветром, вода струйками попадала только на подоконники, с уклоном на внешнюю сторону. Пол оставался сухим.
В нашей комнате одна кровать на двоих с прикрепленной к потолку москитной сеткой — на Занзибаре в избытке водился малярийный комар. Письменный стол у окна с лампочкой на стене, пара стульев-кресел, две тумбочки. Кроме потолочного вентилятора, еще один — напольный. Отдельно душевая, туалет, и небольшой балкон. Вода чистая, артезианская, пили ее без опаски.
Кондиционеров не было. Да и особой нужды в них, честно говоря, тоже не было. При толщине стен порядка метра, не меньше, их поверхность внутри помещения даже в самую жару, днем, оставалась прохладной. К тому же, при работающих вентиляторах комната хорошо проветривалась. Ощущалась только высокая влажность. В общем, жилось вполне терпимо.
До январской революции 1964 года этот просторный особняк на невысоком скалистом берегу, служившим ему фундаментом, огороженный с других трех сторон каменным забором и с небольшим двором-садом, в котором росли высокие кокосовые пальмы, занимал британский резидент на Занзибаре.
Во время приливов вода заполняла подвальное помещение, куда со двора вела лестница, а на его противоположной стороне — металлическая дверь с засовом. Ходить на пляж не надо: откроешь ее и — вот он, Индийский океан!
Зная расписание приливов, поначалу мы часто пользовались этим подвалом, чтобы как-то охладиться в морской воде. Но по мере приближения командировки к концу купались все реже и реже — вода при температуре, как правило, выше 25 градусов ощущения прохлады не доставляла.
P.S. Побывал возле этого особняка в 2004 и 2017 годах: давно забытый, бесхозный, вместо окон — «глазницы», жалюзи нет. Но ничто ему не помеха! Ни годы, ни океанский прибой — стоит, как скала на мысу. Ворота на замке, а во дворе растут те же пальмы…
Если в Интернете перейти на ссылку «Google Maps» и найти город Занзибар, его очертания вполне различимы.
* * *
…Выплывая в океан, приходилось быть осторожным — на каменистом дне частыми «гостями» были морские ежи: случайно наступишь — и иголки впиваются в ступню, их не вытащить, образуются гнойники, очень болезненные. Меня миновала чаша сия, но Володе пару раз досталось, правда, он легко отделывался — «прихватывал» две-три иголки, не больше. А были и сложные случаи, приходилось прибегать даже к помощи хирургов в центральной больнице на островах — госпитале имени В.И.Ленина (при султане носил имя английского короля — Георга VI).
Любопытно, что в начале 70-х годов, когда занзибарско-китайские отношения были на подъеме, а связи с СССР пошли на убыль, эту больницу занзибарцы переименовали в… госпиталь имени Мао Цзедуна! И я вспомнил — со мной случилась неприятность: беспокоил вросший ноготь на пальце ступни. Наш врач-майор отправил меня в «ленинский» госпиталь, где работала группа китайских врачей (советских в те годы на островах не было). Вхожу в кабинет — а там хирург-китаец с медбратом, тоже китаец. Говорю, кто я и с чем пришел. Они осмотрели меня, о чем-то пару минут поговорили между собой на китайском, и хирург сказал (на английском): «Надо удалять палец» («Вот это да!» — подумал я). Поблагодарив за такую консультацию, спешно покинул кабинет. Вернулся к майору, рассказал о «диагнозе» и спросил: «Все китайские врачи, что на Занзибаре, такой же «высокой квалификации»? — Не знаю, не знаю…», услышал в ответ. Майор меня подлечил…

Mnazi Mmoja Hospital сегодня. 2017 г.
P.S. В 2004 году, когда посетил Занзибар, спустя больше двадцати лет, на фронтоне этого госпиталя увидел — Mnazi Mmoja Hospital! По названию соседней с ним площадью.
…Работавшие при нас на Занзибаре советские исследователи морской фауны — супружеская пара (имена их не помню за давностью лет) — говорили: «В прибрежных водах остерегайтесь „stone fish“ — „каменной рыбы“. Встреча с ней — смертельна: невзначай уколешься — мгновенный паралич и — камнем на дно!» Нам везло — с «каменной рыбой» не встречались…
* * *
…В «наследство» от британского резидента нам достались два чернокожих повара. Одного из них звали Джума. Всегда улыбчивые и предупредительные, чистюли в белых накрахмаленных и отутюженных халатах, на голове — белоснежный колпак. Они классно готовили любимые англичанами порриджи и пудинги. Не скажу, что не был знаком с овсяной кашей, люблю ее с детства, но порридж в их исполнении — это нечто! А настоящий английский пудинг, сладкий-пресладкий, я впервые попробовал как раз на Занзибаре.
Эти же два занзибарца закупали продукты, стирали наше белье, убирались в доме.
Оба повара, если и не стали для нас «проводниками» в суахили, но помогали, по крайней мере, мне, осваивать азы разговорной речи. От них узнал некоторые слова и выражения, да и пословицы тоже, что очень пригодилось в переводческой работе.
Солдаты, офицеры и занзибарская военная элита
…Могу сказать только хорошее о младших офицерах, с которыми работал в лагере Чуквани. Энергичные, в меру любознательные, к нашим офицерам относились с почтением, а к своим подчиненным — ровно, без грубости и чванства. Каких-то нарушений дисциплины в лагере мы не замечали.
С начальствующим составом мне работать не довелось. С ними работал Овчинников — переводчик начальника нашей группы военспецов. По рассказам Володи, многие из высших офицеров — малограмотные, а то и вовсе без какого-либо образования. Думаю, выбились они «наверх» исключительно за заслуги в революции 12 января 1964 года.
Занзибарская армия и ее военнослужащие в целом, и военная элита, в частности, по моим наблюдениям, занимали привилегированное положение в обществе и материально были очень хорошо обеспечены.
Мне удалось узнать некоторые «цифры» из разговоров с солдатами и офицерами в лагере Чуквани. Так, рядовой 1-го года обучения получал не менее 160 шиллингов в месяц, что соответствовало уровню заработной платы некоторых рабочих и преподавателей школ в сельской местности. Капрал — 200 шиллингов, сержант — 300—500 в месяц. Офицеры получали значительно больше: лейтенант — 1000—1200 шиллингов, старший лейтенант — до 1500, капитан — 2000, майор — около 3000, а подполковник — более 3000 шиллингов.
Иными словами, военнослужащие на Занзибаре в 1965—1966 годах — наиболее высокооплачиваемая (даже на фоне чиновников административного аппарата) категория лиц в занзибарском обществе тех лет. При этом добавлю, что занзибарская армия финансировалась из бюджета центрального правительства в Дар-эс-Саламе.
Вооруженные силы создавались по вольнонаемному принципу. В условиях Занзибара это означало, что первые армейские подразделения формировались из молодежи, большей частью неграмотной и безработной. Не принижая значение такого важного фактора, как патриотизм, энтузиазм (молодежи особенно) в первые месяцы после революции, все же, как представляется, не следует сбрасывать со счетов и то, что многие молодые занзибарцы, вступая в армию, соблазнялись и высокой оплатой.
* * *
Когда делегация Минобороны во главе с начальником 10-го Главного управления Генштаба генерал-лейтенантом (позднее стал генерал-полковником) Николаем Павловичем Дагаевым в ходе визита на Занзибар посетила Чуквани с инспекцией, начальник Генштаба Али Махфуд приехал туда на собственном автомобиле — новеньком английском «Humber».
Он пригласил меня в кабину. Роскошь внутренней отделки поразила. Кожаные — темно-коричневые — сидения, панель управления с множеством кнопок. А особенно — кондиционер и встроенный радиоприемник (или магнитола, не помню) с выдвижным проигрывателем для пластинок-«сорокапяток».
На проигрыватель (помнится, «Philips») я сразу обратил внимание. Увидев мое любопытство, Али вытащил пару пластинок, поставил одну из них. И в салоне зазвучала приятная музыка — не африканская, как почему-то ожидал, и не арабская, — играл американский джаз-бенд. На вопрос, можно ли пользоваться проигрывателем при движении, Али ответил: «Легко! Не веришь? А ты дотронься до него». Я прикоснулся, он плавно качнулся; приблизившись, увидел — под проигрывателем было нечто, похожее на пружинки.
Не приходится и говорить, что ничего этого не было в «Волге» нашего командира.
Али Махфуд часто наведывался в Чуквани. Вальяжный, явно довольный собой и уверенный в себе. Военная форма была ему к лицу. Мне он был симпатичен. Но я замечал, что он с некоторым снисхождением и даже свысока относился к своим подчиненным. Разумеется, мне и в голову не приходило делать ему какие-либо замечания, тем более что он не скрывал своего дружеского расположения к советским военным советникам, в частности, к Григорьеву. Между прочим, Али не раз говорил мне, что ему очень нравится «Volga nyeusi ya ndugu Grigoriev» («чёрная „Волга“ товарища Григорьева»). И я догадывался, почему.
Во многом это — заслуга Бориса, шофера начальника группы: высокий, блондин, крепкий молодой боец. Чтобы показать достоинства нашей «Волги» ГАЗ-21 (а машина производила впечатление на занзибарцев: высокая, с большим клиренсом, всегда чистая, ни пылинки на корпусе, с никелированными колпаками на колесах и сверкающей на солнце фигуркой оленя на капоте), он шел на хитрость: стартуя, придерживал педаль тормоза, плавно нажимал на акселератор. И наступал момент — «Волга» буквально срывалась с места, с визгом колес и коромыслом дыма от них… Нужно было видеть при этом восхищение Али Махфуда, и его характерный жест — поднятый вверх большой палец. Так Борис — советский патриот — демонстрировал не самый плохой продукт нашего автопрома того времени. Полагаю, и Григорьев не особенно возражал.
Генеральская форма членов нашей военной делегации произвела впечатление на занзибарских военных. Но, думаю, впечатлил, прежде всего, генерал-лейтенант Н.П.Дагаев — высокий, представительный, моложавый, с легкой сединой. А. Каруме дважды принимал его в своей резиденции (переводил на встречах Володя — Каруме плохо знал английский). Видимо, его форма приглянулась и президенту Занзибара.
Во всяком случае, спустя некоторое время для него из Москвы по запросу Григорьева прислали полный комплект — темно-зеленую, с красными лампасами и красной кокардой на фуражке, но, конечно, без погон. Впервые в этой форме Каруме — президент и главнокомандующий Занзибара — принимал военный парад 12 января 1966 года — в день 2-й годовщины революции. Потом одевал ее и на других торжественных мероприятиях. Выглядел он в ней, для меня, по крайней мере, довольно забавно: сугубо гражданский человек, бывший крестьянин, потом портовый грузчик, тучный и пожилой (ему уже исполнилось 60 лет — возраст очень приличный для африканца), с неизменной тростью и… генеральская форма!
Совсем иначе новое облачение президента воспринимали занзибарцы на массовых митингах, коих устраивалось немало, — восторгам не было предела! Любопытно, но вскоре примеру своего президента последовали его ближайшие соратники. А за ними в военной форме стали появлялись на публике и все члены Революционного Совета, министры и их заместители.
Сейф Бакари и XXIII съезд КПСС
В армии Занзибара были командиры, о которых Григорьев отзывался весьма уважительно. И среди них — Сейф Бакари.
Это имя было мне знакомо: готовясь к поездке на Занзибар, читал, что до революции он был лидером Молодежной Лиги партии Афро-Ширази (тогда одной из трех на островах), возглавил так называемый Комитет 14-ти, который готовил и осуществил январский переворот. Ну, а кем он стал после — не интересовался. И вот — «очная» встреча с Бакари на Занзибаре.
Я наблюдал за ним с интересом и даже любопытством — будь то в Чуквани, куда он нередко приезжал, инспектируя работу армейских политкомиссаров (был такой институт в армии Занзибара), на репетициях военных парадов, во время массовых митингов с участием президента Каруме на площади Mnazi Mmoja, на других торжественных мероприятиях.
Уроженец Танганьики, небольшого росточка, плотненький, но не толстый, очень подвижный, и умнейшие, пытливые глаза. Удивительно умел слушать — словно впитывал, вбирал в себя информацию. И многое, как говорил Григорьев, «схватывал на лету».
Не шибко образованный, английского не знал. Безусловно, небесталанный, стал, пожалуй, одним из самых влиятельных деятелей на Занзибаре. Член Революционного Совета, подполковник, Главный политический комиссар в армии, возглавлял внутреннюю и политическую разведку. Другими словами, Сейф Бакари — это «глаза и уши» высшего руководства. При этом в быту был скромен, не выказывал значимость собственной персоны. Полагаю, что наши немецкие друзья, отвечавшие за работу с местными чекистами, нашли в нем хорошего и очень способного ученика.
Когда Бакари посещал Чуквани, я замечал, что сопровождавшие его высокие военные чины проявляли к нему явное почтение. Даже те, кто старше его по возрасту (а не наоборот, как можно было бы ожидать, ибо в традициях африканцев, у них в крови проявление подчеркнутого уважения к старшим). Не скажу, что заискивали, но кое-кто посматривали на него с некоторым опасением, словно чувствовали, что «о них» он, Бакари, знает то, чего им бы не хотелось, чтобы тот знал. Такое ощущение не покидало меня, когда видел, как эти военные общались с Сейфом Бакари. И не только военные, но и многие высокопоставленные правительственные чиновники.
В марте 1966 года Сейф Бакари во главе занзибарской партийной делегации присутствовал в числе иностранных гостей на XXIII съезде КПСС. По возвращении он принял приглашение Григорьева — поделиться впечатлениями от поездки в Москву. Виктор Михайлович говорил, что до этой поездки не раз просил Сейфа Бакари выступить перед советскими военными специалистами и рассказать о январских событиях 1964 года, однако он под разными предлогами отказывался и вообще относился к нашим военным довольно сдержанно, как, впрочем, и к китайским.
Встреча прошла в Генконсульстве — на третьем этаже, там, где Григорьев проводил еженедельные «летучки» нашей группы военных советников. Сейф Бакари пришел один, говорил негромко, размеренно — было видно, что не оратор. Переводил Володя Овчинников.
Не вспомнить, конечно же, всё то, о чем он говорил. Но запомнился его рассказ о подготовке революции, о ее участниках, о том, кто и как решал те или иные задачи. Как мне показалось, он был откровенен, называя поименно своих соратников — главных «фигурантов» этого исторического для Занзибара события.
Бакари с явным пренебрежением высказывался о последнем из султанов — Сейиде Джамшиде бин Абдулле — и его министрах. А лидеров партий — многолетних политических оппонентов АШП — Али Мухсина (Националистическая партия Занзибара) и Мохаммеда Шамте (Народная партия Занзибара и Пембы) — называл просто: «maadui wa Waafrika» (суах. — «враги африканцев»), хотя последний, М. Шамте, — один из основателей «Союза Афро-Ширази», предшественника партии Афро-Ширази. «Досталось» от Сейфа Бакари и чиновникам британской администрации — они тоже были «maadui» или «mabepari» («капиталисты»)…
Выступление Бакари длилось больше часа. Охотно отвечая на вопросы, он особо отмечал роль АШП, ее председателя Каруме в успехе революции
Слушая это, у меня невольно возникала мысль: а стал бы он — «уши и глаза» нового режима на Занзибаре — так говорить, не побывав в Москве, на съезде КПСС? На котором славословили Л.И.Брежнева, как прежде и Н.С.Хрущева (не говоря о Сталине).
О своем личном участии в январских событиях 1964 года он не сказал ни слова. Как и ни словом не обмолвился о Джоне Окелло — командире боевых отрядов повстанцев, одном из главных действующих лиц в революции. О нем «шумела» западная пресса в первые месяцы 1964 года, да и советские газеты того времени цитировали его резкие «антиимпериалистические» заявления.
Джон Окелло — «фельдмаршал», как он сам себя назвал, — был изгнан из Занзибара в марте 1964 года, и с той поры на упоминание его имени на островах было наложено табу. Сейф Бакари табу не нарушил. (Дж. Окелло — интересная, интригующая фигура в истории Занзибара конца 1950-х — середины 1960-х годов. Я написал эссе о нем (как и о президенте Каруме, и об А.М.Бабу) в книге «История Африки в биографиях».)
После поездки в СССР Сейф Бакари «…к нам, советским, подобрел, — говорил Григорьев. — Его хорошо приняли и показали многое. И сотрудничество потихоньку стало развиваться».
Записи, которые тогда сделал, очень пригодились мне позднее — уже в научной работе. Причем, проверяя и перепроверяя многое из того, о чем поведал С. Бакари, убеждался: приведенные им факты были правдивыми.
Размышления переводчика
На Занзибаре задумывался: кем быть после Института? Советовался с Володей, но главным образом — с отцом. И писал ему:
28 ноября 1965 г. — …Почему склоняюсь к работе в агентстве и аспирантуре заочной.
1) Работая в агентстве, представится возможность, очевидно, через 1,5—2 года, новой поездки в Вост. Африку в совершенно другом качестве. Агентству нужен свой суахилист, а за 1,5—2 года можно показать, да и проверить себя как журналиста..
2) Со многими разговаривал еще в Москве, да и здесь. И все в один голос заявляют, что дневная аспирантура — это плохо, вернее, не лучший вариант. Об этом говорили мне сами аспиранты.
Прошло пять месяцев. Я снова написал отцу (оставалось еще полтора месяца до возвращения в Москву):
23 апреля 1966 г. — …Все больше склоняюсь к тому, что пока молод, нужно использовать любую возможность (за исключением, разумеется, чисто переводческой), чтобы опять побывать в стране, с тем, чтобы капитально заняться изучением данной страны. Если взять нынешних наших африканистов, в том числе и имеющих степени наук, то все они, осмелюсь сказать, заработали их в библиотеках.
Я не знаю ни одного аспиранта, которому выпала бы возможность поработать хотя бы полгода в той стране, которую он изучает. И еще одно обстоятельство — аспирантов вообще за границу не посылают. Это не входит, так сказать, в план учебного процесса.
Этим вовсе не хочу скзать, что собираюсь навсегда остаться чиновником того или иного учреждения. Совсем нет. Однако считаю, что побывав два-три года в стране на получиновничьей-полутворческой работе, пользы будет больше, чем если бы учился три года в аспирантуре, очной, написав при этом, или нет, кандидатскую диссертацию.
…Журналистская работа кажется наиболее перспективной, в смысле свободного общения с разными слоями местного общества. Ведь корр. ТАСС здесь — основной источник информации не только для своего агентства, но и для консульства…
Вместо заключения
16 декабря 1965 г. — …Вчера неосторожно сказал: «Знаешь, Вовка, прошло 6 месяцев, а мне кажется, как будто один длинный день прошел». Так он так завелся, так поизмывался надо мной, да еще с шуточками-прибауточками: «Ни фига себе, — говорит, — „один“ день прошел. Так ты, быть может, еще шесть оставшихся „дней“ недели проживешь тут?»…
12 апреля 1966 г. — …Хотя осталось меньше 2-х месяцев до отъезда, как-то не верится, что мы уедем, до того все стало привычным, обыденным, будто живем здесь не год и не два, а все 10 лет…».
* * *
Я уехал 10 июня. За несколько дней до отъезда вызвал меня Виктор Михайлович: «Вы не женаты, поэтому срок командировки — не более года. Но своим приказом могу оставить вас еще на 3 месяца. Хотите остаться? — Нет, не хочу», сказал я, и объяснил почему — собирался жениться. Володя, он уже был женат, остался на Занзибаре еще на три месяца.
…Покидая Занзибар, на самолете Ан-2, «кукурузнике», летел в Дар-эс-Салам, где предстояла пересадка на Ил-18, прибывший из Москвы спецрейсом. Понял это на аэродроме: Ил стоял в стороне от пассажирских самолетов, а возле него вооруженная охрана — три-четыре танзанийских солдата с винтовками через плечо. Видимо, наш самолет доставил груз военно-технического характера — в те годы в континентальной части Танзании работали советские военные вертолетчики.
В полете капитан Ан-2 пригласил меня в кабину — полюбоваться сверху на изумрудную зелень, покрывающую Занзибар и островки вокруг него, на фоне бирюзовой морской воды с белыми «барашками» от легкой волны. «Как знать, — подумалось, — вернусь ли сюда еще?».
Разговорились. От летчиков узнал, что этот Ан-2 — подарок нашей страны президенту Занзибара, который был передан ему в начале января 1965 года — накануне 1-й годовщины революции. А вот дальше…
Они рассказали, что вместо запасного шасси в самолете оказались… запасные лыжи! Для посадки на снегу!!! В это трудно поверить, и можно только догадываться, почему и как это произошло, но было именно так!
На аэродроме в Дар-эс-Саламе мне запомнился короткий разговор с танзанийским солдатом, охранявшим Ил-18. Я вышел на трап подышать, спустился, подошел к нему. Поговорили о погоде, о том о сём, и вдруг он сказал, как отрезал: «Ulitoka Unguja!» («Ведь ты — с Занзибара!»). Скрывать мне было нечего — тот, годичной давности «наказ» Минобороны: «не говорить на суахили с кем бы то ни было», — устарел за давностью, и я ответил: «Да. А как ты догадался?»
Его ответную фразу не забыть! Танзаниец произнес: «Matamshi yako laini!» («Твое/у тебя произношение мягкое!»). Услышав это, похвалил и самого себя — значит, годовая практика в этой стране принесла огромную пользу, удалось преуспеть и в фонетике; казалось, что стал настоящим «занзибарцем», почти…
…В Москву вернулся 13 июня, получив в окончательный расчет 5 английских фунтов одной купюрой и 34 доллара разного достоинства. Почему помню? Да потому, что впервые держал в руках заработанную «капиталистическую» валюту!
Моя трудовая книжка и начинается с записи о командировке на Занзибар…
ПАМЯТИ ВОЛОДИ ОВЧИННИКОВА (1942—2018)
Занзибар (из моих писем Оксане):
22 сентября 1965 г. — …Строчу сейчас письмо, а Вова вдруг смеется, и смеется до сих пор, мешает писать. Вот какая идея пришла ему в голову: «Лежу я, смотрю на тебя и передо мной пронеслись ТРИ плана писем к твоей возлюбленной, голубке ненаглядной (ну, ты знаешь, какие у него способности на этом поприще).
Он болтает и болтает, жаль, что нет магнитофона, черт побери. Сказал ему: «Ну, поговори, может, еще что расскажешь». А он отвечает:
«Эти три письма пролетели у меня не кстати (здесь и далее подчеркнуто Володей. — О.Т.). А поздравляю её от души, но не кстати. Желаю успехов в жизни искренне, а не кстати. А кстати, думаю, что получу её письма, и, кстати, надеюсь их получить. И если, кстати, она присылает приветы и поздравления „кстати“, то, кстати, эти „кстати“ мне не кстати. А в день получения этого письма искренне желаю её доброй ночи и приятных сновидений».
Это его доподлинные слова. Был бы магнитофон, результат был бы тот же.
Ещё он сказал, у него оттого поднялось настроение, что его кто-то (вернее, что-то) укусило. Это «что-то» — черное, большое и с крыльями. По-здешнему, именуется «uvi», что означает «оса», но гораздо больше наших ос по размерам.
…Свет горит, а Вовка спит. У него такая хорошая привычка, которой завидую. Если бы ты зашла к нам в комнату, ужаснулась бы. На кровати 8 (!) словарей, и все равно одного не хватает, внизу — газеты, книги, очки, тетради…
4 ноября. — …Вова «финишировал». Его письмо тебе, кажется, чу-уть-чуть заставит мозги бугриться. Он дает тебе партийное задание:
«Любить на всю жизнь, и любить того, кого душа пожелает, но только не по-Карменовски, а по-Татьяновски, но не по-Онегиновски, потому что мой друг любит по-Татьяновски. А если она (т.е. ты) будешь любить по-Карменовски, то он (т.е. я) будет любить по-Дантесовски».
Это — с его слов, буквально.
7 ноября. — …Вчера вечером на вилле консула был прием в честь Октября. Собралось много народу. Столы — богатые. Была и «Столичная»! Правда, я тяпнул только одну стопочку, больше не досталось. А чем, думаешь, Вова занимался? Переводил за столом жене президента! И вообще, за последнее время он стал «специалистом» по «женской части», преподает русский язык одной знатной занзибарке.
На него было жалко смотреть! Он, бедняжка, не мог притронуться к спиртному, потому что за его столом сидели непьющие…
Да, подзабыл. Вова рассказывал с увлечением, как он водил мотоцикл 2 года назад в Москве. А потом сказал, что нужно больше друг с другом разговаривать о жизни (не о жисти)…
29 ноября. — …Вова шутит, мол, Толстого заткнул я за пояс своими письмами…
Из письма Оксане от Володи:
«Африка, Тропики. 28 ноября 1965 года.
Идут намеднись проливные дожди.
Все жарче палит солнце,
А сердце красавицы любит (О.И.)
всё крепче.
Голова у моего друга отяжелела от идеи превеликой: несколько месяцев назад он, по доброте своей душевной и писательскому дару, заткнул за пояс, почитай, самого Льва Николаевича Толстого, и теперь говорит (конечно, это между нами), что собирается стереть в порошок Бальзака, известного в мире своей плодовитостью. То, что Бальзак плодовит, — ты знаешь и без меня, а то, что О.И. тоже, — получая его романы-письма. Ты не осознаешь титанического труда… и яркого творчества моего друга Олега бин Ивана».
…Целый год мы с ним спали в одной комнате на одной широченной кровати под «балдахином» — москитной сеткой. Вместе работали и отдыхали (он играет на гитаре, правда, играл неважно, а я подпеваю), вместе ходили в архив…
Иронизировал, подшучивал надо мной с хитрецой в глазах («много ты пишешь невесте своей, ненаглядной» — это его слова! Он видел Оксану на аэродроме в Шереметьево, когда мы улетали на Занзибар), и смеялся заразительно. Днями не разговаривали, бывало и такое…
Володя скончался, внезапно, в июле 2018 года, а месяц назад ему исполнилось 76: одногодки мы с ним.

…1960 год, первая группа суахили в ИВЯ при МГУ, в ней трое — «кадеты»: окончили Суворовское училище в Ленинграде. Это — Володя Макаренко, Борис Пильников и… Овчан, так мы его называли.
Как он попал туда? Его отец погиб на войне, мама умерла, когда ему было 9 лет. И сводный брат, человек военный, определил сироту в Суворовское училище. Обо всем этом узнал недавно, после его кончины (разве интересуешься «кто есть кто, и откуда», когда и ты, и он — юнцы молодые?).
…Чуть ли не с первого курса в ИВЯ он в шутку называл меня «Тертерян», добавляя на французский манер — «… дю Тараскон» (примерно так), хотя французского не знал, как и я. Почему? Может, насмотрелся «Трех мушкетеров», и получилось: «Д’Артаньян — Тертерян»? Других объяснений не нахожу. Его я не спрашивал. Но, признаюсь, меня это не раздражало. Не то, что в школе: в первом классе «тетерей» обзывали — наверное, кому-то запомнилось: «…мы разиню и тетерю, мы не пустим на порог!» Правда, недолго…
Работая на Занзибаре, заметил его необычайную тягу к суахили. Он искал и находил (благодаря ежедневному общению с немногими, но образованными военными чинами армии Занзибара, такими как Али Махфуд, начальник Генштаба) арабские корни в суахилийских словах. К тому времени, когда мы приступили к изучению этого языка, то есть почти 60 лет назад, 35—38 процентов словарного запаса суахили, отмечалось в справочных изданиях, имели арабское происхождение.
Не раз бывало так. …Время позднее, в комнате я один, чем-то занимаюсь или уже собираюсь спать, а Вовка все еще на работе. Наконец, он приходит. Усталости — никакой, лицо радостное, глаза сверкают: «Oлег (с ударением на „о“) бин Иван, а знаешь, это слово (такое-то) — не суахилийское! Оно из арабского! (и произносит его). И ещё, послушай… Надо же!» Такими «открытиями» он постоянно делился со мной…
Суахили «сопровождал» его все последующие годы, он продолжал начатое на Занзибаре дело. Как-то звонит мне и начинает разговор на суахили: «Sheikh (суах. — шейх), mzee (cуах. — уважаемый) Oleg bin Ivan, Интернет на суахили смотришь, читаешь? — Я говорю, нет, с журналом дел полно. — А жаль. Там много интересного, суахили развивается!»
Очень часто говорили мы с ним по телефону исключительно на суахили, инициатором, понятно, был Овчан. Он говорит-говорит, а какие-то слова, да некоторые «словосочетания», я не понимаю. Прерываю его, перехожу на русский, и спрашиваю: «А это слово/слова, что означает/ют? — Как? Ты не знаешь? Да ты что?!» — на русском он отвечает, и на суахили начинает объяснять, что, как и откуда… Однажды он сказал: «Знаешь, суахили богаче английского языка»! А английский у него был хороший…
Или такой его звонок года два назад:
«Олег! Ватикан вещает на суахили, ООН — тоже, о Би-би-си я и не говорю. Вещает и Пекин, как прежде (т.е. с 1960 года. — О.Т.). А где мы?! Слушай, давай подготовим в Госдуму письмо от имени „ветеранов суахили“: ты, я, Саша Довженко, еще кто-то. Я и Саша много лет работали дикторами суахили на Московском радио, ты с суахили — в четырех странах Африки… Есть же у нас еще силы, чтобы вещать на Африку из Москвы!..» Сказал также, что его идею поддерживает помощник первого заместителя председателя Госдумы: «Он тоже знаток суахили, и ты его знаешь — Сергей Айвазян. Он работал в Посольстве СССР в Танзании…».
Конечно, я знал и знаю Сергея. Совсем молодым в 1979 году приехал он в Танзанию атташе в посольстве, выпускник МГИМО с суахили. Позвонил ему, спросил о «судьбе» такого письма: «Да, — сказал Сергей Завенович. — Мы направили его в МИД, ответ, по сути, отрицательный, мол, „считаем нецелесообразным“…».
В конце 1960-х — начале 1970-х годов он преподавал суахили в Военном институте иностранных языков (ВИИЯ).
Сужу об этом по книжке — «Краткий русско-суахили военный словарь. Москва, 1969». Она издана в типографии ВИИЯ. Получил её из рук его жены Люси, когда побывал на квартире Володи уже после его кончины.
Автор словаря — Б.Б.Карпович (Борис Борисович, хорошо знаю его и его старшего брата Кирилла Борисовича, он приезжал в Кампалу, когда я там работал). В конце «Предисловия» такие слова — «Автор выражает благодарность за помощь в составлении словаря преподавателям ВИИЯ к.ф. н. Мячиной Е.Н. и Овчинникову В.Е.…». Читаю автограф Бориса — на суахили (!), в переводе на русский: «Уважаемый г-н Учитель, который положил немало труда и пота, чтобы эта книжка вышла. Всегда буду помнить твою помощь. Твой ученик, 12 ноября 1969 г.», и подпись — «Карпович».
На 120-ти страницах этого словаря насчитал примерно 2500 русских слов/словосочетаний, а переведенных на суахили — и того больше, не меньше 3 тысяч. Что любопытно, при составлении словаря Б. Карпович использовал… «Материалы военного лагеря на Занзибаре»! Читай — «лагеря Чуквани», где мы с Володей работали!
Как не доставало нам такого словаря в 1965-1966-м! Но у нас уже были свои «наработки» в военном суахили, и мой товарищ, уверен, помнил их и охотно поделился с Борисом Карповичем…
Володя читал лекции по истории Африки в РУДН. До последних дней он преподавал суахили на кафедре восточных и африканских языков Высших курсов иностранных языков МИД РФ, подготовил для ВКИЯ специальное учебное пособие по изучению этого языка…
В ХОДЕЙДЕ, ПО ДОРОГЕ ДОМОЙ
Нам на смену на Занзибар приехали двое, я их уже упоминал — Саша Довженко и Боря Пильников, с женами, и работали вплоть до 1970 года.
Возвращение домой запомнилось двумя эпизодами в Ходейде, крупном городе в Северном Йемене. Думаю, они могут быть интересны читателям.
Спецрейсом Ил-18 летел по маршруту Дар-эс-Салам — Ходейда — Каир — Одесса — Москва. В Ходейде, куда приземлись днем, предстояла ночевка. В те годы Москва оказывала Йемену военно-техническую помощь. В аэропорту меня встретил наш военный переводчик, который работал в Йемене уже более года. Имя не помню, назову его Игорем.
С ним подъехали к какой-то гостинице, в два или три этажа. Невзрачная, с облупленными стенами, стеклянные жалюзи на окнах (стёкол в окнах, как и на Занзибаре, не было) только напоминали о своем существовании. Я спросил: «А нет ли получше?» Он в ответ: «А здесь все такие, бывают и похуже». Разместив меня в номере, Игорь сказал, что зайдет через час. Предложил совершить прогулку по городу. Разумеется, я согласился.
В номере кондиционера не было, влажная духота угнетала, не помогал и потолочный вентилятор. Вода в душе была если не горячей, то очень теплой. А впереди — ночь, удастся ли поспать? На Занзибаре сон был нормальный, там было полегче.
Перед экскурсией я облачился, на свою беду, в тонкую нейлоновую белую сорочку. О чем и пожалел, едва выйдя с Игорем из гостиницы.
Солнце палило нещадно, жара неимоверная — на Занзибаре, по сравнению с Ходейдой, было просто тепло. А о влажности, к которой вроде бы уже привык, и говорить нечего — на Занзибаре было просто сухо! Моя рубашка моментально стала мокрой. От теплового удара спасала белая кепочка, а глаза от солнца — темные очки.
На улице, по которой шли, было очень многолюдно и оживленно, туда-сюда сновали видавшие виды легковушки, микроавтобусы, грузовички, трехколесные мопеды с багажниками, попадались и велосипедисты. Тесноту на проезжей части добавлял гужевой транспорт — повозки, груженные разными товарами, фруктами и овощами, или с каким-то скарбом. Кто-то тащил их за оглобли, а кто-то погонял осликов перед ними… В общем, «жизнь била ключом».
И вдруг невдалеке от нас раздался одиночный ружейный выстрел, за ним другой, третий, и началась настоящая пальба. Здесь, в далекой Ходейде, я вновь оказался в Чуквани, на боевых стрельбах!
Оглянулся вокруг — никакой паники или страха, все и каждый в отдельности продолжали заниматься своими делами, как будто никто ничего не слышал, не видел, а всё происходящее не имело ровно никакого значения. А пальба как началась, так и закончилась — внезапно!
Посмотрел на Игоря — он как шел, так и продолжал спокойно идти. Ничего не понимая, спросил: «Что это было?». В ответ услышал: «Мы тут к этому привыкли. Не обращай внимания…».
И вот его рассказ (конечно же, не в дословном изложении): «Здесь это не редкость. Так йеменцы — мужчины выражают свой восторг, если увидят или повстречают красивую женщину, от которой глаз не оторвать. Кто-то пальнет в воздух, за ним — другой, ну и… Ты сам слышал, поздравляю!»
Игорь посоветовал присмотреться к прохожим. Тут-то я и увидел, что многие мужчины — молодые и постарше, а то и старики, почти все — «при оружии». У кого старенькая винтовка-одностволка через плечо; у кого-то пистолет в потертой кожаной кобуре на боку; у многих — кинжалы за поясом в ножнах, прямые, но чаще «арабские»… И я стал с еще большим любопытством посматривать по сторонам — а вдруг и нам повстречается красавица. Увы… Среди прохожих женщины (или девушки) были, но все они — в чадрах, не разглядишь. Не помню, спрашивал ли у Игоря о «везении» тех, кто только что устроил салют в честь прекрасной женщины…
И другой эпизод. Возвращаясь с Игорем c прогулки, заходили в какие-то магазины и лавки. Любопытства ради, я ничего не собирался покупать. Их было много — мы шли по торговой улице, сказал мне Игорь. И уже перед самой гостиницей зашли в одну из лавчонок. Поздоровались с продавцом. Он стоял за прилавком и слушал арабские мелодии, доносившиеся из транзисторного приемника. Немолодой, в традиционной джалабе йеменец, с тюбетейкой-шапочкой с арабской вязью на голове, обрадовался нашему появлению и оказался очень разговорчивым.
Каким-то образом он сразу догадался, что мы русские, произнес несколько слов (какие — не помню) по-русски, в ответ ему Игорь сказал что-то по-арабски. По реакции продавца понял, что они знакомы — скорее всего, Игорь, один или в компании с советскими военспецами, бывал здесь.
Пока они разговаривали, я подошел к прилавку. Под стеклом люминесцентная трубка освещала всякую мелочь ширпотреба, уже и не вспомнить. А по центру прямо на меня «смотрели» какие-то плотные, как показалось, перчатки — слегка пыльные, из темно-красной кожи, с темными же, коричневатыми, в общем, почти в тон цвета перчаток металлическими рифлеными кнопками-заклепками на запястье, с замысловатыми, неброскими строчеными узорами…
Мне стало интересно, я подозвал продавца. Он мигом подошел, начал объяснять, какой у него товар и откуда, что и почем, все время повторял — «это отдам подешевле, и это тоже…», говоря при этом «дисконт» (именно так, а не по-правильному «дискаунт» — «discount»). Он явно увлекся, рекламируя свои товары, и очень быстро говорил по-английски. Пришлось его остановить.
Продавец показал мне перчатки. Едва притронувшись, я сказал себе: беру — качество выделки кожи бросилось в глаза. И сказал «тем более беру!», заглянув «внутрь». Вы не поверите — они были на меху! Подумал: откуда они здесь, в такой жаре, где и снега-то никогда никто не видел? И для кого?..
* * *
Здесь я не прав. Тогда не знал, что недавно, в 1962 году, в этих краях выпадал снег — природное явление, которое напоминает в Йемене о себе раз в 60 лет! Об этом рассказал Толя Иванов, работавший переводчиком английского в Египте в 1960—1964 годах, в своих воспоминаниях на одной из страниц нашей с ним книги «В Египте и на Занзибаре…». Прочитав строки Анатолия Николаевича о снеге, выпавшем в Йемене в том году еще в его рукописи, вдруг подумал, когда писал свою часть «мемуаров»: «Неужто в ожидании снегопада йеменцы закупали перчатки, а «герой» моего эпизода каким-то образом «залежался» в той самой лавке в Ходейде?».
* * *
…Не меньшее удивление вызвал «фирменный» лейбл на кнопках перчаток — «British make»! Никогда такого не видел. На Занзибаре попадались товары с надписями «Made in Britain» или «Made in Hong Kong». Но никак не «…make»!
Пока мерил перчатки — а они мне подошли: размер 9 1/2, как и было указано на них, — руки тут же вспотели, и пришлось их снять. Но не покидал вопрос: откуда они? Спросил у Игоря, попадались ли ему такие перчатки еще где-нибудь, может, кто из советских военных специалистов видел их и покупал. Ответ был отрицательный, хотя он добавил, что «на Востоке все может быть…». (Как тут не вспомнить крылатое — «Восток — дело тонкое…»! ) А продавец вспоминал-вспоминал, но так и не вспомнил. Наконец сказал, что получил их, наверное, с какой-то партией товара из Лондона, в которую, по его словам, «эта единственная пара и попала, случайно».
С ним я долго не торговался, он сделал мне обещанный «дисконт». А на прощание продавец сказал, что теперь всем своим покупателям будет рассказывать: у него купил меховые перчатки не абы кто, а русский! И добавил, радуясь удаче (продал-таки залежалый товар), что в новой партии обязательно будут две — три пары таких перчаток. Довольные друг другом, мы попрощались.
Этот эпизод запомнился не только потому, что это была моя единственная покупка в Йемене. Перчатки на меху, которые в те времена было не достать в Москве, «служили» мне долго-долго — оказались качественными, видимо, и вправду были «British make», — пока не потерял одну из них. Об этих перчатках, их «происхождении» часто рассказывал друзьям…
ВОЗВРАТИВШИСЬ В МОСКВУ
Сотрудничество мое с КМО СССР переводчиком суахили продолжалось и после возвращения из Занзибара. Побывал с тазанийскими молодежными делегациями во многих городах. В частности, в 1967 году в Ташкенте, вскоре после страшного землетрясения 1966 года. Собственными глазами видел разрушенные «Черемушки» в столице Узбекистана (по примеру Москвы, так называли подобные кварталы новых жилых домов повсюду по стране). Неоднократно — в Киеве и Ленинграде, в Минске и Кишиневе…
Программы пребывания гостей готовились тщательно как в Москве, так и на местах. Предусматривалось посещение различных предприятий, колхозов и совхозов, исторических мест, связанных с революцией Октября 1917 года и Великой Отечественной войны. Проводились многочисленные встречи и беседы с нашей молодежью, африканских гостей знакомили с опытом комсомольских и пионерских организаций. Делегации сопровождали, как правило, вторые секретари городских и республиканских комсомольских организаций.
В 1968 году меня как переводчика суахили включили в состав советской делегации, направлявшейся на очередной Фестиваль молодежи и студентов, который проходил в Софии.
Переводчик и диктор суахили на Пятницкой
Чтобы суахили не забыть, чаще общаться и говорить на языке, решил устроиться в Отдел вещания на суахили на страны Восточной Африки на Московском радио, на Пятницкой.
Мой «бэкграунд» (был же переводчиком суахили на Занзибаре!) не особо помог. На Радио начинал редактором-контролером — прослушивал на предмет обнаружения ошибок в трансляциях (не прямых, а в записи). Работал по вечерам (2—3 раза в неделю), получая 40 рублей в месяц. Вскоре такая «работа» наскучила, понял бесполезность этого занятия: ведь даже если и были «ошибки» (по неопытности их просто не замечал), ничего не исправить: тексты уже прозвучали в эфире!
И перешел в редакцию суахили. А «протекцию» мне составил… Верно — Овчинников! Вернувшись в Москву осенью 1966 года, он продолжал подрабатывать на радио переводчиком и диктором, где уже работали Макаренко и Довженко (до отъезда на Занзибар). О заработках своих товарищей не спрашивал, но от них узнал: «Работа здесь — сдельная, что сделаешь — за то и получишь». Надо сказать, платили хорошо: чем выше «категория» переводчика или диктора — тем больше. Точных цифр за давностью лет не помню.
Начинал я без «категории»: переводил с суахили письма африканских слушателей (их было очень много!), показывал руководству. Некоторые из них потом звучали в тех или иных радиопередачах. На какие-то отвечал сам, предварительно посоветовавшись с начальством.
Дальше — больше. Переводил новостные сообщения, отдавал их на редактирование «носителям» языка, затем, по той же схеме, — фрагменты отдельных радиопрограмм… Хотя работа была не творческой и не очень интересной, определенную пользу она все же приносила, поскольку постепенно накапливался объем информации о стране и об Африке в целом, что пригодилось в будущем.
Пробовал свои силы и как диктор. Первая «проба» далась с трудом. В кабинке я у микрофона, и рядом никого (не то, что на сцене, сидя за роялем, когда на тебя устремлены десятки, а то и сотни глаз слушателей в концерте), только текст на столе. Лишь за звуконепроницаемым стеклом видишь одного-двух операторов. Шла запись, заикаясь, произносил какие-то слова и фразы, и вещал не своим голосом! Удалось нормально произнести только «Hii ni Mosсow!» («Это — Москва!»).
Постепенно дело наладилось. И однажды звукооператор, опытная в своей профессии (помнится, Мария), прервав какую-то запись, сказала в наушники «из-за стекла»: «Олег, у тебя голос хорошо ложится на плёнку!» Для меня это было высокой оценкой!
Работал на радио, разумеется, не каждый день, чаще — в выходные или праздничные дни, подменяя иногда своих коллег. Подкупало, что в такие дни ставки сдельной работы удваивались. В конце внештатной «радиослужбы», когда с подачи Сергея Сергеевича Евсеева, начальника Отдела вещания на Африку, строгого и взыскательного, мне присвоили 3-ю категорию переводчика и диктора (чем очень горжусь), я зарабатывал 130—150 рублей в месяц — немалые по тем временам деньги, и более чем приличная добавка к стипендии!
Сергей Сергеевич («классный», как ныне модно говорить, журналист) говаривал: «А как Вы можете обосновать/доказать необходимость (выделено мною. — О.Т.) присутствия данного материала (статьи, репортажа и т.п.) в эфире?» Строг был вельми Сергей Сергеевич!
С той поры и запомнилось это изречение, когда сам что-либо писал (готовился писать или сейчас пишу-сочиняю), включая и диссертацию, — иными словами, призывал на помощь «внутреннего редактора», т.е. себя самого (о чем постоянно напоминаю аспирантам (и не только им!) — авторам предлагаемых к публикации материалов).
«Кибоко Хуго — бегемот»
Навыки перевода на суахили мне пригодились, сотрудничая с Центросоюзом СССР. Переводил и рецензировал поступавшие в эту организацию, объединявшую потребительские союзы в нашей стране, материалы о кооперативном движении в Танзании (в еженедельнике «Ukulima wa kisasa» — «Соверменное сельское хозяйство») и Кении (в газете «Ushirika» — «Кооперация»). В те годы Центросоюз поддерживал тесные связи с аналогичными организациями в Восточной Африке, на этом направлении очень активно работал Астанин, заместитель председателя Центросоюза. Энергичный, крупный, импозантный, с ним я встречался не раз.
«Довелось сотрудничать и с другими организациями. Так, например, в 1975 году каким-то образом издательство «Детская литература» вышло на меня с просьбой перевести для детского писателя Сарнова (здесь и ниже подчеркнуто мною. — О.И.) с языка суахили книжку «Kiboko Hugo» («Бегемот Хьюго»), которую он привез из поездки в Танзанию. При этом просили сделать дословный перевод, без литературных изысков. Свою задачу я выполнил, и гонорар получил, так сказать, по первому разряду — 120 рублей.
Встретиться с писателем и спросить его, чем эта книжка была для него интересной, мне не удалось. Но, думается, Сарнову рассказали в Танзании, что бегемот — самое опасное животное для крестьян, проживающих в деревнях около рек и озер. Бегемоты разоряют огороды и посадки, а на людей нападают гораздо чаще, чем крокодилы, слоны или львы и леопарды, и почти каждая «встреча» с ними гибельна для них, да и для жителей городских окраин тоже. Об одном из них, которого народная молва нарекла именем Хьюго и благополучно дожившего до старости, всякий раз умело избегавшего облавы на него после очередного «набега», и рассказывает книжка «Kiboko Hugo» с неплохими картинками танзанийского художника.
Издал ли Сарнов эту книжку для наших ребятишек, получив мой перевод, мне не известно…».
* * *
Да, было «мне не известно», когда пару лет назад писал эти строки, делая «заготовки» для будущей книжки. Написав их тогда (что помнил или вспомнил, не утруждаясь уточнить что-либо), приступал к другой, третьей… Но сегодня расскажу читателю о счастливой судьбе «моего» бегемота.

Это — вовсе не «Сарнов», а известный детский писатель Станислав Владимирович Сахарнов (1923—2010) «пересказал с суахили» сказку танзанийского писателя Джона Пантелеона Мпонде. В 1976 году издательство «Детская литература» выпустила книжку «Кибоко Хуго — бегемот» тиражом 150 тысяч экземпляров, цена — 22 копейки. Мягкий переплет, в ней всего 18 страниц и ровно столько же прекрасных цветных иллюстраций — рисунков художника М.С.Беломлинского (р. 1934), причем два из них очень удачно выполнены в традиции «тинга-тинга». А это позволяет предположить, что Михаил Самуилович тоже побывал в Танзании, скорее всего, вместе с писателем, и видел картины и полотна тамошних живописцев.
В 1975-м, когда я делал подстрочный перевод этой сказки, имя ее автора наверняка указал, но со временем просто забыл. Как «забыло» про меня и издательство «Детская литература». Отнюдь не переживаю, что в выходных данных этой книжки «автор перевода» не указан (есть только «Пересказал с суахили писатель…»), но мне даже не сообщили, что книжка издана! Иначе не написал бы выше «мне не известно».
Что же касается «Хуго», а не «Хьюго», что точнее — ибо так, более «мягко», это слово произносится на языке суахили, не суть важно. Гораздо важнее, что сахарновский «Кибоко Хуго — бегемот» был переиздан в 1979 году, впоследствии всегда входил в известные в те годы «Сказки из дорожного чемодана» С.В.Сахарнова, а последнее издание — в 2014 году. И это — хорошо. Не одно поколение наших ребятишек читало, и читают, сказку, придуманную для их танзанийских сверстников…
АФРИКАНИСТ В ФОРТЕПИАННОМ КЛАССЕ МГУ
Памяти Ундины Михайловны Дубовой-Сергеевой (1912—1986) —
организатора и руководителя Фортепианного класса МГУ…
Уезжая в 1965 году на стажировку на Занзибар, я сожалел, пожалуй, только об одном: в течение года придется забыть о фортепиано. Трудно было себе представить, что там — на островах — можно будет найти рояль или пианино. И действительно, в Генконсульстве СССР инструмента не было, не было его — я спрашивал — и в знакомых мне в городе немногих публичных местах.
Именно так, этими строками, начну рассказ о моей «первой» специальности. И это — музыка…
* * *
…Весной 1959 года, заканчивая 9-й класс, я окончил музыкальную школу-семилетку им. Гнесиных — пожалуй, самую престижную в те годы среди других районных музыкальных школ в Москве. «Гнесинка» находилась на Старом Арбате, д. 5 на Собачьей площадке — так называли это место коренные москвичи (уже полвека, как не найти её на картах Москвы).
Моим педагогом (и Наташи тоже) была Софья Ивановна Апфельбаум (1887–1981) — подруга по жизни Елены Фабиановны Гнесиной (1874—1967), тогдашнего директора Музыкального училища им. Гнесиных (в 1944—1953 гг. — директор Института им. Гнесиных).
Именно в это училище в июле 1959 года сдавал вступительные экзамены на фортепианное отделение. Софья Ивановна была уверена, что поступлю. Но зная, как я волнуюсь и нервничаю, когда играю на публике, посоветовала выпить несколько капель валерьянки. Что меня и сгубило. Эти капли «успокоили» меня настолько, что экзамен по фортепиано я провалил. Исполняя 1-ю часть I концерта Бетховена (в переложении для двух фортепиано), «музыку» не играл, исполнял «технику». Аккомпаниатор (имя не помню, пусть будет Львов) с удивлением (я это видел) посматривал на меня, едва успевая за мной.
Закончив играть, выскочил из зала — злой на себя и окружающих. Софья Ивановна пыталась меня успокоить, тщетно. Через какое-то время подошел Львов. Ему и рассказал, что мне «посоветовали выпить валерьянку, чтобы не нервничать на экзамене». В ответ он говорил что-то, а прощаясь, предложил прийти и сдать экзамены на дирижерско-хоровое отделение: «Валерьянки не надо. Всё у вас, Олег, получится…».
Через два дня сыграл то же, что и накануне (без валерьянки), перед той же самой приемной экзаменационной комиссией, и тот же Львов мне снова аккомпанировал. Получил «отлично», как и по двум другим экзаменам — «пение» (к своему удивлению, и экзаменаторов тоже, взял соль-диез второй октавы!) и «дирижирование» (а дирижировал я впервые в жизни!), и меня приняли на дирижерско-хоровое отделение.
Посчитал, что мне это не подходит. Сосредоточился на учебе в выпускном, 10-м классе, средней школы №114 Советского района — на Садовом кольце, рядом с Планетарием, и на подготовке к вступительным экзаменам в институт (собирался поступать в МГИМО).
В Гнесинское училище я не пошел, о своем отказе не сообщил и документы оттуда не забрал. Между тем, спустя пару месяцев я вновь встретился с Львовым. Произошло это в очереди в билетные кассы Зеленого театра ЦПКиО им. Горького — предстоял концерт какого-то ансамбля из Западной Германии. Я, мама и сестра уже подходили к окошку за билетами, как вдруг кто-то сзади легонько похлопал меня по плечу. Обернувшись, увидел Львова! С некоторым укором он сказал, что в Гнесинском училище меня всё ещё ждут, на моё место никого не приняли, не будет поздно прийти и через месяц… Конечно, я поблагодарил его за внимание, объяснил, что очень хотел поступить именно на фортепианное отделение, но, видимо, не судьба…
МГУ — и фортепианный класс?
Поступив в ИВЯ в 1960 году, музыкальное образование я продолжил, к счастью, в фортепианном классе Дома культуры гуманитарных факультетов (ДКГФ) МГУ на Моховой (сейчас там — храм св. мученицы Татианы, как и было до Октября 1917 года).
Этот Клуб (как мы, студенты, его называли) уже тогда был знаменит в Москве смелейшими спектаклями «Студенческого театра МГУ» (или «Наш дом»), которому благодаря великой русской актрисе А.А.Яблочковой было присвоено почетное звание «Народный». Кто вышел из театра — не перечесть: Ролан Быков, Марк Розовский, Алла Демидова, Ия Саввина, Александр Филиппенко, Марк Захаров…

Фортепианный класс создала и руководила им с 1936 года Ундина Михайловна Дубова-Сергеева (ее муж — Лев Александрович Сергеев, геофизик-нефтяник). Одна из любимых учениц выдающегося советского пианиста, музыканта и педагога Генриха Густавовича Нейгауза (1888—1964), воспитавшего Святослава Рихтера и Эмиля Гилельса, Алексея Наседкина (мой одногодок; в детские и юные годы считался вундеркиндом; профессор Московской консерватории. Я был на его концертах), Александра Слободяника, многих других известных советских пианистов. Г.Г.Нейгауз вплоть до своей кончины был куратором Фортепианного класса МГУ.
Весной 1936 года 24-летняя Ундина, которая рассматривалась одним из вероятных кандидатов на участие в 1937 году в 3-м конкурсе им. Фредерика Шопена в Варшаве, сломала руку, поскользнувшись зимой в Москве. Так не сложилась ее судьба как профессиональной пианистки. В войну Ундина тушила зажигательные бомбы на крыше Клуба. Ее сестра Женя, окончив с немецким институт иностранных языков, была заслана в тыл и погибла (об этом рассказала мне Ира Черкашина — о ней здесь же, ниже).
В 1962 году У.М.Дубовой-Сергеевой — одной из первых в системе художественной самодеятельности в Советском Союзе — было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР».
Композитор, народный артист СССР, профессор Московской консерватории Арам Ильич Хачатурян в отзыве от 6 марта 1962 г. о музыкально-педагогической деятельности У.М.Дубовой-Сергеевой писал:
«Систематические концертные выступления участников этого коллектива отличаются художественным вкусом, творческой увлечённостью, логической последовательностью музыкальной мысли. За всем этим стоит огромный труд педагога-энтузиаста, работающего не по положенной норме, а по собственному горячему отношению и любимому делу. Считаю, что поднятый вопрос о присвоении У.М.Дубовой-Сергеевой звания (Заслуженный деятель искусств РСФСР) вызывает единодушное одобрение как у музыкантов-профессионалов, так и у широкого круга любителей музыки и, безусловно, заслуживает быть высоко оценённой».
Как я поступил в этот класс
…В один из осенних дней 1960 года Саша Довженко и Володя Макаренко после занятий в ИВЯ позвали меня «на баскетбол» в спортзал на улице Герцена (с недавних пор снова Большая Никитская) — напротив Исторического факультета МГУ.
По пути туда мы проходили мимо ДКГФ. Рядом с одной из рекламных киноафиш (в этом клубе демонстрировали фильмы два-три раза в неделю) увидел крупное типографского набора объявление: «Дом культуры МГУ проводит прием в художественный и танцевальный кружки, в класс пения…» и… «в Фортепианный класс МГУ»!
О том, что Дом культуры есть, я знал, но что было в нем, по правде говоря, не интересовался. И вдруг — «Фортепианный класс»! Тут же подумал — надо попробовать. Но уже вечерело, и спросить в клубе «что и как» было не у кого, он был закрыт.
В спортзале получил большое удовольствие — Володя и Саша играли здорово. Я не завидовал — никогда сам не играл в баскетбол. Удивил Саша — не мог и предположить, что при его-то комплекции (не меньше 100—110 кг и при росте 185 см) можно быть таким ловким и подвижным. Ладонь же у него, большущая, была просто волшебной — Саша с легкостью необыкновенной посылал в кольцо один мяч за другим, промахиваясь крайне редко. Да и подступиться к нему было непросто — отменный дриблинг, обманные движения корпусом, ставившие в тупик его соперников, стремительные проходы под кольцо (сегодня сравнил бы его с легендами баскетбола — знаменитыми американцем Шакилом О’Нилом или нигерийцем Хакимом Оладжувьоном). Кто и против кого играли, конечно, не вспомнить, быть может, это была просто тренировка.
Покидая спортзал, снова взглянул на объявление о наборе в классы Дома культуры и решил зайти в клуб на следующий же день. Пошел туда в перерыве между занятиями. Директору клуба Тамаре Ивановне Смирновой рассказал, что год назад закончил «Гнесинку» и хотел бы поступить в Фортепианный класс. Она разъяснила, что надо прийти на прослушивание к руководителю класса, назвала ее имя и отчество (я их тут же забыл) и записала меня на такой-то день.
Учеба в ИВЯ шла своим чередом. Вечерами же дома, готовясь к предстоящему прослушиванию, я проигрывал на пианино какие-то пьесы из моего «гнесинского» репертуара, фрагменты из концерта Бетховена. В общем, восстанавливал навыки в игре после почти годичного перерыва в ежедневных занятиях музыкой.
Всё начиналось в Будапеште
Жили мы тогда с родителями на Тишинке. В «большой», как мне казалось, комнате — 31 кв. м — в коммунальной квартире на третьем этаже огромного 8-ми этажного дома, окрашенного в желтый цвет, с четырьмя подъездами, на улице «Тупик им. Красина» (в советские времена даже «тупики» не были безымянными! Нынче — пер. Красина). Дом своим торцом примыкал к Тишинскому рынку (стоит и сейчас).
Соседи — две семьи, у которых было по две комнаты. Глава семьи одной — подполковник, затем полковник Перегудов, жена — завуч школы рабочей молодежи (которую моя сестра Наташа окончила с серебряной медалью) и дочка лет пяти-шести.
Другая — инженеры Миткевичи и их взрослая дочь Светлана, студентка МАИ, она помогала мне решать задачки по алгебре и геометрии. У них был телевизор — КВН с малюсеньким экраном, перед которым устанавливалась приставка, своего рода увеличительное стекло — выгнутая емкость, которая заполнялась дистиллированной водой, отчего экран как бы увеличивался раза в полтора. Я часто наведывался к ним, особенно когда транслировали футбольные матчи со стадиона «Динамо», а комментатором был незабываемый Вадим Синявский.
Хорошо помню, как, приткнувшись вплотную к экрану, смотрел товарищескую встречу сборных СССР и ФРГ — тогдашнего чемпиона мира по футболу — летом 1955 года. В нашей команде — восемь (!) игроков из московского «Спартака»: Огоньков, Исаев, Нетто, Паршин, Маслёнкин, Сальников. Среди других спартаковцев мне запомнился нападающий блондин Анатолий Ильин, но особенно рыжеватый крепыш Борис Татушин — своими проходами по правому флангу, навесами и острыми передачами в штрафную площадку немцев. Наши, проигрывая 1:2, победили — 3:2. С той поры так и «болею» за «Спартак»…
Отношение соседей к нашим с сестрой занятиям музыкой (разучивание гамм, этюдов и т.п.) — ежедневным, главным образом по вечерам, было поразительно спокойным, не вызывало ни нареканий, ни раздражения все те десять лет (вплоть до 1962 года), что мы жили вместе в коммуналке.
Эту «площадь» отец получил в 1952 году по возвращении из командировки в Венгрию, откуда привез в Москву и новенькое пианино — немецкий «August Förster»: на первой, басовой, клавише сбоку выгравировано «1951» — год изготовления. Отличный инструмент! Служит мне и сейчас.
Будапешт же наша семья отправилась в самом конце 1946 года. Мне было 4 года, сестре — 2. Папа (ему тогда едва исполнилось 28) работал в Посольстве СССР «по линии ГУСИМЗ» — так он говорил. (Именно так я и писал потом в анкетах без расшифровки — «Государственное управление советским имуществом за границей». )
Воспоминание о том, давнем уже, путешествии у меня осталось только одно, и то смутное: глубокая осень, а может быть зима, летели на двухмоторном самолете (наверное, Ли-2) с остановкой, как узнал позднее, в Ужгороде — был холодно, кругом темнота, и очень хотелось спать…
Столь подробно пишу об этом потому, что именно с Будапешта начинается «отсчет» моего с сестрой приобщения к музыке, игре на пианино. И, думаю, не случайно.
Скорее всего, родители замечали, что мы с сестрой подпевали и, наверное, неплохо, в тон, услышав те или иные мелодии по радио или на пластинках, которые они покупали. Вот и решили, что у нас есть какие-то музыкальные способности. Папа, но особенно мама, часто слушали пластинки с ариями Карузо, Джильи, Тито Гоби, и оба любили песни Петра Лещенко (тогда, конечно, не знал, что это эмигрант). «Крутили» и пластинки с опереттами, легкой музыкой: с той поры запомнилась «Рио Рита» — знаменитый фокстрот.
Пианино появилось в 1948 году, в квартире на третьем этаже дома, где мы жили, — на Байза-улице, 55, почти напротив Посольства СССР (сейчас Посольство России). А учителем музыки стала молодая венгерка — по словам отца, выпускница Московской консерватории. Она неплохо говорила по-русски (более подробно см. — «Отец»). Скоро я научился играть «Волынку». Что в этой пьесе особенного? Наверное, ничего, и кто её «автор» — не вспомнить, но папа очень часто, когда я стал уже взрослым, нет-нет, да и просил: «Сыграй „Волынку“. У тебя хорошо получалось…».

С мамой и папой на даче в Луанфалу на озере Балатон. Справа — сестра Наташка, слева — Алик (оба в белых косынках). Венгрия, лето 1948 г.
Слушая радио, нравилась мне музыка венгерская: что-то в ней было «восточное», да и язык венгерский хорошо ложился на музыку. А пацаном я говорил на венгерском, как настоящий мадьяр! Свидетели — родители и …местный полицейский!
Папа, очевидец «события», рассказывал. Выходит он из калитки посольских ворот и видит — полицейский, охранявший наше посольство, треплет меня за ухо и что-то выговаривает. Отец подошел, спрашивает, что случилось. «Да вот, — начал полицейский, — мальчишка этот тут безобразничал, я сделал ему замечание, а он мне в ответ: „Как ты смеешь! Мы, русские, недавно вас освободили!“ Ну, не удержался — какой же он „русский“, он мадьяр, послушайте его венгерский!» Папа «слушать» дальше не стал, объяснил, что это его сын, и примет меры, чтобы не хулиганил больше, на что охранник только развел руками. Ну, а сегодня помню только одно слово на венгерском — «кёсенем» («спасибо»)…
В августе 1950 году с мамой уехал в Москву — нужно было поступать в школу. И я оказался в интернате МИДа, что на ул. Большая Пироговская (этот дом, 9А, стоит там же), вплоть до весны 1952 года. В интернате был свой учитель музыки — пожилой «старичок», с которым я и занимался на пианино, а в летние каникулы 1951 года в пионерском лагере в Дубулты (или Майори, не помню уже) на Рижском взморье, где инструмента не было, он обучал меня игре на мандолине!..
«А теперь я хотела бы услышать Листа…»
…Я не сомневался, что в Фортепианный класс буду принят — ведь совсем недавно окончил Гнесинскую школу! И аттестат приличный: «отлично» по специальности, «отлично» — по музыкальной литературе и «хорошо» — по сольфеджио. Странный предмет, не «мой», как и алгебра с тригонометрией для меня в средней школе, которую всё же закончил очень хорошо, всего с четырьмя «четверками»: нетрудно догадаться, все — по «точным» предметам.
В назначенный день пришел в ДКГФ. Волнения не испытывал, почему-то был уверен в себе. Подойдя к классу, услышал звуки игры на фортепиано, а у входа стояли несколько человек — ребята и девушки, ожидавшие, видимо, вызова на прослушивание.
Моя «очередь» подошла быстро. Вошел в класс — довольно просторное полукруглое помещение со сводчатым потолком и окнами, выходящими на Манежную площадь и улицу Герцена, два рядом стоящих рояля — полуконцертные. Возле них за столиком сидела немолодая симпатичная женщина с удивившей меня прической — пучком русых волос чуть выше затылка с замысловатой заколкой. Рядом с ней, поодаль, сидели еще двое-трое молодых людей. «Наверное, ученики класса», — подумал я.
Подойдя к столику, назвал себя и услышал: «А меня зовут Ундина Михайловна. Что будете играть?»
Я коротко рассказал о своих музыкальных «успехах» и что играл на выпускном экзамене в «Гнесинке», а потом на вступительном — в училище. Показал «гнесинское» свидетельство и добавил, что сегодня могу сыграть не очень удачно, поскольку «уже давно не занимался музыкой». «Ничего, ничего», — сказала Ундина Михайловна и, мельком заглянув в аттестат, пригласила к роялю.
Открыв крышку, увидел, что передо мной «Бехштейн» — инструмент, о котором много слышал, но видел только на сценах в концертных залах. Когда сыграл начало 1-й части концерта Бетховена, У.М. меня прервала: «Пока достаточно. А теперь я хотела бы услышать Листа. Сможете?» Этот вопрос прозвучал, помню, благожелательно, без толики ее сомнения в том, что «не смогу»… В общем, я смог, хотя и не без ошибок, кое-где и «фальшивил».
Пьесу «Грезы любви» («Liebestraum») в «Гнесинке» играл очень неплохо, хотя это произведение Листа и не входило в школьную программу, а только в училищах — на I и II курсах (в те годы).
На этом прослушивание закончилось. На вопрос, как узнать о результатах, Ундина Михайловна сказала, что об этом сообщит директор клуба Смирнова.
Мои «путеводители» в африканистику
За результатом я обратился не сразу. Скажу больше — на какое-то время и вовсе забыл, что был на прослушивании.
Спросите, почему? Скорее всего, ввиду занятости по учебе в ИВЯ, точнее, увлеченности дисциплинами, которые преподавали нам на I курсе. Всех предметов не упомню — не перечислять же их по приложению к диплому об окончании курса обучения в ИВЯ, где все они указаны. Назову здесь один — археология, и с благодарностью вспоминаю Дега Витальевича Деопика (р. 1932 г.), который раз в неделю читал лекции для «историков». Удивительно интересный предмет! Про себя могу сказать, что слушал его лекции с широко раскрытыми глазами, он рассказывал, а я «видел», без преувеличения, то, о чем он рассказывал, воображение помогало, и с нетерпением ожидал следующих лекций. С тщанием вел конспекты, делал какие-то пометки, изучал рекомендованную Деопиком литературу, готовился к очередному занятию. Не скрою, поразила и его необычная фамилия. Видимо, это тоже привлекло мое внимание к нему как преподавателю.
Полюбил я археологию, как когда-то и «астрономию» в средней школе. К сожалению, курс «археология» был рассчитан всего на один год. И, наверное, стал бы «археологом-востоковедом», продлись эта дисциплина на год-два больше. Но…
С II курса, с 1961 года, нам стали преподавать: экономику — Леонид Абрамович Фридман, историю Африки — Аполлон Борисович Давидсон (с января 1962-го), и вплоть до V курса.
Именно они — молодые тогда ученые — стали моими «путеводителями» в африканистику. Их лекции и семинары были настолько интересными, что увлекли на научную стезю.
Благодаря Фридману мне, студенту, удалось подготовить и опубликовать 1964 и 1966 годах в академическом журнале «Народы Азии и Африки» (сейчас «Восток/Oriens») две полновесные статьи: «Корпус мира — орудие идеологической экспансии США» (в соавторстве с Борисом Пильниковым) и «Американский частный капитал в Африке» — тогда одна из первых работ на эту тему в советской африканистике.
Леонид Абрамович научил «экстраполировать», делать выводы, прогнозы. Когда готовил под его руководством работу об американском капитале в Африке, с каким нетерпением ожидал я выхода в свет очередного американского ежемесячного журнала «Business Survey»! Точнее, не выхода, а поступления в «Ленинку», откуда выписывал его в Румянцевскую библиотеку, где и занимался (в «Ленинку» студентам той поры вход был «заказан»). Иногда отмечал про себя, что те или иные мои собственные заключения (по ходу работы над статьей), совпадали, или почти совпадали с цифрами, которые я «прогнозировал»!
Леонид Абрамович был руководителем моего выпускного диплома в ИВЯ — «Занзибар до революции 1964 года. Социально-экономические и политические предпосылки революции» (1967 г.), и одним из официальных оппонентов на защите кандидатской диссертации в 1973 году.
Он учил (ненавязчиво, как я понимал) и русскому языку — убирать «канцелярщину», сухость языка, следить за стилем изложения, и не питать пиетета к «иностранщине»!
Это же могу отнести и к Аполлону Борисовичу Давидсону. Уже много позднее, работая в журнале «Азия и Африка сегодня», получая от него тот или иной материал, мне как редактору делать было нечего. Поразительный русский язык, без изысков и «красивостей»!
Как-то, читая нам лекцию по истории Африки, в каком-то контексте Аполлон Борисович произнес «ипостась». Этого слова я не знал и никогда раньше не слышал. Не постеснялся прервать его и сказать об этом. С тех пор, получив простое разъяснение, я и сам, порой, пользуюсь этим словом.
У Аполлона Борисовича была удивительная, удивившая меня «присказка»: рассказывая на лекциях о том или ином, он часто говорил: «Ну, вы, конечно, знаете, что…». А нам-то знать было «откуда»? Что мы, второкурсники, вообще знали об Африке?
Что подкупало в нем (как, впрочем, и в Леониде Абрамовиче) — он общался с нами уважительно, я бы сказал, на равных. И словно подталкивал нас к «знанию» того, о чем сам он уже давно знал. Я частенько заглядывал в библиотеку и разыскивал то, что не знал, но захотелось узнать.
Именно Фридман и Давидсон приучили меня к исследовательской работе, и научили, что такое — наука. Премного им благодарен!
«Мизинец! Вот ваша слабость!»
Возвращаюсь к «музыке». Наверное, спустя месяц после прослушивания по каким-то делам зашел в Дом культуры. Встретив Тамару Ивановну Смирнову, поздоровался с ней и хотел, было, идти дальше, как она меня остановила: «Олег, почему не ходите на занятия? Вас же приняли в класс!» — «В какой класс?» — «Вы что, забыли? В фортепианный…». А ведь я действительно забыл! Так и сказал Тамаре Ивановне…
Ярким пятном в памяти осталось первое занятие с Ундиной Михайловной. Пригласив к роялю, она подсела ко мне, и состоялся разговор (передаю его почти дословно):
«Олег, покажите свои руки». Я протянул правую. Она взяла ее в свою руку, а другой начала прощупывать мою ладонь. Я не понял — для чего? Но промолчал. — «Так, ширина кисти вполне хорошая… Расставьте пальцы… Тоже хорошо, длинные, можете взять больше октавы».
Самое удивительное произошло после. Мой педагог стала исследовать, иначе не сказать, каждый палец в отдельности! А дойдя до мизинца, до его фаланги, воскликнула: «Вот! Вот она, ваша слабость!» Я спросил — почему? Не говоря ни слова, Ундина Михайловна подвела мою ладонь к клавиатуре и сказала: «Возьмите какой-нибудь аккорд и не отпускайте руку». Я это сделал. — «А теперь, — продолжала она, — посмотрите на свой мизинец». Я посмотрел. — «Видите? Он прогнулся! А это — нехорошо. С таким мизинцем, фалангой «туда-сюда» многое может не получиться. Они [мизинцы] будут просто «соскакивать» с черных клавиш [диез, бемоль] на соседние [белые]. А слушатели подумают, что вы фальшивите…». После этого она точно так же «изучила» и мою левую ладонь.
Я был потрясён! Не попади в класс Ундины Михайловны, так и пребывал бы в неведении, что какой-то «мизинец-мизинцы» могут мешать пианисту!
Никогда и никто не говорил мне об этом. Ни первая учительница музыки в Будапеште, ни вторая — Мила Николаевна Бунакова в музыкальной школе Советского района, в которой с сестрой учились в 1952—1955 годах, а потом в — 1956 году — перешли в «Гнесинку». Ни третья — Софья Ивановна Апфельбаум. И об этом — ниже.
* * *
Папа, уверовав в музыкальные способности сына и дочери (доставшиеся нам, как мы поняли много позднее, от мамы, Валентины Андреевны. Она была, сколько я с Наташей помню, певуньей, прекрасно пела: голос небольшой, но высокий и мягкий; музыке не училась, но определенно музыкально одаренная, хорошо играла на аккордеоне), в 1950 году предпринял попытку устроить меня в «Гнесинку».
Точнее, не он, а мама моя. Приехав с ней в Москву «поступать в школу», она вскоре вернулась в Будапешт, но перед этим привела меня на прослушивание, или приемный экзамен. Куда?
Тогда мне не было и 8 лет. Помню только, как проходили приемные экзамены, скорее всего, в здании Института им. Гнесиных на ул. Воровского. В коридоре на одном из этажей толпились какие-то люди с детьми моего возраста. Вошел в зал, небольшой, но с рядами кресел, на сцене — рояль, во втором или третьем ряду — «тёти и дяди»…
Ко мне подошла какая-то «тётя», пожилая. Сев за рояль, она сыграла мелодию и попросила спеть ее, затем — другую, третью… Я пропел. Потом начала «похлопывать» ладонями с разными интервалами и сказала: «А теперь, повтори, проверим твою ритмику». И так — несколько раз. С этим я тоже справился (впервые услышав от «тёти» это слово!). Наконец, сел за рояль и что-то сыграл.
Через несколько дней мама сказала, что меня не приняли: за игру на рояле я получил «4». Оказывается, у меня были «не так поставлены руки» — есть такой термин в пианизме. Другие «подробности» за давностью лет помню ли? Нет!
Фабулу моего повествования дальше я нашел в дневнике отца:
28.9.1950 — …Валя сообщила, что Алика в музыкальную школу Гнесиных не приняли, несмотря на то, что у него признали абсолютный слух. Преподаватель школы Гнесиных С.И.Апфельбаум (подчеркнуто мною. — О.Т.) берет его на год на домашнее обучение. Но Валя почему-то боится, что далеко его возить к ней на квартиру и поэтому решила обучать Алика музыке в интернате. Я очень сожалею, что мой сын не будет заниматься у Апфельбаум.
Тогда я был слишком мал, чтобы огорчаться. А прочитав эти строки сейчас, папу понимаю. Но и маму мою можно понять: я уже жил в интернате, откуда «возить» меня на какую-то «квартиру» никто бы не стал, а папу моего нельзя было надолго оставлять одного в Будапеште…
Самое поразительное — я всё же стал учеником Софьи Ивановны Апфельбаум! Позднее…
* * *
Весной 1952 года родители вернулись из Венгрии, и меня с сестрой определили в районную музыкальную школу-семилетку, по соседству со школой №114, где я учился (а потом и сестра, когда в 1954 году мальчики и девочки стали учиться вместе). Нашим педагогом стала Мила Николаевна Бунакова. Меня приняли во 2-й класс, Наташу — в 1-й.
Не могу сказать, что проявлял особое рвение к занятиям музыкой, порой занимался с прохладцей. И все же они не были в тягость, выступал в школьных концертах. Не хотелось «подводить» и родителей, особенно отца, который почему-то считал меня с сестрой очень способными. Тем более что вскоре они уехали в Норвегию — папу направили в наше посольство в Осло (1954—1959 гг.), а мы с сестрой жили в это время одни под присмотром домработницы — Шахиной из Брянска.
«Тётя Наташа» — так мы ее называли. Была она малограмотной, читать и писать не умела, письма родителям писала от ее имени наша соседка Светлана. Расписывалась «крестиком» в зарплатной ведомости на работе отца. Помню, что в первые год-два она получала 160 рублей в месяц: много это или мало, я тогда не знал, как не знал, сколько денег уходило на наше с сестрой питание и другие расходы. Благодаря «тёте Наташе» мы с сестрой узнали, что это такое — дранчики. Она, мастерица, замечательно их готовила!
Занятия в музыкальной школе шли своим чередом, Мила Николаевна была мною довольна. О «большой» музыке я тогда не думал, но постепенно шел к ней. И однажды…
Было это в начале 1950-х, в один из летних дней. Приехав к нам из Осло, мама купила мне билет за 50 копеек (на галёрку) на концерт в Доме Союзов. В нем участвовали Рихтер, Шпиллер и Женя Таланов. Рихтер играл и аккомпанировал, Шпиллер пела, пел и Женя Таланов. К тому времени уже слышал по радио знаменитую в его исполнении песню «Родина слышит». Пел он поразительно, сравнил бы его с Робертино Лоретти, но тот появился гораздо позже. Посещение этого концерта осталось ярчайшим пятном в памяти моей. Вот таким образом я приобщался к музыке классической…
В музыкальную школу меня принимала Гнесина
Летом 1956 года папа, приехав в отпуск, предпринял новый «поход» в «Гнесинку». Не знаю, как это ему удалось, но в своем рабочем кабинете сестру и меня — учеников 4-го и 5-го класса обычной музыкальной школы — слушала сама Елена Фабиановна Гнесина! Я запомнил ее облик — очень пожилая, с пышной копной седых волос, приветливая и общительная. Она передвигалась в инвалидной коляске.
Накануне прослушивания моя учительница музыки Бунакова настояла на том, чтобы я сыграл «Праздник в колхозе» Воробьёва и «Турецкий марш» Моцарта. Она говорила, что эти две пьесы у меня получались хорошо, с ними выступал в школьных концертах. Да и мне самому был по душе «Праздник…» Воробьёва.
В такой же очерёдности я и играл. Как сыграл — не помню, что говорила Елена Фабиановна — не помню тоже. Но папа, который привел меня к ней, потом говорил: «Ну и дался тебе этот Воробьёв! Ты бы видел, как Гнесина поморщилась, услышав только название — „Праздник в колхозе“. А когда ты начал играть „Турецкий марш“, она преобразилась, слушала и улыбалась…».
Е.Ф.Гнесина, педагог старой школы, воспитанная на «классической» музыке, могла и не знать «какого-то» композитора Воробьёва. Но это — только мое предположение…
Слова отца — «Ну и дался тебе…» — я помню, но вот как он вспоминал тот день, спустя много лет, записав в своем дневнике в 1969 году:
…Летом 1956 года мы перевели детей из районной муз. школы в Гнесинскую 7-летку. Это предложила их учительница Бунакова-Ершова. Что самое интересное — оба попали в класс той самой С.И.Апфельбаум, которая в 1950 г. прослушивала Алика.
Вначале мы были на прослушивании у самой Елены Фабиановны Гнесиной. Наташина программа ей понравилась, она брала её на руки, разглаживала пальчики её рук. А вот Алик её шокировал — он играл колхозный танец не то чувашского, не то башкирского композитора. Она же, ведь, классик сама, и классическая музыка для неё — её жизнь. Прослушав, она протяжно сказала — «М-да-а-а…». Потом он сыграл «Турецкий марш», играл очень хорошо.
Оба ей понравились. Она порекомендовала встретиться с С.И., с которой уже говорила, дала мне её адрес. Я ездил к ней на дачу на 43-й км с Казанского вокзала. Побеседовали в саду. Напомнил ей о 1950 г. Она вспомнила, как тогда ей пришло письмо «из заграницы». Это её бывшая ученица Лера (она и её муж работали тогда, как и я, в Венгрии) по нашей просьбе писала ей. Обо всем договорились. Сначала ребята ездили к Софье Ивановне на квартиру, а затем влились в её класс.
Софья Ивановна Апфельбаум
Меня приняли в школу им. Гнесиных в 5-й класс (сестру — в 4-й). Моим педагогом, как и Наташи, Елена Фабиановна назначила… Софью Ивановну Апфельбаум!

Софья Ивановна Апфельбаум. 1959 г.
Это сейчас я поставил «восклицательный» знак. А тогда, на первом же уроке, от Софьи Ивановны узнал: помнит она меня, она меня прослушивала в тот августовский день 1950 года (та самая «тётя», которая проверила у меня «ритмику»! ), именно она предложила маме взять меня «на год на домашнее обучение». Вспомнил ли я? Это не столь важно…
К ней домой, в квартиру в Рыбниковом переулке, что на Сретенке, я часто приходил на дополнительные занятия — перед зачетами и экзаменами или накануне школьных концертов.

С. А. Апфельбаум с педагогами фортепианного отдела Школы-семилетки имени Гнесиных. 1959 г.
Однажды (наверное, в 1958 году) в один из таких дней, отлучившись на минуту на телефонный звонок и вернувшись, Софья Ивановна сказала с некоторым радостным оживлением: «Сейчас придет Женя Светланов, мой бывший ученик». Я спросил — дирижер? — «Да. Пианист и очень хороший дирижер!» Так я познакомился с Евгением Федоровичем Светлановым (1928—2002)…
Квартира Софьи Ивановны была увешана картинами. О них я не спрашивал. Но однажды, придя домой, увидел на стене натюрморт в «позолоченной» раме: на столе, накрытом светлой скатёркой, стоит желтоватый кувшин, рядом с ним кучка белых грибов вперемежку с подберезовиками, подосиновиками, лисичками, и корзинка, полная грибов. Картина очень живописная, с холстом примерно 90 на 70 см. А в левом нижнем углу подпись — «Апфельбаум. 52»! Как рассказал отец, это — «подарок нашей музыкальной семье» от Софьи Ивановны, у которой сын — художник. Видимо, родители, приезжая в отпуск из Норвегии, привозили ей в благодарность за внимание к нам с сестрой сувениры и подарки. И вот состоялся такой «обмен».
…В 1965 году, проезжая как-то на троллейбусе по Беговой улице, увидел из окна транспарант-афишу на одном из домов — «Выставка картин художника Апфельбаум». Я тут же вышел на ближайшей остановке и направился к этому дому, где, как выяснилось, находился художественный салон. Но… Смеркалось, было почти 6 часов вечера, и салон вот-вот закроется. Осмотреть выставку не удалось. Когда спросил, можно ли представить «наш» натюрморт, мне ответили: «Сегодня — последний день. Художник Апфельбаум скончался два года назад. И это его посмертная выставка».
Картина-память о семье Апфельбаум все годы с тех пор украшала квартиру моих родителей…
Занимаясь в классе С.И.Апфельбаум, начал понимать, что «музыка», игра на фортепиано увлекала меня по-настоящему. Приведу начало письма Софьи Ивановны родителям в Осло, когда я перешел в 7-й, выпускной класс «Гнесинки», и в 9-й — в средней школе:
15 сентября 1958 г. — …На ваш вопрос о дальнейшем музыкальном образовании Олега и Наташи. Мне, правда, очень трудно ответить. И вот почему. Данные у них, конечно, имеются. У Олега, в какой-то мере, их даже больше. У него прекрасные руки, у него есть смелость, хватка, как мы это называем. Он музыкальный. Олег полюбил музыку и очень успел. Играть он хочет и любит трудные вещи (в чем я ему не отказываю). По данным, он мог бы попасть в Училище и продолжить музыкальное образование…
На эту же «тему» — из моих писем родителям:
1 марта 1959 г. — …Музыкой занимаюсь много, в день играю часа 3, а иногда и больше. В буквальном смысле — у меня подъем в музыке. Прежде игра на ф-но была нечто средним между обузой и удовольствием. А сейчас — с таким наслаждением я никогда раньше не занимался, никогда. Было, конечно, иногда, что не хотелось отрываться от игры, но это не то. Сам ищу свободное время для игры… Софья Ивановна говорит (вернее, она не договорила), что если я сыграю на выпускном экзамене всё, что сейчас готовлю… и больше ничего не сказала.
3 апреля. — …Папа спрашивает: хочу ли быть профессиональным музыкантом? Об этом сейчас и говорить не хочу. Прежде нужно попасть в муз. училище, не «попасть», а поступить, а затем окончить 10-й класс школы. И по тому, как окончу I курс, можно будет говорить о будущем. Я так считаю.
15 июня. — …5 июня был выпускной экзамен, программу играл 40 минут. Экзаменационная комиссия советует поступать в училище.
…13 июня на выпускном вечере выступали 4 девочки и 2 мальчика-пианиста — Вова Петров, он считается лучшим учеником «Гнесинки», и я. Играл «Ноктюрн» Шопена и «Поэтическую польку» Сметаны. Потом Софья Ивановна сказала, что играл я «очень лирично, словно нарочно был настроен так играть»… Софья Ивановна, думаю, поняла меня до конца. Мне больше по душе лирического характера произведения. Мила Николаевна, когда учился у нее, это очень верно подметила.
26 июня. — …Многие преподаватели считают, что я попаду в училище обязательно. А наша учительница по сольфеджио сказала, что у меня «технический аппарат поставлен очень хорошо».
Софья Ивановна подарила целый том «Сонат» Бетховена, со стихами, посвященными мне, и нам с Наташей «Музыкальный словарь». Сказала, что ей очень не хочется расставаться со мной тогда, когда у меня «появился аппетит к музыке». Все-таки я у нее был не плохим учеником. а в этом году — единственный её ученик. В своей рекомендации в училище она написала всё хорошее обо мне…
Приведу окончание письма Софьи Ивановны (от 15.09.58):
«…Надо учесть, что работа в Училище ведется в другом плане, там требуется уже „готовая продукция“. Интерес к ученику вызывается его хорошей работой и самостоятельностью. Если этого нет, педагог гладко и без сожаления расстается с учеником. Вот это меня страшит и заставляет задуматься — сможет ли Олег все это выдержать и при этом еще 10-й класс! Ведь важно не только поступить — важно еще удержаться и быть там на высоте».
Золотые слова моего педагога! О содержании этого письма родители не сказали мне тогда ни слова, как и Софья Ивановна. Но в беседах с ней я делился своими мыслями о «моем» будущем в музыке: по окончании «Гнесинки» мне учиться в 10-м классе, а в случае удачи — и в Училище им. Гнесиных. Как всё это «совместить»?
Сказать, что я не переживал, не поступив на фортепианное отделение Училища (о чем рассказал выше), значит — ничего не сказать. Было обидно, что, как мне казалось, на взлёте, когда появилась настоящая тяга к музыке, хотелось играть больше и лучше, получая от этого удовольствие (чувство, которое пришло к годам 14-15-ти и сопровождало все последующие годы), я увидел перед собой «шлагбаум» — не был принят в Училище.
И одолевали сомнения: поступить в училище в 17 лет? В этом возрасте уже поступают в Консерваторию — выпускники Мерзляковки, например, — школы-десятилетки. Куда мне было угнаться? Например, я так и не знаю судьбы Володи Петрова, игравшего на выпускном экзамене фортепианный Концерт Грига. Софья Ивановна говорила: «С этим концертом заканчивают Консерваторию!» Понимал также, что большим пианистом вряд ли стану, хорошим — наверное…
* * *
Когда учился в «Гнесинке», я знал, что мой педагог по фортепиано была очень близка Гнесиной. Подтверждение этому нашел, готовя эту заметку.
Сначала обратился к Википедии — о Софье Ивановне ничего конкретного нет (или плохо искал). Но есть книга — «Елена Фабиановна Гнесина: воспоминания современников». И на одной из страниц Софья Ивановна вспоминает: «Я получила музыкальное образование и работала всю свою жизнь преподавателем класса фортепиано в учебных заведениях имени Гнесиных…».
А если расшифровать «…всю свою жизнь»?
На другой странице прочитал: «Старшими из авторов (книги. — О.Т.), ее (Гнесиной. — О.Т.) современников дооктябрьского времени — являются С.И.Апфельбаум и М.А.Гурвич, пришедшие в „Училище сестер Гнесиных“ в 1906 и 1907 годах». И, наконец, Софья Ивановна — «пианистка, педагог. Закончила Училище сестер Е. и М. Гнесиных по классу Евг. Ф. Гнесиной в 1915 году, педагог Школы-семилетки им. Гнесиных (1931—1971). Заслуженный учитель РСФСР».
И ее сын — Виктор Юльевич Апфельбаум (1916—1963) — занимался музыкой. В одном из «примечаний» в той же книге приводится такое высказывание Елены Фабиановны Гнесиной: «У нас был очень талантливый ученик — Витя Апфельбаум, он блестяще кончил училище. Но любовь к рисованию взяла верх. Он пошел в Суриковский институт и стал художником. Музыку он, однако, никогда не бросал. Она дала ему тонкое, ясное, чистое восприятие мира и уменье красками передать это на полотно».
Член Союза художников СССР, Виктор Юльевич известен такими работами, как большой поясной портрет Е.Ф.Гнесиной (находится в одной из комнат Мемориального музея-квартиры Е.Ф.Гнесиной), второй — в вестибюле Концертного зала Российской академии музыки имени Гнесиных.
Софья Ивановна вспоминала «историю» создания этих портретов:
«Много забот, любви и внимания проявила Елена Фабиановна и к моему сыну, Виктору Апфельбауму. Елена Фабиановна хотела, чтобы он в будущем выбрал путь музыканта, но судьба решила иначе. Окончив училище Гнесиных, Витя поступил в Академию художеств и стал профессиональным художником, членом Союза художников. Елена Фабиановна поняла его и не сердилась. После войны, возвратившись с фронта, Виктор написал два портрета Елены Фабиановны и подарил ей, а также ряд пейзажей, которые до сих пор украшают стены ее кабинета. Их обоюдная привязанность была крепкой и нежной. И когда однажды к Елене Фабиановне пришел известный художник с просьбой написать ее портрет, Елена Фабиановна, поблагодарив, сказала, что ее хорошо и с любовью пишет другой художник — В. Апфельбаум, воспитанник их учебных заведений».
Сын Софьи Ивановны — автор полотен: «Сирень», «Лесной пейзаж», «Берег Оки. Лодки», «Розы», «Ландыши», «Натюрморт с арбузами». И… натюрморта «Грибы»! Так можно назвать эту великолепную картину, которую Софья Ивановна подарила моим родителям…
Уроки, занятия, концерты…
…Ундина Михайловна приняла меня в свой класс, в котором занимался десять лет — вплоть до 1970-го, когда полностью погрузился в работу над диссертацией.
Занятия проходили дважды в неделю по вечерам. Я не пропускал ни одного, если не был в командировках переводчиком суахили с делегациями из Восточной Африки, приезжавшими к нам по приглашению КМО СССР.
Новые пьесы разучивал дома, и так, потихоньку-потихоньку, «доводил» их, пока не получал от Ундины Михайловны новое произведение. Строгая, но доброжелательная, она никогда и никого не ругала (например, за то, что кто-то не выучил к сроку домашнее задание). Нередко оставался в классе послушать других. И когда тот или иной ее ученик играл, она переживала так, словно сама была за роялем.
Меня поражали её руки, точнее, ладони — маленькие, пальцы — короткие, но крепкие, хваткие. Ундина Михайловна легко играла «с листа», чего я просто не умел и не умею — ну, не дано! Как, впрочем, и подбирать по слуху те или иные мелодии, «песенки». Пробовал не раз: правой рукой получалось, но двумя руками никак — подводил «аккомпанемент» левой рукой. Когда понял это (давным-давно, еще в школьные годы, и мне не верили!), смирился, но ущербным себя не считал (и не считаю) — у каждого, наверное, «свои» способности…
За время учебы в Фортепианном классе МГУ я вышел на уровень, как минимум, выпускника музыкального училища. Исполнял произведения (а некоторые играю до сих пор), Баха, Бетховена, Шопена, Рахманинова, Глинки, Скрябина, Балакирева, Сметаны, Шимановского, американского композитора Мак-Доуэлла («Осень» и блистательную пьесу «Perpetuum mobile» — «Вечное движение»).
А также Николая Пейко — его удивительную «Сонатину-сказку», сочинение 1942 года, в разгар Великой Отечественной войны! Это — волшебство звуков! Воистину прав великий скрипач и музыкант Иегуди Менухин, сказавший однажды: «Ни одна нота не играется без осознания её вкуса (!)», и «Ухо чувствует звук (!)». Знал ли, нет эти слова молодой тогда советский композитор (позднее — профессор Московской Консерватории, 1916—1995) — не так важно. Пьеса Н. Пейко лишь подтверждает их правоту.
* * *
Никогда раньше мне и в голову не приходило — есть ли что в Интернете об этой прекрасной пьесе? Да и сравнивать — с чего бы это? А тут вдруг в ответ на мое послание-письмо (с «вложением» — «Африканист…») моя давняя знакомая написала, что «прослушала Пейко, и мне понравилось…».
Вот и задумался: КАК и ГДЕ? Сообразил — в Интернете. И нашел! В Яндексе, Единственный исполнитель — Виктор Мержанов (1919—2012). В 1960-х побывал на двух его концертах, впечатление — никакое…
Запись прослушал (его исполнение 1963 года), этот пианист меня разочаровал. Во многих местах, по-моему, — просто «топорно», кое-где — «затянуто», да и «музыкальность» страдает. Нет! Не для НЕГО сочинил Пейко эту пьесу!
В мои те самые годы эту пьесу нигде не слышал (а о записях/пластинках и речи не было). И, думается, Ундина Михайловна вовсе не случайно дала её мне — в классе-то у неё было 15—20 человек! Отчетливо помню, как однажды, на одном из уроков, она сказала: «Олег, знаете, вы мне больше нравитесь, чем Наташа» (сестра некоторое время работала педагогом-ассистентом Ундины Михайловны в ее классе). Посмотрев на меня (наверное, в моих глазах она увидела «немой» вопрос), У.М. добавила — «Вы более музыкальный…». Вот именно! Потому музыка и называется «музыкой»!
Я сохранил собственную игру конца 1950-х — середины 1960-х: записывал, играя дома на пианино, на привезенный родителями из Осло норвежский магнитофон «Bunderptakker». А потом, много-много позднее, в 2001-м (перед поездкой в Эфиопию), придя к маме, с магнитофонных лент с того же магнитофона переписал на аудиокассету (на 120 минут). Пленки «постарели» (ведь без малого прошло почти сорок лет!), кое-где слышно уже плохо, местами пришлось их даже склеивать ацетоном. Старший сын Артём (ему уже 51) из аудио перевел записи на диск, а совсем недавно его второй сын Филипп (наш второй внук по старшинству, ему 22 года) часть из этих записей разместил в Ютюбе, а вскоре выложит еще три файла с «моей» музыкой…
Так вот, у меня — непрофессионала (хотя и профессионально играл благодаря Ундине Михайловне) — ВСЁ, КАК НАДО!!! Пейко оказался «моим»! Не похвальбы ради, но мое исполнение — куда как по-Пейко, а не по-Мержановски. Кстати, Ундина Михайловна была весьма невысокого мнения о Мержанове как исполнителе-интерпретаторе.
Выше я посвятил всего одну строку пьесе Мак-Доуэлла «Perpetuum mobile». Моя запись игры начала 60-х — сохранилась.
Тоже поискал. В Гугле есть, а «первая» в списке исполнителей — какая-то девчушка 10-ти лет! Подумал — «Вундеркинд? Быть того не может, чтобы в 10 (!) лет играть эту пьесу!» И оказался прав: ученическое исполнение гамм и пр. под названием «Вечное движение», и не более того. Прослушал и другую, в титрах — «мне 26 лет…». Чуть лучше, но практически то же самое, без «изюминки», хотя и написано, что она, дескать, лауреат каких-то конкурсов.
В Гугле, кто бы ни играл «Вечное движение», по хронометру получается 2 мин. с лишним. А у меня — 1.30. «Чувствуете разницу»?..
…Участвовал и в концертах Фортепианного класса в Малом зале консерватории. В первом — в 1961 году, на который Ундина Михайловна пригласила своего учителя Г.Г.Нейгауза. Она сказала тогда: «Впервые народный коллектив выступает на сцене Консерватории!» А также в 1965 и 1967 годах. К каждому из таких концертов выпускались «программки», а на улицах Москвы — афиши концертов Фортепианного класса МГУ…
Я писал родителям в Таиланд, где отец в 1961—1962 годах работал в нашем посольстве:
4 августа, 61 — …Очень хорошая новость. Для юбилейного (25 лет классу) концерта нашему классу дали Малый зал Консерватории, концерт будет в 15—20 числах октября. Вероятно, я буду играть в 2-х отделениях.
На последнем занятии 30 июня разговаривал с У.М. … Она сказала, что я многое сделал как «в области пианистического мастерства», так и вообще.
О нашем классе появилась хорошая статья в ж-ле «Музыкальная жизнь» (1961, №10), посвящается нашему концерту 20 апреля. Как говорила Ундина Михайловна, концертом интересовались такие композиторы, как Хачатурян, Кабалевский. Статья очень и очень положительная и толковая. Между прочим, в ней фигурирую и я.
…В последних числах июня о нас была передача по радио. Все это — подготовка к 25-летию класса. Буду играть: в I отделении — Глинка «Среди долины ровныя» и Балакирев «Полька»; во II — американский. композитор Мак-Доуэлл «Осень» и «Perpetuum mobile»…
9 октября — Последние полмесяца занимаюсь музыкой столько, сколько возможно, по 3—4 часа в день, главным образом — в клубе ДКГФ, больше не мог, т.к. существуют занятия и в институте. Вчера был концерт в общежитии Студгородка МГУ на Стромынке, в Сокольниках. Полный зал, слушали хорошо. Программа та же, что будет 12-го, приглашены корреспонденты из редакций газет и журналов. Будет, очевидно, и Г.Г.Нейгауз, шеф Фортепианного класса МГУ. Мы рассматривали этот концерт как смотр наших возможностей. Я играл неплохо, сам это чувствовал… Все вещи у меня сделаны почти-почти. Нужна уверенность и главное — звук, сейчас работаю над этим…
13 октября — Вот и прошло мое первое выступление на сцене Малого зала Консерватории. Сыграл успешно. Но расскажу по порядку.
В 23.30 10 октября была генеральная репетиция в Малом зале. Играли в порядке очереди: кто дальше живет, тот раньше играет. Я играл в 2.30. Усталости не чувствовалось, домой вернулся в 3.30…
…Концерт 12 октября должен был начаться в 19.00. Я пришел первым в 6 часов и сразу — за рояль в артистической. Хорошо разыгрался. Вообще, весь день держал себя в бодром настроении.
Выступать первым, задавать тон всему концерту — дело сложное, тем более в юбилейный концерт. Но волновался меньше, чем 8 октября (концерт на Стромынке), и поэтому играл лучше, больше всего следил за звуком, а это главное в моих произведениях в I отделении.
Когда после вступительного слова объявили мой номер, как можно спокойнее вышел, поклонился. А кланяться еще не научился: «Кланяться надо уметь» — говорит и показывает Ундина Михайловна (и эту «школу» я/мы тоже проходим в её классе). «Вариации…» Глинки сыграл, на мой взгляд, удачно. Балакирева («Полька») играл неплохо, но немного хуже, чем на репетиции, сделал не всё, что хотел, в смысле оттенков, да и педаль в одном месте «подкачала». Аплодировали мне довольно сильно, пришлось «выйти на поклон».
В середине первого отделения пришел сам Нейгауз. Очень жаль, меня он не послушал. В зале было много преподавателей консерватории, представителей печати, был и фотокорреспондент, а в «Вечёрке» заметка о предстоящем нашем концерте.
Второе отделение имело большой успех. Все произведения — новые, редко или почти не исполнявшиеся у нас…
С «Осенью» справился на все 100%, сам чувствовал, а вот с «Вечным движением» получился казус. Внезапно в одном пассаже сбился с темпа, т.е. «потерял» ритм — продолжать играть дальше бессмысленно. Вся прелесть этой пьесы как раз в точности, ритме, технике, она должна исполняться в одном порыве. Я страшно разозлился и начал сначала. На этот раз сыграл, наверное, хорошо — аплодировали так, как еще ни разу не слышал: то ли это в мою поддержку — мол, «не стоит расстраиваться из-за осечки», то ли я действительно хорошо сыграл.
Ребята из класса говорили — здорово! А У.М., когда я вдруг остановился, в сердцах сказала (передали ребята, которые вместе с ней слушали концерт на балконе): «Вот болван, забыл!» А потом, когда я раскланивался, добавила: «Молодец, большие у него способности»!
Может быть, это слишком, но пришлось три раза раскланиваться перед публикой. Пишу так подробно потому, что уж очень много впечатлений от этого концерта. И как всегда, когда неплохо сыграешь, в дальнейшем хочется сыграть еще лучше и произведения более сложные.
Был я не единственным, кого вызывали 2 раза на сцену. Наибольший успех выпал на долю Иры Черкашиной (тоже из ИВЯ), которая с блеском исполнила «Жонго» Фернандеса, или «Танец бразильского негра». Она вообще молодец и больше всего мне понравилась.
В заключение концерта мы всем классом вышли на сцену поприветствовать Ундину Михайловну. Все-таки, какая она молодец! Как педагог и человек.
…Заниматься музыкой сейчас придется меньше, чем в период подготовки к концерту. Нужно больше времени уделять учебе и научной работе. Чувствую, что Л.А.Фридман — преподаватель по эконом. географии, имеет на меня кое-какие виды. Нужно это доверие оправдать. Конечно, большее время буду уделять сейчас именно этому. Музыка (очень жаль, конечно) — во вторую очередь…
Солистом Фортепианного класса МГУ играл в Доме работников искусств на Большой Бронной (уже давно там синагога), в домах культуры ЗИЛ, МПС (министерства путей сообщения), на других площадках.
Из письма в Таиланд:
4 мая, 62 — …Получил справку о том, что являюсь солистом Народной филармонии (несколько человек из нашего муз. класса вошли в состав недавно открытой Народной филармонии).
Играл и в Кремлевском театре, где бывал на разных концертах. И не предполагал, что когда-либо сам буду в них участвовать. Это произошло так.
На одном из уроков (наверное, в 1964 году, осенью) Ундина Михайловна сообщила, что вскоре в Кремлевском театре состоится «большой концерт, и Вы там выступите».
В день концерта вечером прошел через Спасские ворота (по списку, с предъявлением паспорта). Вошел в здание, мне показали несколько артистических комнат. В одной из них увидел пианино. Немного поиграл, «разогрел» пальцы. Но было прохладно. В ожидании выхода на сцену надел меховые перчатки (те самые, что купил в Ходейде! Всегда брал их с собой, когда предстояло играть в концертах). Согревая пальцы, разминал ладони — одну, другую, и так — несколько раз.
По коридорам, за сценой — суматоха: к своим выступлениям готовятся, кто как может. Я же хожу туда-сюда, вдалеке от зала, и что там происходит — не слышно. Но вот раздался один звонок, второй и, наконец, третий.
В те времена «большие» концерты начинались с выступления чтеца, а вслед за ним — обязательно классическая музыка. Я и стал её исполнителем.
Когда услышал: «Шопен, полонез до-минор. Исполняет солист Фортепианного класса МГУ Олег Тетерин» — вдруг занервничал. Выхожу на сцену, иду к роялю, поклон зрителям. Увидел огромный зал — и меня охватило какое-то волнение, словами не передать. Начинаю играть и… забываю, как играть дальше! Остановился, посмотрел в зал… Прошло, наверное, полминуты, и я начал снова. Полонез у меня «получился», хотя мог сыграть и лучше. Надо иметь навык выступать на большой сцене, когда из зала смотрят на тебя сотни глаз. Такого «навыка» у меня не было…
Как и другим ученикам Фортепианного класса МГУ, не забыть её слова: «Самодеятельностью я не занимаюсь!» — пианистов своего класса Ундина Михайловна готовила на высоком профессиональном уровне. Она воспитывала музыкантов, а не просто «исполнителей».
Было бы большим преувеличением утверждать, что Ундина Михайловна как-то выделяла меня среди других в классе. Я же понимал, что некоторые из ее учеников были «посильнее» меня.

После концерта в Малом зале Консерватории. Ундина Михайловна Дубова-Сергеева (в центре), слева от нее — Саша Дубянский, справа — автор
и Дима Гальцов. Крайняя слева — Лия Турусова. 12 октября 1961 г.
Назову, прежде всего, Иру Черкашину, выпускницу ИВЯ с японским языком, в свое время она окончила Центральную музыкальную школу (ЦМШ) при Консерватории. А также Галину Царицыну, тогда кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ; Сергея Бутковского, филолога. И особо — Диму Гальцова, студента физмата МГУ, которого, как рассказывала Ундина Михайловна, она готовила к одному из Конкурсов им. Чайковского (сейчас доктор физико-математических наук, композитор, автор замечательных вокальных циклов на стихи М. Цветаевой, Б. Пастернака, М. Князевой).
С другими, по-моему, был «на равных». Это — Лия Турусова с экономического факультета; Гиви (грузин, с юридического) и Наташа (филфак) Яковлевы — муж и жена; Наташа Зимянина с филфака (дочь секретаря ЦК КПСС М.В.Зимянина, удивительно скромная девушка). И… Саша Дубянский! Тогда студент ИВЯ с тамильским языком, ныне доцент, кандидат филологических наук, преподает в ИСАА.
Саша тоже учился в школе им. Гнесиных! Об этом узнал летом 2012 года на… встрече «выпускников» Фортепианного класса МГУ, устроенной у себя в квартире Ирой Черкашиной (уже очень давно Дунаева, по фамилии мужа, Владислава Ивановича, журналиста-международника с японским же языком).

Елена Фабиановна Гнесина (в центре) в своем кабиннете и ее сестра Ольга Фабиановна (слева) с учениками музыкальной школы-семилетки.
Среди них Саша Дубянский (стоит справа) и автор (слева), в середине — наверное, Володя Петров.
Нас, к сожалению, собралось всего пятеро: включая Иру — Лия, Дима, я и Саша. Он показал пожелтевшее фото: группа учеников — мальчики и девочки (многие с пионерскими галстуками) — вокруг сидящих в креслах Елены Фабиановны Гнесиной и ее младшей сестры Ольги. Среди них, сзади, и мы с Сашей: стоим бок о бок, нам — лет 14—15.

«Ветераны» Фортепианного класса МГУ.
Слева направо: Лия Турусова, Саша Дубянский, автор, Ира Дунаева
и Дима Гальцов. 2012 г.
И вспомнил — была и у меня такая фотография! Но куда-то и давно затерялась. И вот — она снова передо мною, спустя более полувека! Удивило и то, что Саша помнил: моим педагогом была Софья Ивановна Апфельбаум. Признаюсь, то, что Саша Дубянский — мой «однокашник» по музыкальной школе, для меня стало приятным «открытием». По «Гнесинке» его я не запомнил…
В нашем классе занимался и Марк Подберезский. Встретишь такого, как он, и невольно скажешь про себя — «не от мира сего». Именно таким его запомнил. Как пианист-исполнитель был слабым; мне говорили, что играть на пианино он научился, придя к Ундине Михайловне в класс. Но Марк стал композитором, писал музыку. И однажды на концерте фортепианного класса — и не где-нибудь, а в Малом зале Консерватории — исполнил пьесу собственного сочинения! На занятиях у У.М. видел его редко, но регулярно — на наших концертах.
Что-то нашла в нем Ундина Михайловна и была внимательна к нему, как и ко всем своим ученикам. К каждому из них у неё был свой подход, сужу об этом хотя бы по себе. Внимание Ундины Михайловны я всегда ощущал. Как опытный педагог и профессиональный музыкант, зная мои способности и возможности как исполнителя, она удивительным образом подбирала такие произведения, которые, в конечном счете, у меня получались совсем неплохо, например, «Вальс» Шуберта-Листа. И при этом даже не замечал свой «природный» недостаток, играя, в частности, «Революционный этюд» Шопена.
* * *
В Гугле есть исполнители «Вальса» Шуберта-Листа (каприс, Венские вечера, №6). Разные, и их немного. Послушайте. Какая-то «девчонка» — не в счёт. Мне комментировать даже не хочется, отсебятина какая-то. У неё не было такого педагога, как у меня! Видимо, она плохо представляла, как танцевали ВАЛЬС на балах в веке XIX-м. Если бы представила (как удалось мне), играла бы по-другому…
Об исполнении Котляревского, профессора, — он «так» слышит и играет (его право). Наибольшее впечатление произвел Владимир Горовиц. Мастер! По исполнению — тонкому (хотя я, местами, и не со всем согласен с его исполнением, но это — тоже моё право). У меня неплохо получалось (запись — есть)…
Из письма в Таиланд:
19 апреля, 62 — …29 марта играл «Вальс» Шуберта-Листа во II отделении афишированного концерта, посвященного Листу в Клубе МГУ, а также играл его 24 марта, и 6 апреля — на «капустнике» ИВЯ.
…Вошел «в контакт» с преподавателем английского языка на почве музыки. «И все-таки, вы молодец!» — сказала Муза Николаевна. Но на её занятиях «молодцом» бываю редко — «пятёрок» почти нет, чаще «4», а то и «тройки». Она брала у меня интервью для стенгазеты. Ей поручено написать о «капустнике» ИВЯ 6 апреля, на котором получил 9 баллов (из 10). Играл очень хорошо в начале, самому даже понравилось. Как потом сказали из класса нашего музыкального, «звучало фундаментально, чувствовалось, что пьеса все-таки сделана».
Однако играл с таким чувством — трудно передать, чем оно было вызвано, — что где-то должен быть срыв, ошибусь, подзабуду. И действительно, под самый-самый конец, где, казалось бы, и ребенку трудно ошибиться, неудачно взял пассаж, палец у меня соскочил с правильной ноты. И пока «пыркался», всем стало ясно, что все-таки играл с ошибкой в этом месте. В итоге — 9 баллов…».
В Доме звукозаписи
На втором году занятий в классе Ундина Михайловна организовала запись одной из пьес моего репертуара — «Среди долины ровныя… Вариации на русскую народную песню» Михаила Глинки» Глинки — в Доме звукозаписи на ул. Качалова (сейчас Малая Никитская). Хорошо помню, как проходила эта запись, а её «детали» — в моем письме в Таиланд:
10 января, 62 — 4 января записывались на радио в Доме звукозаписи. Из 6 человек из нашего класса трое прошли наверняка, как сказала Ундина Михайловна, в том числе и я.
Полутемное помещение, небольшой зал. В центре — рояль, крышка — поднята, освещение сверху. Поодаль, в стороне, за широким стеклянным экраном — звукооператоры и У.М., перед ней — микрофон.
Сел за рояль, поправил стул, попробовал педали, клавиши, а потом сыграл какие-то гаммы, пассажи, аккорды. Это заняло минуты две-три. И слышу моего педагога: «Олег, давайте начнем».
Запись — дело сложное: малейшая неточность — всё начинается сначала. Вообще же, записываться очень интересно. Сидишь один у рояля, ты никого не слышишь — полная тишина. Ты и рояль, да еще микрофон, из-за которого у некоторых нервы не выдерживают. Говорю это не про себя. Волнения я не испытывал — публики-то нет рядом! Сыграл Глинку. По ходу исполнения У.М. несколько раз меня прерывала, подсказывала где, что и как сыграть иначе, лучше, тоньше.
Вторая попытка оказалась, видимо, лучше — Ундина Михайловна ни слова не сказала. Но по окончании снова сделала какие-то замечания. Наконец, слышу: «Ну, а теперь запишем. Олег, соберитесь, учтите, что я говорила».
Чем чаще исполняешь эту пьесу, тем больше находишь что-то новое, так и здесь.
Когда записывались, нас прослушивала какая-то контрольная комиссия. О ней мы ничего не знали, когда играли, наверное, чтобы не волновались. На недавнем уроке Ундина Михайловна сказала, что мою игру, в частности, признали хорошей, «стильной» (т.е. в стиле Глинки, очевидно)».
«Вариации…» Глинки в моем исполнении не раз звучали в те годы, например, по «Маяку» (заполняя паузы музыкой, как и сейчас на FM 91,6 — «Радио-культура»). Звучали они по московскому радио и 25 января в передаче о Фортепианном классе МГУ, которую я записал тогда на свой магнитофон. И папа мой слышал её по радио, когда лежал в больнице осенью… 1962 года!
Как говорила Наташа Яковлева, работавшая тогда в Доме звукозаписи, «моя» запись хранилась в «золотом фонде», но я так и не переписал ее на память для себя. И хранится ли она?..
С музыкой и на Занзибаре
Мой педагог заметно сокрушалась, что я уезжаю на Занзибар, предполагая верную утрату мною пианистических навыков. Но нет!
…Однажды, на втором-третьем месяце после приезда, направляясь по каким-то делам в Генконсульство, иду по переулкам и слышу… звуки музыки из окна продуктового магазинчика, куда часто заходил за покупками. Кто-то играл на фортепиано! От удивления остановился, послушал несколько минут.
А дальше — небольшой фрагмент из упоминавшейся выше книжки (с. 174—175):
«…Зашел в магазин, игра прекратилась, выходит знакомая хозяйка — индуска средних лет, в сари. Спрашиваю: «Кто играл?» — «Я» — ответила она, слегка смутившись. Рассказав ей вкратце, что я тоже пианист со стажем, играю с детских лет, попросил показать инструмент. В свою очередь удивившись, хозяйка провела меня в комнату. Там не рояль и не пианино, а старенький, видавший виды клавикорд! Похожий на пианино, но миниатюрнее — пониже и поуже любого из знакомых мне. И клавиатура показалась поменьше — на пол-октавы в басовом и скрипичном ключе. Оказалось, я посчитал: 88 клавиш, как и полагается. На таком инструменте мне играть не доводилось.
С позволения хозяйки я «попробовал» его: клавикорд хорошо держал строй, будто был настроен недавно, да и клавиши упругие. Спросил, можно ли, не обременяя её, иногда заходить поиграть. Она любезно согласилась. И какую-то часть свободного времени от работы я занимался музыкой в её доме…».
В дополнение к этому воспоминанию процитирую письмо Ундины Михайловны (от 16 ноября 1965 г., пожелтевшее, храню его), которое получил на Занзибаре. Почерк — красивый, слегка размашистый, но «твердый», отчетливый, и обращение ко мне на «Вы»:
«Дорогой Олег! Примерно месяц назад получила Ваше письмо. Хотела тут же Вам написать, но обстоятельства сложились против моих намерений. За 2 месяца, прошедших с начала учебного года, у меня было лишь 3—4 выходных дня. Университет (фортепианный класс) занимает не только все будние дни, но и часто воскресенья.
Уже 14 октября у нас был первый в этом сезоне классный концерт в Доме дружбы (на Арбате. — О.Т.) по приглашению польско-советского общества. Программа посвящалась годовщине смерти Шопена. Вступительное слово сделал один из наших крупнейших музыковедов проф. И.Ф.Бэлза.
Был полный зал. Весь концерт записал Радиокомитет и 3 раза передавали по Московскому радио. Кроме того, запись концерта была передана в Варшаву…
В конце сентября — начале октября прошел новый прием в класс. Записавшихся было больше 100 человек. Слушала в несколько приемов. Приняла 8 человек! (Как видно, уважаемый читатель, мне в 1960-м крупно повезло! Наверняка и тогда «записавшихся» к Ундине Михайловне вряд ли было меньше). Несколько человек числятся в кандидатах. Они регулярно напоминают о своем существовании и довольно нетерпеливо спрашивают: «Может быть, вы кого-нибудь отчислили из класса?»
…Готовлю совершенно новую программу: 1-е отделение посвящается фортепианным транскрипциям (от Глюка до Листа), 2-е, задуманное мною еще в прошлом году, состоит из произведений молодых Ленинградских (так в тексте. — О.Т.) композиторов. Все ноты я получила в рукописях лично от авторов. В Москве эти произведения будут исполняться впервые. Я ездила в Ленинград (у меня ведь там старые знакомства) и отобрала то, что мне понравилось. Но рукописи не так просто было получить! Произведения трудные и написаны современным музыкальным языком.
Основная работа уже позади. 20-го и 27 октября были первые закрытые концерты. Главный, открытый афишный концерт состоится 30 ноября у нас, в Д/К на Манеже. По-видимому, вызовет интерес у уважаемой прессы. Посмотрим! Конечно, очень волнуюсь. Не жалею себя в работе, но и с учеников требую много. Впрочем, Вы знаете (выделено мною. — О.Т.).
Теперь о новостях лично-индивидуального порядка. Ира Черкашина работает на своем факультете педагогом, ее пригласил деканат. Приходится ей очень трудно: аспирантура, работа, маленький ребенок. У Наташи и Гиви будет прибавление семейства. В таком же примерно положении Люда… и Оля… Но все приходят в класс и, как ни странно, занимаются! Дима Гальцов в аспирантуре, как говорит, «на физ-факе и в аспирантуре у У.М.Дубовой в классе». Так же, как и Лия Турусова…
Ну, вот, как будто бы обо всех «стариках» написала. Вам все шлют большой, большой привет, желают успехов в работе и успехов в борьбе с комарами!
…Вам, Олег, за успехи прошлого года преподнесли бинокль (красивый, в футляре). Это — по линии Университета. Горком Союза за участие в смотре (Всесоюзном смотре художественной самодеятельности. — О.Т.) наградил Вас грамотой и 10-ю рублями. Все это Вы получите, когда вернетесь.
Напишите, удается ли Вам заниматься? Каковы теперь Ваши взаимоотношения с занзибарцами? Какая там сейчас у Вас погода?
Как-то в Б. зале Консерватории встретила Ваших маму и папу. У обоих цветущий вид
…Да, забыла. Из ИВЯ у меня новый ученик (индийский факультет) Саша Дубянский (выделено мною. — О.Т.). Безусловно, способный человек. Если получите это письмо до 30-го ноября, думайте о нас. Все очень волнуются… Пишите о себе подробно. О делах, людях, стране. Как Вы себя чувствуете?
Обнимаю и целую Вас. Желаю здоровья и благополучия.
Ваша Ундина Михайловна.
P.S. Лев Александрович хотел бы приветствовать Вас на языке суахили, но пока еще его не изучил. Поэтому шлет Вам азербайджанский салам и русский привет».
На мой взгляд, это письмо позволит читателю составить более полное впечатление об этом неординарном человеке, что, быть может, не удалось автору этого эссе.
«Концертштюк» Вебера
Вернувшись из Занзибара, я продолжил занятия в Фортепианном классе МГУ. Играя дома и разучивая новые вещи, заметил — как ни странно было для меня самого, после Занзибара пальцы стали «бегать» быстрее! Наверное, это заметила и Ундина Михайловна.
…Осенью 1966 года на одном из уроков Ундина Михайловна сказала: «А давайте-ка попробуем с вами выучить „Концертштюк“ Вебера» — и передала мне ноты. Посмотрев на обложку, обратился к ней: «Но здесь написано — для двух фортепиано» — «Если всё получится, аккомпанировать буду я». И, сев за рояль, сыграла с листа некоторые фрагменты этого произведения. Музыка мне понравилась, и выучить у меня «получилось».

Ундина Михайловна включила меня в состав участников концерта по случаю 30-летнего юбилея Фортепианного класса МГУ. Концерт был афишированный, он состоялся в начале 1967 года в голубом Октябрьском зале Дома Союзов. Вместительный зал был полон. Я открывал второе отделение, играл Вебера — искрометное произведение, музыкальный шедевр, крайне редко исполнявшийся у нас тогда, да и сейчас. Аккомпанировала Ундина Михайловна.
Очень требовательная, она редко раздавала похвалы своим ученикам, и я не был исключением. Но на этот раз, собрав после концерта всех его участников, Ундина Михайловна сказала: «Вы, наверное, заметили, что в зале присутствовал Арам Ильич Хачатурян. Мы давно знакомы, и я пригласила его на наш юбилей. Так вот, когда спросила, кто ему больше всех из моих учеников понравился, знаете, что он ответил? — Олег Тетерин», и с улыбкой посмотрела на меня.
Такая оценка дорогого стоит. Так было, я это помню…
* * *
В Интернете нашел я «своего» Вебера. Но все исполнители (и их немного в Гугле) играли с оркестром! Но откуда в ДКГФ МГУ на Моховой, в начале 60-х, свой оркестр? Потому и играли на двух роялях (т.е. «в переложении» для них). Конечно, не мне тягаться с Клаудио Аррау, которого я прослушал. Однако исполнение одной пианистки (молодой девушки «в белом», почти моего возраста тех лет) мог бы сравнить со своим собственным (по памяти, конечно же, ибо у меня нет моей записи). И всё же, читатель, — послушайте: виртуозная вещь! Что и понравилось, наверное, Хачатуряну в моем исполнении…
«Музыка — дело тонкое»
Я не самонадеян, отнюдь. И вовсе я не «Рихтер», «Гилельс» и другие великие и знаменитые. Но и совсем уж «средним» себя не считаю. Что мог, что любил (при тех технических возможностях, что имел, отнюдь не беспредельных) — получалось…
Вообще же (перефразируя известное): «Музыка — дело тонкое».
Особенно мне по душе Шопен. Еще со времен учебы в «Гнесинке». Его произведения «малой формы» — ноктюрны, вальсы, полонезы, экспромты. Но более всего — в минорной тональности, например, «Ноктюрн» фа минор. Именно поэтому среди исполнителей полюбилась Белла Давидович (р. 1928 г.). Побывав впервые на её концерте в середине 1950-х, в программе которого были исключительно произведения Шопена, старался больше не пропускать ее концертов, и не только в Москве. Так, отдыхая с родителями в Сочи в 1956 году, узнал из объявлений, расклеенных по городу, о ее выступлении в летнем театре, под открытым небом.
Родителям в Осло писал:
3 мая, 59 — …Сегодня вечером намереваюсь получить удовольствие: иду на фортепианный концерт Беллы Давидович. Она играет Шопена. В том числе и мой «Ноктюрн». Очень интересно, как она играет его? Это имеет для меня большое значение, т. к. Апфельбаум и Бунакова советуют играть по-разному. Мне больше по душе совет (конечно, не совет, а игра) Софьи Ивановны.
Могу лишь согласиться с теми, кто считает Б. Давидович лучшей из современных интерпретаторов Шопена.
В 1960-е годы в Зале им. Чайковского слушал Леонида Зюзина (1916—1986). Поражался, КАК играл этот незрячий (с рождения) музыкант!
* * *
C той поры, как жил в Венгрии, а потом в Норвегии (в летние каникулы вместе с сестрой в 1957 и 1958 годах), и по сей день — в моих ушах фокстрот, свинг и буги-вуги, король твиста Чабби Чеккер (его «Twist again»), Тони Бенетт — его «In the middle of an Island» (1957), например. Нравились и блюз, и джаз, не говоря о рок-н-роле в исполнении Билла Хейли (его «Round around the clock») и, конечно же, Элвиса Пресли. Вообще — синкопированная музыка, ритмичная, с «переходами» из мажора в минор, и наоборот.
Тогда же на одной из пластинок услышал «You are my destiny» Пола Анки. И музыку, и слова он сам написал! А как исполнил! И всё это — в 17 лет!!! (почти мой ровесник — р. 1941 г. Пожалуй, с тех лет стал я «отслеживать» своих ровесников в разных областях и сферах). А как он пел «Diana» и «Crazy love»! Тоже в 1957 году. После него ставлю «на равных», пожалуй, только Тома Джонса с его «Дилайлой» (впервые услышал Тома, когда работал переводчиком-диктором в Отделе вещания на суахили Московского радио в конце 60-х).
А Дорис Дей (р. 1922)? Или Пэт Бун (р. 1934) — «Tutti Frutti» (1956), например, в его исполнении; «Anastasia» (1957) — памяти Анастасии, одной из дочерей Николая II, — слезы наворачиваются! А также — «Bernadine» (1957), «A wonderful time up there», «It’s too soon to know» и «How Deep is the Ocean» (1958). Или дуэт «The Lips» (две очаровательные девчушки-американки), и многие другие «американцы с англичанами».
На Занзибаре, где тогда (в 1965-1966-м) можно было заказать-купить всё, что по душе, приобрел пластинку произведений великого Моцарта в джазовом, блистательном, исполнении! И впервые услышал, как поёт Нэт Кинг Коул, его удивительный, «бархатный» голос. Очень жаль, что он так рано умер.
Классика, одним словом, — на все времена. Как и «Биттлз» позднее. В этом ряду не по мне «…камни» с Мик Джаггером — ну, очень похожий (или — наоборот, что, думаю, вернее) на нашего «неувядаемого» Леонтьева.
Не скрою, была «борьба» — с папой (с мамой у нас были одинаковые музыкальные вкусы: что нравилось мне, она любила, а что любил я — ей нравилось). Строгий, он был равнодушен к эстрадной (как тогда говорили), «легкой» музыке, и следил в мои юношеские годы, как бы увлечение «западной» музыкой не оказало на меня «тлетворного», по его словам, «влияния». Но я устоял! И приносил пластинки с проигрывателем в школу на вечера. Однажды дело дошло до «рукоприкладства» — проигрывая и отобрав пластинки, уже собирался уходить, как отец вдруг выхватил одну из них и в гневе грохнул об пол. Это была пластинка «Istanbul Konstantinople now». Её-то как раз я и обещал принести в школу. И что же? Папа ушел, а я взял клей «БФ-2» и склеил, как сумел. Получилось! Я обещал, я принес — пластинка «играла»…
Спрашивал себя: «Как музыка может „неправильно“ влиять? На что?» Музыка потому и называется музыкой, считал я, что она разная: может называться «классической», «западной», «восточной», современной-несовременной, ещё какой-то. Так что, и «классика», и другая музыка (ведь музыка же!) — всё это во мне. Многое принимаю, немало и того, что безразлично. При этом — никаких «авторитетов», предпочтения есть, но это — личное…
И в заключение

Играю «Вальс» Шуберта-Листа на «капустнике» ИВЯ. 6 апреля 1962 г.
Незабываемы ежегодные весенние «капустники», предтеча знаменитых КВН, — соревнования в остроумии и находчивости студентов гуманитарных факультетов МГУ (исторический, журналистики, филологический, ИВЯ, а также экономический — все они тогда располагались в старом здании МГУ на Моховой). На этих «капустниках» в ДКГФ, участвуя в команде ИВЯ в 1961—1965 и 1967 годах, я получал высокие баллы — «9», «9 с плюсом» и «10» — за исполнение «классики» на концертном рояле «Эстония». На этом рояле играл и великий Рихтер, регулярно выступавший с сольным концертами перед студентами МГУ по приглашению У.М.Дубовой-Сергеевой — его давнишней знакомой по занятиям в Московской консерватории в классе Г.Г.Нейгауза.
Так я пополнял «копилку» команды ИВЯ. На это обратил внимание и мой наставник Леонид Абрамович Фридман. В сентябре 1963 года вышла из печати его книга — «Капиталистическое развитие Египта (1882—1939)». В твердой обложке, форматом чуть меньше А4, 365 страниц (с илл.), тираж — 1600 экземпляров. В подаренном мне экземпляре он оставил такой автограф: «Олегу Тетерину, который с первых лет учения (надеюсь) твердо идет по избранному пути и не забывает об искусстве». Я храню эту книгу.
При мне в этих «капустниках», наверняка и раньше, ИВЯ неизменно занимал 1-е — 2-е места. Во многом это и заслуга Миши Мейера — студента-тюрколога, настоящего «заводилы» и худрука талантливой студенческой команды ИВЯ.
…Работая в Уганде (заведующим Бюро АПН в 1985—1990 гг.), с прискорбием узнал, что моя учительница музыки У.М.Дубова-Сергеева скончалась в 1986 году.
Удивительная женщина! Энергичная и требовательная, замечательный педагог, беспредельно преданная музыке. После кончины Ундины Михайловны Фортепианному классу МГУ было присвоено её имя.
P.S. Это судьба выбрала, что стал я африканистом, а еще раньше (благодаря родителям) — и пианистом. А судьбу не выбирают…
ДМИТРИЙ САЙМС — США? НЕТ.
ДИМА СИМИС — СССР!
Из Занзибара я вернулся в Москву в разгар экзаменационной сессии, когда мои товарищи по группе суахили в ИВЯ, студенты VI курcа — Довженко, Макаренко, Пильников, Луцков и Ира Федосеева — сдавали госэкзамены. Для завершения учебы деканат предоставил дополнительный «академический» год, и Володе тоже, когда он вернулся в октябре. В 1967 году, получив диплом, поступил в аспирантуру Института Африки АН СССР. Со временем была утверждена тема моей кандидатской диссертации — «про Занзибар».
Работа над ней шла полным ходом, когда в начале 1970 года ученый секретарь института Игорь Валерианович Витухин (безвременно скончался в середине 90-х) предложил выступить с докладом или сообщением на общегородской молодежной научной конференции «Ленин, молодежь, современность», приуроченной к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. Ее организовали МГК ВЛКСМ и Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР.
По словам Витухина, материалы конференции предполагалось издать под грифом ИМЭМО. Он намекнул, что лишняя публикация в научном издании не помешает при защите диссертации.
Конференция состоялась в апреле. Я выступил с докладом «Молодежь Занзибара» — как раз по теме моей научной работы. Когда закончил выступление, ко мне подошел, назвав себя, Дима Симис. Он сказал, что тоже участник конференции, учится в аспирантуре ИМЭМО, тоже будет выступать с докладом, но в другой секции (а их было две). Пригласив послушать, сообщил, что является ответственным секретарем сборника по итогам конференции, и попросил передать ему тезисы моего доклада. Что я и сделал через несколько дней.
В сентябре 1970 года сборник вышел. Дима позвонил мне. Я подъехал к ИМЭМО, он вручил мне экземпляр, в нем — тезисы моего доклада, а также и его — «„Новое левое“ движение в США и антимонопольная борьба». Сборник (храню в своем архиве) вышел небольшим, по тогдашним меркам, тиражом — всего 500 экземпляров, но главное — эта публикация пошла мне «в зачет» при защите кандидатской.
Те две встречи с Димой Симисом мне запомнились.
Но вот прошло почти 30 лет. И как-то однажды, в конце 90-х, в ток-шоу на одном из наших телеканалов на тему российско-американских отношений, проходившим в интерактивном режиме и в прямом эфире, на экране в телестудии появляется некий американский политолог, вещавший из Вашингтона.
Он прекрасно говорил на русском, без какого-либо акцента, словно этот язык для него родной. Эту передачу я включил, видимо, с некоторым опозданием, и фамилию оратора произнесли в самом ее начале.
Я продолжал слушать американца, и вдруг он показался мне знакомым, прежде всего — черты его лица и глаза, хотя он был в очках, и еще что-то узнаваемое. Какие-то сомнения были, но все же подумалось, что где-то когда-то я этого человека уже видел. Когда же ведущий программы снова обратился к нему, на экране появилась фамилия — «Дмитрий Саймс, президент Фонда Никсона». Да, это был тот самый Дима Симис! Манера речи осталась прежней, что тоже помогло его вспомнить. Словом, я его узнал.
После той, первой для меня, передачи с участием Д. Саймса видел его по телевизору много раз. Но почему он стал американцем, особо не интересовался: уехал, ну и уехал. Как и о том, кто и почему из наших телевизионщиков «вышел» на него. Интернетом тогда, признаюсь, не пользовался, в конце 90-х еще не обзавелся компьютером, да и на работе особой нужды в нем не было.
В последние годы Дмитрий Саймс был постоянным «гостем» у В. Соловьева в давно надоевшей лично мне передаче «Воскресный вечер с…» на телеканале «Россия», в которой он, Соловьев, — самый умный, всезнайка, постоянно прерывает выступающих, а иногда просто игнорирует их. Да еще с набившим оскомину «юмором» (острослов, одним словом, или юморист, как в телепередачах Евгения Петросяна), по поводу которого зрители в телестудии, как по команде, шумно аплодируют (платят им за это, наверное). Как ни странно, Соловьев не прерывал Дмитрия Саймса, слушать которого интересно, разумный человек.
Еще хуже обстоит «дело» с другой передачей в прайм-тайм на том же канале — «60 минут», с ведущими этого ток-шоу: некоей Скабеевой с мужем. И откуда взялась эта ведущая? Озабоченная (чем?), с умным видом (всё понимает?), ей ничего не стоит талдычить и талдычить «о своём» (особенно — «про Украину»), когда говорит (а она и слушать не желает) достойный оратор, ими же (т. е. Скабеевой с мужем) приглашенный в передачу. Но я отвлекся…
Когда начал готовить эти воспоминания, эпизод, о котором рассказал, как-то возник сам собою. Мне стало любопытно: а есть ли что-то о Саймсе в «мировой паутине»? Есть, и немало. Поэтому для более подробного знакомства с Дмитрием Саймсом, как он оказался в Америке и т.д., отсылаю читателя в Интернет.
Помнит ли он нашу встречу в ИМЭМО? Вряд ли. Помню я. Тогда он показался мне дельным, толковым парнем. Я стал африканистом, Дима Симис — американским советологом. Так сложились наши пути-дороги…
ТЕЛЕГРАММА Н. С. ХРУЩЕВУ И…
ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ЗАНЗИБАРА
С героем этой заметки я был знаком с 1962 года. Занзибарец Харуб Осман учился в Москве и жил в общежитии МГУ в Черемушках. Он делил комнату с одним из однокашников по ИВЯ (его имени не вспомнить). Он нас и познакомил.
Потом, в конце 70-х, работая заведующим Бюро АПН в Танзании, не раз встречался с Харубом. В те годы он преподавал в Университете Дар-эс-Салама и как адвокат практиковал на Занзибаре, позднее стал профессором и руководил Институтом проблем развития при Университете.
Новая встреча с ним состоялась в Дар-эс-Саламе в 2004 году, когда я с Оксаной побывал в Танзании по приглашению Рифата Кадыровича Патеева. директора Российского центра науки и культуры (РЦНК) в этой стране (о нем — ниже).
В свои 66 лет Харуб по-прежнему преподавал в университет, где и жил. И по-прежнему неплохо говорил по-русски, тепло отзывался об учебе в Москве.

Харуб Осман читает журнал «Азия и Африка сегодня».
Дар-эс-Салам, Университет. 2005 г.
Все эти годы я полагал, что хорошо знаю Харуба и его прошлое, однако при этом никогда не задавался вопросом, как и при каких обстоятельствах он получил высшее образование в нашей стране. Рифат, узнав о моем близком знакомстве с Х. Османом, посоветовал: «А ты спроси у него, как он вообще оказался в Москве?»
В самом деле — как? Ведь в начале 60-х годов Занзибар был протекторатом Великобритании, и лишь очень немногие занзибарцы могли выезжать за его пределы, не говоря уже о тех, кто приезжал учиться в Советский Союз.
Харуб Осман поведал мне свою «историю».
«С 1960 по 1962 годы я работал в Пекине на радио диктором на языке суахили. При мне началось вещание Радио Пекина на суахили.
В августе 1962 года я уехал из Китая на поезде Пекин-Москва, а билет у меня был до Хельсинки. По прибытии в Москву с удивлением узнал, что несколько занзибарцев уже учатся в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. И решил тоже попробовать.
Побывал в Комитете защиты мира, оттуда меня направили в Советский комитет солидарности стран Азии и Африки (СКССАА), потом в Ассоциацию дружбы со странами Африки и, наконец, я оказался в Министерстве высшего образования. И везде получал один и тот же ответ — «вы опоздали, набор студентов закончен, учебный год вот-вот начнется, приезжайте через год…». Короче, мне нужно было уезжать.
В то время Занзибаром управляла колониальная администрация, а я знал, что, если вернусь домой, выехать снова вряд ли смогу, ибо и так — пару лет назад — покинул страну, можно сказать, тайно.
В Пекине был у меня друг русский, работавший в Китае. Как-то, беседуя с ним, я рассказал ему о своем желании учиться в СССР. Он посоветовал мне — «если у тебя ничего не получится, пиши в высокие инстанции». И я решил воспользоваться этим советом.
Из гостиницы «Ленинград», где жил Харуси — мой знакомый, тоже из Занзибара, работавший на Московском Радио диктором суахили, я направил телеграмму в Кремль, на имя Никиты Сергеевича Хрущева. Как раз накануне состоялся очередной запуск советского космонавта, поэтому свою телеграмму я начал с поздравления в связи с этим событием, затем, что сам я из Занзибара, хотел бы учиться в Московском университете, и что в комитетах и министерстве мне отказали. В адресе «отправитель» я указал гостиничный номер Харуси. По правде говоря, не очень верилось, что что-то получится.
Но через три дня в номере Харуси раздался телефонный звонок, спрашивали меня. В тот же день Харуси передал мне, что «отправитель телеграммы», то есть я, должен зайти в министерство и встретиться с таким-то. Что я и сделал.
В Министерстве высшего образования меня принял заместитель министра. Он сразу спросил, почему я написал прямо в Кремль, а не пришел сначала в его министерство. Пришлось сказать, что здесь я уже бывал, как и в СКССАА и других организациях, после чего у нас произошел примерно такой диалог:
Вопрос: «Чему вы хотите учиться?»
Ответ: «Хотел бы изучать юриспруденцию»
Вопрос: «И в каком вузе?»
Ответ: «Интересный вопрос. Вы теперь даете мне право выбирать?! Конечно же, в лучшем вузе Москвы — в университете!»
Замминистра сказал, что в МГУ на юридическом факультете вакансий нет. Я ему в ответ: «Если там нет, можно ли на журфак?» — «Прекрасно», — сказал он.
Так я поступил сначала на факультет журналистики, а юрфак МГУ находился тогда по соседству на ул. Герцена. Через месяц я обратился к декану моего факультета по работе с иностранными студентами с вопросом, можно ли перейти на юридический. Несколько дней спустя декан сообщил, что можно. И я стал студентом юрфака, правда, первый год учился на подготовительном факультете, где основным предметом был русский язык. А в 1967 году получил диплом о высшем юридическом образовании».
Опыт «переписки» Х. Османа с советским лидером пригодился ему и по возвращении на родину. Вот окончание его рассказа:
«Вернувшись на Занзибар, я оказался без работы, искал ее, но тщетно. И решил написать Каруме — так, мол, и так, учился в Советском Союзе, окончил юридический факультет МГУ, пять месяцев ищу работу, что делать? Он пригласил меня в Дом правительства, спросил, чем же я занимаюсь. Я ему рассказал. Каруме вызвал своего заместителя по партии Абуда Джумбе. На этой встрече было решено, что отправляюсь в Дар-эс-Салам, чтобы устроиться там на работу.
Приехав в столицу, узнал, что Университету требуются юристы-танзанийцы. С тех пор, с 1968 года, я здесь работаю и сделал всю свою научную карьеру».
P.S. Харуб Осман умер в 2010 году. Об этом узнал на кафедре африканистики ИСАА МГУ, с которой Харуб сотрудничал многие годы. Последний раз встретился с ним в Дар-эс-Саламском университете в 2005 году.
ПОЧЕМУ И КТО УБИЛ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ЗАНЗИБАРА?
В апрельском, 2012 года, номере журнала «Азия и Африка сегодня» была опубликована моя статья с таким же названием (что и выше), но с подзаголовком — «40 лет назад был убит А.А.Каруме».
Статью предваряет своего рода рецензия на нее — «От редакции», — которую, не буду скрывать, написал мой коллега по журналу — Николай Иванович Петров:
«Публикация в апреле 2012 года в журнале «Азия и Африка сегодня» очерка о событиях, происшедших на далеком африканском острове Занзибар в начале 70-х гг. прошлого века, может вызвать, по крайней мере, у части наших читателей, вопросы. Почему журнал отводит довольно много места, в общем, рядовому по тогдашним меркам событию — убийству известного в Восточной Африке политического деятеля А.А.Каруме? В те годы подобные преступления совершались на континенте едва ли не ежеквартально. Можно ли поручиться за то, что автор — тогда советский аспирант — был достаточно полно осведомлен о явных и тайных рычагах убийства? Что поучительного из его анализа происшедшего могут извлечь современные политики и историки?
Начнем с того, что автор — О.И.Тетерин — в 1965—1966 гг., будучи студентом V курса Института восточных языков при МГУ, по линии Министерства обороны СССР работал переводчиком языка суахили в первой группе советских военных специалистов на Занзибаре. И был свидетелем, как тогда говорили, «революционных изменений» в островной части Объединенной Республики Танзания (ОРТ) после вооруженного переворота в январе 1964 г., ликвидировавшего султанский режим, опиравшийся на британскую колониальную администрацию. Более того, он внимательно следил за развитием внутриполитической борьбы на Занзибаре еще до того, как был убит А.А.Каруме, и, по большому счету, как явствует из предлагаемого ниже текста, в какой-то мере предвидел развитие событий по такому сценарию.
Свидетельства очевидца — это всегда интересно, и потому, мы полагаем, круг читателей этой публикации будет достаточно широк. Ценно и то, что автор глубоко и обстоятельно анализирует данные события, обращая внимание, прежде всего, на такие моменты, как клановая борьба за власть, которая, в конце концов, и привела к трагическому исходу. Плюс — и это тоже важно — он отмечает и явное противостояние различных этнических групп, которых так много в Африке.
Автор приводит краткие характеристики ряда политических деятелей Танзании середины 1960-х — начала 1970-х гг., и не все они вызывают безоговорочную симпатию. Здесь нельзя не учитывать, что к тому времени не прошло и десятилетия с момента получения Занзибаром независимости, и африканская политическая культура тогда только еще формировалась. Очерк дает представление и об этом, сравнительно малоосвещенном в печати этапе становления данной культуры.
Мы не раскроем большого секрета, если скажем, что в основу материала легла аналитическая справка, направленная тогда автором директору Института Африки АН СССР В.Г.Солодовникову. Естественно, руководство волновало, прежде всего, то, какие «пружины» работали в ходе подготовки покушения на А.А.Каруме, и имели ли в данном случае место не только «внутристрановые», но и далеко идущие «общеафриканские» мотивы преступления. На мысль об этом прямо наталкивала таинственная смерть (или намеренное уничтожение) его непосредственных исполнителей. Автор с поставленной задачей справился, и сейчас уже можно сказать о том, что его записка получила тогда высокую оценку. Видимо, правы будут те читатели журнала, которые задумаются о том, какие «невидимые миру» силы руководят сегодня «арабскими революциями», подобно силам, которые действовали в Танзании 40 лет тому назад, а также — как и кем было организовано, например, убийство Муамара Каддафи, разделившего трагическую судьбу А.А.Каруме.
Наверное, когда-нибудь найдутся совсем молодые сейчас свидетели, которые расскажут и об этом.
Ждать осталось недолго.
Всего сорок лет».
* * *
Вниманию читателей предлагаю этот очерк:
«7 апреля 1972 г. в городе Занзибар в штаб-квартире партии Афро-Ширази (АШП) был убит ее лидер — президент Занзибара, первый вице-президент Танзании Абейд Амани Каруме; генеральный секретарь АШП Табит Комбо был тяжело ранен.
Немедленно вслед за этим на островной части Объединенной Республики Танзания (ОРТ) было введено чрезвычайное положение, установлен комендантский час, были закрыты аэропорт и морской порт, прервана телеграфная связь. Самолетам и судам запрещалось приближаться к островам.
Об этом событии коротко сообщила одна из наших газет.
И Каруме, и Комбо я хорошо помнил: ведь прошло всего шесть лет после моего возвращения из Занзибара. Часто видел Абейда Каруме, выступавшего на различных митингах, а рядом с ним — Табит Комбо. Однажды, в январе 1966 года, был переводчиком суахили на аудиенции президента Занзибара с Дмитрием Тулаевым, заместителем зав. отдела Африки КМО СССР, посетившим Занзибар по приглашению Молодежной лиги АШП.
Я стал отслеживать информацию, надеясь узнать подробности, просматривал тассовские листы с информацией об Африке. Сообщения от собкора ТАСС в Дар-эс-Саламе, как и из корпунктов ряда советских газет в регионе Восточной Африки, отсутствовали. Кое-что попадалось на глаза, но, в целом, на вопросы «кто, что и почему» ответов не нашел.
Тогда, завершая работу над диссертацией о Занзибаре в Институте Африки, подготовил справку «К убийству первого вице-президента Танзании А.А.Каруме», поставил дату «19.IV-79», и передал ее руководству.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.