
Бесплатный фрагмент - В капле дождя
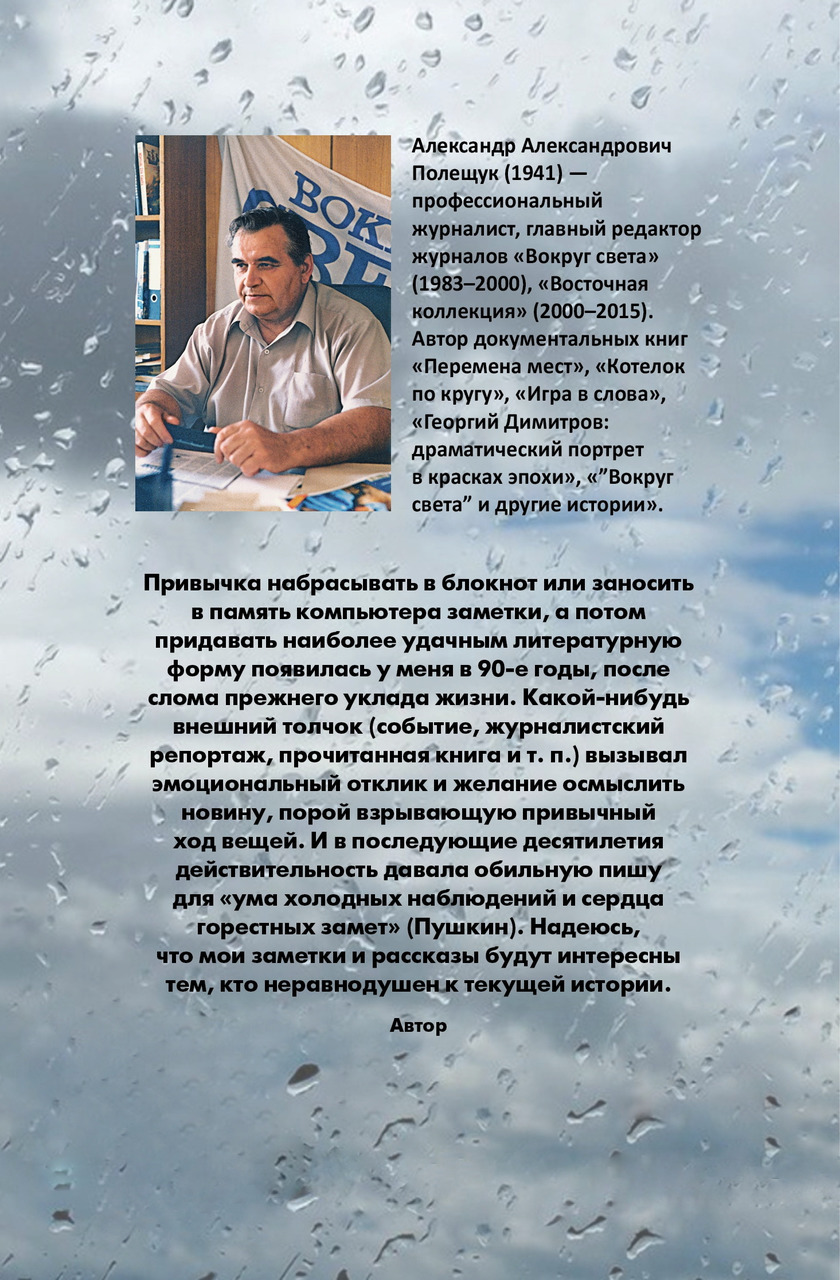
ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
РУССКАЯ ДОРОГА
Завязка сюжета / Путевой знак №2537 / Как быть? / Песни ветровые / Закон воздаяния / Река в декабре / Обманные дома / Полутона / Сушёные насекомые / Феномен / Двери в историю / «Ежедневно куртизуя гишпанскую красавицу» / Похвальное слово путешествию / Глазами лондонского пешеходца / Крещёная Афродита / Крыши / По направлению к банану / Старые камни Европы /
РАЗДЕЛЁННОЕ ВРЕМЯ
Разрушить. И построить! / Происхождение / Контекст судьбы / Вспоминая Тургенева / «И вышед вон, плакал горько» / Халифат рухнул / Ветер перемен / Очередь / Лужа / Восторг отторжения / Сатин / Миллениум / Шаги культуры / Разрушение образа / Русское поле / Продолжите сами / Меняем местное на московское / Всегда найдётся лазеечка / Атака на здравый смысл / Каждому своё / Обрусели / Чужие не в счёт / Поющие под землёй / Плоды ядовитые / Что в имени твоём? / Синдром вахтёра / Секты / Степень рабства / Золото на марше / Природа мстит / Неофиты / Вера плюс / Бритва Оккама / Протест молчаливых / Цена вопроса / Кино про смерть Сталина / Мирные взрывы / Мужское достоинство / Адреналин играет / У них одна судьба / Встреча цивилизаций / Ищем национальную идею / Что-то будет… /
ЧЕМ СЛОВО ОТОЗВАЛОСЬ
Коварная свобода / «А был ли Шекспир?» / Стиль умер. Да здравствует стиль! / Умалчивают / Глаголы движения / Выкинуть песню… / Если б не было войны / Куда же ты несёшься, поэт? / Скрытые цитаты / В одном потоке / Картинки для народа / Чужие слова / Человеко-зверь / Прибежище негодяев / Сочиняем истории / Нет истины без любви / Это… / Сравнительное языкознание / Божественная искра / Смотрите, кто ушёл / Как повезёт / Без ужимок и прыжков / Перевод на иностранный / Нельзя подделать чувство / /Работают языкотворцы / Страсть честолюбцев / Старик Юнгер в окружении книг / Робинзонада-2 / Загадки Тютчева /
ОТБЛЕСК ЧУВСТВА
Соблазн ностальгии / Смыслы жизни / Крик / Новогоднее / Цепкие лианы / Налёт / Душа / Генетическая память / Примета / Двойник / Ещё поживёшь… / Четвёртая стража / Где-то обязательно рванёт / Таинственная семёрка / В день рождения /
ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
Не раз и не два пытался я завести дневник, но из этой затеи ничего не получалось. Ведь не каждый день случаются события, достойные пера, и не каждый день человеку приходят в голову ценные мысли (если, конечно, этот человек — не Лев Толстой). Вымученные ежедневные записи в интернет-дневниках подтверждают мой вывод.
Мои миниатюры и короткие рассказы не претендуют на адекватное отображение событий последних лет. Это лишь отдельные впечатления восприимчивого к переменам человека, которые могут быть интересны и другим людям, неравнодушным к текущей истории.
Обычно бывало так: я набрасывал в блокнот заметки, а потом тщательно их просеивал и придавал наиболее удачным записям литературную форму. Эта привычка появилась в 90-е годы, после слома прежнего уклада жизни. Какой-нибудь внешний толчок (событие, журналистский репортаж, прочитанная книга) вызывал эмоциональный отклик и желание осмыслить новину, порой взрывающую привычный ход вещей. И в последующие десятилетия действительность давала обильную пишу для ума холодных наблюдений и сердца горестных замет.
Свои эссе я поместил в четырёх разделах — «Русская дорога», «Разделённое время», «Чем слово отозвалось», «Отблеск чувства». Они расположены по ходу лет, вплоть до дней сегодняшних, а чёрно-белые фотографии создают зрительные образы, ассоциативно связанных с текстом.
То была летняя гроза во всём великолепии.
Выйдя на крыльцо, я застыл,
заворожённый грандиозным зрелищем.
Прошиваемые молниями тучи —
лиловые, иссиня-чёрные, отдающие желтизной
и ещё какими-то немыслимыми оттенками, —
беспорядочно носились по небу,
удары грома, настигая друг друга,
с сухим треском разрывали насыщенный
озоном воздух,
всё вокруг гудело, журчало, звенело, клокотало.
Подхваченные ветром косые струи колотили
по железу крыши,
ручьи катились по уклону
и пропадали за воротами,
с крыши лился тяжёлый поток,
рассыпаясь в переполненной бочке веером брызг.
Рядом со мной колыхалась ниточка
падавших с карниза крупных капель —
и вдруг при грозовом ударе прямо над головой
я увидел в одной из них отражение молнии.
Не отсвет, не отблеск, а именно отражение —
уменьшенную в миллионы раз копию,
похожую на искривлённое оранжевое деревце.
Вместе с молнией в капле вспыхнула
целая картина:
тучи, угол дома, решётка беседки, забор,
увитый настурцией.
Всего-то мгновение прожила капля,
а сколько в ней отозвалось…
РУССКАЯ ДОРОГА
Завязка сюжета
Русские писатели частенько отправляли героев своих сочинений в путешествие — по казённой ли надобности, по личным ли обстоятельствам, или просто по таинственному зову дороги. Всевозможные возки, пролётки, шарабаны, тарантасы, экипажи, кибитки, сани, кареты, тележки так и снуют по страницам нашей литературы.
Путешествие может послужить удачной завязкой сюжета или началом всей книги.
«В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных и платил прогоны за две лошади», — сообщает А. С. Пушкин в «Станционном смотрителе».
«Я ехал на перекладных из Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит путевыми заметками о Грузии». (М. Ю. Лермонтов, «Бэла»)
«Это было ранней весной. Мы ехали вторые сутки. В вагон входили и выходили едущие на короткие расстояния, но трое ехало, так же как и я, с самого места отхода поезда…» — первые строки «Крейцеровой сонаты» Л. Н. Толстого».
А вот начало «Мёртвых душ» Н. В. Гоголя: «В ворота гостиницы губернского города NN въехала довольно красивая рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки: отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, — словом, все те, кого называют господами средней руки». Из прекрасного итальянского далёка Гоголь увидел коренную Русь так близко и ясно, как будто сам отправился на той рессорной бричке поглядеть, что да как происходит на родине.
Русская дорога — отнюдь не воображаемый путь восточных мудрецов, означающий самопознание, совершенствование личности. Для русского человека, привыкшего ощущать себя внутри широко раскинутых во все стороны просторов, обычная дорога приобрела особенный поэтический и философский смыслы. Она навевает тоску и врачует уставшую душу, уводит из дома сына и спустя время возвращает его к родному порогу, манит тайнами и грозит опасностями, обещает незабываемые впечатления и вызывает раздумья о сокровенном.

Подобно живому существу, дорога требует постоянной заботы. Если по ней не ездить и не ходить, не чинить её и не чистить, она затягивается бурьяном и древесной мелочью, умирает. Умирает дорога — пустеют оживлённые поселения, которые она соединяла и питала.
Два эти слова могут означать пару стальных рельсов, убегающих вдаль, шоссе, перегруженное автомобилями, широкую реку с белым пароходом, а может быть, вспоротую ледоколом броню застывшего северного моря. Но историческая память скорее всего подскажет вам образ русской дороги, какой она была на протяжении столетий и остаётся ещё и в наши дни: то пыльный степной просёлок, то укатанный большак с канавами и телеграфными столбами по сторонам, то две раскисшие колеи, ныряющие в ямы с водой, то снежный накат, опасно поблёскивающий на уклоне.
Три дороги, расходящиеся в стороны от замшелого камня, — метафора нашей исторической судьбы, постоянно предлагающей трудный выбор. И не всегда мы находим ту дорогу, что приводит нас в желанный блистающий мир.
Путевой знак №2537
Вот картинка из прошлого: крашенный охрой деревянный вокзал, построенный ещё в XIX веке; дощатый перрон с цветочной клумбой в центре, столб с числом 2537 на эмалевой табличке. Столб называется путевой знак, а табличка указывает расстояние от Москвы до нашей станции. Ведь «всем известно, что земля начинается с Кремля», как писал поэт Сергей Михалков.
На самом деле москвичей вряд ли интересовало расстояние до какого-то районного городка Петухово в Зауралье. Это для нас путевой знак был важен: ведь именно с него начиналась для нас земля.
В детстве я узнал, что две пары стальных рельсов, разрезающих наш городок, называются Великой Сибирской магистралью. Накатанная до зеркального блеска, она неустанно трудилась днём и ночью. Поезда взрывали провинциальную тишину пронзительным гудком и дробным грохотом и оставляли за собой восхитительный запах нагретого железа и дыма. Приникнув ухом к нагретой поверхности рельса, можно было услышать затихающий гул.

Магистраль вела в большой мир. В детские годы мне удалось немало поездить по стране. Мать работала в железнодорожной амбулатории, благодаря чему имела право один раз в год оформить бесплатный билет до любой станции в СССР и прихватить с собой в отпуск меня.
Самолёт даёт выигрыш во времени, но не может дать того богатства впечатлений, какое человек получает при передвижении по земле. С утра до ночи я торчал у вагонного окна, и передо мной разворачивалась, откладываясь в памяти, бесконечная движущаяся картина страны: подступающие вплотную к дороге скалы Южного Урала; станции с непривычно звучащими названиями; гигантский мост у Сызрани, с высоты которого пассажиры благоговейно взирали на широченную Волгу; бесчисленные паровозы — мощные чёрно-красные красавцы «Иосиф Сталин» и «Феликс Дзержинский», скромные труженики «Су» и писклявые суетливые «кукушки»; платформы с военными машинами и пушками, укрытыми зелёными чехлами; дымящие заводы, далёкие вечерние огни, как бы плывущие вслед поезду; города с широкими проспектами, нарядными домами и трамваями; вереницы двухэтажных дач и садов подмосковных посёлков…
Окна в вагонах старой конструкции имели то преимущество перед современными, что легко открывались, стоило только потянуть их вниз за ремни. Тотчас же в вагонную духоту врываются резкие запахи и звуки дороги. Высунувшись наружу, наблюдаешь, как состав плавно изгибается на повороте, втягивается в тоннель внутрь горы, замедляет ход перед въездом на длинный мост с вооружённым часовым, как набегает и бешено проносится совсем рядом встречный, пригнав горячую волну дыма и пара.
Дощатый перрон с путевым знаком №2537 был нашей стартовой площадкой в новую жизнь. Отсюда мы провожали друзей и подруг и сами покидали дом: учёба, армия, заманчивая работа, женитьба, отпуск, переезд в другой город. И постигали неповторимое чувство возвращения. Задолго до станции выходишь в тамбур и ждёшь, охваченный нетерпением, когда покажутся знакомые места. Проводница в форменном кителе с погончиками открывает тяжёлую дверь, протирает поручни лесенки — и вот в дверном проёме уже проплывают железнодорожные казармы, водонапорная башня, появляется вокзал с дощатым перроном и путевым знаком номер 2537. Поезд замедляет ход, и ты спрыгиваешь с подножки, не дожидаясь полной остановки. Дома!
Как быть?
В мае 1988 года в Новгороде Великом с необыкновенным подъёмом прошли мероприятия Дня славянской письменности и культуры. Новый государственный праздник, учреждённый в СССР, был воспринят интеллигенцией как знак высвобождения русского культурного наследия из-под спуда партийной идеологии. Уже не на страницах литературных журналов, а на площадях, в клубах и школах зазвучали слова о многообразии русской культуры, о сохранении исторических памятников, о патриотизме без обязательной приставки «советский». Всё это прочитывалось как молчаливый вызов официозу. Впрочем, так оно и было.
На обратном пути в Москву я оказался в одном купе с литературными критиками — Владимиром Б. и Николаем М. (с последним я был хорошо знаком). Разгорячённые праздником и радушными проводами, критики завели разговор о наболевшем в литературе и жизни. Мелькали известные фамилии, награждаемые уничижительными эпитетами и выразительными характеристиками, с насмешкой комментировались статьи коллег по цеху и речи политических деятелей.
Конечно, примерно в такой же тональности велись в ту пору разговоры и в кругу моих друзей, но, как у нас издавна повелось, — за дружеским столом, не предназначенные для трансляции кому попало. Сейчас же дверь купе была открыта, поскольку кондиционер, по обыкновению, не работал, и отлитые в безупречную литературную форму инвективы моих соседей беспрепятственно разносились по коридору.
Скажу честно, меня это стало смущать. Конечно, времена не те, но всё-таки… Мало ли… Бережённого и бог бережёт… И когда в очередной раз было не без яда прокомментировано последнее явление народу говорливого Михаила Сергеевича с дражайшей супругой, я, что-то неловко пробормотав, резко толкнул дверь. Она заскрежетала по полозьям, замок удовлетворённо щёлкнул.
Критики уставились на меня. Во взгляде Николая читалась ирония, лицо Владимира было непроницаемо.
— Нет, лучше сидеть в тюрьме, чем загнуться в этом душном купе! — с пафосом воскликнул Николай и отжал скобу. Я был посрамлён.
Дверь медленно отъехала назад и застопорилась. Из коридора потянуло запашком нечистого туалета.
— Вот и Горбачёв так же открыл дверь на Запад, и оттуда попёрла к нам всякая срань, — вздохнул Владимир.
Ну и положение. Закроешь дверь — душно. Откроешь — натянет вони. Как же быть? До сих пор не знаю. Добавил этот вопрос к вечным русским «Что делать?» и «Кто виноват?».
Песни ветровые
Вечерний поезд Москва — Казань был «фирменный», то есть более комфортабельный и скоростной, чем обычные. За всю дорогу — без малого двенадцать часов — полагалось ему всего три остановки. Стало быть, ночной покой едва ли будет нарушен частым хлопаньем дверей и громкими голосами.
В купе я оказался один. Разложив вещи по местам, вышел в коридор. Прямо передо мной висело расписание в лакированной рамочке. Названия двух остановок оказались мне знакомы по прежним поездкам по этой дороге, третье же — Вековка — не припомнил.
Миновали подмосковные платформы с коченеющими на ветру людьми, смолкла суета в коридоре, пассажиры разошлись по местам. Расстелив хрусткую простыню и тяжёлое ворсистое одеяло, улёгся в постель и я, соблазнившись возможностью долгого неторопливого чтения под романтичный перестук колёс. Однако уже через два десятка страниц понял, что напрасно тащу в командировку увесистый том. С досадой отложил книгу, но спать не хотелось. Отдёрнув сборчатую занавеску с вышитым локомотивом, стал смотреть в окно.
Как и следовало ожидать, за окном не оказалось ничего интересного. Ромбы света из немногих горящих окон бежали вровень с поездом, а вдали медленно разворачивались едва различимые огни какого-то селения. Вокруг властвовала первобытная тьма.
Мрак тревожит человека и в то же время держит, не отпускает. В бездумном оцепенении провёл я час или больше. За туманным стеклом, где отражался мой лик, всплывали отрывочные картины давних поездок, когда вот так же, уперев локти в кромку столика, я вглядывался в окрестности дороги. Если же полка оказывалась верхняя и удавалось откинуть тяжёлую оконную фрамугу, то наслаждение движением было полным. Можно было подставить лицо ветру и проговаривать шёпотом:
Опять, как в годы золотые,
Три стёртых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи…
Украдкой вытирал глаза — наверное, тугой воздушный поток выдавливал горячую влагу.
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые —
Как слезы первые любви!
Простим ушедшей юности её святую простоту, когда, упоённая музыкой стихов, она не задумывается, отчего же наши колеи расхлябаны, а избы серы, отчего наши поэты поют такую Россию — нищую и жалкую?
Скоро я задремал, но среди ночи проснулся оттого, что поезд стоял. Снаружи доносились громкие возгласы, топот и шарканье ног, но в вагон никто не входил. Заинтересованный странными событиями, я выглянул в окошко: оказалось, то была неизвестная мне станция Вековка. В тусклом свете фонарей вдоль состава сновали люди с какими-то предметами в руках. Откинутая занавеска в моём окне вызвала у них взрыв интереса. Десятки глаз устремились на меня, десятки рук подняли над головами вазы, графины, кувшины, наборы рюмок, фужеров, бокалов, стаканов. На некоторых изделиях были прикреплены картонки с ценами. Тщетно показывал я знаками, что мне ничего не надо, — люди не расходились, и тогда я в смущении задёрнул занавеску.
Тут к соседней платформе подали другой поезд, и толпа ринулись туда.
Я понял, что только что видел работников некогда знаменитого на всю страну хрустального завода, расположенного поблизости от станции. Им выдали зарплату натурой — изделиями их же труда, и теперь они пытаются выручить за них хоть какие-нибудь деньги. Такой способ вознаграждения за работу практиковался довольно часто.
Через минуту поезд тронулся — и быстрей, быстрей застучал по стыкам. Последние дома станции Вековка остались позади, и наш «фирменный» снова обступила тьма.

Закон воздаяния
В купе нас оказалось трое: я, ещё один мужчина, моложе меня, — лысый, с жёсткими усами щёткой и ухоженными руками, и женщина в чёрном, едущая налегке, с небольшой сумкой. Как только поезд тронулся, она забралась на верхнюю полку, отвернулась к стене и стала тихонько плакать, сморкаясь в платочек и вздыхая. Мне и моему соседу стало понятно, что не следует тревожить страждущую душу досужими расспросами.
Под вечер женщина собралась выходить и, извиняясь, объяснила своё состояние. Едет она в Самарскую область, где погиб сын. Ввязался разнимать пьяную драку — и получил ножиком. Теперь придётся хоронить сына на чужой стороне, потому как у него там остались жена и ребёнок.
Вскоре она вышла на маленькой станции. Почувствовав себя свободнее, мы принялись ужинать. У каждого оказался припас: у меня — фляжка коньяка, у соседа — бутылка водки производства московского завода «Кристалл».
Разговорились, и по мере убывания напитков разговор становился всё интереснее, поэтому я и решил изложить его вкратце на бумаге.
Началось с того, что я посетовал на привыкание людей, можно даже сказать — общества, к такому противоестественному явлению, как убийство. Убил и убил, посмотрел и пошёл дальше. Много насилия, крови что на телевидении, что в кино, что в газетах и книгах. А ведь психологический закон подражания ещё никто не опроверг, сколько ни пытались: дескать, ерунда всё это, выдумки партийных боссов, зажимавших свободу творчества. Мы высмеивали цензуру, но ведь она запрещала не только антисоветские сочинения, но и, к примеру, подробные описания убийств, методов подготовки преступлений, сцены унижения, надругательства над человеком. А недавно я видел в Ленинской библиотеке целый каталог пособий по взрывам, ранее закрытых в спецхране, — читай и применяй на практике… Милиция почти в открытую «берёт», да и кто не берёт из так называемых правоохранительных органов?..
Тут я остановил свою раздражённую речь, заметив уставленные на меня стальные глаза собеседника.
— Прошу прощения за этот горячий монолог, может, я ненароком сказал что-то неприятное вам…
— Ничего. Я не милиционер, я следователь. Честный следователь — пока. Иногда, правда, думаю: да пропади оно всё пропадом. Пашешь, пашешь, добываешь улики, а он, убийца то есть, через четыре года оказывается на свободе.
— Но ведь важна не тяжесть наказания, а его неотвратимость. Так, кажется?
— Это очевидно. И неотвратимость существует.
— Какая уж тут неотвратимость, когда смертную казнь отменили, а значит оставили на самый крайний случай щёлочку: авось как-нибудь пронесёт.
— Дело не в этом. Существует неотменимый закон воздаяния. Закон справедливого распределения справедливости. Он реализуется трудно, различными путями: через приговор суда, месть родственников, смертельную болезнь, убийство на зоне, через несчастный случай, когда вдруг человек падает с десятого этажа…
— Всегда?
— Точность попадания в цель значительна.
— Ежели так, то не нужны никакие милиции, суды и прокуратуры — те, что должны воздавать по справедливости.
— Суд, как я уже сказал, — один из каналов воздаяния, и довольно эффективный. Институт мести — тоже неплохое изобретение человечества.
— Но акт мести может вызвать последующую цепочку убийств. Теоретически можно допустить, что она не прервётся бесконечно долго.
— Прервётся. У некоторых народов месть регулируется традиционным правом, старейшинами, есть предел. Можно откупиться, покаяться.
— И всё-таки бывает, что преступник уходит от наказания, несмотря на ваш закон воздаяния.
— Бывает. Точно так же как не всякому праведному человеку воздаётся на земле благом за добро. Потому существует рай для праведников, а для грешников — ад. Последняя, так сказать, воздающая инстанция.
— Но если воздаяние существует, то надо ждать случая. А случай слеп, он не взвешивает вину и наказание, лишает жизни и грешника, и праведника.
— Это если скользить по поверхности фактов. А если покопаться, увидишь явление во всей полноте… Вы грибы когда-нибудь собирали?
— Что за вопрос! Каждый, наверное, собирал хоть раз в жизни.
— Вы находите гриб, срезаете его и кладёте в корзину. Но гриб как явление можно объяснить, если разроешь грибницу, все эти белые ниточки, уходящие в невидимую для нас глубину.
Поняв, что моего собеседника не переспоришь, уж очень он уверовал в свою теорию, я замолчал. А он, поглядев пять минут в окно, снова принялся за своё.
— Вот послушайте одну историю, очень к месту.
Однажды я расследовал аварию у нас в районе. Два молодых мужика, женатые на родных сёстрах, — знаете, они называются свояки — отправились на рыбалку с ночёвкой. В самом радужном настроении, сами понимаете, в предвкушении ухи, выпивки, тихого сумерничанья у костра и всё такое. Машина у них была знатная — «Запорожец». И вот эта консервная банка оказывается раздавленной тяжеленым лесовозом, то есть буквальным образом в лепёшку. Мгновение — и два трупа, даже не трупа, а месиво какое-то… — Рассказчика даже передёрнуло. — Причина тривиальная: шофёр лесовоза заснул из-за усталости за рулём и вымахал на встречку… Ну, конечно, суд, дали, кажется, пять лет. Но дело не в этом — не в строгости или мягкости приговора. Я о другом хочу сказать. Оказалось, что здесь не обошлось без закона воздаяния, хотя и грубо он сработал, топорно.
По ходу допросов и расспросов установил я следующее. Одна уважаемая в районе женщина, у которой муж в своё время погиб на фронте, вышла — тоже в своё время — за вдовца, да ещё, как у нас говорят, — на детей. Две девочки, до десяти лет, и мальчик годовалый. Жили хорошо, муж был трудяга, мужик трезвый и хозяйственный. И вот дети выросли. Одна получила педагогическое образование, вышла замуж. Другая заканчивает медицинский. Мальчик поступил в университет. Каждое лето, разумеется, всем гамузом у папы с мамой на усадьбе: овощи-фрукты, ягоды-грибы, воздух, речка, то-сё. И в этот период случается беда: отца семейства по недосмотру прораба засыпало землёй в котловане. Насмерть.
Что же происходит дальше? А дальше дети после сорокового дня заявляют, что надо, мол, делить наследство. Стало быть, родной дом на четыре части, по справедливости, а поскольку четыре входа там не устроишь, — дом продать, а деньги опять же на четверых поделить. Выходит, матери — а ведь она им как мать была, своего ребёнка не завела даже — жить негде. Суд, естественно, постановил по закону — делить. Ну, мать, поскольку она человек в районе известный, заслуженный учитель, пошла в райком, комнату ей нашли. Старшая дочь на папино наследство купила «Запорожец», остальные дети распорядились деньгами кто как хотел…
Да… Проходит год или больше. И вот мать узнаёт: мужья тех самых девочек убились в машине. Что делает эта русская женщина? Она едет на похороны, помогает падчерицам первое время, пока те определяли детей и так далее.
Но это ещё не конец. Третий ребёнок, тот самый годовалый мальчик, блестяще заканчивает университет, женится на дочери одного областного начальника, своей сокурснице. И у них рождается ненормальный ребёнок — даун, одним словом. Эта светлая женщина снова приезжает и говорит: «Хочу уйти на пенсию, чтобы сидеть с вашим ребёнком». — «Нет, — отвечают ей. — Мы уж как-нибудь сами». Думаю, умный мальчик сообразил, что тут действуют какие-то непознанные силы. А может, устыдились и решили сами нести свой крест… Что скажете?
— История в духе древнегреческих трагедий, где боги напускают на героя, совершившего злое дело, безжалостных мстительниц — эриний. От них не уйдёшь.
— Правда? Вот видите, ещё тогда умные люди сообразили, что есть неотменимый закон воздаяния.
— Но отчего наказаны дочери смертью мужей? Это всё равно как Медея покарала за измену своего мужа Ясона, заколов детей… Равноценно ли наказание безнравственности поступка?
— Согласен, возмездие чересчур… Но тут уж что выпадет, если на тебя напустились эти самые… эринии.
Река в декабре
В начале декабря мороз, набравший было силу, неожиданно отпустил, и Москву, как часто бывает, накрыл мелкий снег. Погода не располагала к путешествиям, но мне пришлось субботним днём отправиться на дачу, чтобы сложить привезённые накануне дрова, и рассчитаться с водителем самосвала.
Всякий мой приезд на дачу сопровождается обрядом поклонения местным божествам огня, воды и леса. И на сей раз, разжёгши печку, я вышел на косогор, откуда открывается излучина Волги и лесистый мыс на другом берегу. Вода была даже на вид студёная — тёмная, расчерченная полосами нарождающегося льда. На мелководье уже стало довольно большое ледяное поле, другое образовалось в заводи, что напротив мыса. Серый, размываемый надвигающимися сумерками пейзаж оживляли только пятна ягодных кистей на рябинах и облепихах.
Ночью начался дождь. Проснувшись, я долго вслушивался в шум падающей с крыши воды. Звук был не таким, как летом, когда упругие струи с треском разбиваются о твердь земли и грубо молотят по ступеням крыльца. Нет — тоненькие ручейки падали в снег с деликатным журчаньем, словно сознавая неуместность своего появления в декабре.
Наутро, спугнув стрекочущих сорок, я снова пошёл на косогор — посмотреть Волгу. Пробитая мной вчера дорожка еле виднелась, следы оплыли, наст с хрустом проваливался под ногами. Ветер бросал в лицо пригоршни холодных капель, перемешанных с колючей крупой, в сыром воздухе метался горький дым из печной трубы.
Ледяные поля за ночь заметно подобрались, съёжились. На чистой воде между ними юлила чёрная лодка с рыбаком, ловко загребавшим то левым, то правым веслом.
Позавтракав, я принялся укладывать дрова, кучей наваленные у забора. Нижние поленья прихватило морозом, и надо было колотить по ним обухом топора, чтобы оторвать от земли. Твёрдый стук возвращался ко мне эхом. Промороженные чурбаки казались лёгкими, я тщательно выкладывал их крест-накрест по краям дровяного ряда, чтобы поленница не развалилась под собственной тяжестью, как случилось в прошлый сезон.
Из-за дождя приходилось часто менять быстро намокавшие рукавицы, и я наладил нечто вроде сушильного конвейера у печки. Я так увлёкся однообразным, но вовсе не утомительным занятием, что потерял счёт времени, и воспринимаемый мной мир сузился до пределов двора. Но однажды, выйдя на крыльцо после очередной смены рукавиц, я услышал странные ритмичные звуки со стороны реки. Они не походили ни на шум течения, ни на обычный ход волн под ветром, ни на биение о берег валов, вздымаемых теплоходом, да и какие теплоходы в декабре? Следовало бы пойти и посмотреть, что там происходит, но я почему-то медлил и в конце концов придумал для себя развлечение: разгадать происхождение странных звуков.

Я вернулся к прерванному занятию, но теперь, как писали в старых романах, весь обратился в слух и стал примерять к говору реки всевозможные названия. Плеск, журчанье, биенье, ток, колыханье, бульканье, бултыханье, клокотанье, рокот, звон, дробь, шуршанье — всё было не то. Звуки были мелодичными — прозрачными и размеренными. Пошли в ход аналогии: галька на пляже под накатом моря, деревянные брусочки ксилофона, откликающиеся на удары пружинистого шарика, монисто на шее восточной красавицы, хрустальная люстра, подрагивающая на сквозняке. Это передавало окраску звука, но при чём здесь люстра и ксилофон?
Наконец, я вынужден был сдаться и спустился к реке. Разгадка оказалась до обидного простой. Под действием дождя края ледяных полей растрескивались, крошились, ветер и течение сгоняли большие и малые осколки к берегу, и они ударялись друг о друга, отчего и возникали переливчатые звуки. Я долго вслушивался, но подходящего названия для них так и не подобрал.
Обманные дома
В середине 60-х годов я проходил студенческую практику в областной газете «Советский Сахалин». В то время на южной половине острова ещё было полно следов японского владычества: бумажные фабрики и рыбозаводы с японским оборудованием, узкоколейная железная дорога с миниатюрными вагончиками, портовая гостиница в Корсакове — некогда публичный дом…
В центре Южно-Сахалинска моё внимание привлекли здания с рустовкой из дикого камня, с мраморными панелями, гранитными наличниками, фигурными карнизами и полуколоннами. Всё говорило о вкусе и достатке прежних владельцев. Однако меня постигло разочарование. Подойдя к одному такому дому, где располагалось какое-то городское управление, я обнаружил ловкую подделку. Оказалось, что рустовка и панели, наличники и полуколонны — всего-навсего глина, крашеная штукатурка, с большим искусством имитирующая дорогой камень. Кое-где она искрошилась, обтёрлась, отслоилась от стен, состоявших из жёрдочек и дощечек, между которыми была засыпана древесная мелочь.
Местные журналисты пояснили, что хозяева приезжали сюда только летом, поэтому им не нужны были тёплые дома. А круглый год добывали уголь, рубили лес, ловили и обрабатывали рыбу, строили фабрики и причалы рабочие, переселённые на остров из захваченной японцами Кореи. У них были другие жилища.
Вспомнив сахалинские обманные дома, я подумал, что тут не обошлось без национального характера. Японец ведь вежливо улыбается, кланяется, прижав руки к бокам, уважительно пятится, а поди узнай, что у него за душой.
Полутона
Всматриваюсь в картины, проплывающие за окном электрички. Цветовая гамма среднерусского апреля небогата. Вот белые свечи берёз с пышными кронами, подёрнутыми сизым дымком, — значит, почки набухли и готовятся выбросить лист. Глубокий изумруд тяжёлых еловых лап разбавлен пятнами тускло-зелёной сосновой хвои. Жёстким космам прошлогодней травы, отдающим безжизненной белизной, вторят жёлтые метёлки камыша. Неряшливые кусты ольхи усыпаны тёмно-коричневыми, будто неживыми, столбиками и пушистыми зеленоватыми бутонами. На месте палов намечаются зелёные проплешины. И над всем этим скромным убранством — серо-голубой ситчик неба с бегущими облаками, изредка открывающими солнце…
В палитре просыпающейся русской природы нет нарядной праздничности боттичеллиевской «Весны», зато присутствует множество едва заметных оттенков, негромких сочетаний красок, меняющихся в солнечных лучах. Вспомнилось название сборника рассказов Юрия Казакова — «Голубое и зелёное». Вызов банальному контрасту и бьющей в глаза пестроте: не красное и белое, не какое-нибудь оранжевое и ультрамариновое — а скромное голубое и зелёное. Спокойствие, умиротворение, мягкость — полутона, полутона…
Сушёные насекомые
В голодной, коснеющей в тихом пьянстве Костроме конца 80-х у приезжего человека была одна радость: осматривать музеи да бродить по улицам, сохранившим следы старины.
В художественном музее меня встретили непроницаемые лики костромских помещиков XVIII века — то были работы недавно открытого художника Григория Островского, поднятые реставраторами почти из небытия. По соседству выставлены картины художника-самоучки XIX века Ефима Честнякова, которого эрудированные журналисты, конечно же, окрестили «костромским Руссо» — по укоренившейся у нас привычке поднимать значение отечественного таланта сравнением его с иностранным. Но что, скажите, общего между туповатыми французскими обывателями художника-примитивиста Анри Руссо и радостными, объединёнными совместными трудами и праздниками крестьянами Ефима Честнякова? Ровно столько же, сколько между тем же Ефимом Честняковым и притворными современными «примитивистами». Однако ведь Анри Руссо увидишь во всех альбомах, посвящённых изобразительному искусству Франции, а где у нас найдёшь альбом с работами Ефима Честнякова?
Что до достопримечательностей, то их в Костроме немало: ветшающие или перестроенные дворянские и купеческие особняки, бывшие торговые ряды (Мучные, Мелочные, Пряничные, Красные, Масляные, Квасные, Табачные…), преобразованные в угрюмые магазины с одинаковыми вывесками «Хозтовары», «Промтовары», «Канцтовары», пожарная каланча работы архитектора Фурсова, многочисленные церкви разной степени сохранности, одинокая белая беседка на речном откосе, которую удостоил вниманием знаменитый режиссёр в фильме «Жестокий романс», уникальный автомобильный мост через Волгу…
Когда идёшь в сторону городского центра по низинной, ныряющей с бугра на бугор улице, наблюдаешь странную картину: из-за крыш показывается то один, то другой фрагмент скульптуры вождя Октября, установленной на центральной площади. Если же поинтересуешься, что да как — всякий может рассказать тебе, не опасаясь в эпоху гласности чужих ушей, что прежде на высокий цоколь вознесён был молодой царь Михаил Романов, а ниже находился коленопреклонённый Иван Сусанин, осеняющий себя крестом, что верноподданническая Кострома возвела памятник в честь известных событий XVII века. В то Смутное время Руси именно в костромских лесах нашёл погибель отряд польских интервентов, а завёл опасных ляхов в глухие дебри местный крестьянин Сусанин Иван, чем способствовал спасению будущего основателя царской династии Михаила Романова, укрывшегося в местном монастыре. Композитор Глинка увековечил сей подвиг в опере «Жизнь за царя». В советское время монархическую композицию сняли, на высокий пьедестал водрузили Ленина, а оперу переименовали в «Ивана Сусанина». Так-то вот.
В ликвидированном Ипатьевском монастыре я обнаружил исторический музей, где ничто не напоминало о заслугах обители в деле спасения царя Михаила.
В той или иной вариации исторический музей имеется у нас в каждом областном городе. Там обязательно найдёшь каменные топоры, сцену охоты древних предков на мамонта, мечи, пушечные ядра, сарафаны, сани, прялки и иные наглядные свидетельства неумолимого хода времени, вплоть до изделий местных промышленных предприятий и портретов героев труда. Однако в Костромском музее меня поджидала неожиданность, и этой неожиданностью стала огромная коллекция бабочек и жуков, размещённая в особом зале. Тут были жёлтенькие капустницы и тропические бабочки с замысловатыми узорами, белёсые мотыльки и экзотические великаны с мохнатыми крыльями, кроткие божьи коровки и грозные жуки в отливающих металлом доспехах. Вряд ли у меня найдутся слова и хватит познаний, чтобы хотя бы крупными мазками нарисовать потрясающую картину творчества Природы, воплощённую в 3401 эфемерном создании — а именно столько экземпляров насчитывает собрание, достойное, пожалуй, столичного природоведческого музея.
Как же попала в Кострому такая богатая коллекция? Не иначе как вследствие реквизиции, экспроприации, или национализации, или репарации… Но я ошибся в своих предположениях: оказалось, что коллекцию насекомых (вообразите 1201 бабочку и 2200 жуков) собрал местный житель, член Костромского окружного суда Рубинский Иван Михайлович.
Уместно кратко пересказать его биографию, чтобы стало яснее, чего это ему стоило. Ведь Иван Михайлович не был ни аристократом, ни преуспевающим купцом. Он происходил из разночинцев — отец его служил почтмейстером в селе Парфеньеве. Сын сельского почтмейстера сперва окончил Костромскую гимназию, а потом Московский университет по юридическому факультету. Пока учился — зарабатывал на жизнь уроками. Когда отец Ивана Михайловича умер, остались сиротами одиннадцать детей, причём младшей исполнилось всего шесть лет. Выпускнику университета пришлось возвратиться в родные верхневолжские края. Он служил на скромных должностях — секретарём суда в Нерехте и Костроме, судебным следователем в Плёсе (там, где Исаак Левитан писал «Над вечным покоем»), наконец — членом Костромского окружного суда по Кинешемскому уезду.
Мало ли у нас в России было судейских чиновников, подобных Ивану Михайловичу! Как бичевали и высмеивали племя сие русские писатели — от Гоголя до Салтыкова-Щедрина и Чехова! Нет, никогда не любили на Руси крючкотворов-законников, велеречивых и продажных распорядителей человеческих судеб: ведь судили они не по справедливости, как от века было у нас заведено, не по правде, а — по мёртвой букве закона, закон же, как известно, что дышло: куда повернул, туда и вышло.
Небось, и Иван Михайлович не тянул на героя своего времени. Наверное, не разделял новомодные социальные взгляды, был придирчив до нудности, а может быть нелюдим и скучен, углублён в себя и наверняка — по обстоятельствам жизни — скуповат. Я думаю, может, он и брал понемногу? Детишкам на молочишко (у матери вдовья пенсия — 4 рубля в месяц), а главное — требовала всё больше расходов его единственная, на всю жизнь, страсть. Представим себе, какая страсть могла завладеть уездным чиновником. Хватит пальцев руки, чтобы перечислить известные варианты: вино, карты, женщины, охота, рыбная ловля… Что ещё?..
Страсть Ивана Михайловича, выделявшая его из всего местного общества, называлась: коллекционирование бабочек и жуков. Зачем? Просто для познания красоты и изобретательности Природы, для того, чтобы и другие люди удивились и задумались, оглядев коллекцию.
Он выставлял у своего дома в Кинешме переносные садки, обтянутые металлической сеткой, где воспитывались гусеницы каких-нибудь интересных особей. В потёмках отправлялся в лес, чтобы поймать редкую ночную бабочку. Выписывал из Петербурга книги, чтобы научиться препарировать, высушивать, сохранять и систематизировать находки. Со временем местные насекомые перестали его интересовать, Иван Михайлович о них всё узнал, разместил в коробках, подписал. И расширил круг поисков. В Кинешму на имя чудаковатого судейского стали приходить посылки со странной надписью на коробке: «Сушёные насекомые»; внутри находились жуки и бабочки в стеклянных ящичках, обложенных паклей. Фирма Кёнига из Тифлиса присылала обитателей Южной России, а фирма Штандфусса из Германии приобретала для Herr Ivan Rubinski насекомых во всех странах, куда только могли проникнуть энергичные скупщики экзотической живности.
Иван Михайлович умер в 1926 году в возрасте 74-х лет. До самой смерти жил в Кинешме, где и был похоронен. В самые тяжёлые годы он сохранил своё главное состояние — коллекцию насекомых — и завещал её государству.
До 1960 года, то есть в течение 30 с лишним лет, его жуки и бабочки томились в безвестности в фондах Костромского музея. Когда отыскались дочь и сын коллекционера, музей обзавёлся его биографией и фотоснимком. Начали описывать собрание, и тут выяснилось, что Иван Михайлович в систематизации и определении насекомых допускал неточности, повторы, поскольку был любителем, а не узким специалистам по жукам и бабочкам. С этим извинением коллекцию выставили на всеобщее обозрение.
С годами, по мере химизации народного хозяйства, стали подмечать, что в коллекции есть виды, попавшие по редкости своей в Красную книгу или даже не успевшие долететь до этой Заповедной книги природы. Любителя зауважали ещё больше.
Так и удивляли бы до сих пор жуки и бабочки посетителей музея, расширяли бы научный кругозор студентов, да пришла пора возвращать Русской православной церкви принадлежавшее ей и национализированное в известное время имущество. Сперва музей потеснила монашествующая братия, но мирное сосуществование на одной территории науки и религии, как и можно было предполагать, оказалось недолгим. Русская православная церковь входила в силу, и учреждение культуры вынуждено было отступить. Костромской музей-заповедник торопливо вывели из стен исторического монастыря. Фонды, в том числе и энтомологическую коллекцию Ивана Рубинского, упаковали в ящики и развезли по свободным помещениям, не приспособленным для хранения деликатных артефактов.
На обустройство обители государство и меценаты не жалели сил и средств. В Ипатьевский монастырь потянулись паломники, туристы и православный люд — вплоть до обладателей самых высоких титулов. Историческая справедливость торжествовала.
Примечание 2024 года: Понадобилось больше десяти лет, чтобы вернуть к жизни Костромской музей. Мало-помалу его разместили в нескольких старинных зданиях. На сайте Костромского отделения Русского географического общества говорится, что «знаменитая коллекция насекомых переехала в новое выставочное пространство. В XXI веке это уже второй переезд коллекции насекомых Ивана Рубинского. Теперь она украшает стены нового корпуса музея природы в Рыбных рядах».

Феномен
Из Петрозаводска мы выехали рано утром, чтобы часам к девяти попасть в районное село П. В дороге говорили мало. Я догадывался, что каждый из нас втайне надеется стать участником громкого открытия, но из охотничьего суеверия предпочитает помалкивать, боясь «спугнуть зверя». Никто, правда, не имел представления, каков собой этот зверь и есть ли он вообще. Позвонивший накануне в Москву Виктор, мой давний знакомый, сбивчиво рассказал о костях неведомого происхождения, обнаруженных в окрестностях села каким-то учителем, и о слышанных этим же учителем странных криках, не похожих на голоса известных обитателей тамошних лесов. Телегруппа уже на месте, ждут меня.
После упразднения цензуры СМИ рассказы о таинственных существах и явлениях составляли непременную принадлежность практически всех изданий: одни приводили свидетельства их присутствия рядом с нами, другие столь же яростно высмеивали и научно опровергали эти сообщения. Читатели и зрители с удовольствием глотали то и другое, чем и пользовались редакции, чтобы поддерживать падающие тиражи. Посему я поторопился на поезд. Как знать, а вдруг действительно мы обнаружим следы существования реликтового гоминоида, в обиходе называемого «снежным человеком»?
Адрес первооткрывателя неизвестных науке костей указал нам первый же встреченный нами местный житель. Дверь открыла немолодая женщина в забрызганном водой переднике. После того как мы объяснили ей цель нашего приезда, женщина равнодушно сообщила:
— Он к нему уехал. Часа в два наведайтесь.
Ровно в два мы были у знакомой квартиры. У входа стоял забрызганный грязью велосипед. Хозяин тотчас же откликнулся на звонок. Распахнул дверь и со словами «Здравствуйте, я сейчас» метнулся к вешалке, схватил телогрейку и вязаную шапочку, потом рюкзак, набитый, судя по выпуклостям, какими-то крупными предметами, и выскочил в коридор.
Учитель был невзрачен и худ, в очках с перевязанной проволокой оглобелькой, и говорил каким-то резким, клокочущим фальцетом.
— О, вы с машиной! — по-детски обрадовался он. — Очень хорошо. Сможем до темноты осмотреть все места. Сперва поедем в карьер, вот сюда, по этой улице.
Песчаный карьер оказался километрах в двух от села. Ловко подхватив рюкзак за штопаные лямки, наш вожатый устремился к высокому крутому откосу, похожему на склон балтийской дюны.
— Опять ночью ходил! — удовлетворённо воскликнул он, бросив взгляд на осыпь. — Вот, пожалуйста, смотрите!
На влажной поверхности песка был отчётливо виден двойной ряд одинаковых крупных ямок, довольно далеко отстоящих друг от друга. Как будто кто-то огромный и мощный легко сбежал по откосу. В почтительном молчании стояли мы перед загадочными следами, пока телеоператор снимал.
Сказать и вправду было нечего. Медведь на коротких задних лапах никогда не смог бы сойти по откосу, он просто скатился бы кубарем. Лось? Что ему делать в песке, когда рядом есть нормальный спуск? Человек?.. Я вскарабкался по крутизне метров на десять и попытался сбежать вниз. От моего эксперимента осталась жалкая борозда на песке. Да, загадочка… Что ж, посмотрим дальше.
— Он иногда приходит на помойку. — Фальцет учителя звучал теперь несколько наставительно. — Тут недалеко есть большая помойка, где он имеет возможность находить пищу, которой лишён в лесу.
— Что вы все «он» да «он», — перебил я его. — Кто такой этот «он», наконец?
— А вот этого я не знаю, представьте себе, — снова заклекотал рассказчик. — Неизвестный науке феномен, вот кто. По-латыни «феномен» означает «явление», не так ли? Вот он и является иногда, обнаруживает себя, а потом исчезает… Куда, спросите вы. Этого не знаю. Я вам ещё кое-что покажу сейчас, надо только проехать вперёд по шоссейке, а потом повернуть на просёлок…
Американской машины хватило едва на полкилометра российской грунтовки, после чего Виктор счёл разумным оставить «форд» у одинокой берёзы на ровной поляне. А мы прямиком, по пахоте, двинулись к темневшему на другой стороне поля сосняку.
Учитель без устали торил дорожку. Объёмистый рюкзак закрывал всю его узкую спину. Еле дотащившись до кромки поля, мы повалились на жухлую траву. Учитель же, как ни в чём ни бывало, принялся осматривать деревья. Минут через десять крикнул:
— Идите сюда, нашёл!
Мы подошли к толстой гладкой сосне. На стволе, метрах в трёх от земли, были заметны четыре вертикальные борозды. Из них свисала кора, словно содранная стальным скребком.
— Типичный поскрёб, — объявил исследователь. — Это следы когтей. Наверное, из-за чего-то разозлился, да и деранул по сосне.
Мне стало не по себе: чёрт его знает, а вдруг он рядом? Но всё-таки надо было идти дальше. Несколько раз останавливались возле деревьев и разглядывали следы чего-то очень похожего на зубы. Если это и инсценировка, думал я на обратном пути, то весьма умелая: надо влезть на сосну, а потом с большой силой содрать чем-то толстый слой старой коры. А как объяснить следы на песке? Тоже подделка? Но зачем, зачем? Ведь учитель экскурсии сюда не водит, в газеты и на телевидение не рвётся.
Возле машины он снова угостил нас загадками. Сперва достал из рюкзака и выложил прямо на брусничник крупные овальные челюсти, треугольные лопатки, берцовые кости и другие внушительного вида фрагменты чьих-то скелетов. Мы вертели находки так и сяк, пробовали их на вес, простукивали на звук. Что ещё мы могли изобразить?
Потом нам было продемонстрировано звучание голоса таинственного обитателя здешних лесов. Учитель отошёл в сторонку, сосредоточился, поднёс ко рту сложенные наподобие рупора ладони и протяжно закричал:
— Эй-е-э-э-х-х-х-у-у!.. Эй-е-э-э-х-х-х-у-у!..
И снова, как недавно в сосняке, меня передёрнуло: что-то странное и тоскливое было в этом крике.
На этом экспедиция завершилась. Мы расстались с нашим новым знакомым на главной улице села. Он выскочил из машины, вскинул на спину рюкзак, боком поклонился и пробормотал «До свидания».
О карельском феномене я больше не слышал. Наверное, наш вожатый продолжает верить, что где-то бродит неприкаянное живое существо, и время от времени оглашает лес протяжным криком, похожим на зов:
— Эй-е-э-э-х-х-х-у-у!.. Эй-е-э-э-х-х-х-у-у!..
Двери в историю
Город Кимры Тверской области — это старинное волжское село Кимра с присоединённым к нему посёлком Савёлово и возникшими в последние десятилетия микрорайонами. По прихоти истории, плавное течение которой не раз нарушалось различными катаклизмами, Кимры не имеют общего лица. Будто три города сосуществуют здесь: крестьянско-мещанско-купеческий, советский и — отдельными вкраплениями — новорусский. Особенно заметно это в центре. Безо всякого порядка перемешаны здесь массивные бревенчатые строения с чердачными фонарями, деревянный модерн начала XX века, унылые пятиэтажные близнецы с разбитыми дверями, панельные девятиэтажки и наивно-вычурные особняки за металлическими оградами — последний писк провинциальной архитектуры.
Но есть в Кимрах кварталы, почти сплошь застроенные домами, принадлежавшими некогда крестьянскому сословию, и они-то интересны больше всего, Здешние крестьяне ведь не пахали и не сеяли, а жили сапожным ремеслом и тем знамениты были на всю страну. Рассказывают, что русская армия, преследовавшая Наполеона, ступила на парижские мостовые именно кимрским сапогом.
Улицам, где стоят эти вместительные дома с остатками деревянных кружев на фасадах, в былое время присвоили имена революционеров и советских деятелей, вряд ли известных здешним обывателям. Дома разгорожены на две, а то и на четыре квартиры, опутаны газовыми и водопроводными трубами, но всё ещё пытаются хоть чем-нибудь напомнить о своём былом достоинстве.
Вот, например, двери. Когда-то местные искусники украшали их накладной резьбой, так что ни одна дверь не была похожа на другую. Однажды, бродя по Заречью — слободе за рекой Кимркой, — я стал присматриваться к деревянному узорочью. На каждой двери был свой набор фигурок, свой рисунок: ромбики, колечки, солнышки, веретёнца, решётки, треугольнички, столбики, петушки, ёлочки, змейки. Многие из них сколоты или прихвачены гвоздиком.

Раз отделка двери обращена наружу, предназначена для прохожего, значит неспроста придумывали все эти узоры, подумал я. Дескать, мы гостю всегда рады, не робей, добрый человек, поднимись на выскобленные половицы крыльца да нажми кованую щеколду — узорчатая дверь и откроется. Про нынешнюю стальную дверь с глазком не скажешь, что она приветлива.
Кстати, и по части крылечек, с годами вросших в асфальт, кимряки были столь же изобретательны. И эта деталь сельского дома делалась не по заведённому стандарту. Двухскатные и односкатные навесы, подзоры с прорезными узорами, скамеечки, точёные перила, балясины и столбики — всё с выдумкой, не так, как у соседа…
Но каждый год отмечаю то в одном, то в другом знакомом месте остатки обгорелого сруба, обвалившуюся печную трубу, горы мусора. Старые дома, высохшие на хворост, сгорают за час-два от заискрившей проводки, полыхнувшей газовой плиты, а то какой-нибудь бедолага по пьяни и сам пустит пал непогашенной папиросой. Нет былого хозяйского догляда, нет контроля коммунальных служб, нет и денег у жильцов, чтобы самим поддерживать ветшающее гнездо. Неужели конец придёт домам с резными дверьми, ведущими в прошлое?
«Ежедневно куртизуя гишпанскую красавицу…»
В годы работы главным редактором журнала «Восточная коллекция» мне посчастливилось познакомиться со многими учёными-востоковедами — нашими постоянными авторами. Востоковедение, то есть исследование истории и современной проблематики больших и малых народов стран Востока, занимает, на мой взгляд, особенное место в системе гуманитарных наук. Востоковеду надо свободно владеть языком страны или региона (а лучше двумя — например, арабским и персидским или китайским и тибетским) плюс обязательным английским, знать историю и культуру, географию и этнографию, верования и быт населяющих этот регион народов, владеть различными исследовательскими методами — от архивного розыска до включённого наблюдения. И, пожалуй, особо ценное качество востоковеда, с точки зрения редактора научно-популярного журнала, — умение рассказать о своей работе в литературной форме. Как правило, лучшие публикации такого рода описывают шаг за шагом процесс познания автором интересующего его предмета, когда он раскрывает неизвестные или забытые факты и судьбы, вовлекая нас в свой творческий поиск. Благодаря этому у нас прибавляется знаний, а устоявшиеся представления освещаются с новой стороны, а то и меняются.
Именно такими качествами обладает обширная статья, опубликованная в «Восточной коллекции» в 2013 году. Её автор — Нелли Фёдоровна Лещенко, японист, автор книг и других публикаций по истории Страны восходящего солнца. Статья называется «Николай Резанов: превратности любви и службы». На её название сразу же откликается наша память, подсказывая слова страстного дуэта графа Резанова и его возлюбленной Кончиты: Я тебя никогда не увижу! / Я тебя никогда не забуду! Однако не стану сравнивать учёную статью, основанную на документальных источниках, с романтической поэмой Андрея Вознесенского «Авось!» и им же написанным либретто рок-оперы Алексея Рыбникова «Юнона и Авось». Это произведения из разных творческих областей; роднит их разве что присутствие одних и тех же действующих лиц.
Так вот, автор статьи рассказывает, что, участвуя в совместном проекте по истории русско-японских связей, она наткнулась в Японии на документы, касающиеся жизни и деятельности Н. П. Резанова, и заинтересовалась этой темой. Документы нашлись также в Архиве внешней политики Российской империи и в отделе рукописей Российской государственной библиотеки («Ленинки»). Сведения из источников обогатили биографию Резанова, она стала обрастать подробностями и стала похожей на полноценную сюжетную канву занимательного исторического романа — эпического, авантюрного и любовного одновременно.
Граф Николай Петрович Резанов мог бы остаться в отечественной истории просто высокопоставленным служащим Адмиралтейской коллегии и придворным Екатерины Великой, если бы не оказался вовлечённым в цепь масштабных событий и предприятий, в которых проявилась его незаурядная натура. Началось всё с того, что фаворит императрицы Платон Зубов, узрев в Резанове возможного конкурента, надолго отправил его с инспекцией подальше от двора, в Иркутск. Там Николай Петрович познакомился с делами Северо-Восточной Американской компании (будущей РАК — Российско-Американской компании) и влюбился в дочку основателя компании купца Григория Шелихова. В Санкт-Петербург он возвратился с молодой женой. Достойно служил в Сенате и наслаждался семейным счастьем, но через восемь лет жена умерла при родах, и Резанов остался вдовцом с двумя дочками.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
