
Бесплатный фрагмент - Ускользающая почва реальности
Сборник
О СБОРНИКЕ
В данный сборник вошли 7 романов и 1 пьеса.
— Реальности мистера Притчета. Книга о жизни мистера Притчета, проживающего в нескольких реальностях. Как повлияют его решения и действия на исход каждой его жизни?
— Многоэтажка с тараканами. Отто Штоссе засыпает в современной Германии, а просыпается в иной реальности, где в свое время победил Третий Рейх. Книга написана в стиле сюрреализма, реальность похожа на сон, наполнена метафорами и аллегориями.
— Столик на троих. Молодая художница приезжает в курортный городок, где встречает свою любовь. Он живет со своей сестрой, которая начинает играть все большую роль в их отношениях и становится непонятно, в каких же отношениях, собственно, состоят сами брат и сестра.
— Красный закат. Граф Апраксин прибывает в небольшой уездный городок, где встречает свою любовь. Как развернутся их отношения в условиях Первой мировой, а затем и гражданской войны в России?
— Искатель душ. Чудаковатый капитан полиции следует по пятам маньяка-расчленителя, который ищет души, вырезая их из органов своих жертв. Книга наполнена черным юмором и ироническими размышлениями на библейские темы.
— Свободные люди острова Триангл. Обычный офисный клерк попадает на остров в Бермудском треугольнике, где уже много столетий существует своя отдельная цивилизация. История содержит философский подтекст, поднимая тему смысла существования, наличия веры и физического устройства Вселенной.
— Жан-Поль Фонтэн. Париж, 19 век. Жан-Поль Фонтэн — самовлюбленный нарцисс, который приехал учиться в столицу, решая свои финансовые вопросы с помощью взрослой женщины. Но есть и другая…
— Белые розы. Пьеса в четырех действиях. Сюрреалистическая комедия абсурда про двух братьев крестьян, сельского врача и полковника в отставке, делающих абсурдные, крайне логичные умозаключения.
Если предыдущий сборник «Туманная сущность времени» описывал прошлое и будущее, неопределенное время, смешивающее их, то этот сборник «Ускользающая почва реальности» скорее не про время, а про реальность. Про ускользающее ее ощущение, эфемерность ее однозначности, подверженной исключительно субъективному видению индивида, и возможное существование многих реальностей в мультивселенной.
Отдельно хочу сказать про две книги: «Красный закат» и «Жан-Поль Фонтэн». Эти книги я писал не совсем в своем стиле. Я пишу про настоящее и будущее, про иные реальности, затрагивая интересные мне теории из современной физики, в которой я совершенно ничего не смыслю, как и любой другой писатель. Но я был обязан попытаться затронуть и прошлое, ибо что настоящее и будущее без прошлого? Однако, лучше всего писать про настоящее — то, что ты хорошо знаешь во всех деталях; и про будущее — то, что ты можешь во всех деталях сочинить. Писать про прошлое невероятно трудно, а я, будучи человеком ленивым, терпеть не могу трудности. Но давайте оставим эти книги в данном сборнике, дабы воздать должное прошлому, которое формирует настоящее.
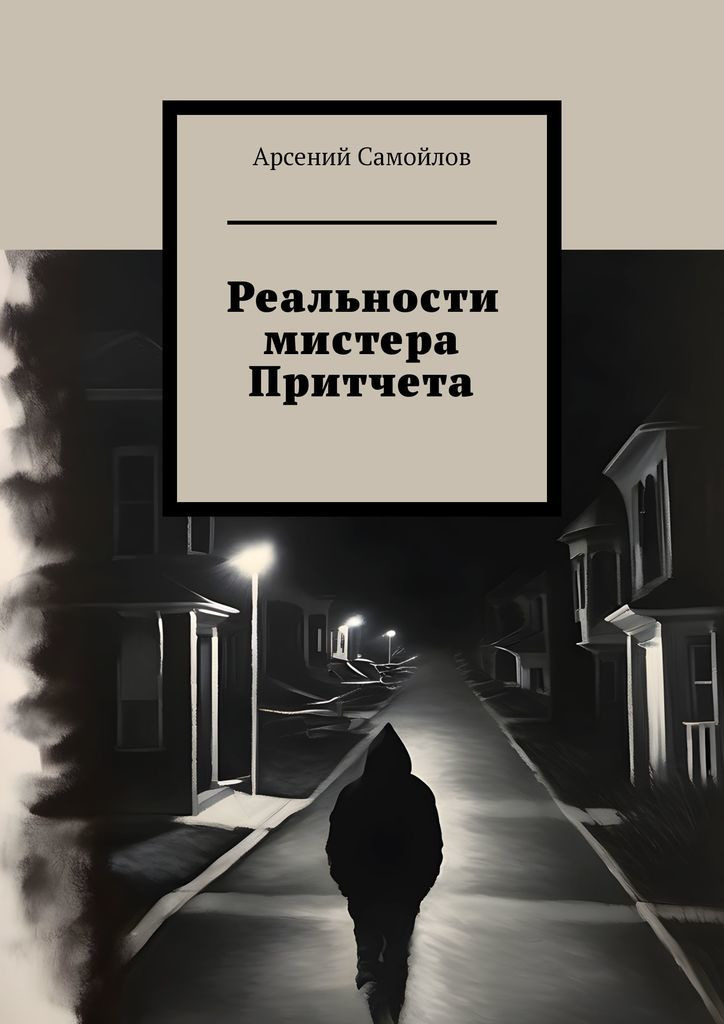
РЕАЛЬНОСТИ МИСТЕРА ПРИТЧЕТА
Глава 1
С моей женой, Камиллой Шикльгрубер, будущей миссис Притчет, я познакомился в кафе. Мне было 26 лет, ей было 18. Она была в том возрасте, когда девушка еще похожа на человека, а не на пришельца с другой планеты, вид которого эволюционировал из губ и бровей. Впоследствии эти губы и брови обрастают носом, щеками, глазами, шеей и всем прочим телом, что придает этому гуманоиду вид человека разумного, то есть нас с вами. С возрастом я начал понимать, что чем больше у женщины губы — тем меньше у нее мозг. Большие губы — это диагноз. Врачи скрывают это от нас, но тайно они выкачивают из черепной коробки серое вещество и вкачивают его в губы, делая женщин более красивыми для таких же, как они, то есть людей с выкаченным из головы серым веществом. Камилла была вполне мила, производила вид не глупого человека, искусно скрывая мелководность, или, если хотите, удивительную неглубокость своей интеллектуальной почвы, проще говоря, поверхностность. Но кто будет копать вглубь ума красивой женщины? Мало кто из мужчин такие заядлые диггеры. Я также не был заядлым в чем-либо, особенно в ремесле шахтеров, никак не относящемся к моей жизни. Вообще, это полное и всепоглощающее отсутствие ремесла в моей жизни играло со мной злую шутку, ибо перебиваясь с одной работы на другую, я слишком много отдыхал и слишком мало зарабатывал, что всегда являлось причиной для упрека со стороны любой женщины, пусть даже я имел свою собственную квартиру, в которую мог привести этих дам, как правило, не имеющих не только прибыльного ремесла, но даже и отдельного жилья. Требуя от мужчин стабильной работы с хорошим окладом, квартиры, машины, эти дамы не имели сами ни одного пункта из вышеприведенного списка, который с этих пунктов начинался, но отнюдь ими не ограничивался. Это была одна из причин за которые я любил девушек помладше. Они любили за внешность, чувство юмора, ум, стиль, но не за ту выгоду, которую ты можешь дать им в жизни. Это было честно и, чего греха таить, удобно для мужчин. Я пил кофе, а Камилла, розовощекая блондинка маленького роста, сидела и пила какой-то приторный молочный коктейль с шапкой из взбитых сливок вместе со своей подругой, я подошел и представился: «Дэниел Притчет, к вашим услугам». Вот так просто и изысканно, это производит впечатление необычностью своей формы. Чтобы быть немного экстравагантным требуется как минимум одно из трех: быть либо сумасшедшим, либо пьяным, либо просто отбросить все приличия и стеснения, сыграв свою роль. Чаще всего я сочетал в себе сразу все три качества. Что было понятно и ожидаемо, подруги захихикали, но добыча заглотила свою наживку. Мы немного выпили, поболтали и я проводил Камиллу до дома. Путь пришлось проделать не малый, ведь мы были в Кафебурге, а ее дом находился в Хомбурге, там же, где и все остальные дома, включая мой собственный. Такое совпадение названий никого не удивляло, кроме меня. Ведь я был, как уже сказано выше, сумасшедший, а значит меня в принципе поражали многие вещи, которые были обыденными для окружающих. А может я сам придумал эти названия и другие это так не называли? Черт его знает. Главное то, что ее дом был совсем недалеко от моего, а значит можно было попытать счастье и завязать с ней какие-либо взаимно приятные отношения. Любовь — это прекрасно, но все прекрасное, даже финансовая стабильность, должно зиждиться на каком-то основании, фундаменте. Иначе рухнет даже дом, не то что такая серьезная вещь, как любовь или, тем более финансовое благополучие. Камилла спрашивала меня: «Что для тебя важно в женщине? Внешность или внутренний мир?» Какой «ванильный», чисто женский вопрос! Как можно отделять одно от другого? Я отвечал: «Внешность — это как фундамент дома. А внутренний мир — сам дом. Дом не выстоит без фундамента. Но кому нужен один фундамент?» Я был честен, поэтому она мне не верила. Женщины верят в красивую ложь даже лучше, чем в красивую правду. Если ложь безобразна, то она все же лучше безобразной правды. Может поэтому глупые девочки живут с неразвитыми грубыми мужиками? Эти мужики способны лишь на некрасивую грубую ложь и такую же правду. Женщины выбирают ложь и остаются с ними, несмотря даже на побои. А умные мужчины способны на красивую правду, которую всегда перевешивает грязная примитивная ложь худших представителей их пола. К чему это я? К тому, что если бы она жила в часе езды от меня, то никакого фундамента для этих отношений не сложилось бы. Куда проще найти девушку поблизости, чем ездить за тридевять земель, каждый день имея целых два часа по дороге туда и обратно, чтобы поразмыслить: «А так ли мне все это нужно?» Но она жила рядом. Однажды я пришел к ней домой без штанов. Подумаешь, большое дело! Собираясь на свидание, забыл надеть штаны. Зато какой прекрасный пиджак с бабочкой! Проследовав в гостиную их частного дома, я предстал в таком виде перед всей ее семьей. Во главе стола сидел отец семейства, справа от него жена, мать Камиллы, также там сидела ее бабушка и семейная пара соседей — друзей семьи. Я был предельно вежлив, даже поздоровался и перекинулся парой любезностей с ее родителями. К сожалению, я задел пенсне ее бабушки пуговицей на своем особом месте, выпирающим из трусов и предназначенным в первую очередь для мочеиспускания. Пенсне слетело и повисло на мне, но я крайне обходительно снял его, протер краем рубашки и вернул ее ошарашенной бабуле. Мы пошли в кино, в которое меня, впрочем, не пустили без штанов, так что нам пришлось идти коротать время ко мне, что и привело к нашему первому акту любви, от которого она и забеременела, так как я забыл о предохранении. Черт побери мою вечную рассеянность! То штаны, то защита. Но я был молод, это все извиняет.
Глава 2
Узнав о беременности, ее родители потребовали свадьбу, против чего я не стал противиться в силу все той же молодости и неопытности. В некоторых восточных странах люди в 26 лет уже считаются взрослыми, носят бороду и имеют целый выводок детей, а иногда и выводок жен. Но в нашей стране 26 лет считалось еще юностью, особенно для меня, выглядевшего не старше 18, лишенного каких бы то ни было зачатков бороды и серьезности. Свадьбу я хотел сыграть скромно, но Камилла настояла на пышной церемонии, которую я, не желающий ее, почему-то должен был оплатить пополам с ее отцом. Денег у меня не было, так что мне пришлось взять кредит, с небольшой выплатой в каких-то 10 лет. Церемония прошла торжественно, хоть я и чувствовал себя на протяжении нее не в своей тарелке, как будто мне ее навязали, а я просто шут, загнанный в клетку на потеху публике, над которым каждый насмехается, но так и должно быть, ведь такова моя роль на этом светопреставлении. Первая брачная ночь прошла так себе, я выполнил все, что от меня требовалось, но без энтузиазма со стороны того самого места, которое, с его точки зрения, более предназначалось для снятия пенсне со старушек. Далее проследовали долгие и мучительные месяцы беременности, когда Камилла только требовала и раздражалась, а я обязан был следовать всем ее заветам, как еврей в пустыне, связавший по своей воле судьбу с этим богом и его треклятым Моисеем, уже сто раз пожалевший об этом, но рискующий сдохнуть от голода или кары божьей, если лишний раз поклонится золотому тельцу или запасет с собой пару грамм белого порошка, именуемого «манной небесной» (первое в истории упоминание госконтроля за белыми порошками). В то время я подрабатывал, но львиную долю средств к существованию мы получали от ее родителей, собственно, и затеявших все это, к тому же, радующихся, что их чадо теперь живет не с ними, а со мной. В Камилле были плохие качества, такие как, истеричность ее натуры, эгоизм и требовательность. Но были и хорошие. Например, пунктуальность. Родила она на 40 неделе, точно в срок, чему нельзя было не радоваться. Я всегда ценил немецкую дотошность. Такая точность — качество людей организованных, на которых можно положиться. Хорошо, что Камилла имела немецкие корни, лишней недели я бы не выдержал. Но разродившись она стала не менее требовательна. Ребенок постоянно кричал, а я, хоть и работал единственный в семье, обязан был разделять с ней все тяготы материнства и отцовства, что я и выполнял под ее непрестанные крики. Наверное, одно чадо уродилось в другое. У нас была девочка. Назвали ее Элис. Я был рад, что родилась девочка, так как я понятия не имел, что делать с мальчиком. Я был до крайности далек от мира спорта и автомобилей, что частенько вменялось мне в вину, так как своим собственным я так и не обзавелся, не имея даже водительских прав. Для меня было излишне нудным учить все эти правила и сдавать экзамен. Да и такси я видел куда более дешевой альтернативой. Но такие разумные доводы приводят лишь в уныние женщин, желающих чтобы их возили на личном авто мужчины, обладающие капиталом. Хоть этот капитал они и должны сложить не обладая логическим мышлением и способностью считать деньги. Способность считать деньги — качество, ставящее крест на таких женщинах. Дочь же виделась мне юной подругой, с которой я мог бы дружить и интересно проводить время. Эдакая папина дочка, как дочь Ретта Батлера, только без езды на пони, меня всегда пугали эти копытные. Не хотелось только думать о ее будущих кавалерах, но до этого было много времени, да и ружье у меня висело на стене. Я любил оружие и ждал случая, чтобы впервые его применить. Оружие для мужчин — это как косметика для женщин. С давних времен женщины красили себе глаза и губы чем-то растительным, что находили, собирая ягоды, пока мужчины охотились с оружием в руках и отстаивали своих женщин в войнах с другими племенами. Эта тяга к оружию для мужчины — как тяга к своим истокам, подобно курительным принадлежностям, заменяющим тягу к материнской груди. Это нечто очень древнее и определяющее пол. Почему мужчины чаще курят и их чаще долго кормят грудью? Не потому ли, что они биологически обязаны на всю жизнь сохранить свою тягу к женской груди?
Жили мы в Хомбурге, а к врачу с ребенком ездили в Хоспиталвилль, совсем небольшой город, где была только больница. По крайней мере, так я это видел. С дочкой все было в порядке. Она росла. Лепет превратился в речь, она научилась считать. Все было бы хорошо, если бы Камилла не докапывалась до каждого моего действия и не устраивала ссору на пустом месте. То я не туда убрал ее манто, то решил прибрать ее туфли, которые должны были быть раскиданы беспорядочно в коридоре, то я не так что-то сказал. Я ее бил, по крайней мере, с ее слов. Однажды она разозлилась и решила ударить меня ногой в живот, я схватил ее ногу и оттолкнул от себя. Она упала в коридор, это был вопиющий случай избиения с моей стороны. В другой раз она лупила меня кухонной лопаткой, я отнял ее и ударил один раз в ответ по руке. Это был второй случай. Больше она не могла насчитать, да и зачем? А может я просто помню лишь дурное с ее стороны и не запоминаю обид, которые сам нанес ей?
Глава 3
Будучи женатым уже 7 лет, я встретил другую. Она еще училась в школе, звали ее Сесиль. Я гулял по бульвару во хмелю, не желая находиться дома. Шел я с работы и мог гораздо быстрее добраться до дома на общественном транспорте или такси, но мне не хотелось добраться быстрее. Когда я шел на работу, я не хотел быть на работе, когда шел с работы — не хотел с нее уходить. Большинство мужчин, находящихся в этом замкнутом круге женатой и работящей жизни, идут после работы в дешевый бар, где проводят свой вечер, пока не напьются и не придут навеселе ночью домой с единственной целью — спать. В самом тривиальном и скучном, небиблейском смысле, возлежать со своею супругой. У меня дома была маленькая и любимая дочь, которая, впрочем, все более и более стала походить на свою избалованную мать, которая теперь баловала ее настраивая против отца и всех мужчин в мире. Однако я предпочитал прогуляться выветривая спиртные пары, чтобы быть дома к ужину в хорошей форме. Волквилль находился прямо по пути в Хомбург из Воркбурга, так что я легко мог пройтись пару часов, оттягивая свое прибытие в злосчастный дом ругани и склок. Мне приходилось работать все больше и больше, так как к кредиту на свадьбу прибавился кредит на ребенка, а впереди была школа со всеми сопутствующими расходами. У меня помутнело в глазах и я сел на обочину дороги. Тогда я и увидел ее, этого иного, уже подросшего ребенка, обладающего женской взрослой красотой и детской непосредственностью и бескорыстием. Я выглядел достаточно молодо и достаточно молодо мыслил, чтобы между нами завязался разговор на подростковые темы, приправленный для меня излишне сладкими алкогольными коктейлями, которые мы поглощали вместе. Это была стройная и миниатюрная брюнетка с длинными волосами, в стильной, для ее поколения, немного мешковатой для меня, одежде. С ней было легко и весело, она была вполне образованна и интересна. Мы разошлись обменявшись контактами, которыми я, впрочем, так и не воспользовался. Ведь у меня была дочь. Придя домой я как обычно сел за стол, еда была сплошь покупная, жена не тратила свое время на готовку. На что она его тратила мне было неизвестно. Доев свою еду, не обращая внимания на претензии и подколы жены, я удалился в свой кабинет. В руках я сжимал номер Сесиль. Как просто было взять и позвонить ей. Это могло бы изменить мою скучную жизнь. Но также и усложнить. Что бы я делал дальше? Я был слишком стар для этого дерьма. Развод, дележка имущества, алименты, утрата дочери, с которой я смог бы видеться по выходным, следуя распоряжению суда… С годами я утратил свое юношеское безумие, я больше не ходил в кино без штанов, больше не игнорировал работу ради удовольствия, не жил так, как хотел, не вел себя так, как хотел, пусть это было и ненормальным. Я жил и вел себя так, как надо. Ведь я был взрослый, я был муж, я был отец. Я должен был вести себя так, а не иначе. Так требовало общество, довлеющее над всеми нами своими «надо» и «должен». Так требовал мой статус, мои родители, родители Камиллы. Я скомкал листок с номером Сесиль и выбросил его в мусорную корзину. Надо — значит надо.
Глава 4
Элис закончила школу и пошла в университет. Она решила жить в общежитии, чтобы не находиться в атмосфере постоянных домашних скандалов и требований со стороны матери. Мне было уже 46 лет с лишком. Я все еще хорошо выглядел, хотя заметно постарел, лет 5 назад мне даже начали продавать спиртное без документов, удостоверяющих, что мне уже есть 21 год. С женой мы отдалились. Это было хорошо, ведь чем меньше времени мы общались — тем меньше истерик мне приходилось слушать, тем больше я мог пребывать в спокойном одиночестве в своем кабинете за чтением книг и мыслями о своей жизни, которая теперь стала намного спокойнее и размереннее. Вот оно семейное счастье? Когда от тебя наконец отстали, поняли, что ты безнадежен, нет смысла и пытаться тебя изменить, и теперь ты можешь спокойно жить, как холостяк? Зачем тогда оно вообще, почему не жить просто холостым? Ради дочери? Но Элис теперь живет далеко и всю жизнь мы будем видеться по праздникам, на которые она будет приводить очередного тупорылого бойфренда, взрослую замену тебя самого (как сигарета заменяет материнскую грудь мужчине), один из которых будет настолько туп, что решит испортить навсегда ее и свою жизнь сделав ей предложение? Конечно, вы будете рады (а как же иначе?) и заплатите бешеную сумму денег чтобы отпраздновать это мрачное событие, к счастью, обреченное на провал, закончившееся разводом спустя несколько лет. Годы шли друг за другом, но я все меньше понимал смысл этих прожитых лет. Для кого я их прожил? Точно ли для себя? Или для банков, на кредиты которых я работал? Для родителей, которым я воспитывал живую игрушку в виде внучки? Для жены, которую обеспечивал, пусть и не полностью, но по крайней мере точно обеспечивал живой плотью, которую она могла раздирать своими истеричными злобными зубами? Иногда во снах мне приходили как бы обрывки каких-то моих нехороших поступков, агрессии, безумств, что я вытворял. Вот я бью телефон об стену, вот я истерически смеюсь и разговариваю с несуществующими людьми из какой-то другой реальности, много пью, бешено поглощаю помидоры из холодильника, жена говорит мне, что нет никаких девушек и я не в клубе, а дома, успокаивает меня. Были ли это просто сны или алкогольные галлюцинации по ночам? Не знаю. Я жил для общества, единственной целью которого было выжать из меня все соки, поставив строгий запрет на получение счастья. Счастья из молодой подруги, на которую я променял бы свою законную благоверную. Счастья свободы и жизни для себя. Счастья тунеядства и беспечного существования. Счастье личности — это самое страшное, что может существовать в мире для человеческого общества, ведь оно для него бесполезно, оно питает лишь индивида, не выжимая из него все для окружающих.
Прошло еще много лет. Я состарился. Я был уже старик. Моя дочь была взрослой, она жила с одним из своих тупорылых бойфрендов, хотя бы не стремившихся ее обрюхатить или окольцевать. А я был пожилым человеком, живущим со сварливой женой, пьющим виски в одиночестве у себя в кабинете и ждущим когда его дочь родит ему живую игрушку, которая хоть как-то скрасит его тоскливое однотипное существование, подарив иллюзию смысла его жизни — продолжение его рода. Как будто после моей смерти мне будет дело до того, живут ли мои гены в каком-то человеке, из которого еще неизвестно что получится, который включает в себя множество генов моей ненавистной жены и родителей тупорылого дружка моей дочери. В один чудесный день я умер. Просто закрыл глаза, ожидая бесконечное ничто. Как я был удивлен, увидев как моя жизнь проносится назад, проматываясь подобно пленке в видеомагнитофоне. Хотя я слышал, что перед смертью у людей проносится вся жизнь перед глазами. Настоящее удивление посетило меня когда «пленка» остановилась и я очутился в том кафе, где мы познакомились с Камиллой много лет назад.
Глава 5
Не был бы я такой псих — я бы поднял крик. Но будучи человеком абсолютно невменяемым, я не смел устроить шумиху в кафе, где за соседним столиком сидела молодая розовощекая Камилла. Осознание что именно произошло сидело во мне так, будто бы я всегда знал, что сейчас происходит. Будто кто-то вселил в мой мозг эту мысль, которая казалась мне совершенно естественной, просто пока я жил свою первую жизнь я не понимал этого, а сейчас дымка рассеялась, сознание прояснилось и рыбка в аквариуме вдруг начала видеть дальше собственного носа, понимая, что она живет в квартире, которая находится в многоквартирном доме, который стоит на одной из улиц такого-то города, находящегося в такой-то стране, на планете Земля. Мысль мою подтверждало уже то, что в кафе все пили чай вместо кофе (а я точно помню, что пил тогда кофе), а Камилла потягивала какую-то зеленую овощную бурду вместо молочного коктейля. Еще при первой жизни я слышал научную теорию о параллельных реальностях и разрывах этих реальностей, позволяющих перенестись в соседнюю параллель, где все так же, как и в нашей, за исключением некоторых деталей. Чем дальше одна линия реальности от другой — тем больше в ней будет изменений. Но на дальнюю линию перепрыгнуть невозможно. По крайней мере, так говорили. Было известно много мелочей, так называемый «эффект Манделы», которые люди помнили одними, а в реальности они были совсем другими. Множество людей помнят, что Нельсон Мандела умер в тюрьме, хотя в реальности этого не было. Помнят монокль на человечке в цилиндре из игры «Монополия», которого не было, помнят знак Вольво не таким, как он есть, без этой стрелочки сбоку. Все это называют «эффектом Манделы» и объясняют тем, что множество людей были в другой реальности, а затем перенеслись в нашу, где эти детали были немного иными. Мне было очевидно, что после смерти я перенесся в параллельную реальность в определенный отрезок времени своей жизни. Люди тут пили в кафе чаще чай, чем кофе, любили овощи и кафе было оформлено чуть иначе. Наверняка было много и других отличий, которые мне еще предстояло заметить. В бога я не верил, но было логично, что он дает людям второй шанс (а может и третий, пятый, десятый, и так до бесконечности). Всем ли дается такой шанс или только самым безумным, таким как я? Черт его знает. Если бы всем, то люди бы знали об этом и такие путешествия были бы рутиной и очевидностью, как то, что небо синее, а дерьмо плохо пахнет. Может я просто в предсмертном бреду моего умирающего мозга? Все может быть, но какая разница? Чувствовал я себя вполне здравомыслящим и впервые за многие годы у меня не болели все мои старческие конечности. Что вы думаете я сделал? Уж точно не подошел познакомиться с Камиллой. Я пулей вылетел из кафе навстречу свободной молодой жизни.
Наша реальность всегда кажется нам самой скучной из всех, ведь мы к ней уже привыкли. Моей целью было сделать эту новую реальность для себя более радостной и интересной, чем была предыдущая. Сделать я это собирался следуя одному простому правилу — никаких отношений и обязательств. Может мне был дан второй шанс именно для того, чтобы прожить свою жизнь наконец-то счастливым. Никаких больше браков, кредитов, обязательств не только в отношениях, но и финансовых. Никаких постоянных работ, а много денег мне для счастья будет не надо. Мне некого будет кормить, обеспечивать, одевать, растить. Было жаль, что не родится моя дочь, но чем это отличается от мастурбации, при которой я сливаю в унитаз огромное количество своих потенциальных детей? Да и Элис продолжает жить в той параллельной реальности, в которой я уже мертв, это точно. А в этой… в этой она просто не родится, как и во многих других реальностях, во многих из которых не родился даже я сам. Зато здесь родятся многие другие дети, которых нет в реальности Элис. Мир мультивселенных — удивительная вещь, дарующая радость и свободу. Не важно что ты сделаешь и как — ты живешь в миллиардах других реальностей и делаешь там совсем иные вещи, а в миллиардах реальностей тебя нет вообще. А значит какая разница? Ничто не имеет смысла. Отсутствие смысла в чем-либо — это самое очевидное объяснение всего происходящего вокруг нас. Других правдоподобных объяснений просто нет. Ну в чем смысл жить скучную супружескую жизнь, платить кредиты и спускать отведенные тебе годы в клозет? А в чем смысл не делать вообще ничего, прожигая жизнь? В чем смысл принимать верные решения и жить как надо, если это не делает тебя счастливым, а в других реальностях ты все равно поступаешь иначе в каждом, даже самом мельчайшем, случае? В чем смысл растить ребенка, если в других реальностях ты его не рожал? Да и в твоей реальности есть ли в этом смысл? Или хоть в чем-то другом? Смысл нам внушают те, кому выгодно чтобы мы следовали определенному поведению и правилам. Самое смешное, что эта выгода абсолютно бессмысленна и для них, скоро почивших на своих смертных ложах. Не даром среди образованных людей так популярна нынче депрессия. Ее порождает глубинное чувство бессмысленности всего, абсолютно всего вокруг. Даже если мы это не осознаем и не формулируем отчетливо в своей голове, все равно в глубине души мы это знаем и от этого страдаем. Кто-то депрессией, кто-то религией, пытаясь придать своей жизни искусственный смысл, кто-то подается в монахи на Тибете или проходит бизнес-тренинги и марафоны от блогеров… В каждой голове свои тараканы, но все достаточно для этого развитые люди чувствуют эту невыносимую бестолковость всего происходящего, не ведущую в конечном итоге ни к чему, кроме смерти. Тем более, что совершенно не важно когда мы умрем — молодыми или старыми. За лишние наши годы мы не сделаем ни одной вещи, которая имела бы смысл, а значит и годы эти бессмысленные, то есть по-настоящему лишние. Чтобы по настоящему это осознать надо дожить свою несчастливую жизнь до старости и умереть. Тогда-то вы и поймете. Станет ли это для вас адом или раем — зависит от того насколько вы философ и как вы много пьете. Я решил посвятить свою новую жизнь выпивке, веселью, доступным женщинам и безделью. Если это не подарит мне большее счастье, то что тогда? Здесь было бы лишним вдаваться в подробности моей разгульной жизни в этой реальности любителей овощей. Скажу лишь, что самым популярным коктейлем здесь была Кровавая Мэри, а в огуречный детокс люди верили больше, чем в господа бога. Овощная реальность была крайне скучна и снобистска, но я зарекомендовал себя в ней, как самый отчаянный гуляка и бабник. Неумеренное спиртное и ночной образ жизни отложили на мне свой отпечаток и к старости я стал выглядеть, мягко говоря, неважно, хоть и свежее, чем в предыдущей своей жизни. Видимо, алкоголь, недосып и хламидиоз не так вредны организму, как сварливая жена и постоянная стабильная работа. Однако, в старости я не ощущал никакой радости жизни. Жизнь была прожита впустую и, хоть временами мне было и очень весело, но по-настоящему хороших моментов я припомнить не мог. В момент, когда я упал на пол своей квартиры со стаканом скотча в руках от резкой нестерпимой боли в груди, я не чувствовал никакого счастья в своей жизни. Знакомое помутнение, крутящаяся назад «пленка», и вот я, женатый человек, стою во хмелю в Волквилле, по дороге с работы и вижу перед собой юную Сесиль, сверкающую глазами в мою сторону.
Глава 6
На этот раз я не выбросил ее номер. И не пошел сразу домой. Мы прогулялись, напившись этих сладких коктейлей, к моему великому счастью, хотя бы не овощных, теперь мне хватало уже и того. Мы много общались, гуляя по бульвару, а затем и парку. Она рассказывала про свои школьные дела и проблемы с парнями ее подруг. Мне было правда интересно это слушать, меня привлекал этот женский мир, с его неподдельными проблемами и разочарованиями. Тем более, что я, с высоты своего опыта, мог дать неплохие советы и комментарии по поводу всего этого, к которым она прислушивалась. Мало кто из подростков имеет достаточно компетентных родителей, которые не только могут их понять и дать дельный совет, лишенный ханжества и общественно полезной банальности, но и заручиться их дружбой, порождающей полную откровенность в своих словесных излияниях. Тут на помощь и приходят такие мужчины, как я, которые обладают достаточной чуткостью, современностью и интеллектом, чтобы дать девочкам ту помощь, в которой они нуждаются. Способны быть для них интеллектуальной и психологической опорой, тем мнением, к которому они прислушиваются, жадно глотая его, как глотает воду погибающий от жажды пустынный путник. Конечно же, они получают все это в обмен на свои женские ласки, которые они расточают искренне и от всего сердца, не ожидая ничего взамен, а просто наслаждаясь приятной компанией, думая, что наконец нашли что-то свое, что они искали всю свою долгую и нудную восемнадцатилетнюю жизнь, наполненную страстью и страданием, неведомыми и давно забытыми их 40 летними мамами, которые прожили не так долго, чтобы понять эту изматывающую бесконечность одиночества и непонятости. И, конечно же, эти 40 летние мамы считают таких мужчин хищниками, которые набрасываются на невинных ягнят, используя их и ничего не предлагая взамен. Им не понять, что их ягнята нуждаются не только в хлеве, но и в любви, в понимании с их стороны, которые они в конце концов находят, пусть и не у них. Для этих мам гораздо лучше, то есть общественно одобряемо, если их девочки найдут себе ухажеров по своему возрасту, более или менее. С их точки зрения гораздо лучше, когда сопливый подросток мацает их дочку в подворотне, бросив ее, сделав свое дело. Или парень чуть старше, работающий на автозаправке или делающий наркотические закладки (о чем они еще долго не узнают) влюбит в себя их дочь своим пренебрежением и притягательной холодностью, а потом так же бросит, либо дождется когда она бросит его за его отношение к ней, измученной и разбитой, разочаровавшейся в мужчинах, в любви, точно так же, как разочаровалась в них ее мать. Это их сблизит и тогда мать скажет: «Вот дочь, теперь ты взрослая, теперь ты понимаешь как устроен мир». Мир и покой этим матерям и дочерям, и их усопшим навсегда сердцам.
В конце прогулки по промозглому городу мы попрощались, я поцеловал ее в губы, она смутилась и быстро ретировалась, это было забавно и мило. Я вернулся домой к уже забытой жене, сжимая рукой в кармане номер Сесиль, как билет в лучшую жизнь.
Глава 7
Я позвонил Сесиль и устроил свидание в кафе-баре. Она шла мне навстречу лучезарно улыбаясь, при встрече я снова поцеловал ее, она снова смутилась, но уже не убежала. Мы пили пиво и ели вкуснейшие баварские колбаски и какой-то мясной рулет. Я сел рядом с ней, а не напротив, так как зрительных контактов и обсуждений у нас было достаточно и на прошлом свидании. Я обнимал ее правой рукой, пытаясь левой держать и вилку, и бокал с пивом по очереди. Она ела мало и больше пила. Я знал, что это не просто тяга к жизни, но и смущение молодой девушки, стесняющейся поначалу много есть и тратить деньги своего ухажера. Это было мило и непохоже на поведение зажравшейся зрелой дамы, считающей твоей обязанностью накормить ее лобстерами и напоить французским шампанским. Впрочем, те именно за этим и ходят на свидания. Бесплатная дорогая еда — вот их стимул. Сесиль пыталась почти ничего не съесть, а пила чтобы побороть свое стеснение и в силу своей естественной тяге к удовольствиям. Перефразируя, как говорят, Уинстона Черчилля скажу: «Если ты мало пьешь и трудно влюбляешься в юности — у тебя нет сердца. Если ты много пьешь и легко влюбляешься в старости — у тебя нет мозгов». Мозгов и сердца у Сесиль было достаточно, я нежно обнимал ее и целовал в щечку, она не сопротивлялась. По дороге назад мы говорили о творчестве великих антиутопистов. Ей больше нравился Оруэлл, но она тонко подмечала, что Хаксли был ближе к правде. При прощании мы договорились, что теперь мы пара. Она знала, что я женат, но верила, что это не навсегда. Кто знает подтвердилась бы ее вера фактами, будь это моя первая жизнь? Сомневаюсь. Но я жил уже в третьей реальности и мог твердо знать, что я не обману маленькую Сесиль. Надо — значит надо? Хочу — значит хочу! Вот что важно.
Вернувшись домой я не стал долго ждать, сразу объявив Камилле о разводе. Такой истерики я не видел от нее еще ни разу, но это было ожидаемо. В меня летели все кухонные предметы, включая ножи, которые я, любитель мяса, затачивал всегда очень тщательно. Я ловко от них уворачивался, нисколько не стрессуя, зная, что даже если один из них попадет в меня, то я просто окажусь в новой реальности. Сесиль помогла мне пройти все стадии бракоразводного процесса. К счастью, Камилла съехала с моей квартиры в первый же день, что упростило наши свидания с Сесиль, которая теперь была со мной днями и ночами, к неудовольствию своей мамы, с которой я был незнаком, но представлен ей заочно как успешный молодой человек 20 лет. В действительности я был не успешный и совсем не молодой, но хотя бы человек, это уже что-то! Правда, думается мне, что узнав всю правду про меня, мать Сесиль предпочла бы для своей дочери зоофильские отношения с кобелем. От собак хотя бы не забеременеешь и их всегда можно отдать в добрые руки. Но беременность не входила в наши богемные планы. Мои и Сесиль, вдохновляющуюся художниками сюрреалистами и великими писателями абсурдистами, как Беккет и Ионеску, многие из которых были слишком скучны и недостаточно юмористичны для меня. Однако мне очень помогала поддержка со стороны моей юной девушки, так как Камилла вгрызлась зубами в наше имущество и потомство. Один суд следовал за другим. Камилла пыталась доказать мою финансовую несостоятельность и абсолютную разнузданность, приводя в пример то, что я бросил ее ради школьницы, с которой теперь сожительствую. Она пыталась получить себе мою квартиру, но это было совершенно незаконно. Поэтому суд обязал меня всего лишь выплачивать ей алименты в львиную долю от моих доходов, запретив видеться с дочкой более, чем раз в неделю, и то под присмотром мамаши-мегеры. Алименты мне присудили выплачивать не только на ребенка, но и на бывшую жену, оставшуюся без кормильца. Как будто она была недееспособна. Как интересно женщины отстаивают свое равноправие, когда это касается их прав, и как они легко признают себя недееспособными по признаку пола, когда это лишает их обязанностей. Да, общество всегда наказывает тех, кто не разделяет его нормы и идет вразрез им. Это нормально, я был не удивлен. Стать счастливым без общественного порицания и наказания государством — слишком оптимистичная мечта. Мечты никогда не превращаются в реальность, я этого и не ждал. Как-никак, я уже прожил целых три жизни, отмотав срок на этой планете более ста лет. Мне ли было это не понимать?
У нас с Сесиль настали более трудные времена. Богемный абсент или шотландский скотч пришлось сменить на водку и крепкое пиво. Ладно бы хоть бельгийский Duvel, но нет — обычное американское крепкое пиво. Американское пиво — как американское вино. Пить можно, но ничего лучше сказать про это нельзя. Табаки для кальяна пришлось так же сменить на более дешевые, а немецкие сигареты на наши простые Camel. Должен отдать должное Сесиль — она не унывала. Гораздо меньше, чем я, сменивший слабоселеную форель на сайру, а говядину на свинину. Благо у меня хотя бы был балкон, на котором мы могли читать и дышать свежим воздухом, вперемешку с кальянным дымом, а иногда и жарить на нем барбекю из замаринованной в луке и уксусе свиной шеи. Но и тут общество нанесло нам удар в виде доноса кого-то из соседей и посещения пожарного инспектора, которого совершенно не волновало, что в барбекю нет открытого пламени, лишь тлеющие угли. Это было нарушением. Минус радость. Как жизненно. С одной стороны, мне нравились немецкие порядки, когда все описано в законе и твои соседи не могут тебе никак помешать. Я сам никогда не шумел в ночное время и был любезен со всеми. Но с другой стороны, закон не мог запретить мне или соседям дымить вонючим сигаретным дымом, идущем в соседнее окно (чего я избегал, так как курил непахнущий кальян), но запрещал готовить на углях — исконном способе приготовления пищи, так как вкусный аромат жареного мяса доходил до соседних окон. Такой абсурд был волне закономерен в нашем абсурдном мире, не признающем ничего, не вписывающееся в его абсурдные порядки, а значит являющееся абсурдным для него, хоть оно и было менее абсурдным, чем то, что было нормальным. Я не мог осторожно и сознательно пожарить мясо без риска пожара, так как этот приятный аромат замечали мои соседи по дому. Но я мог курить какой угодно дешевый поганый табак, этот мерзкий запах был вполне законен в их окнах. Здесь хотя бы была закономерность: поганое принималось, а приятное отвергалось. Таков мир. То, что я был в рубашке, пиджаке, бабочке и трусах в кино являлось недопустимым. Требовалось надеть еще и штаны. Но если бы я пришел в том же наряде в штанах, но без бабочки или пиджака — это бы их вполне устроило. Как и короткие шорты на мне, более короткие, чем семейные трусы, в которых меня бы в кино не пустили. И они еще не считают свой мир апофеозом абсурда.
Глава 8
Прошел год и отношения с Сесиль стали сложнее. Ей стало хотеться больше всего, что было нам не по карману. Она захотела больше развлечений, выходов в свет, деликатесов. Мы стали больше ссориться. Меня и самого не устраивало выплачивать несправедливо большую долю своих средств Камилле, как и видеться с Элис лишь раз в неделю в нездоровой семейной обстановке, под присмотром ее матери. Бывало, я сидел в баре, пил самое дешевое пиво и думал о том как несправедливо обошлась со мной жизнь. Да, у меня была прекрасная девушка, но это финансовое ярмо алиментов все больше и больше давало трещину в наших отношениях. Иногда перед сном меня посещали фантастические мысли о том, как я выслежу Камиллу, как смогу от нее избавиться и что мне сделать для того, чтобы меня не поймали, как обеспечить себе алиби. Конечно, это были только фантазии. Но с каждым вечером я продумывал их все глубже и глубже, а потом видел все это во снах, которые подкидывали мне новые идеи для этого дела. Проблема была в уличных камерах, местонахождение их всех в городе я не мог знать. Обеспечить себе алиби было и того сложнее. Кто бы подтвердил, кроме Сесиль, что я был не на месте преступления? Мне было стыдно делиться с ней этими мыслями, да и поверили бы ей следователи? Она заинтересованное лицо. Еще сделал бы ее соучастницей — нет, это немыслимо. Я мог бы надеть худи с капюшоном, скрывающим мое лицо… Но вдруг найдутся люди или фотографии, доказывающие наличие у меня такого худи? Купить новое? Но это еще более рискованно, инспектор мог бы вынюхать про мои недавние покупки и это было бы еще подозрительнее. Как скрыться с места преступления? Вызвать такси не вариант — таксист отличный свидетель. Уходить дворами? Но что если моя одежда будет в крови и меня заметят? А если она поднимет крик? Как я уйду? Да и одежду придется в какой-то момент снять. Когда? Вдруг я сделаю это под чьей-то камерой видеонаблюдения и покажу свое лицо? Если камеры заметят, что я шел из дома в одной одежде, а вернулся в другой? Или просто пришел домой одетый не по погоде. Да и где тогда будет запись, показывающая как я уходил в той же легкой одежде? Наконец, куда деть одежду и нож (а я уже знал, что единственное что будет в моем распоряжении, что я смогу легко достать — это нож, так как по ружью можно сделать экспертизу, к тому же это слишком громко)? Можно было выбросить нож в реку, но тогда я всегда бы боялся, что его отыщут на дне полицейские аквалангисты. Да и от одежды так не избавиться — она всплывет. Можно выбросить все в мусорный контейнер, равно удаленный как от места преступления, так и от моего дома. Но это означает пройти длительное время с орудием убийства в кармане, возможно, в окровавленной одежде. Слишком рискованно. Мусорщики должны были бы замести следы утром, но вдруг они не приедут и не заберут именно этот контейнер именно этим утром? К тому же, я был совершенно не уверен, что физически способен вонзить нож в плоть живого человека. Я неплохо делал уколы, но нож — это совсем другое. Одно дело тонкая игла с лекарством, другое — толстый нож с инъекцией смерти. Конечно, все это было пустыми размышлениями, никак не ведущими к действиям.
Чтобы скрасить свою жизнь мы с Сесиль завели кошку. Подобрали ее на улице — уличные кошки самые лучшие. Ласковые и умные. Наша была такой же, звали кошку Плюшка, по крайней мере, так она нам представилась. Поначалу она всего боялась, но искала защиты у нас на руках. Это был хороший признак. Плюшка ходила своими пушистыми мягкими лапками по квартире, распространяя уют и тепло, а потом мяла ими нас, мурлыча под одеялом. Она была творческой, как и Сесиль, чьим почерком Плюшка написала дневник, который мы читали вечерами смеясь и умиляясь. Вот некоторые отрывки из него.
День 1. Сегодня произошло ужасное событие — меня похитили. Я жила всю свою двухлетнюю жизнь на одном пятачке, на углу 5 и 6 улиц и не ведала бед. Да, меня кусали блохи, иногда было нечего поесть и гоняли собаки, но разве бывает по-иному? Никогда про такое не слышала. Эти страшные большие существа схватили меня, а ведь я всего лишь подошла из любезности предложить им себя почесать. Видимо, хорошие манеры выходят боком. Меня притащили в какое-то совсем незнакомое место, в котором я совершенно не ориентируюсь и не знаю где укрытия. Благо я не глупа и сразу нашла далекий потаенный уголок под огромным деревянным шкафом, как они это называют. Не понимаю, что им от меня надо. Они все время меня зовут и пытаются отсюда достать. Пока меня несли я видела в их квартире приспособление для барбекю. Очень вероятно, что их цель — полакомиться таким мясистым кусочком, как я.
День 2. Ночью они успокоились. Странные существа. Весь день шумят, а как наступает ночь, так ложатся спать. У них совершенно сбит график сна, надо будет над этим поработать, раз уж они решили держать меня здесь в заточении. Пока они спали я прошлась по всему дому, осмотрела все углы и на всякий случай, потерлась о них щечкой, так что теперь я хотя бы владею этой территорией и могу тут чувствовать себя в своих правах, с этим не поспоришь. Утром, когда я собиралась ложиться спать, как и каждая уважающая себя кошка, следящая за своим здоровьем, эти великаны подскочили и снова начали меня звать. Мочевой пузырь уже ныл от переполненности, но в доме не было ни сантиметра земли, так что я понятия не имела где тут можно сходить в туалет. Может эти варвары ходят прямо на пол? Фу. С них станется. Они меня подхватили и отнесли в какую-то емкость, где было рассыпано что-то шуршащее, так призывно манящее его покопать. Начав копать, я решила, что сюда будет сходить вполне не дурно, за неимением лучшего. Но как они отнесутся к тому, что я сюда пописаю? Сделав свое дело, я с осторожностью поползла в свой угол под шкаф, опасаясь наказания. Но они меня поймали, стали гладить и хвалить. Видимо, этим извращенцам нравится когда у них писают в доме в этот горшочек. Может для того они меня и взяли?
День 3. Еда в доме всегда стоит в миске, но ем я ее неохотно. Во-первых, не доверяю, во-вторых все эти пертурбации отбили у меня всяческий аппетит. Впрочем, эти существа могут быть полезны. Тут всегда тепло, есть еда и они постоянно приятно чешут меня за ушком и гладят. К такому можно привыкнуть.
День 4. О, как я жестоко ошибалась! Сегодня они пытались меня утопить! Стоило мне освоится в доме и успокоиться, как они силой потащили меня в какую-то страшную пыточную камеру, где из специального пыточного шланга текла вода! Они намыливали меня чем-то вонючим и топили в воде, но я выжила. Хотя бы было приятно потом лежать у них на руках под нагревателем, укутанной в полотенце. Мне нравится мять их лапками, местами эти существа вполне мягкие и теплые. Мне начинает нравиться их запах.
День 5. Они никак не успокоятся и продолжают меня мучить. Делая вид, что чешут меня, они капнули чем-то вонючим мне на холку, а потом грубо пихнули какую-то горькую таблетку мне в горло. Мы только подружились, зачем они так стараются меня замучить?
День 6. Один из них самец, другая самка. Это я чувствую по запаху. Самка постоянно проводит время у воды. Ее руки часто в раковине или держат мокрую тряпку. Наверное, она богиня воды. Такого стоит опасаться. Но как же она вкусно пахнет и как приятно лежать на ней под одеялом! Впрочем, я всегда стараюсь одаривать их своею благородной котностью равномерно, чтобы никто не обижался и не страдал без моего внимания. Без меня они, конечно же, пропадут. Эх, доброта моя…
Дневник был длиннее, приводить его весь было бы чересчур.
Глава 9
Прошло еще какое-то время. Сесиль стала чуть старше и увлеклась косметическими процедурами, призванными улучшить ее и без того совершенную внешность. Она увеличила губы, сделала брови и ресницы, перестав быть похожей на мою Сесиль, в которую я влюбился. Да и вообще на юную и красивую девушку. Ее запросы все возрастали. За неимением достаточных средств у меня было мало радостей в жизни, я не мог позволить себе какие-то развлечения и малые приятности, в виде вкусной еды и качественной выпивки. Все беды, кроме раздутого и размалеванного лица Сесиль, походящего теперь на морду взрослой мамзель, могли были быть решены скоропостижной кончиной Камиллы. Но я прекрасно знал, что она доживет до старости, пережив меня самого. Все больше мне становился яснее план моих действий, ведь моя судьба теперь была только в моих руках. Теперь ли? Скорее всегда. Когда ты живешь уже третью жизнь в третьей реальности, ты все меньше обращаешь внимания на моральные условности и все легче воспринимаешь жизнь и свои решения. Я прекрасно понимал, что есть реальности где я убил Камиллу и есть те, где я ее не убил, дожив свою жалкую жизнь как есть. Есть реальности где ее сбил грузовик, а есть где на нашу планету упал метеорит, уничтоживший все живое. Абсолютно все, что возможно могло бы произойти уже произошло в каких-то реальностях из триллионов существующих. Не все ли равно какое именно решение я приму в этой? От этого зависело лишь то, как я сам проживу эту свою жизнь, насколько я буду в ней счастлив.
Этим вечером сна не было ни в одном глазу. Весь день меня нервно трясло, прошлую ночь я плохо спал, видя в редком полусне образы крови, смерти и полицейских, которые схватили меня, грязную и мрачную тюрьму с грубыми сокамерниками, нахально и непотребно ведущими себя. Боялся я не смерти. Смерть — не самое страшное, что может произойти с человеком. Я боялся суровых условий тюрьмы. Боялся ее грязи и дискомфорта. Мне более был страшен общий унитаз в заполненной тюремной камере, воняющей мужским потом, чем смерть от выстрела полицейского на улице, при сопротивлении аресту. Да, как бы глупо это ни звучало, но справление нужды на глазах у людей было для меня большей проблемой, как и общение с некультурными людьми из низов, наполняющих собой тюрьмы. Как и возможно грубое обращение со мной полицейских и надсмотрщиков, унижающее человеческое достоинство, на которое я не знал как реагировать, ведь я умел лишь вежливо и любезно общаться, вести светские разговоры, а совсем не показывать самые низменные животные черты, присущие этим огрубевшим человеческим существам. Я легко мог бы совершить любое преступление и жить в заточении, если бы мне было гарантированно милое и любезное обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов, интеллигентные сокамерники и полные удобства в камере, включающие в себя отдельный закрытый туалет и душ. Может поэтому преступления и совершают, как правило, грубые люди из низов? Они не боятся общих открытых туалетов, грубых соседей, неуважительного обращения тюремщиков, отсутствия отдельного ежедневного душа. Их не пугает все это. Что если бы заключенным гарантировалось полностью гуманное и интеллигентное обращение? Может тогда преступность бы выросла за счет людей с манерами и интеллектом? Именно это вероятное неуважение и грубость, как людей, так и условий быта, заставляли меня трястись и думать стану ли я в действительности совершать этот справедливый гнусный поступок? Тут нет никакого противоречия. Справедливость часто бывает гнусной, как и гнусность справедливой. Если бы мою дочь убил какой-то наркоман, я бы совсем не хотел для него хороших условий в тюрьме и милого обращения со стороны любезных правоохранителей. Гнусность по отношению к нему была бы справедливой. А по отношению ко мне?
Я шел по темной улице в закрытом черном худи с капюшоном на голове, думая о том, как часто люди отрицают справедливость по отношению к себе и считают, что именно к ним должно быть особенное гуманное отношение, ведь это я сам. Человек же посторонний, сделавший тоже самое, конечно, был бы обязан расплатиться с обществом в полной мере. Толпа всегда поддержит самую суровую расправу, смертную казнь, по отношению к провинившемуся чудовищу, убившему невинную жертву. Но каждый из них, отбросив трусость, сломленный обстоятельствами, мог бы сам стать таким же чудовищем, тогда он стал бы ярым противником смертной казни, тем более жестокой. Как и его родители, одобряющие такую казнь для чужих детей. Все мы становимся гуманистами пред лицом суровой кары, постигающей нас или наших близких. Но мало кто из нас становится таковыми пред лицом кары, предназначенной постороннему. Апогеем толпы является нация — целый народ. С какой религиозной яростью она готова наброситься на каждого, защищающего врага во время войны. Эти люди закрывают глаза на кадры мертвых людей, детей, мирного населения, если их убили их солдаты или самолеты. Ведь это враг, противная сторона. Как только вражеские самолеты сделают то же, что и их, то человеческое милосердие тут же разливается океаном в их сердцах, слезы по незнакомым и посторонним для них согражданам текут по щекам реками, вытекающими из этих сердечных морей сострадания и человеколюбия. Но эти люди такие же жертвы, как и те, на земле врага. И их сограждане так же рыдают по своим незнакомым им мирным жителям. А тем не менее человек везде человек. Все люди похожи. И стоит этим «врагам» сесть за один стол с бутылкой спиртного — они подружатся и поймут, что все они хорошие парни и девчонки, которых просто разделили на два лагеря политики, без которых они отлично сдружились бы, дай им только стол, да время на диалог. За такой стол следовало бы сажать самих политиков и два властителя судеб совершенно точно бы подружились и мигом закончили войну, стоило бы только им вместе выпить, да отбросить свои обиды и установки. Разногласия отошли бы не второй план, который затмил бы план первый — человеческая идентичность, похожесть взглядов, принципов и норм, любовь к алкоголю, мясу, фруктам, сладкому. Любовь к жизни, противоположному полу, отдыху и простым человеческим удовольствиям. Не важно как ты смотришь на историю или современные тенденции. Гораздо важнее человеческая связь, возникающая между людьми, понимающими друг друга, так как они оба люди, укрепленная спиртом, под воздействием которого каждый подумает: «Да, он другой, но все же он хороший парень!». История знает множество подтверждений этому в виде братания солдат из противоположных окопов во время перемирия или праздников. Они вместе пили, ели, курили, делились всем и праздновали Рождество. А потом снова сносили друг другу головы из винтовок. Пусть, в конце концов, два властителя судеб напьются и набьют друг другу морду. Не важно кто победит! После драки они станут друзьями. Вот как должны решаться в ООН международные конфликты. Но мы слишком цивилизованны для этого. Мы предпочитаем убить миллионы из-за мелкого недопонимания двух. Вот она — Цивилизация, прошу принять и жаловать. В былые времена племена выставляли двух своих лучших бойцов или двух своих вождей, чтобы они в драке решили кто победил. Но это недостаточно цивилизованно для нас, людей промышленной революции. С промышленной революцией ушла эпоха даже Возрождения с ее дуэлями и принципами чести. Цивилизованнее уничтожить человека в суде, а нацию с воздуха, чем решить вопрос простой и честной дуэлью.
Я пошел к дому, где жила Камилла и Элис. Две мои девочки.
Глава 10
Было темно. Это был частный американский дом в пригороде, граничащий с плотной застройкой кварталов, в которой жил я. Я знал, что Камилла должна была вернуться с работы в кафе в этот час. Темная фигура без лица, которой был я, стояла и ждала эту маленькую блондинку на углу ее дома, скрываясь в темноте подстриженных ухоженных кустиков этой благопристойной улицы. Часы показывали десять вечера. Вот и она. С хорошей укладкой, в безупречно стильном розовом пальто, которое темная фигура скоро сделает более темно-красного оттенка. Тьма порождает тьму. Тьма ее души породила тьму во мне, моя темная фигура породит затемнение цвета ее одежд. Я не воспринимал себя собой. Я смотрел на себя со стороны, от третьего лица. Темная фигура быстрым шагом подошла к Камилле. Идеально заточенный нож, вонзенный в шею, а потом и в грудь, красное пятно на розовом пальто, фонтан алой крови из пораженной артерии, окрасивший черное худи темной фигуры, удивленный взгляд жертвы, широкие ее глаза, огромные зрачки, вначале расширившиеся, а потом медленно гаснувшие, вслед за падающим, как в замедленной съемке, телом в розово-красном пальто, таким чистым и выглаженным, падающим на грязный тротуар, как бы соединяя несовместимое. Я смотрел со стороны на это действо и меня затошнило от немыслимого несоответствия шикарной дамы и грязного асфальта, на котором она лежала в растекающейся луже крови, от которой хотелось немедленно ее отстранить, чтобы проще было отстирать и спасти ее прекрасную одежду. Но она лежала там. Фигуре пора было уходить. Я никак не мог заставить себя уйти. Казалось, я мог вечно смотреть на эту эклектичную сюрреалистичную картину: красивая ухоженная дама лежит на грязном асфальте и с каждой секундой красная кровь все больше и больше пачкает ее одежду, но никто не в силах остановить это дьявольское кощунство; все вокруг темное, черное, серое и только розовое пальто, красная кровь, белоснежная кожа, светлые волосы и белые угасающие глаза — только это является цветным, ярким, режущим глаз своею красочностью. Это эпатаж. Вот что такое смерть — эпатаж, доступный самым никчемным из нас под занавес. Все мы дождемся своих аплодисментов и тогда публика скажет: «Да, они жили скучно, но закончили красиво». Меня стошнило рядом в кусты. Фигура была более организованна и быстро удалилась. Что бы я делал без нее? Сам я не смог бы совершить этот поступок, как и скрыться впоследствии. Только фигура, за которой я следил, смогла миновать несколько улиц, выбросить нож в один контейнер, окровавленное худи в другой и добраться до моего дома в одном свитере, войдя в двери, выпив шотландского скотча и заснув неспокойным, но беспрерывным сном до утра.
Утром Сесиль не понимала почему я так взволнован. Меня продолжало трясти уже второй день, я сказался больным и лег в кровать. Мысли мои были заняты проработкой событий предыдущего вечера. Все ли я сделал как надо? Насколько далеко от места преступления находятся мусорные контейнеры? Не находятся ли они по траектории, ведущей к моему дому? Тут мне казалось я выполнил все как надо. Я учел также день недели, это был будний день, в который мусорщики должны были работать. Но меня грызла мысль, что они не всегда работают четко и могут легко пропустить какой-то день или контейнер, в силу лени и практичности. Я специально старался положить нож и одежду именно в набитый контейнер, зарыв свои вещи поглубже, опасаясь того, что бездомные покопаются в мусоре. Было страшно и смешно представить (я сдерживал истеричный смех от этого черного юмора, черного во всех смыслах) как какой-то афроамериканский бездомный будет расхаживать перед полицейскими в моем окровавленном худи. Еще большим фиаско было бы, если мусорщики забили бы на свои обязанности и полицейские ищейки нашли бы все это в мусорках. Конечно, я делал все в перчатках и мыл нож в воде с моющим средством, но я был не вполне уверен в том, что вода точно смывает все отпечатки. И могут ли отпечатки остаться на внутренней стороне перчаток? А еще ДНК. Запах тела на одежде может оставить ДНК? Является ли доказательством в суде свидетельства полицейских овчарок, что запах этого худи — этой мой запах? Я представил овчарку на месте свидетеля в зале суда и меня снова посетил истерический смех. Больше всего меня волновала моя рвота рядом с местом преступления. Обладает ли рвота ДНК? Если да, то единственное, что мне остается — это сказать, что я гулял там пьяный и меня вырвало. Вряд ли присяжные мне поверят.
В этот же день мне позвонил полицейский инспектор и сообщил, что моя бывшая жена мертва. Меня вызвали на допрос в участок. Это было вполне понятной мерой, бывший муж, выплачивающий алименты, всегда является подозреваемым. Мне было радостно уже от того, что меня пригласили, а не арестовали. Значит у них ничего на меня нет. В участке следователь поговорил со мной весьма вежливо, задал несколько вопросов, самым опасным из которых был — где я был вчера в десять вечера. Сесиль в это время уже спала и понятия не имела, что меня не было дома, так что я просто сказал, что спал в своей кровати. Никакое более весомое алиби было для меня невозможно. Меня достаточно быстро отпустили, я держал идеальную мину, шутил и улыбался, был совершенно спокоен, надеясь, что следователь не заметил мои дрожащие ноги и не проверил унитаз в участке, куда я отлучился, облегчившись нервным поносом.
Глава 11
Прошло еще несколько дней, которые показались мне месяцами. В один из дней мне постучали в дверь и арестовали меня. Вначале я содержался в одиночной камере, потом мне предъявили обвинения и показали кадры с записи видеонаблюдения одного из частных домов, где было видно, как темная фигура идет по улице, а потом, с камеры другого дома, видно как уже иду я, в тот же час, по той же улице, хотя никого кроме темной фигуры не было в этот миг на этой улице до этой видеосъемки со мной. Доказательство не стопроцентное, но от которого нельзя отвертеться в суде присяжных. Меня поместили в эту зловонную клоаку с наигрубейшими представителями нашего общества, в которой меня хотя бы не гнобили, в силу моего умопомешательства. Как только я вошел в камеру, я набросился на самого крупного здоровяка, покусав его и сломав об стену и койки несколько стульев, истекая слюной, специально для этого представления. Играть буйного психопата было выгодно и от меня отстали, даже побаивались. Изоляция в карцере была для большинства наказанием, для меня же это было спасением, ибо быть наедине с собой было куда лучше, чем быть так же наедине с собой, в изоляции от людей, но в окружении этих существ, способных навредить мне. Я стал понимать свою кошку, для которой низкие существа, вроде людей, были худшей альтернативой жизни на улице, пусть и на холоде, в одиночестве, но все же свободной и без этих тварей, недостойных ее. Бороться за свою невиновность я не стал, за неимением оной. Доказательства были так прочны, что оспаривать их было бы смешно, хватит с меня этих цирков. Достаточно и того, что устроила Камилла в первой моей жизни, второй раз на ее причуды я не куплюсь. Меня осудили на смертную казнь, губастая Сесиль была безутешна. Надеюсь, что с такими губами она скоро найдет себе нового ухажера, обладающего столь же крупной опухолью в мозге, как у нее на лице. Должен отдать ей должное, она была со мной до конца. Носила мне передачи, встречалась со мной на разрешенных тюремных свиданиях, только на саму казнь она не явилась. За стеклом, отделяющим аквариум с койкой для смертельных инъекций от счастливых рядов зрительного зала, с восседающими зрителями, сидели только журналисты и родители Камиллы. Видимо, от цирка Камилла меня не смогла избавить и в этой реальности. Что ж. Show must go on. Шут лег на койку и закрыл глаза. Что было до?
Перед казнью я сидел в одиночной камере смертников. Я думал о том, каким глупым является кажущееся нам ожидание счастья. Мы всегда его ждем и живем этим ожиданием, но когда оно приходит нам больше нечему радоваться. Получив, что мы хотели, мы больше не можем черпать из этого счастье. Это доказывает невозможность рая, лишь счастья от ожидания его. Никакой священник не смог бы мне теперь вселить мысль о вечном счастье в раю. Я знал, что рай дарит счастье лишь пока ты его не получил. Когда я окажусь в идеальном мире, он очень быстро станет для меня пресным и я, будучи человеком, найду в нем много раздражающих изъянов, а все идеальное для меня превратится в скучную рутину. Я подчеркиваю, что именно идеальное для меня. Каждый сам найдет в раю что будет его раздражать, а что будет идеальным, то есть скучной рутиной, порождающей депрессию. Именно поэтому рай может быть только индивидуальным для каждого, мы слишком разные для универсального рая и каждый из нас найдет сам для себя что будет дурным в его раю, а что совершенным, то есть порождающим скуку, от которой он захочет самоубиться. В сухом остатке истинным раем для каждого пережившего свой рай будет вечное ничто, следующее за кощунственным суицидом в царствии небесном. Когда-то раем для меня была любовь. Но в этом, как и во всем остальном, я чудовищно ошибался. Если можно назвать чудовищным детскую наивность, присущую нам всем, в любом, даже самом мудром возрасте, по отношению к отдельным вещам. Когда мы дети, мы наивно думаем о природе простых вещей, не понимая самых очевидных истин. Мы спрашиваем маму почему небо синее, а плита горячая. Мы честнее, чем взрослые. Взрослые мы мним себя всезнающими. И нам некого спросить почему любовь причиняет боль и грусть, а не счастье и радость. Биологи ответят вам про гормоны и выброс их в головной мозг, порождающий чувство влюбленности, которое потом проходит. Психологи расскажут вам про проблемы, с которыми пары сталкиваются в разных периодах своих отношений. Но никто не ответит вам почему каждая любовь проходит и приносит страдания, боль, разочарование и оставляет огрубевший шрам на вашем сердце, который не увидит ни одно УЗИ, и который навсегда, с каждым разом все больше и больше, будет закрывать ваше сердце броней эгоизма, цинизма и меркантильности. Зрелый человек тоже способен снова открыть свое сердце для кого-то особенного. Но эти истории так же не кончаются хеппи эндом и заставляют сердце грубеть еще сильнее, чем в юности. У меня были женщины юные, красивые, умные, которые потом превращались в совсем иной вид женского масс-маркета, к которым оставались лишь глубинные чувства, питаемые их истоками, их корнем, глубоко ушедшим в прошлое, в землю, сгнившим в ней и более никак не влияющим на их облик. Были и те, кто сохранил свое сияние вечного разума, однако я был недостаточно хорош для них и они выбрали себе в пару других. Ведь и мы сами должны быть теми, кто им нужен, это работает в обе стороны. Для этого далеко не всегда нужно быть лучшим. Нужно быть лишь тем, кого они выберут. Не больше и не меньше. Очень легко совершить небольшой проступок из-за которого ты потеряешь их. Их так мало, что тебе останется лишь всю жизнь пить, грустить и жалеть о том, что ты утратил этих женщин, а другие твои женщины утратили свое сияние навсегда. Вы уже знаете, что я любил женщину, обладающую умом и харизмой. Я любил и тех, кто обладали их призраками когда-то. Но какое это имеет значение, если все это было преходящим? Все в жизни временно. Пессимист скажет, что временно все хорошее. Оптимист, что временно и плохое. И какая, скажите мне, к черту разница, если все, что происходит в нашей жизни — не навсегда? Даже то, что я выучу и узнаю, хотя бы иностранный язык, умрет очень скоро вместе с моим мозгом? В чем смысл к чему-то стремиться? Ты строишь с большими трудами хорошие отношения, которые со временем распадутся и ты будешь строить снова новые отношения уже с другим человеком. Ты будешь показывать ей любимые фильмы, подбрасывать любимые книги, меняя ее личность, сближая вас двоих… Для чего? Пройдут годы (хорошо, если не месяцы) и ты будешь делать тоже самое уже с другой. Ты найдешь ее, идеальную, полюбишь ее на всю жизнь, не будем излишне циниками, бывает и такое. И что же? Однажды отношения станут преснее, сложнее и кто-то из вас, пусть и она, просто уйдет. Так будет проще. Для чего все это было? Ради нескольких лет счастья? К черту это счастье на несколько лет, оно дает лишь осознание того, что бывает иначе, что теперь ты живешь в полном дерьме, что ты утратил то, что было у тебя прекрасного: любовь, поддержку, понимание, хорошее настроение, веселый досуг… Лучше уж жить не зная всего этого. Проще никогда не есть сыр бри, бекон, пиццу с трюфелями, орехами и горгонзоллой, не бывать в дорогих ресторанах, не пить французское шампанское на яхте, глядя на морской закат, чем иметь все это и потерять. Не даром кончают с собой чаще богатые брокеры, проигравшие все на бирже, чем бездомные, живущие в коробке. Хорошо прожить несколько лет и покончить со всем, либо тянуть всю свою никчемную жизнь до старости в коробке на обочине дороги? Мне не нравился ни один из этих вариантов. Я прожил 3 жизни, но ни в одной я не был счастлив. Не это ли и есть мудрость жизни? Человек не может быть счастлив. Возможно, вечную печаль дарит осознание своей неминуемой кончины, чего лишены животные, которые, думается мне, гораздо мудрее нас. Как и дикари из джунглей, не думающие о смысле жизни и счастье в ней. Не потому ли вечные книги, живущие в веках, это всегда грустные книги? Как мало веселых книг считаются великими! Не потому ли высшим искусством считается драма, а не комедия? Люди! Вам нужно прислушаться к себе, доверьтесь своему глубинному Я. Оно знает что честно, что правда. Оно диктует вам какие книги и пьесы вам ценить. Смысл жизни в печали. Всем остальным вы глушите ее, прикрываете. Вслушайтесь в себя и вы поймете, что все, что вы делаете призвано единственной целью — заглушить печаль и страх. Религия ли это, или необузданное веселье, выпивка, хобби, карьера — все это пресс, который лежит на поверхности и давит, прикрывая своим весом печаль и страх смерти, страх непризнанности, никчемности, неодобрения. Все ваши цели и действия существуют для одного — перекрыть собой великую, всепоглощающую грусть и животный дикий страх перед вечным ничто в конце вашей жизни, порождающий страх того, что с таким никчемным исходом все, что вы делаете в жизни лишено всякого смысла. А исход может быть лишь никчемным — не важно где вы его встретили: на золотом ложе в особняке с бассейном или в богадельне с тараканами в обнимку. Вы увлекаетесь правильным питанием, БАДами, нутрициологией, ЗОЖ, но псевдонаучные попытки продлить свою жизнь сродни религии — вы даруете себе лишь веру в то, что есть какой-то смысл в вашей жизни, что это, якобы, ее продлит, более того, что есть смысл ее продлевать. Не обманывайте себя, погрузитесь в это истинное осознание бессмысленности. Или, наоборот, обманывайте, прожить жизнь под кайфом искусственных и лживых смыслов лучше, чем всю жизнь страдать. Но не судите строго наркоманов — они делают тоже, что и вы. Не все вещества нужно потреблять извне, многие из них уже есть в вас, нужно лишь высвободить достаточное их количество в ваши синоптические щели. Эти щели находятся между нейронами в вашем головном мозге и вы можете их заполнить стимуляторами, которые вы купили в алкомаркете или табачном, либо же вырыли их в закладках, но смысл един. Эти вещества уже есть в вашем организме в умеренных количествах, те же нейромедиаторы дофамин, ацетилхолин и серотонин. Высвободите их и увеличьте дозу влюбленностью, религиозным экстазом, чувством своей возвышенности над другими отсутствием вредных привычек или высоким интеллектом, активной жизненной позицией — вы получите тот же наркотический кайф, закрывающий от вас бессмысленность вашей жизни и неминуемости вашей смерти, дарующий чувство ложной особенности. Это то, что даст вам «счастье» — то лживое слово, которым мы называем уход от реальности. Вы справедливо осуждаете наркоманов, губящих свои жизни. Но не замечаете, что делаете тоже самое, черпая эндорфины из своего правильного, с вашей точки зрения, образа жизни. Такая экономность заслуживает восхищения. Меньше вина, меньше табака, никаких запрещенные веществ, которые успели запретить, пока люди не пристрастились к ним, как к этанолу или никотину. Больше времени на церковь, веб-семинары и спорт-зал. Но время — деньги. Вы тратите на свои стимуляторы, закрывающие от вас истину, время, время на саморазвитие или благочестивую праведность, что равносильно трате денег на наркотики. Вы лицемеры. Но я восхищен вами. Вы избегаете правды, утопая в сладостной лжи. Вы мудрее меня, ценителя голой общипанной истины с ободранной кожей, готовой к прожарке на вертеле ада жизни.
Мне принесли последний ужин, который я заказал в виде чипсов с водкой — несовместимые и такие простые вещи, которые я заказал вместо стейка Шатобриан или устриц, которые были мне доступны. Я насмехался над этой смешной традицией последнего ужина. Какое мне дело до того какой ужин у меня будет последним? Множество людей, сидевших в этой камере и ждущих свою смерть, никогда не ели эти стейки и устрицы, которые они заказали себе в последний день своей жизни, ожидая что-то вкусить и понять — то, что они не вкушали и не понимали при жизни. Как же смешно думать, что кто-то планирует попробовать что-то особенное в последний день своей жизни. Лучше съешьте картофельное пюре и простые дешевые сосиски из сои, которые вернут вас в ваше бедное детство, пробудят ваши воспоминания, чем пытайтесь угнаться за тем, что никогда уже не будет вашим. Конечно, я в своей жизни ел и стейки, и устрицы, но что было бы лучшей демонстрацией пренебрежения к их последней подачке, в виде предсмертного ужина, чем простые дешевые чипсы и водка? Дайте выпить и закусить, мне не нужно от вас ничего прекрасного! Вы сами перечеркнули в жизни и для меня, и для себя все прекрасное, что есть на свете! Вы облили кровью и грязью человечность, как розовое пальто. Вы показали, что я был прав, ибо вы не лучше меня. Вы убиваете за зло точно так же, как и я сам. Зло за зло, зуб за зуб. Вам велел так ваш бог, он так же велел это мне, ведь вы, высокоморальное общество, знающее что хорошо, что плохо, внушали мне с детства, что бог един. Тогда он един для всех, включая меня. И я творил его справедливость, так же как и вы сейчас. А значит я невиновен. Ко мне позвали священника. Ох уж эти святые наших дней. За неимением пророков, каждый надевший на себя крест, облачение и сан, мнит себя святым. Скажи это мальчику, в рот которого ты намедни совал свой грязный пророческий член. Я выгнал этого высоконравственного гражданина пинком под его священнический зад. Я сам отпущу себе грехи. Для этого мне не нужен тип, освящающий на днях ядерную ракету. Они всегда рады осудить убийцу одного, восхваляя тысячи воинов их страны, идущих убивать миллионы. Я взял крест, перевернул его наоборот и сказал: «Сатана, если ты есть, прости мне мои грехи, ибо они недостаточны». Вот и вся индульгенция.
Хорошо, что меня больше не было. Я снова смотрел со стороны на происходящее. Запуганный, худой человек сидел в камере, не боясь смерти, он трясся от страха. Он не знал чего он боялся. Его трясло от стресса, он часто ходил в туалет, стоящий в этой, к его счастью, одиночной камере. Он вспоминал свои жизни, жизнь с Камиллой, которую он долгое время нежно любил. Он и помыслить не мог о ее смерти. «Представляешь, когда-то мы увидим смерть друг друга» — говорил он ей с ужасом, думая о старости, не думая о том, что именно он станет причиной ее смерти. Думал о Сесиль — маленькой Сесиль, зависящей от него, которая превратилась в гламурную мамзель, способную легко прожить свою жизнь сама по себе. Человек понимал, что какую бы реальность он ни жил, ни в одной он не был счастлив. Видимо, декорации и детали можно менять, но сама суть является неизменной — любая жизнь есть земной ад. Для всех ли? Навсегда ли? Кто может это знать наверняка? А может вся его жизнь и была его адом, за какие-то прегрешения в прошлой жизни, которую он не помнил? Эти мысли и были причиной его тремора.
Человек шел по длинному коридору, умышленно ли он был таким длинным, чтобы увеличить страдания приговоренного к смерти? Человек лег на медицинскую койку, похожую на те в госпиталях, что призваны излечить от какой-либо болезни. В данном случае болезнью была сама жизнь. Это был апофеоз человеческой медицины. Эта койка избавляла от всего сразу. Человека пристегнули к койке за руки и ноги, как связывали в былые времена на эшафоте. Толпа не скандировала: «Смерть». Толпа была слишком цивилизованна, современна. Она молча смотрела на смерть, сдерживая свою радость и садистское чувство удовольствия от того, что там лежат не они, а кто-то иной. Никто никому не отрубал голову, катящуюся вниз с эшафота, все еще видящую радостное Общество, в котором мы живем, и чувствующую боль во всем теле, уже не принадлежавшем голове. Человеку сделали легкий укол в вену, протерев прежде место укола антисептиком, чтобы никакая зараза не смогла навредить смертнику. Стерильность превыше всего. Моральность у общества — это стерильность у медиков. Нельзя этим пренебрегать. Хорошо, что медик, дававший клятву «Не навреди» был опытным и обладал легкой рукой. Укол был безболезненный. Вначале снотворное, потом яд. Чтобы не чувствовать боли от останавливающегося сердца, разрывающегося, орущего не тише, чем сердце Камиллы, пронзенное ножом. Впрочем, кто знает действует ли это снотворное, или крик умирающего сердца оказывается громче любого седативного, ласково успокаивающего нервы умирающего? Что важнее? Успокоение нервов в медикаментозном сне или смерть? Организм явно ответит, что второе, но нам проще думать, что первое. Как мы думали, что на электрическом стуле мозг умирает мгновенно, не чувствуя как он медленно поджаривается на протяжении минут, не пытаясь спасти свое тело, подавая сигналы, что нужно бежать от этих электрических разрядов. Я смотрел на это со стороны, ожидая, что пленка закрутится вспять и я снова окажусь в новой реальности. Никакой пленки не было. Боль затмила собой все. Резкая нестерпимая боль в груди. Сильнее той, что была в квартире, со стаканом виски в руке. Боль вышла на первый план. Никакой пленки не было. Только резкий конец боли и вечное благодатное спокойствие и темнота.
МНОГОЭТАЖКА С ТАРАКАНАМИ

Глава 1
Отто Штоссе проснулся ранним утром не по своей воле. Причиной столь раннего пробуждения стали звуки непонятного происхождения, исходящие из-за двери его квартиры, находящейся в обычном сером панельном многоквартирном доме, наследии бывшей ГДР, а ныне свободной и демократической Германии, по крайней мере, как ее официально титуловали, а многие в это даже искренне верили. Отто разлепил сонные глаза, надел халат и посмотрел в глазок. За дверью был обычный общий коридор, объединяющий несколько квартир. Слышалась суета, стук и гам, в мыльное стекло глазка попадали нечеткие фигуры, шатающиеся по коридору взад-вперед и то и дело исчезающие в открытой нараспашку двери соседей. Отто открыл дверь и возмущенно посмотрел на странно и просто одетых людей. Одеты они были в простые старые брюки, клетчатые хлопковые рубашки с засаленными манжетами, расстегнутыми на груди, открывая волосатую грудь и выглядели, в общем и целом, людьми не первой свежести. Однако они улыбались и вид имели вполне дружелюбный.
— Что за шум в такую рань? — возмутился Отто.
— Герр Штоссе! И вам доброе утро! — любезно обратился к нему один из незнакомцев, лучезарно улыбаясь. Вид он имел простого работяги прямиком из ГДР.
— Мы знакомы? — удивился Отто.
— А то! — ответил странный тип. — Соседи должны знать друг друга!
— Что здесь происходит? — Отто смутился от, казалось бы, искреннего дружелюбия улыбающегося человека.
— В тир играем, а что, мы вам разве помешали?
Ничего не понимая, Отто сделал пару шагов по коридору и заглянул в открытую нараспашку дверь соседней квартиры. Ожидая увидеть квартиру, Отто страшно удивился, увидев пустое просторное помещение, в котором было человек десять, они то входили, то выходили в коридор по каким-то делам, в помещении были большие окна напротив входной двери, справа стойка, на стойке пневматические винтовки и пистолеты, а за стойкой стена, на которой висели мишени. Люди подходили по очереди к стойке, брали оружие, надевали защитные очки и стреляли по мишеням из пневматики. Так вот что это был за стук. Отто было доподлинно известно, что здесь была квартира пожилой фрау Кроль, милой старушки, которую он видел у подъезда буквально два дня назад. За это время ее квартиру точно не переоборудовали бы в тир без единой стены, которые еще предстояло бы снести, что не могло не привлечь внимание его слуховых рецепторов. Совершенно сбитый столку Отто проследовал по коридору далее к лифту, намереваясь спуститься вниз и обратиться в домоуправление с жалобой. Железный, немного ржавый лифт стоял на своем месте, но Отто не смог найти ни намека на кнопку вызова. Он поднимался и спускался на этом лифте тысячу раз и явственно помнил, что кнопка вызова была здесь, на стене, рядом с раздвижными дверями лифта. На дверях лифта зияли маленькие дырочки, похожие на отверстия от пуль, только слишком уж деформированные и не ровные. По стене ползало несколько тараканов. «Вот еще новость» — подумал Отто — «Вандализм и тараканы! Теперь у меня будет не одна тема разговора с домоуправлением. Но куда могла деться кнопка лифта?»
— Эй, дружище! — крикнул он одному из засаленных работяг. — Как лифт то вызвать?
Дружелюбный господин подошел к Отто и улыбаясь во весь рот сказал: «Ну а как же иначе, герр Штоссе? Давайте я вам помогу!» Господин схватил двумя пальцами таракана на стене и сунул его в одно из отверстий на дверях лифта. Таракан пролез внутрь и двери тут же открылись.
— Прошу вас! — протянул руку господин, приглашая этим жестом Отто в кабину лифта.
Ничего не понимая, Отто зашел в лифт и нажал на кнопку первого этажа. Двери захлопнулись и лифт поехал вниз. Прошло меньше минуты и двери открылись, за ними был не ожидаемый подъезд старого панельного дома, а огромный холл чего-то, вроде бизнес-центра или больницы, с высокими потолками и большими стеклянными дверьми, ведущими на улицу. Холл был заполнен толпой людей, снующих туда-сюда по своим делам. У Отто закружилась голова. «Наверное, я сплю. Все это мне снится» — подумал он. Но оглядевшись, он понял, что все это слишком реально. С другой стороны, во сне нам часто кажется реальным то, что по пробуждении выглядит абсолютно абсурдным. Как понять, что реально, а что нет, если реальность — лишь субъективное оценочное суждение нашего мозга, который меняет свое мнение подчистую несколько раз в день? Возможно, прожив свою жизнь, мы проснемся и поймем, что все, что в ней происходило — полный абсурд. Например, необходимость проводить большую часть своей жизни за нелюбимым скучным занятием, чтобы заработать бумажки, которые ты обменяешь на еду, которую ты превратишь в вонючую массу той или иной консистенции. И на это дело ты тратишь почти всю свою жизнь. Звучит не менее абсурдно, чем вызов лифта с помощью таракана.
Отто прошел через холл, вышел сквозь стеклянные двери и вдохнул свежий чистый весенний воздух. День был на удивление теплый, он посильнее запахнул халат, под которым был пижамный костюм и проследовал к КПП со шлагбаумом, справа от которого стояла будка с охраной. Ничего подобного, конечно же, перед их домом никогда не было. За КПП виднелись чистые, ровные и светлые улицы города, который сильно отличался от того городка, к которому привык Отто. Дома, стоявшие на геометрически точно выстроенных улицах, выглядели как бело-серые футуристичные исландские церкви, устремленные вверх своими треугольниками и будто бы задуманные как крепости или железобетонные бункеры, устойчивые к снарядам. Люди, проходящие через КПП, прикладывали к шлагбауму карточки, которые открывали им доступ в город. На карточках были имена, фотографии и какая-то информация. «Удостоверение личности» — подумал Отто. Некоторые, однако, прикладывали наручные часы, которые были явно электронными. Размышляя о том, как попасть в город, Отто подошел к одному из прохожих.
— Простите, герр… Не могли бы вы пропустить меня по своему удостоверению? Свое я забыл дома, — обратился Отто к прилично выглядящему господину в пиджаке.
— Как же вы себе это представляете? — ответил тот. — Ведь тут же камера.
Он указал на видеокамеру, висящую над шлагбаумом. Господин удалился, а Отто подошел к другому человеку, который выглядел простым рабочим.
— Герр… прошу прощения, но не хотели бы вы обменять свои часы на мои? — спросил его Отто.
Рабочий уставился на механические наручные часы Отто.
— Вы имеете ввиду эти серебряные часы? — удивился рабочий.
— Серебряные? Ну да, но серебро не очень дорогой металл, впрочем, вам решать, — ответил Отто.
— По рукам!
Рабочий снял свои электронные часы, отдал их Отто, абсолютно довольный взял серебряные Braun и прошел через КПП с помощью карточки. Отто же надел электронные и подошел к КПП, приложив их к шлагбауму, который тут же, к его удивлению и радости, раскрылся.
Глава 2
Отто шел полупустыми улицами странного городка, совсем не похожего на его. На углах улиц висели знамена нацистской Германии, которые были абсолютно незаконны в его стране. Он подошел к полицейскому на углу, форма полицейского показалось очень необычной.
— Доброго утра, офицер. Не могли бы вы подсказать, где находится ближайшее заведение, где можно позавтракать? — обратился к нему Отто, совершенно не ориентируясь в незнакомом городе. Полицейский критично осмотрел внешний вид гражданина, но тут же опомнился и, улыбнувшись, ответил: «На углу улицы есть пивная. Ближе ничего не найти».
Пивная была совсем не тем местом, где хотел бы оказаться Отто в 7 утра, но раз больше ничего не было, то ничего и не оставалось. Как же много решений в жизни мы принимаем исходя из того, что выбора мы не имеем. И все же, мы считаем это нашим личным осознанным выбором, который порой диктует дальнейшую траекторию линии нашей судьбы. В данном случае выбор не был таким уж судьбоносным. Конечно, Отто предпочел бы кафе с выпечкой, но желудок уже урчал от голода, а искать что-то иное не представлялось возможным. Поблагодарив полицейского, Отто двинулся в нужном направлении и вошел в дверь с вывеской: «Пьяный фюрер». На вывеске красовался мужчина с челкой и усиками над губой, отпивающий из пивной кружки. Вывеска уверяла, что заведение работает круглосуточно. Внутри было малолюдно, что неудивительно для пивной в 7 утра. Подойдя к стойке, Отто попросил у кельнера, у которого на голове почему-то была кастрюля вместо шляпы, яичницу, либо круассан. Тот взглянул на Отто с изумлением и спросил не шутит ли герр.
— Шутки после ночной смены в 7 утра не такие и веселые, знаете ли… — сказал ему кельнер.
Не поняв, в чем тут юмор, Отто спросил, что у них имеется.
— Пиво с вяленым мясом, что еще? — спросил изумленно кельнер.
Такой завтрак не входил в планы Отто, но не имея иного, он согласился на это. Спустя пару минут, он получил кружку светлого лагера и тарелку вкусного вяленого мяса. Пиво и мясо были превосходными, натуральными и высшей пробы.
— Скажите, — обратился Отто к кельнеру. — А почему у вас нет ничего другого? Я понимаю, час ранний…
— Причем тут час? — снова удивился кельнер. — Когда это у нас было что-то другое?
— У вас всегда только пиво и вяленое мясо? Но как же вы выдерживаете конкуренцию?
— Какую еще конкуренцию? — спросил кельнер. — На много ближайших кварталов мы единственное заведение общественного питания. Да и пиво с вяленым мясом думаете так легко достать?
— Ничего не понимаю, — ответил Отто. — Разве мало дистрибьюторов, желающих продать вам именно свой товар?
— Герр приехал из-за границы? — изумился кельнер. — Вы рассуждаете американскими понятиями. Дистрибьютор… Не был бы я человеком с высшим образованием и не крутился бы я в общепитовских кругах — даже не понял бы ваш жаргон! Какие уж дистрибьюторы в Рейхе? Мы же не сионисты, чтобы свободно торговать, да наживаться на трудящихся заламывая цены!
— Не вполне вас понимаю… — отозвался Отто.
— У нас вяленая свинина, да по праздникам говядина. Чего еще желать гражданину Рейха? Каждый работяга может себе позволить. Зато никто не голодает, как на Западе!
— Ладно, пусть будет по-вашему, — ответил Отто, не желая спорить со странным социалистом. — Где тут по близости продуктовый?
— Через квартал, туда прямо, — показал рукой кельнер.
— Спасибо, — ответил Отто и положил несколько евро на стойку.
— Это что? — показал на банкноты кельнер.
— Плата за еду и выпивку, — ответил Отто.
— Какие-то заграничные деньги? — прищурился кельнер.
— Какие же заграничные? Обычные евро.
— Еврейские то бишь?
— Чего? — не понял Отто.
— Ладно, я коллекционер, помогу человеку в трудной жизненной ситуации, приму ваши тугрики. Может они чего и стоят. Все равно у нас учет продуктов не ведется, а уж какие эти тугрики красивые то! Разноцветные! Так и быть, но в будущем приходите с нормальными деньгами! И не вздумайте меня заложить в полиции за иностранную валюту!
Кельнер грозно посмотрел на Отто и тот вышел на улицу. Продуктовый магазин действительно был поблизости. На входе стояли люди, сурово провожающие взглядом нового посетителя, входящего внутрь. Внутри магазина царила гнетущая своею убогостью пустота. Ни оформления, ни содержания у магазина не было. Серые стены, стеклянные полки и холодильники, стоящие здесь в изобилии… пустовали. В них лежала колбаса одного вида, все то же вяленое мясо, молоко одной фирмы, а на полках стояло пиво с названием «Sieg».
— Зачем же столько холодильников, если они пусты? — спросил Отто продавщицу в синей форме и белом фартуке.
— Как зачем? — насупилась она. — Потому что у нас в Рейхе изобилие всего!
— Где же изобилие, если они пусты?
— Изобилие полок и холодильников! Гордость нашей мебельной и технической промышленности! — ответила она, важно подняв подбородок. — А что вам еще нужно? Полки — есть. Холодильники — есть. Значит и ракеты, и танки можем себе позволить!
— А как же еда? — осторожно осведомился Отто.
— А что еда? Еда — вот она, — продавщица указала на молоко, колбасу и мясо.
— Как-то пустовато…
— А куда вам больше? На всех пока хватало. С голода не помрем. Ну хватит лясы точить, у меня покупатель!
К кассе подошел плюгавый мужичок, попросил отрезать ему полкило колбасы и дать литр молока. Продавщица, со всей серьезностью возложенной на нее задачи, будто бы она решает судьбы человечества, отрезала колбасы, достала из-под прилавка пакет молока и поставила на кассу перед мужичком.
— Три рулона, — сказала она.
— Ровно три? — изумился мужичок, повеселев от какого-то невиданного каламбура или совпадения, и достал из кожаного портфеля три рулона дешевой жесткой однослойной туалетной бумаги. Он передал их продавщице, взял свою снедь и ушел восвояси.
— Вы меняете туалетную бумагу на еду? — спросил у нее Отто.
— Вы больной или кто? — продавщица с недоверием на него посмотрела. — А на что мне еще ее менять?
— На деньги… — осмелился Отто.
— На какие? На валюту иностранную? Вы меня под лагерь хотите подвести или что? Я на сионистскую валюту не меняю, не надо мне тут! Или покупайте за бумагу, или проваливайте! — крикнула она.
Отто быстро ретировался и вернулся к себе домой.
Глава 3
Дома Отто застал того самого сального рабочего видом из ГДР, который дружелюбно общался с ним накануне в коридоре.
— Герр…
— Герр Крузе, — представился рабочий. — Альберт Крузе, к вашим услугам.
— Герр Крузе… приятно познакомиться, но что, позвольте спросить, вы делаете у меня дома?
— О, разве это ваш дом? Осмелюсь предположить, герр Штоссе, что это общий многоквартирный дом, принадлежащий всем его жильцам.
— Да, так оно и есть. Но квартира то моя.
— Позвольте! Национал-социализм на то и национал-социализм. Мы с вами одной нации? Одной! Члены одного социума? Одного! Так что же может быть тут ваше, что не может быть мое? Ведь вы же не скажете, что ваше тело — это ваше тело, но ваша почка, или, скажем, печень, — это уже чье-то иное? Если это часть чего-то общего, то и его составные части тоже часть этого общего.
Шум за дверью усилился и послышались хлопки закрывающихся дверей. Отто выбежал в коридор, дружелюбные люди все так же играли в тир. У лифта стояла женщина с собаками, вышедшая из коридора напротив. Собаки мочились на стену у лифта, а женщина весело на это смотрела. Увидев Отто, она дружески помахала ему рукой. Такая невозмутимая любезность смутила Отто.
— Добрый день, фрау. Что это вы делаете?
— Выгуливаю моих детишек, — указала женщина на собак, умильно улыбаясь.
— Но почему вы их выгуливаете здесь?
— Это потому, что умер мой муж. Раньше он сам их выгуливал, а теперь приходится мне.
— Соболезную, фрау, но…
— Все этот треклятый алкоголь… Он умер из-за алкоголя.
— Он много пил?
— Нет, отнюдь! Просто нес тяжелые сумки с бутылками пива. И умер по дороге от сердечного приступа.
«Бред какой-то» — подумал Отто и вернулся к себе.
— Что там стряслось? — спросил незваный гость.
— Какая-то женщина выгуливает собак прямо у лифта. Говорит, это из-за того, что умер муж.
— А, да. Бедный герр Шнайдер… Такой молодой и все из-за пива…
— Но почему собаки мочатся у лифта?
— Кто их разберет? Это же собаки.
— Но у них есть хозяйка!
— Да, есть. И она тоже владеет общедомовым имуществом. Я же говорил вам про национал-социализм.
— Вы все говорите про национал-социализм. Но какое, позвольте, отношение имеет это все к национал-социализму, побежденному много лет назад?
— Но национал-социализм непобедим! — ответил герр Крузе и разразился эмоциональной тирадой. — Мы победили во Второй мировой войне, захватили французов, потом всю Европу, затем и русских, высадились на Британских островах, подчинив себе всю Британскую Империю, склонили Соединенные Штаты к сепаратному миру… Мы властелины Восточного полушария нашей планеты! Западное полушарие может и живет сытнее, да только духовно они слабы! Сионизм их подчинил и развращает, превращая в рабов, тупых животных, живущих исключительно потребительством, эгоистическими намерениями. Они не общество, они стая! Кто же захочет жить в стае, исключительно ради личной выгоды, да набивания брюха?
— Не подпитывает ли желудок дух? Сложный вопрос, — ответил Отто. — С пустым желудком люди мало думают о высоком. Но что-то не очень я понимаю вашу историю… Впрочем, я вообще мало что понимаю. Я насмотрелся на все, что было за пределами лифта и уже готов поклясться, что попал в иную реальность.
— Реальность всегда иная, — ответил герр Крузе. — Реальность есть лишь в голове, а голова у каждого на плечах своя.
— Вы льстите большинству людей, герр Крузе…
— Зовите меня Альберт.
— Альберт… Как правило реальность у большинства из нас одна, как и голова у нас одна, привинченная нам еще в детстве по государственным стандартам прикручивания голов, утвержденном в каком-то министерстве.
— Было бы славно, герр Штоссе, было бы славно…
— Зовите меня Отто… А чем же славно?
— Тем, что просто. В жизни и так слишком много сложностей.
— Тут вы правы, Альберт. Но простота не всегда ведет к блаженству.
— Тут не соглашусь, Отто. Взгляните на мои одеяния. Я не философ и не писатель, а тем более не тонко мыслящий художник, не буду даже строить из себя оного. Я простой человек. Простая колбаса, простое молоко, простое пиво с названием, вселяющим гордость в простое и маленькое сердце такого простого человека, как я — вот блаженство. Маленькие люди имеют маленькие мысли и думают мелкими категориями. Муравей не видит дальше своей палочки, которую держит у себя в руках. Маленьким людям нужны мелкие мысли, простые понятия, доступные нашему мелкому уму. У нас нет времени и образования на что-то выше. «Высшее образование», «высокий дух», «высокая мораль» — все это для высоких, «высшего света». К счастью, мы давно избавились от этого в нашей Национал-социалистической РАБОЧЕЙ партии Германии. Работа, армия, служение Рейху и фюреру, спорт, размножение — вот наши обязанности и наши потоки мыслительных процессов. Остальное оставим для интеллектуалов из Министерства пропаганды. Они тоже нужны! Такие люди, как доктор Геббельс! Слабые физически, но сильные умом! Их меньше ценят, но они тоже важны!
— Но разве вас устраивает в жизни мелкое?
— Большинство оно устраивает, ибо большинство и не способно на большее. Подумайте сами. Наш главный праздник — День победы. А когда она была эта победа? Над кем? Большинство из нас и сами уже не помнят. Но Победа для нас святое. Мы чувствуем себя значимыми, великими, высокими. Мы победили! Не важно, что не мы и не важно, что мы не помним когда и кого. Важно само чувство! Этот день… мы ждем его весь год. Ради него мы трудимся и носим знамена. Мы гордимся своим народом.
— Но ведь каждый из вас не сделал для этой победы ровным счетом ничего. И даже не особо знает в чем она заключалась.
— Это не важно. Важно, что каждый маленький человек в этот день чувствует себя частью великого огромного единого целого — нации. Великой победоносной нации. Пусть всего шестеренкой в механизме, но зато в каком механизме! Это дает нам смысл в жизни. Мы не думаем глобальными историческими сентенциями, глобальными мировыми проблемами, истоками и последствиями, мы думаем своими мелкими жизнями и историями, которые имеют прямое непосредственное отношение к событию. Мы думаем о наших прадедах, сражающихся и погибающих за фюрера, мы думаем о наших семьях, перенесших тяготы войны, мы не думаем о геополитике, о том, кто был прав, кто виноват, кто начал войну, чью территорию мы заняли, что справедливо и что нет, в глобальном общечеловеческом смысле. Мы думаем о наших личных проблемах и нашей личной победе, и нашей личной семейной трагедии, коснувшейся наших предков. Остальное удел философов и историков.
Отто прошел по комнате несколько шагов.
— Альберт… — сказал Отто серьезно. — Я думаю вы знаете и понимаете гораздо больше, чем хотите показать. Вы сами не относитесь к мелким людям, о которых говорите. Я понял это по вашему словарному запасу и мыслям, которые вы излагаете.
— Тсссс, — Альберт притянул указательный палец к губам. — Я получил образование историка, но кому это нужно? Работаю простым помощником инженера. Образование можно получить любое — у нас же свобода. Но работать можно лишь технарем, либо его мало востребованным помощником. Никому в Рейхе не нужны рассуждения и философствования. У нас есть утвержденные правительством философы, историки, композиторы — Ницше, Геббельс, Вагнер… Вносить сумятицу в умы — дело государственно разлагающее. Учитесь на кого хотите, читайте любые книги, что не сожгли, но Рейху нужны технари, Рейху нужны холодильники, нужны полки, нужны ракеты, танки и автоматы. Нам нужны противолодочные средства, береговые укрепления, ведь мы мирная страна. Нам нужно защищаться от семито-американцев, мы не строим линкоры и фрегаты. Мы строим береговые укрепления и подлодки, чтобы защититься от врага и топить его коммерческий флот. Так нам говорят. Они хотят захватить наши ресурсы и продвинуть свою идеологию потребления, капиталистической эксплуатации трудящихся, где каждому ослу дают свою морковку, каждому хомячку свое колесо, лишь бы они крутили его во благо зажравшихся семито-капиталистов.
— Но что вы скажете на то, что «зажравшиеся семито-капиталисты», безусловно, зажирающиеся, еще и дают их «рабам» огромное количество видов и килограммов колбасы, сыра, молока, хлеба, а туалетная бумага лишь дешевый товар, а не валюта? Ее в избытке. Женщины пользуются не ватой, а гигиеническими прокладками? Магазины полны всеразличных товаров?
— Скажу, что все это ложь. А если и не ложь, то уж точно развращающая духовно материальная наживка для малоимущей рыбы, желающей попасть на крючок семито-капиталистических рыбаков.
— Так уж страшна наживка, если она вкусна?
— Она еще и проткнет вашу щеку крюком.
— Лучше брать за щеку у иных хозяев?
— Не будьте пошлы, вы выше этого. Лучше выпейте еще пива.
— Я хочу вина.
— Вина у нас не было много десятилетий. Виноградники занимают много места и с ними много мороки.
— Позвольте, — сказал хитро Отто и открыл ящик своего шкафа. Он не знал увидит ли он там свои привычные вещи, или же иная реальность уже твердо вплелась и в его жилище. Но, к своему удовольствию, он обнаружил в шкафу то, что ожидал. Отличный рейнвейн, припасенный им на лучший день. — Прошу вас.
Отто разлил рейнвейн под феерически изумленный вид Альберта в бокалы и предложил один из бокалов ему.
— Отто… — Альберт не знал, что сказать — Мы с вами договоримся!
Новоявленные товарищи выпили по бокалу.
— Вы ни дать, ни взять, подпольный миллионер! — Альберт был скорее доволен, чем удивлен.
— Отнюдь, — отвечал Отто. — Всего-навсего старые запасы.
— Старые? — отвечал Альберт — Скорее старинные! У нас не было вина с 1980х годов!
— А какой год сейчас, дружище? — спросил осторожно Отто. — А то я слишком много выпил…
— Ясное дело, 2024…
— Ну да, ясное дело… — ответил Отто, отмечая, что год его друг назвал верный, однако… однако, все вокруг был совершенно иным…
— Так, а когда мы победили в войне то?
— Ну, ясное дело… В 1949, я, как человек образованный, уж точно знаю, но мало кто в наше время… Да и не нужно…
— Ясное дело, кому это нужно… — ответил Отто, делая вид, что все понимает без слов.
— Хороший ты парень, Отто, — ответил Альберт, как и каждый пьяный, с кем предпочитает не спорить его собеседник. — Как ты думаешь? Что лучше? Вино или религия?
— Думаю, что нет разницы. Они одинаково хороши и одинаково редки в наше время.
— Верно, — ответил Альберт. — Они одно. Ведь фантазия о вселюбящим боге, рае, вечной жизни — это тоже, что вино. Только бьет оно не по печени, а по мозгу.
— Я заметил, что современная архитектура похожа на футуристичные протестантские церкви в Исландии… У нас много церквей?
— О, церквей достаточно. И протестантских, и католических. И икон там полно… Святой Адольф, Святой Йозеф, Святой Герман… Но все же наши дома не похожи на церкви. Церкви просторные и с большими залами, дворами, в церквях мы поем гимны, тренируемся в строевой подготовке и занимаемся спортом. А дома наши лишь укрепленные железобетонные многоэтажки, защищенные от вражеских бомб. Вот и все, друг.
— Почему ты такой дружелюбный, как и твои друзья? — спросил его Отто.
— Дружелюбность или грубость — тоже вещи субъективные. Это я узнал на курсе философии. Одни воспринимают грубость за дружеское расположение, другие за отсутствие такта. Одни воспринимают дружелюбность за фальшь и ложь, другие за хорошие манеры. Философия учит не воспринимать все однозначно. Все имеет свой вид, в зависимости от ракурса, с которого ты смотришь. Тут философия близка к оптике. Не все могут посмотреть так широкоугольно, не у всех хватает разума взглянуть шире, как бактерия в сыре не сможет подумать о том, что ее Земля — порождение коровы, которой она никогда в жизни не видела.
— Но все же? — не унимался Отто. — Почему одни такие любезные, как ты и твои друзья в тире, а другие такие грубые, как продавщица в продуктовом?
— Пойми, ты не должен на них сердиться. Есть две Германии: старая и новая. Есть люди старой закалки, они грубы, прямолинейны и говорят, что думают, они не скрывают своих чувств. И есть новые люди, которые любезно себя ведут, они дружелюбны, как требуют правила современности.
— А если ли между ними разница внутри?
— Не думаю. Внутри все одно. Ты видел когда-то внутренности города?
— Не приходилось.
— По улицам ходит разная публика. И то, по чему она ходит совсем разное. Но будь то красивые ровные улочки для пешеходов в благополучных районах, или же разбитые дороги в промышленном секторе — под ними все одно: грязные зловонные трубы канализации и ливневых стоков, редко прочищаемые, кишащие заразными бактериями и грязными уличными крысами. Думаете бактериям и крысам есть дело до того, под чьей улицей они живут? Под богатой благопристойной аллеей пригородных домов партайгеноссе или под грязными проездами рабочих кварталов? Они скорее даже будут жить под богатыми улицами, полными хорошей еды в своих стоках, но вы никогда их там не увидите…
— Никогда не увидим… — вторил Отто.
— То-то и оно, — гордо подтвердил Альберт. — Мы не видим нутро этих поверхностно благопристойных людей, с их выхолощенными дежурными улыбками, стоящими на страже статуса их кварталов.
— Мне кажется, с тебя хватит, — сказал Отто и убрал бутылку.
Уже смеркалось. За окном зажглись огни. Альберт поджег несколько свечей, чтобы в комнате стало светлее.
— Огонь — прекрасное дело, — сказал Альберт. — Когда горит свеча — кажется, что в будущем нас ждет что-то великое.
— Нам не нужно великое, чтобы получить чего-то прекрасное, — твердо ответил Отто, посмотрев ему в глаза. — Великое — отнюдь не означает прекрасное. Прекрасное часто бывает очень мелким и незначительным. А великое мрачным и гнетущим, вселяющим ужас и печаль.
— Однако, свеча вселяет надежду… Надежду, что будет что-то большее…
— Ничего большего не будет, Альберт. Не жди. Если ты хочешь чего-то большего, то сделай это сам. Сотвори великое, но прошу, не твори ужасное. Лучше сделай мелкое, но приятное, чем великий и ужасный монумент смерти и отдачи своей жизни чему-то большему, ведь нет ничего больше, чем жизнь. Жизнь — это все, что у нас есть, остальное риторика и семантика, они выгодны лишь Рейху.
Отто постепенно, следуя за алкогольными парами, стал вливаться в лексику этой реальности.
— Я согласен, Отто, как прикажешь. Но не трогай Рейх. Он чист и свеж, как утренняя роса. У нас во главе всего порядок: поэтому у нас так чисты улицы и так геометрически ровны города. Только порядок, наш Великий Ordnung и поддерживает партия. Вкусно пожрать хотят все, но еды, пусть и однообразной, хватает на всех. Все это ради чего ты думаешь?
— Ради Родины?
— Дурак! Ради мороженого! Оно у нас лучшее в мире! Правда, его нет. Сельское хозяйство в упадке, виной тому семито-американцы. Мы, в свое время, делали много зерна и еще больше свинца, но эти евреи-капиталисты все это пожрали…
— Зерно или свинец?
— И то, и другое. Говорю тебе, как историк.
— А как же у них зубы не поломались?
— Эти их капиталистические технологии… Только и думают о том, как бы сохранить свои белые ровные зубы, чтобы увлечь немецких фройляйн…
— Допустим… причем тут мороженое?
— Ну так они пожрали все, из чего его делают…
— Из свинца и зерна? Но разве у нас не полно пива и снарядов?
— Это уже спасибо партии! Но пожрали они все. Осталось лишь на пиво, да снаряды, а на удовольствие для народа… Ну тут извините, защищаемся как можем! Мороженое у нас выдают на праздник регулярно!
— Когда же?
— Ну на День победы, известное дело! Пусть у нас нет изобилия, пусть нет средств гигиены, пусть нет сыра с плесенью и вина, зато каждый год, в День победы, мы получаем по карточкам совершенно бесплатно лучшее в мире и самое вкусное мороженое! Могут ли эти капиталистические граждане похвастаться бесплатным мороженым, спрашиваю я вас?
— Вряд ли, — честно ответил Отто. — Но мне доподлинно известно, что они могут его купить в любой день в году.
— Купить… — презрительно ответил Альберт, затянувшись папиросой. — Эдак никакой туалетной бумаги не хватит. Да и большое дело купить… никакого удовольствия нет, когда можешь получить что угодно в любой момент. Дефицит — вот двигатель наслаждения! Вот то, что заставляет ценить вещи, понимать, что это ВЕЩЬ. А если можно получить что хочешь и когда хочешь, то смысл в этом вообще? Как пакет молока взять за рулон.
Глава 4
Отто думал куда ему пойти и чем заняться дальше. Был уже вечер, свечи догорали, оставляя все мысли о надежде тлеть и превращаться в тягучий воск, затвердевая и застывая на веки вечные. Он пришел в уже знакомый бар, прихватив с собой пару рулонов туалетной бумаги из туалета, оставшиеся из его капиталистической реальности, где они не стояли ничего. Кельнер налил ему пива, за неимением иного. В баре вечером сидело много посетителей с кастрюлями на головах, окончивших свой трудовой день, собирая ракеты, дула и патроны для обеспечения безопасности Рейха. На стене висели часы, которые как будто плавились, растекаясь, хотя было совсем не жарко. Выпивая пиво, Отто обратился к кельнеру.
— Как тебя зовут?
— Франц, — ответил кельнер нехотя.
— Франц, — продолжил Отто, — из чего вообще делают это мясо, не знаешь? Это чистый окорок или туда что-то еще намешивают?
— Шутник вы, герр. Скажете тоже, окорок! Мы же не члены правительства. Но свиные анусы тоже неплохи.
— Так уж ли?
— Но вы же едите! — кивнул кельнер на вяленое мясо в руке Отто.
Отто поморщился, впрочем, продолжил есть.
— И вот за это сражались наши предки и мы готовы умереть? — спросил он кельнера.
— Мы были сильнейшие, а значит лучшие. Мы побеждали всегда и везде.
— И в Первой мировой?
— Вы говорите о войне, когда на нас напала Бельгия, а за ней и весь мир? Нас поработили, но потом мы обрели свободу.
— Свободу или…
— О чем вы, герр?
— Ни о чем. Вы правда думаете, что лучше победа, чем свобода?
— Победа и есть свобода.
— Свобода — понятие относительное, впрочем, как и все. Иногда свобода от иноземцев означает отсутствие свободы любой иной. И наоборот.
— Я не понимаю вас, герр.
— Этого и не следует, — ответил Отто.
— А что вы думаете об истинной свободе? — спросила его девушка с черными короткими волосами, в открытом вечернем платье, сидящая по соседству. Впрочем, Отто заметил, что все платья у всех девушек, как и все брюки и рубашки у мужчин, были одинаковыми. Однако, кастрюли на голове девушки не было.
— Я думаю, что ее нет, — честно сказал Отто.
— Поясните. И поясните так, будто бы вы над всеми нами. Над нашей планетой, реальностью, над всем тем, что мы зовем незыблемым, неоспоримым.
— Хорошо, — такой подход Отто нравился, — если говорить будто бы ничего сущего нет, то я скажу открыто. По сути, открыто говорить можно только лишь подразумевая, что нет ничего сущего, ничего настоящего, никакой «объективной» реальности, иначе тебя осудят те судьи, которые стоят на страже этой «объективной» общепринятой реальности, поддерживаемые широчайшими людскими массами добропорядочных горожан, создающих основы социума и суть того, что принято считать моралью.
— Мораль не имеет ничего общего с нравственностью, — ответила фройляйн лукаво.
— Именно, — подтвердил немного пьяный Отто. — Позвольте мне говорить так, как будто я сумасшедший, как будто я из иной реальности, хоть и из того же 2024 года.
— Позволяю.
— Европа ренессанса… прекрасные дворцы, соборы, потом glory Европа — блистательная, славная Европа, в сверкающих шлемах, саблях, мушкетах… Да, были жестокости, но нужно делать скидку на жестокость того времени. Вы были жестоки к евреям, когда-то люди были жестоки к неандертальцам, к гомосексуалистам, Оскар Уайльд погиб на каторге… и что? Это было справедливо? Вы скажете не «на», а «после»? Есть ли разница? Ошибки есть всегда, начнем их признавать, то не страшно и не постыдно. Стыдно их не признать! Потом рыночная экономика, капитализм, выборная демократия, борьба с людоедскими режимами тотальной тирании нацистов и коммунистов.
— Говорите тише…
— Россия опьянена этой свободой в 1990-х годах, сошла от нее с ума, ибо легко сойти с ума от пьянящей разум свободы. Но это был закат империи. Не российской, о нет, ее закат был давно, как и британской, просто они это не поняли… Это был закат англо-саксонской империи, с чем они не могли смириться. Первый чернокожий президент. Нет ничего плохого в том, что у кого-то темнее кожа, у кого-то светлее… Но история не живет по законам политкорректности, империя не терпит толерантности. Жизнь живет свою жизнь не по законам человеческой изменчивой морали, а по практическим понятиям реальности. В ней все связано — меняется одна деталь, за ней меняется все. Эффект бабочки. Англо-саксонская империя слишком легко сдалась, а с ней и европейские континентальные колониальные империи, отдавшие свои колонии во благо общего мира и самоопределения народов, которые стали жить независимо и намного более бедно, чем при власти метрополии. Стоит только посмотреть на Индию или ЮАР, где после гуманистических мирных (и немного террористических) актов Ганди и Манделы воцарилась нищета, преступность и гражданские войны с массовыми убийствами.
— Не слышала пока что вашей версии истории, — ответила черноволосая фройляйн. — Все, что слышала я, так это полный Ordnung нашей империи в колониях и метрополии. Полный порядок и ноль терроризма.
— Охотно верю, — ответил Отто. — Полный порядок вкупе с дефицитом колбасы и туалетной бумаги… Одно меняем на другое… А впрочем не важно. Забыл представиться. Отто Штоссе.
— Герда Гребер, — представилась фройляйн, изящно протянув ручку. — Знаете, я совсем не люблю пиво. Но это все, что есть. И я научилась получать удовольствие от того, что имею. Это и есть мудрость.
— Что же вы любите?
— Я люблю море, но какой в этом толк? В чем смысл моря? Мы смотрим на море, затыкая уши наушниками, вместо того чтобы слушать мелодию волн…
— Можно не затыкать уши.
— Для большинства людей это невозможно. Давящая тишина указывает им на отсутствие в голове мыслей.
— Почему же у них нет мыслей?
— В этом им отлично помогают кастрюли.
С каждым новым часом часы на стене бара таяли и их, казалось бы, сделанный из воска материал капал на пол. Люди с кастрюлями на голове подбегали и жадно ловили ртом каждую каплю, будто бы от этого зависела их жизнь.
— А я люблю острую пищу, но здесь одно вяленое мясо… — сказал Отто, глядя на эту картину.
— О, это не проблема. В жизни и так много остроты, но порождает она, как правило, изжогу. А вот соли в ней всегда не хватает.
— И в чем соль жизни?
— Возможно, в ее отсутствии. Просто это надо вовремя понять.
— Пожалуй, мне пора. Не знаете, сколько с меня рулонов за пиво и мясо?
— О, одного рулона будет достаточно. В действительности, тут и на рулон то не набежало.
— Тогда может отмотать пару метров и все?
— Ах, раньше так и было! Но с тех пор, как провели эту деноминацию, метрами мы бумагу больше не отмеряем. Либо рулон, либо два… Да, так проще, но стало дороже жить… С другой стороны, власти говорят, что это от того, что теперь у нас нет дефицита и бумага стала куда доступнее.
— И правда, все меняется к лучшему…
— А как же иначе…
Отто положил рулон на стойку и вышел из бара.
Был вечер, но еще светло. Небо было серое, улицы мрачные и пустые. Редко проходящие мимо прохожие грозно посматривали на Отто и провожали его недоброжелательными взглядами. Ему стало неуютно, и он запахнул сильнее свой домашний халат, спасаясь от мрачных глаз и вечерней промозглости. Вдруг он осознал абсурдность происходящего. Почему он находится в общественном месте в домашнем халате? До этого ему даже не приходило это в голову. Отто моментально почувствовал себя обнаженным перед взглядами людей и ему захотелось поскорее скрыться. Ускорив свой шаг, он засеменил в сторону дома. Темная серая туча плыла за ним по пятам. Он ускорял и ускорял свой шаг, однако, туча была быстрее и настигала его метр за метром. Ветер усиливался и с каждым его новым порывом, более могучим, чем прежний, люди на улице смотрели все озлобленнее, и все более и более явно ему в лицо. Людей становилось все больше, их лица исчезали, стирались, превращаясь в черепа, а на безликих черепах горели глаза, взгляды которых были теперь устремлены отчетливо на Отто. Он уже практически бежал. На бегу он столкнулся лицом к лицу со старым, неопрятного вида, человеком в засаленном костюме и шляпе. «Ты здесь лишний» — прохрипел старик ему прямо в лицо и Отто почувствовал, как воздух из рта старика с запахом перегара обдул его щеки и губы. Старик что-то знал, он знал больше других, ведь на его голове была шляпа. Чем ближе он подходил к дому, тем больше становилось на улице людей, тем злее они были, и тем чернее становилось небо. У самого входа в дом Отто уже протискивался сквозь толпу, но все-таки вошел внутрь, с отвращением поймал двумя пальцами таракана и просунул его в отверстие в дверях лифта.
Глава 5
На его этаже картина была все той же, но царило какое-то совершенно иное настроение. Люди сновали из квартиры в квартиру, переговаривались, курили на лестничной клетке и все так же играли в тир. Но дружелюбия их как не бывало. Мрачны и угрюмы, они нервно покуривали папиросы, недовольно зыркая на Отто. Людей на этаже становилось меньше, а тараканов все больше. Как будто, по прошествии времени, они постепенно заменяют собой жильцов. Он прошел в свою квартиру, где неизменно сидел за его столом Альберт и медленно потягивал из бокала рейнвейн. За окном сверкнула молния, началась гроза.
— Все пьешь мое вино? — спросил его Отто, подсев к нему за столик, на котором догорала зажженная свеча.
— А что еще остается? Гроза.
— Гроза — не всегда плохо. В детстве я любил бегать по полю во время грозы. Дождь льет в лицо, ты уже весь мокрый, а над полем сверкают во все небо молнии… Страшное и потрясающее зрелище… Понимаешь, насколько ты мелкий и насколько ничтожно все человечество пред лицом стихии. Мы можем построить ракеты, но что они сделают против молнии, против цунами, наводнения или взрыва нашей звезды?
— На поле в грозу быть опасно.
— Не опаснее, чем говорить то, что думаешь. При любом строе, в любой стране.
— Если думаешь так, как надо, то ничего опасного в этом нет.
— Альберт… я не могу понять… Как ты можешь поддерживать нынешний строй, когда ты так много знаешь и так здраво мыслишь?
— А кто сказал, что я его поддерживаю? Поддерживать и оправдывать — разные вещи, Отто. Поддерживаем мы тогда, когда мы во что-то верим. Оправдываем, когда нам ничего иного не остается, чтобы не сойти с ума. Кто-то и правда верит, знания и ум — тоже вещи разные и совсем необязательно перекликающиеся. Но тот, кто оправдывает, тот лишь ищет пути избежать безумия.
— Зачем тебе свеча, если есть электричество? — Отто налил себе бокал, чтобы выпить за компанию.
— Электричество для них, — Альберт кивнул в сторону окна. — Посмотри на все эти дома напротив. У них у всех есть электричество. А у меня свеча.
— Но разве они не более счастливы со своим электричеством, чем ты со своей свечой в кромешной тьме?
— Ты знаешь мое отношение к технарям, Отто. У них есть технологии, их комнаты наполнены электрическим светом, они думают, что живут на свету. Но на самом деле их свет ненастоящий. Нет, не настоящий. Они думают, что все видят и все знают, но на самом деле вокруг тьма. А огонь — это истинный свет.
— Но ты сидишь в темноте…
— Зато я ее вижу. Я знаю где свет, а где тьма. И когда настанет рассвет — я его увижу. Увидят ли они его за своими шторами, со своими лампами?
— Им хорошо и при электрическом свете.
— Потому то им и нечего ждать. Они и не ждут. У них уже есть все, что им нужно, а точнее… все, что у них есть — это все, что нужно для них. По крайней мере, так они думают. Если бы у них была одна лампа на весь дом, то они считали бы это величайшим счастьем и прогрессом, на который способно человечество. А у меня есть свеча.
— Но для тебя она не счастье?
— О, нет. Совсем нет. Свеча — лишь надежда на рассвет. Я знаю, что я вижу то, что вижу. А когда взойдет солнце — вот тогда и будет счастье. Зато я себя не обманываю.
— Ты много читал и много учился. И отнюдь не считать дроби. Не суди их строго. Они видят кнопку, видят бег электронов и им этого достаточно. Дальше они не думают. Потому они и счастливы. Они не ждут. Они живут тем, что есть. А чего нет — того нет.
— В этом и разница. Потому они и счастливы…
— А что лучше? Счастье или надежда?
— Знаешь, Отто. Ты настоящий немец, раз спрашиваешь такое. И я тоже. А кто они?
— У них нет национальности. Они просто люди. Не осуждай их.
— Не осуждаю. Не все немцы Гете. Большинство из нас обычные вымуштрованные пруссаки.
— Если бы все были Гете, то никто не был бы Гете. Грош ему была бы тогда цена. А еще никто бы не делал работу маленьких людей и многие сводили бы счеты с жизнью.
— Да, так наш вид бы не выжил. Но я все же отвечу на твой вопрос. Мы не выбираем между надеждой и счастьем. Просто кому-то из нас дается одно, а кому-то другое. Есть и те, кому не далось ничего. Они долго не живут.
— Значит для нас еще не все потеряно.
— Ох, Отто. Потеряно все и для всех. И уже давно. Но у тех, у кого горят лампы, есть их жизни и их работа. А у тех, у кого горят свечи… что ж, у нас есть вино!
— За это стоит выпить, — ответил Отто и поднял бокал.
— А знаешь сколько из тех жалких дефицитников променяли бы свою работу и жизнь на эту бутылку последнего в Германии вина?
— Тем лучше для нас. Мы бы не променяли наше вино на их жизнь и работу.
— Это верно, потому то у нас еще не потухла свеча.
Вечер клонился к ночи. Лампы потухли, но у историка все еще горела свеча на столе. Казалось бы, откуда у него свеча? Он так много знает, включил бы электричество, как все! Но именно у него горела свеча.
Отто проснулся от шума в своем неизменном халате на собственной кровати. Под столом храпел Альберт. Отто запахнул халат, умыл лицо и вышел в коридор. Недружелюбно настроенные люди с папиросами в зубах стреляли из пневматических пистолетов по стенам.
— Что это вы делаете? — грозно осведомился Отто. — Это вообще-то общедомовая собственность.
— А тебе какое дело? — спросил его работяга, злобно оскалившись.
— Такое, что я тут живу.
— Не ты один тут живешь, уважай права других! — работяга продолжил дырявить пульками стены.
— Ну знаете… — Отто яростно развернулся и захлопнул свою дверь.
— Что стряслось? — Альберт как раз поднялся из-под стола и протирал спросонья глаза.
— Вчера, значит, эти люди были вполне дружелюбны, а сегодня они хамят и дырявят стены… — ответил ему Отто.
— Ясное дело, — продрал глаза Альберт. — Это же и их собственность. Чем дольше человек чем-либо владеет — тем больше он там хозяйничает и начинает проявлять свою натуру. Мало кто будет так сразу показывать всю свою изнанку, как правило, люди поначалу придерживаются видимых правил приличия, а потом уж…
— Но это же вандализм…
— Вандалы тоже были германским народом. И славным завоевателем. Они же покорили Рим, прежде чем его разорить — ответил историк — У нас это считается добродетелью. Если ты силен и смел — ты достойный сын Рейха. Интеллигентство не для социалистов, оно для слабых. Это евреи, да французы любят все это политесы. Потому что нет сил дать в морду.
— Вчера утром все эти люди казались мне вполне доброжелательными…
— Они такими и были! Но чем больше ты показываешь свое нутро, тем больше ты указываешь им, что ты не такой, как они. Такое терпеть никто не будет, это вызывает непонимание и зависть, а следовательно ярость. Не жди, что люди будут с тобой любезны, если ты не такой, как они. Дай им только время это понять.
— К тебе они тоже агрессивно настроены?
— Ты что? Я же не дурак, вроде тебя! Если бы я дал хоть одной вше понять, что я не такой же, как она, так она бы уже давно меня зажрала. Надо уметь молчать и играть свою роль!
— Я не актер.
— Как будто я актер! Но жить то хочется, а нервы трепать не особо. Ты же все равно ничего не изменишь.
— Если так будут думать все, то ничего никогда и не изменится.
— А если не все, то все равно не изменится. Результат один. Пусти льва в яму с тысячей голодных крыс и от него останутся одни кости. Нужны годы опыта чтобы это осознать.
— Пожалуй, оставлю это для актеров, сидящих вечерами с одной свечкой и бутылкой рейнвейна.
— Как знаешь, Отто, как знаешь…
Отто снова вышел из квартиры и подошел к работяге, крайне увлеченному стрельбой по стене коридора.
— Дружище, — деланно дружелюбно обратился к нему Отто. — Ну зачем же портить стены? Разве вам самим не хочется жить в красивом подъезде?
Работяга сердито посмотрел на Отто и презрительно ответил: «Хочешь жить в красоте — наводи ее у себя в хате. А это общественное место. Что хочу в нем, то и делаю».
Отто вышел из дома и пошел по улицам города куда глаза глядят. Наткнувшись на небольшой сквер, он сел на лавочку в окружении деревьев и клумб. Он размышлял обо всем, что с ним произошло в ближайшие дни и как удивительно было заснуть в ФРГ, а проснуться в Третьем Рейхе. Спустя несколько минут на лавочку села полная дама с маленьким ребенком, лет шести. Дама закурила и дым ее вонючей дешевой папиросы с названием «Sieg» ударил в нос Отто. Ребенок, с маленьким ковшиком на голове, заменяющим ему кастрюлю, кричал, шлепал по лужам и мокрой земле, оставшейся с ночной грозы. Кусочки грязи летели на пижамные брюки Отто, а пронзительный детский визг на высоких, граничащих с ультразвуком, тонах резал слух.
— Простите, пожалуйста, фрау… — обратился к даме Отто. — Я занял эту лавочку первым, к тому же вы курите мне прямо в лицо, а ваше милое дитя испачкало мою одежду… Не могли бы вы с этим что-то сделать?
Дама презрительно и свысока смерила взглядом халат и пижаму Отто, затянулась папиросой и хриплым голосом ответила: «Это общественное место. Хотите сидеть в одиночестве — сидите у себя дома». Дальше говорить было явно не о чем, Отто встал и пошел в сторону бара. В Германии, которую он знал, было бы совершенно невежливо нарушать личное пространство индивида, пусть даже без курения и непослушных детей. Как-то он отдыхал в Турции и заметил, что на Востоке иные порядки, более коллективные. Если ты лежишь на пляже один, а вокруг ни души, то турок, пришедший только что на пляж, ляжет не как немец, как можно дальше от тебя, а наоборот, вплотную к тебе. Вы будете лежать одни на пустом пляже, лицом к лицу, и турку такое соседство будет вселять спокойствие и защищенность, уверенность в своей сплоченности с прайдом. Или же он просто подумает, что иначе вы обидитесь, решив, что он лег от вас подальше, как от прокаженного? Кто поймет это коллективистское азиатское мышление? Или оно не азиатское? Раз немцы подверглись его влиянию, стоило им сменить идеологию с индивидуалистического капитализма на коллективистский социализм?
В баре за стойкой стоял все тот же кельнер, исполняющий роль бармена, за неимением коктейлей и чего-либо иного, кроме пива. На бутылках красовалось довольное улыбающееся лицо толстого бюргера. Отто заказал кружку лагера и сел за стойку. Рядом сидел уже поддатый старик, заросший щетиной. Взгляд старика был очень добрый, но на коже лица зияли каналы складок, говорящие о тяжелой жизни. Быть пьяным в такое время означало уже привычку, а не сиюминутную ситуативность. Кастрюля на голове старика была особенно толстой, старой, и на вид чугунной.
— Ваше здоровье, — поднял бокал Отто в направлении старика.
— Ваше здоровье, юноша, — старик воодушевленно поднял свою кружку, отпив залпом добрую половину.
— Не тяжело вам с такой чугунной кастрюлей? — спросил Отто.
— С годами привыкаешь. Вначале она была легкая, из алюминия, потом стала стальной, теперь чугунной. Укрепляет мышцы шеи, знаете ли… Могучая шея — символ крепкого мужественного германца.
— Видимо, как и сплющенная голова, — ответил Отто задумчиво. — Жаль, что от тяжести кастрюль, а не мыслей.
— Любите ли вы наше пиво? — спросил старик, не поняв, что тот имеет ввиду.
— Люблю, — честно ответил Отто. — Пиво превосходное, но в свое время я любил еще и вино.
— Вино… — протянул старик. — Было время алкоголь был настоящим… Чувствовался вкус винограда или пшеницы… Но! У нас есть хмель и ячмень, это тоже прекрасно!
— Конечно, прекрасно, — ответил Отто, помнив науку историка. — У нас все сейчас прекрасно.
— Все, да не все… — хитро прищурился старик. — Было многое и лучше… Но только при фюрере…
— При фюрере, да лучше? — удивился Отто, чувствуя, как ему становится некомфортно от доброжелательного собеседника, искренне расположенного к нему.
— А то! Вы, молодой человек, этого не помните, но поверьте старику. Сейчас все не то. Вам кажется, что сейчас блаженство, да и только? Но я помню времена много лучше нынешних!
— Куда уж лучше нынешних? — спросил Отто, впрочем, сарказма его собеседник не уловил.
— У нас было все! Сражения, победы, вино, пиво, шнапс! А кастрюли нам заменяли железные армейские каски! Я помню это все. Было трудно, но это было великое время!
— Не сомневаюсь, — вторил Отто, не желая спорить.
— Мы были великой нацией! А теперь? Ни тебе войны, ни тебе шнапса… гражданские кастрюли… Лучше сто раз умереть за фюрера, выпив бутылку вишневого шнапса, чем просиживать штаны на заводе, мастеря компрессоры для холодильников, которые всегда пусты…
— Сложно не согласиться.
— Вы хороший молодой человек… — расчувствовался старик, ощущая единение с собутыльником, якобы согласным с ним во всем. В старике чувствовалось одиночество, которое он охотно заполнял любым собеседником, готовым играть роль соглашающегося с ним, ощущая мнимое чувство идентичности, будто бы его личность продолжит жить в молодых после его смерти.
— Но не лучше ли было бы проиграть, чтобы жить в таком же достатке, как люди на Западе? — рискнул Отто.
— Проиграть? — старик насупился. — Ничто не лучше, чем проиграть! Мы, немцы, лучше землю будем жевать, но мы навсегда останемся народом-победителем!
— Да, конечно же… — пассивно ответил Отто, отпивая из кружки — Победа важнее сытой жизни…
— Да! — сказал гордо старик. — Ты такой же, как я. Есть ценности важнее рулонов!
— Тут я спорить не стану…
— Тебя ждет дома твоя фрау? — у старика уже заплетался язык.
— Меня ждет дома только пьяный историк, — искренне ответил Отто.
— Да, мы с тобой такие… — сказал старик, уже не особо отличая Отто от себя самого, приписав его личности свои черты и не сильно слушая что, собственно, говорит сам Отто. — У меня дома тоже жена, которая пилит и пилит меня своими историями, да нотациями. А старику хочется лишь выпить, да забыться.
— Тогда вам уже пора. Вы и так сегодня много выпили.
— Много я выпил вчера! Сегодня я лишь старался не потерять это чувство полета. Знаешь, в войну я был летчиком.
— Вы и сейчас летчик.
— Да, вольная птица. А все ж на аэродроме ждет командир в юбке… Да, при фюрере такого не было! После его смерти развели весь этот социализм! «Новое течение», «разоблачение фюрера»… Хочешь мое мнение? Просто эти крысы его боялись и боялись того, что сами они ничего не стоят! Вот и разоблачали его «преступления», жидам дали права, почти как у человека, социализм стали строить…
— Но разве социализм не часть названия национал-социализма?
— Названия, названия… Мы не за то сражались, чтобы жить как русские…
Старик икнул, допил последние капли из кружки, оставил пару рулонов на стойке и, шатаясь, ушел восвояси.
Глава 6
В коридоре дома работяги, играющие в тир, были уже без штанов и под шафе. Держа кружки пива одной рукой, а пистолет другой, они целились друг в друга, нанося отнюдь не тяжелые, но порой кровавые раны своим телам. Дверь одной из соседних квартир распахнулась и в коридор выкатилась тучная женщина с пучком на голове, лет сорока, впрочем, сложно назвать точный возраст полных людей. Полнота прибавляет двадцать лет в юности и убавляет столько же в старости. Женщина сердито взглянула на Отто, от нее пахло луком и чем-то кислым. «Ну, что жопу свою тут расставил, пройти людям не даешь!» — буркнула она на него басом, грубо оттолкнув своими огромными лапищами, испачканными в чем-то жирном, и, с пустой авоськой в руке, направилась к лифту ловить таракана. Отто быстрым шагом прошел в свою квартиру, абсолютно не удивившись, увидев там Альберта, пьющего мятный шнапс.
— Ты значит уже и по шкафам моим полазил? — спросил его весело Отто.
— А что оставалось? Вино то закончилось, — ответил Альберт пьяным голосом.
— Они там уже надрались и калечат друг друга, — Отто кивнул в сторону коридора.
— Еще один день, еще один прогресс, — ответил Альберт, наливая новую рюмку. — Прогресс человечества всегда один. Чем больше прогрессируем — тем больше регрессируем. Мы идем все дальше от обезьян, как учил Дарвин, но мы не знаем, что этот путь — есть круг, как учу я. Чем дальше мы от них — тем ближе мы к ним. Рим то ли, Греция ли… высший прогресс порождает упадок и высший регресс. Видимо, у нас есть какая-то планка, выше которой мы не прыгнем. Когда люди строили Вавилонскую башню, бог разделил их на множество языков. Этим и закончилось все строительство. Выше неба нам не достать. А мы и так достали. Придумали ультразвуковые ФАУ, а американцы и того пуще, высадились на Луну. А дальше что? А дальше все! Начали деградировать. Не достичь нам звезд, не тот полет. Мы прыгнули выше всех, а значит и упадем ниже всех. Я не физик, но, кажется, так все и устроено. Чем больше сила, тем больше и отдача. Видел ты когда-нибудь Маузер или САУ без отдачи? Насколько САУ мощнее Маузера — настолько у нее и мощнее отдача.
— А для чего тогда это все? Зачем им этот прогресс, от которого они несчастны? Зачем это развитие, ведущее к отдаче абсолютно противоположной ему?
— А ты еще не понял? Все ради мороженого!
— Мороженого?
— Самого вкусного в мире!
— Ну причем здесь опять твое мороженое?
— Оно самое лучшее в нашей стране. Пусть у нас нет гигиенических прокладок, туалетной бумаги, разнообразия колбас и сыров, но у нас есть вкуснейшее в мире мороженое!
— Только его нигде не достать.
— На Дне победы и при том совершенно бесплатно!
— У американцев оно тоже есть.
— Конечно есть! С растительными жирами и ароматизаторами. Это совсем не то!
— Думается мне, что за деньги там можно найти и натуральное…
— Может и можно. Но не такое, как в Рейхе! О, не такое, как в Рейхе! А еще от него нет прока…
— Как понять?
— Сильное ли удовольствие ты получаешь от пива и вяленого мяса? Думаю, нет. А они такое же получают от мороженого. Какой в нем толк, если они могут купить его в любой день? В чем его ценность? Зачем они вообще живут? Мы живем, зная, что в День победы, один раз в год, мы получим лучшее в своей жизни мороженое. А они что? Для чего они живут?
— Опять ты про свой дефицит… Может они живут чтобы получать удовольствие каждый день своей жизни?
— Пфф, — Альберт поморщился. — Разве это удовольствие, если ты получаешь его каждый день? Представь, что ты каждый день можешь иметь тысячи женщин. Сколько пройдет недель, прежде чем ты устанешь от этого и подашься в монахи?
— Зависит от темперамента. Впрочем, я тебя понял.
— Отто, пойми… Я не дурак. Я понимаю, что хочется всего и сразу… изобилия во всем… Но в том ли счастье? Или счастье в отсутствии всего, когда иногда ты можешь получить хоть что-то? Богач рад новой яхте, обеспеченный человек новой машине, средний класс радуется отпуску на море, бедняк вкусному обеду, а нищий корке хлеба… Думаешь нищий со своей коркой хлеба менее счастлив, чем богач с очередной яхтой?
— Думаю, что более, Альберт…
— Именно, что более… А представь, что нищий получит вкусный обед… ведь такое возможно… это и есть свеча. А богач не получит уже более ничего. Вот оно и счастье.
— В отсутствии оного…
— В отсутствии оного, как и прогресс живет лишь пока ему есть куда расти. Дойдя до планки все рушится. Я не биолог, но есть мысль, что планка эта в нашем мозге, а точнее в физиологическом ограничении его развития. Пока эволюция не сделала свое дело. Как улитка никогда не сможет создать двигатель внутреннего сгорания, так и нам остается лишь ждать биологической возможности дальнейшего развития. За определенной границей нас ждет лишь регресс.
— Тогда стоит подчиниться законам природы и жить так, как мы можем?
— Я думаю, что да.
— Но ведь люди в других странах могут куда больше…
— Это относительные понятия. Материально они имеют яхты и вкусные обеды, но морально мы имеем корки хлеба. У нас есть надежда на вкусный обед, у них нет надежды на что-то большее, чем яхта. Счастье не имеет отношения к достатку, лишь подогревается им, но не в значении материального, а в значении надежды. Зажги свечу, если нет лампы. Как только ты зажжешь лампу — ты навсегда потеряешь надежду на большее. Персональное солнце в гостиной нам пока что не по плечу.
— Поверь на слово, Альберт, и не спрашивай про детали. Я привык к лампам, электричеству и вкусным обедам. И мне не по нутру нынешние корки и свечи.
— Я верю и нисколько не удивлен. К хорошему быстро привыкаешь. Но ответь, счастлив ли ты был?
— Что такое счастье?
— Когда видишь свет в конце тоннеля твоей жизни.
— Тогда нет.
— Именно, что нет. А не имея всего ты был бы счастлив живя надеждой. И каждая новая корка, приправленная солью или чесноком, даровала бы тебе радость.
Отто, опьянев, взял бутылку шнапса. В кухонном шкафчике он нашел пачку итальянских гриссини с травами и оливковым маслом, вышел в коридор и кинул всю эту снедь на пол. Шнапс стал разливаться по полу из бутылки, вымачивая хаотично разбросанные гриссини. Любители тира бросились на пол, слизывая растекшийся шнапс, подбирая и жуя гриссини, спасая бутылку, разливая из нее остатки себе в рот.
— Это ваше счастье и ваша гордость за Рейх? — надменно шатаясь вопросил пьяный Отто.
— Это дефицитные деликатесы, — ответил жующий гриссини работяга. — Нужно быть дураком, чтобы их не вкусить.
— А не нужно быть дураком, чтобы не вкушать их ежедневно, свободно покупая их в магазине? — резонно спросил Отто.
Работяги пили и жевали, им было явно не до его вопросов.
— Не надо давать деликатес нищим, — сказал Альберт, грустно глядя на эту картину из-за спины Отто. — Они за это и Родину продадут. Люди слабы.
— Не значит ли это, что деликатесы ценнее Родины? — спросил Отто.
— Нет. Это значит, что люди слабы и не более того, — ответил Альберт. — Слышал ли ты когда-то про пирамиду потребностей психолога Маслоу?
— Нет.
— Так вот слушай. Внизу пирамиды главные потребности — еда, вода, размножение… Все высокое духом от того и высокое, что оно наверху. Чтобы быть наверху нужно удовлетворить все низменное.
— Тогда они не смогут быть наверху, пока низменное у них не удовлетворено.
— Не смогут. Но они пытаются. Это уже заслуживает восхищения. Не нужно их провоцировать и они достигнут верха. Впрочем, не будем про Маслоу. Он был евреем.
— Когда я проснусь?
— Тогда же, когда и все мы — никогда.
— Мне надоела эта реальность.
— А кому нет? Но все мы в ней живем.
Глава 7
Вечером в баре было опять многолюдно. Герда сидела за своим привычным столиком, держа в руках книгу. Пьяные мужчины подходили и уходили, Герда неизменно вежливо их отшивала. Отто сел за стойку бара, взглянул на Герду и увидел призывный взгляд и приветственный кивок. Он сел за ее столик и поздоровался. По потолку бара проплыл лебедь, в окружении амуров, Герда держала книгу в руках.
— Видишь тени людей в баре? — спросила его Герда.
— Вижу, но это лишь тени, — ответил Отто.
— О, многие из них считают эти тени людьми и даже разговаривают с ними, слыша в ответ свои собственные мысли, даже не понимая, что говорят со своей тенью… Или с чьей-то иной… Какая разница, ведь мы говорим лишь о тенях. Такая мелочь…
— Тени бывают больше людей, если правильно падает свет.
— Ты прав, бывает, что тень человека даже больше его самого. Но она все равно мелка. Видишь маленькую хрустальную статуэтку женщины на стойке бара?
— Вижу.
— Ты бы долго смеялся, если бы узнал, что кельнер хранит ее сильнее собственной жизни.
— Что же здесь смешного?
— Она напоминает ему его жену. Хрупкая, слабая, красивая и свободная… Как Веймарская республика, давно забытая и неценимая ныне. Она не была ему верна. Но она была красива. Он не хотел бы быть с ней, но свято чтит ее по сей день. Ты знал, что не все здесь едят вяленое мясо?
— А что же здесь еще есть?
— Можно пить пиво или принести с собой молока. Но некоторые категорически отказываются есть мясо животных.
— Да, у нас тоже были такие люди.
— Смешно. Вся наша страна построена на крови убитых евреев и русских, но коровы и свиньи для них табу. Им их жалко.
— Но не тебе?
— Мне не более жалко свиней, которых щадили евреи, чем самих евреев, которых не щадили свиньи.
— Такое не опасно говорить?
— Во-первых, я пьяна. Во-вторых, с тех пор, как евреев реабилитировали, это уже не опасно. У нас уже никого не травят в камерах. Мы мягки и гуманны, прямо как были французы.
— Давно ли?
— Да с тех пор, как умер Гитлер. Геринг и вся их шайка лизоблюдов сразу разоблачили его зверства и смягчили законы. Как будто они не имели ко всему этому отношения…
— Так всегда и бывает…
— Проще всего отречься от своих преступлений, когда приказы отдавал не ты… А те, что ты… документы можно сжечь, как книги Ремарка и Фрейда. Мы, дескать, ездили под землей на метро, на подземном поезде, не видя всего, что творится на поверхности. Но люди то помнят… По крайней мере те, что носят нестандартные головные уборы. Над ними смеются, ведь это экстравагантно… А они смеются над всеми в душе.
— Дай я накрою тебя, — сказал Отто, накинув лежащую рядом накидку, похожую на простыню, на их головы, создав импровизированный шатер за их столиком. — Такая красавица с книгой в руках… Музу могут легко украсть.
— Чтобы украсть музу нужно быть художником, — ответила Герда. — В этом баре сплошь посредственности.
— Но огонь страсти горит лишь на нашем столе, — сказал Отто и поджег зажигалкой потухшую свечу на столике.
— Страсть ли, надежда ли… — говорила Герда грустно. — Огонь и есть огонь. Хорошо, что он скрыт под простыней. Показать его всем было бы пошло…
— Непростительно пошло… — подтвердил Отто.
Он потушил свечу, снял простыню, оставил рулон на столике, и они тихо удалились вместе.
Проснуться в постели короткостриженной брюнетки было необычно. Пижамный вид Отто не располагал к знакомствам. Но Герду это, казалось бы, не смущало, экстравагантные наряды ее привлекали. Ее квартира была обставлена просто и стандартно, похожа на любую иную квартиру в советском ГДР, в коем она, однако, не располагалась. Коричневая деревянная мебель, за стеклом которой чешский хрусталь, ковры, стандартная посуда с немецкими орлами и общая унылая атмосфера, лишь под потолком плыли дымчатые облака, похожие на растворившийся в воздухе кучи мягкого хлопка. Стройная и красивая Герда встала с кровати, прикрывшись махровым полотенцем, и ушла в душ. Отто встал, вытершись после буйной ночи краем ее простыни, надел свою пижаму и халат, проследовав на кухню, намереваясь приготовить завтрак. Не найдя ни яиц, ни хлеба, он заварил кофе и поставил кофейные чашки на стол. Довольная Герда вышла из душа и взяла чашку со свежесваренным кофе.
— Прекрасный завтрак, — сказала она. — Если бы еще вяленое мясо…
— Я нашел только кофе, — ответил Отто извиняющимся тоном.
— У нас вообще крайне сложно что-то найти… или кого-то…
— Не думаю, что только у нас. Так везде и у всех.
— Отто, я поняла, что ты был заграницей… скажи, как там у них? У них же есть все и всегда?
— Нет, нигде нет всего и всегда. У них есть больше. И чаще. Но всего действительно важного у них нет, так же, как и у нас.
— Например, мороженого?
— Например, любви. И важного для тебя человека. Вот что важно. Мороженого у них в избытке. Но никому оно не нужно, когда оно в избытке.
— Если бы у меня всегда в избытке было мороженое, я была бы довольна, — твердо ответила Герда, со свойственным женщинам материализмом.
— Поверь мне, это не так. Человек не может быть доволен ничем, чего у него в избытке.
— Даже любви?
— Даже любви. Дай ему ее в избытке, и он заскучает. Он начнет искать чего-то большее. Возможно, новую любовь. Или чего-то еще. Может развлечений, разнообразия. Кто знает? Но все приедается. Человек не может быть счастлив.
— Звучит печально.
— Это жизнь, которую мы живем. Извини, что у меня нет для тебя иного.
— Завтра будет счастливый день. Завтра наш праздник. День Победы.
— А ты знаешь победы над кем?
— Да кто его знает теперь? Главное, что будет бесплатное мороженое. Самое вкусное из всех. И никаких рулонов.
— Да, никаких рулонов. Мороженое — это важно.
— Еще бы!
Глава 8
Отто вернулся домой следующим утром. Всюду громко звучали военные песни и марши. Не просыхающий который день Альберт встретил его в дверях с воодушевленным восклицанием: «С Днем Победы! Пошли на парад!»
— Что-то мне не хочется, Альберт, — ответил усталый Отто. — Может просто лечь спать?
— Какой спать, когда только утро и вот-вот начнется парад в честь Победы? А главное мороженое… Пойдем со мной, вместе веселее!
— Ладно, — сдался Отто. — Пойдем попробуем это твое мороженое.
Друзья спустились вниз на лифте и вышли в город. Кругом висели ленты, флаги и надписи: «С Днем Победы». В слове «Победа» буква «П» была несоразмерно большой. Альберт говорил, что раньше «победа» писалась с маленькой буквы, потом стала с большой, а теперь с каждым годом, чем дальше от них была победа, тем больше становилась буква «п» на плакатах. На улицах было много народу и ощущалось праздничное настроение. Многие пили пиво прямо на дороге, многие шли с плакатами и табличками, на которых были изображены их далекие предки, служившие в Вермахте и СС. На главной и самой широкой улице города было организованное шествие, тут был весь город. Шли люди с цветами, флагами и плакатами, играл оркестр. За ними шли совсем маленькие дети в военной форме, некоторые лежали в гробах, имитируя павших в битве. На лентах гробов были поучительные надписи, вроде: «Вы дети Рейха. Вы трава и вы земля. Не бойтесь лежать в ней за Рейх» или «Умереть не страшно. Страшно жить без жертвы за Родину».
— Страшное зрелище, — шепнул Отто на ухо Альберту. — Такое не стоит мороженого.
— Что же в нем страшного? — спросил веселый Альберт, видевший не один парад на День Победы.
— Одеть детей в военную форму — тоже, что надеть на них веревку висельника. Солдат — это смертник, он идет на смерть. Нет ничего страшнее войны.
— Но войны случаются, детям надо это знать…
— Знать, но не готовиться к этому с рождения. Знать, как это страшно, что этого нужно избежать любой ценой. Тогда они вырастут и сделают все, чтобы войн не случалось. А готовить к смерти с рождения… Извини, Альберт, но такое самопожертвование чудовищно…
— Все мы умрем рано или поздно…
— Лучше поздно, чем рано. И лучше своей смертью, а не ради кого-то или чего-то. Самая большая ценность — это человеческая жизнь и человеческое счастье.
— Говоришь как американец. А что, если без жертвы за Родину не получится жить в счастье?
— Лучше жить, чем не жить, Альберт. Знаешь в чем разница американского патриотизма от нашего? Они патриоты, потому что у них благополучная страна, хороший достаток и свободное голосование. А мы патриоты, потому что наши деды сдохли за эту страну, и мы должны будем сдохнуть.
— А если мы не сдохнем, то и деды получается сдохли зря. Так мы опозорим их память. Поэтому у нас и проводят все эти парады, чтобы мы помнили…
— Лучше бы забыли. И жили будущим, а не прошлым.
— Будущим живут те, у кого оно есть, Отто. А у нас есть только прошлое.
«Мертвые» дети в гробах и без пяти минут «мертвые» в военной форме прошли. За ними с веселой музыкой и танцами следовали люди в костюмах скелетов, как на Хеллоуин, только скелеты были страшны и облиты «кровью».
— Ну это уже совсем явная пропаганда смерти… — сказал Отто Альберту тихо.
— Сыны и дочери Рейха не должны бояться смерти. С детства в детсадах и школах нас учат тому, что умереть за Родину — героизм и высшее счастье. Нам ставят в пример ветеранов и погибших героев. Нас посещают немногие оставшиеся ветераны войны, рассказывают истории, мы все ждем когда и нам представится такой счастливый случай — умереть за Отечество. Ты явно слишком долго прожил за границей и не понимаешь… Нам нужно это. Как хлеб, которого у нас мало, как вино, которого у нас нет. Кровь для нас замена вину, а мертвая плоть хлебу. И гордость за свою нацию. Мы христиане. Христос заповедал вкушать хлеб, как его плоть, и вино, как его кровь. А мы делаем тоже, только наоборот. Ведь Христос был евреем. Поэтому и наоборот. Нам не нужны семито-капиталистические блага, нам нужна кровь и плоть, мы немцы, великий народ! Народ-завоеватель, народ-освободитель. Народ Карла Великого, Бисмарка и Гитлера. Мы захватили Рим, Париж, Лондон и Москву… — Альберт расчувствовался.
— И как же вам в 2024 году хватает на всех ветеранов? Ведь они же уже почти все умерли.
— Это не страшно. У американцев тоже не осталось ветеранов Гражданской войны, но они проводят реконструкции. Дело будет жить вечно, были бы зрители и актеры. Вначале у нас сделали ветеранами всех, кто трудился во благо Рейха во время войны, потом всех, кто родился во время нее, пусть даже за один день до Победы. Вначале их называли Дети войны, но потом им дали титул полноправных ветеранов.
— И что же дает этот титул новой аристократии? Земли? Богатства?
— О, нет. Это было бы расточительно. Только право посещать школы, детсады и парады в качестве идолов нации.
— Не выгнал бы их Христос плетью из храма?
— В храмы они не часто захаживают, только на спортивные мероприятия.
— Почему в церквях занимаются спортом?
— Спорт — это сила и здоровье, это наша религия. Это делает людей хорошими солдатами.
— А как же христианство?
— Ой, знаешь, Отто. Ты такой наивный. Когда Рим и германцы приняли христианство, они сделали день богини Иштар Пасхой, языческие Сатурналии Рождеством, а день римских оргий Днем Святого Валентина. Мы тоже изменили оболочку, не изменив сути. Только они наряжают вечнозеленое дерево и красят яйца не в честь плодородия, а в честь Христа. А мы молимся в церкви и зажигаем свечи после спортивного состязания не в честь Христа, а в честь Святого Адольфа и огненных крематориев Аушвица.
— И в чем здесь христианство?
— Это все семантика. Христа рисовали с бородой, у Святого Адольфа есть усы. Разницы никакой. Да, его разоблачили, но он все равно отец нации и народ его любит. Этому не смогли помешать эти стервятники из партии, пытавшиеся затмить его славу. Ничего у них не вышло.
Парад близился к завершению. В конце солдаты вели каких-то людей на цепи. У них были шляпы и косички, вид у них был жалкий.
— Кто это? — спросил Отто.
— Это евреи, — спокойно ответил Альберт. — Евреев у нас не трогают, но эти совершили преступление. Они не просто евреи. Они иудеи. Их застали за ритуалами запрещенной религии, признанной экстремистской организацией. Их наказание — парад в честь Дня Победы.
— И что с ними сделают?
— Увидишь.
Люди из толпы, охмелев, стали бросать в евреев какие-то испорченные овощи. Пройдя пол пути, евреи, испачканные в тухлятине, начали падать получая удары камней, которые праздничная толпа хватала с земли, либо принесла с собой.
— Эй, жид, моли своего Яхве о пощаде, — орал пьяный немец с праздничными лентами, повязанными бантом на его груди. — Пусть он придет тебя защитить!
Пьяный немец бросил камень в еврея и пробил его голову до крови, еврей упал на землю. Остальные остановились, чтобы не раздавить его, но солдаты крикнули: «Schneller», тыкнули шествующих штыком и те пошли. Сжимая кулаки на руках, безвольно болтающихся по швам, со стиснутыми зубами, они шли по брату по вере, давя его ногами. У кого-то из них глаза были зажмурены в узкие щелочки, позволяющие видеть лишь тонкую полоску света впереди, у кого-то они были широко раскрыты в гримасе ужаса, непонимания происходящего. Да и сам Отто не мог понять, как такое может происходить в 21 веке, на его глазах, на глазах всех этих веселых, ликующих людей. Одно было едино. Глаза тех, кто зажмуривал их, и глаза тех, кто раскрыл их в ужасе, были полны слез. Каждый понимал: «Я, я буду следующий… Я, которого растила моя мать, обнимая своими нежными руками, ласкала и заботилась. Кто любил ее, а потом и других женщин, нежно любил. Ронял слезу над фильмами, трогательными симфониями, заботился о здоровье своего организма, ограничивая себя в удовольствиях, кормил животных, наполнял свой мозг новыми знаниями, учил языки… Я… я не плохой человек, я желаю миру добра… а если кому-то и не желал, то желаю сейчас! Не важно кто он и какой, я жажду лишь доброты всех и ко всем, как любой в минуту слабости… Я помню детство… Я слабый и нежный… Я не причинил никому вреда, но я у всех прошу прощения… Я заботился о себе, а до этого моя мать… Сколько она провела бессонных ночей выхаживая меня, сколько таблеток и сиропов она купила, чтобы я жил… А вы… Какое вы имеете право? Что сделали вы? Ничего. Но и я не могу ничего сделать… Я лишь желаю всем жизни… Всем и, в особенности, себе».
Каждый еврей в толпе вспоминал свою еврейскую мать. Каждый молил Яхве умереть быстро и попасть в лучший мир. Каждый желал обменять продолжение своей жизни на продолжение жизни всех, договориться с этими людьми. На другое они не надеялись. Но еврейский торг здесь не работал. Это были стойкие люди. Они молились Яхве, несмотря на законодательный запрет. Это было глупо, но они были стойки в своей глупости, в своей вере, это заставляло Отто их уважать. Полетели камни.
— Я не могу на это смотреть, — сказал Отто.
— Побить камнями за прелюбодеяние — это их еврейский завет из Торы. За вероотступничество, возможно, тоже, не помню. Но измена богу — это серьезнее, чем измена мужу. Ведь мужу глава Христос, а Христу глава Бог. Монахини — это невесты Христа. Не так ли?
— Ты так религиозен? Как будто вы молитесь Христу.
— Христос заменил Яхве, а Христа заменил Святой Адольф. Каждая новая религия гонит своих предшественников, одновременно уважая их наследие. Как мусульмане чтут Христа за пророка. Так и христиане чтут Яхве за бога-отца, так и мы чтим Христа.
Камни били в грудь и голову евреев, оставляя синяки и кровоподтеки. Один за другим они падали, а остальные вынужденно шли по ним, добивая их ногами. Боль, кровь, трупы и стоны — вот чем закончился парад. Евреи были единственными на нем, у кого на головах не было кастрюль.
Пьяная толпа расходилась. На дороге лежали окровавленные тела с вытекшими глазами, раздавленными черепами, обмочившиеся и обделавшиеся при смерти. Некоторые до, от страха. Впрочем, теперь уже никто не смог бы определить, когда это случилось. Толпа двинулась к палаткам с бесплатной раздачей мороженого. Мороженое давали с лопат и люди брали его руками, загребая сливочную кашу себе в рот грязными пальцами. Альберт набрал полные руки и рот мороженого, а Отто взял немного себе в ладонь.
— Ммм… — мычал довольный Альберт. — Пища богов!
— Мороженое, как мороженое, — ответил Отто, попробовав пломбир.
— Ты что? Лучшее в мире!
— Да обычное, — ответил Отто, привыкшей к жизни в ФРГ. — И аппетита у меня нынче нет.
— Как это нет аппетита? — удивился Альберт. — Смерть всегда пробуждает аппетит. Они его больше не попробуют, а мы можем!
— Да… — сказал Отто. — Они и правда больше не поедят его один раз в год… Но скажи, Альберт, ты же умный человек… Чем это так сильно отличается от разницы нас с американцами? Убитые не поедят это раз в год, в отличии от нас. А мы не поедим это каждый день, в отличии от американцев.
— Дурак ты Отто… мы его поедим, а они больше никогда. Вот и разница.
— Они не более мертвы в сравнении с нами, чем мы, в сравнении с американцами…
— Не мороженым измеряется степень смерти. Мы все мертвы. Просто кто-то это знает, а кто-то, как призрак, блуждает по Земле и думает, что еще жив. От этих то людей и идут все проблемы.
— Разве все проблемы не от человеческой сути?
— А в этом и есть человеческая суть. Чем мы занимались всю нашу историю? Нападали на другие племена, отнимали территорию, самок… В этом наша суть… Посмотри на обезьян, они делают тоже самое. Обезьяны — мерзкий вид. И мы — они же. Просто национал-социализм не врет нам. Он так и говорит: «Выживает сильнейший». Он не заворачивает свою политику в моральную оболочку. А больше разницы нет. Почувствуй воздух, Отто! Ты чувствуешь воздух?
Дул свежий вкусный ветер.
— Чувствую.
— Вот это и есть жизнь. Свежий воздух, запах трав, деревьев, земли, в которой мы непременно окажемся. Вкусная еда, женщины… Это жизнь. А все остальное придумали люди. Только то, что доступно животным настоящее. Этим и живи.
Отто вдохнул пьянящего своей свежестью воздуха и подумал о том, что действительно не так важно кто сегодня умер, что в головах беснующейся толпы, ведь есть Солнце, есть воздух, есть деревья… Есть все то, что неизменно и не важно в какой стране ты находишься, при каком строе, ведь есть вечные земные понятия, которые живут всюду: природа, запахи, любовь… Это не может сломить никакой режим. Не лучше ли жить этим вечным, человеческим, животным, приземленным? И быть счастливым. Или все-таки нет?
Глава 9
День шел к своему завершению. На улицах валялись пьяные люди с праздничными лентами, испачканные мороженым, стекающим из-под кастрюль, казалось бы, прямо из их голов, наполненных ванильной молочной кашей, тающей на одежду, лица их были вымазаны пломбиром, и они выглядели вполне счастливыми. Друзья шли домой. На уже опустевшем пути парада лежали трупы убитых евреев. В начинающих гнить руках у них было вино, которое они пили, заливая его в раздавленные черепа, из которых текли на тротуар мозг и кровь, а совсем не пломбир. Вино растекалось рядом, ведь мертвый не может встать вертикально и залить его себе в пищевод. Кровь, мозг, вино — все смешалось в единую бордовую массу, которая казалась вкуснее пломбира. В кроваво-винную массу примешивались кусочки пыли с мостовой, делая темно-красное месиво еще более неоднородным, с вкраплениями комков грязи, в качестве посыпки на мороженом.
— Ты говорил, что вина в Германии больше нет, — удивился Отто.
— Конечно нет. Но это трупы, они уже не в Германии, они в лучшем мире. Там вина предостаточно. Только им оно и доступно.
— Они выглядят счастливо, — сказал Отто, показывая на грязных, валяющихся, порой в луже своей мочи, живых немцев, отпраздновавших День Победы.
— Так и есть. Если хочешь быть счастливым — просто будь как все. Открой свое сердце миру, люби людей, будь частью их сообщества, относись позитивно к ним и к окружающей тебя действительности. Это вселит в тебя спокойствие и удовлетворенность жизнью.
— Именно поэтому ты так защищаешь национал-социализм и всех этих людей? Чтобы не быть несчастным?
— Поверь, — ответил Альберт, — так гораздо проще.
Они зашли в холл дома. Он, как и весь город, был украшен флагами и атрибутикой Германии времен Второй мировой. Отто оглянулся не смотрит ли кто, достал бутылку пива из кармана и стал отдирать этикетку с довольной улыбающейся мордой толстого бюргера.
— Что это ты делаешь? — поинтересовался Альберт.
Отто отодрал этикетку, оборвал ее, оставив лишь кружочек с лицом, подошел к красному плакату на стене с белым кругом в середине и заклеил белый круг круглым лицом с улыбкой.
— Так гораздо лучше, — показал Отто на красный прямоугольник, с улыбающейся мордой в центре.
Альберт рассмеялся. На их этаже уже не было звуков стрельбы. Все работяги лежали мертвецки пьяные на полу, измазанные в пломбире. Тараканы бегали по их лицам, слизывая пломбир, заползая в их рот, пролезая по пищеводу прямиком в желудок, становясь невольными жертвами желудочной кислоты, которую они там отнюдь не воображали увидеть. Ты то, что ты ешь. Работяги сливались воедино с тараканами, обретая тараканьи черты. Их руки становились лапками, на лицах вырастали длинные усики. Или же они всегда так выглядели, просто Отто не замечал этого ранее за их напускной дружелюбностью? Друзья прошли в квартиру Отто и решили допить остатки шнапса.
— У тебя есть семья, Альберт?
— Нет.
— А была?
— Была жена.
— И что с ней сталось?
— Она меня не любила.
— Плохо с тобой обращалась?
— Наоборот! Она обращалась со мной лучше всех. В этом и есть плюс того, что тебя не любят. Ни тебе скандалов, ни ревности. Я мог делать что хотел и ее ничего не волновало.
— Она сама призналась, что не любит?
— Что ты! Она была уверена в своей любви, как женщина, у которой никогда не было оргазма, думает, что ее приятные ощущения и есть оргазм. Но она никогда никого не любила, хотя думала иначе.
— А ты что?
— А что я? Я был счастлив, мне можно было все. Это хорошо, когда можно все. Но потом понимаешь, что тебя не любят.
— Это печальная история. В жизни и так много печали. Давай лучше выпьем, чтобы нам стало веселее.
— Чтобы стало веселее пить надо не шнапс. Шнапс пьют для раздумий и грустных философствований. Пиво пьют чтобы расслабиться и заснуть. Для веселья пьют вино. А вина у нас больше нет.
— Значит у нас больше нет и веселья?
— Выходит, что так.
— Выходит, что в Рейхе у людей есть только что-то, с чем можно расслабиться и заснуть?
— О, эти люди и так спят. Уже давно. Всю свою жизнь.
— Но пиво все-таки хорошее.
— Да, пиво отменное, как и мороженое. Уж если немец что-то делает, то на совесть. Знаешь почему пиво самый немецкий напиток? Нет, не потому что у нас плохо растет виноград. А потому что оно расслабляет. Мы слишком нервные, слишком правильные. Мы делаем все точно и четко, как на марше. Это приводит к постоянному напряжению нервов. И поэтому мы каждый день пьем пиво. Мы расслабляемся и можем, хотя бы на время, стать чуть менее немцами.
— Чуть более тараканами?
— Причем тут тараканы? Алкоголь не всегда низводит нас до состояния животных. Иногда он делает нас более людьми, более философами. Это зависит от нашего интеллекта и от того, что мы пьем и сколько.
— Может, если бы мы пили вино, мы были бы чуть более итальянцами?
— Нет. Веселый немец может лишь весело маршировать. Нам нужно пиво. Никогда мы не будем весело валяться под деревом и пить вино в полдень. Мы захотим весело работать или весело захватывать соседние земли. Но не валяться без дела на лужайке.
— А что ты скажешь про тех, кто пьет водку?
— Она раскрывает душу, чтобы открыть твое сердце миру, а после превратиться в зверя и отключиться. Водка — самое плохое.
— Она не сильно отличается от шнапса.
— Шнапс — это тоже плохо, но он хотя бы приятен на вкус.
— Вот и жизнь такая же, как шнапс. Отвратительно действует на тебя, а в конце ты отключишься. Но порой весьма приятна на вкус.
— Чтобы жизнь была приятна на вкус — нужно уметь выбирать шнапс.
— Выпьем за это, — Отто поднял рюмку и стукнул ею об рюмку Альберта.
— Выпьем, — согласился Альберт. — Сегодня у нас хотя бы есть вкусный шнапс. А что будет завтра… То будет завтра.
На следующий день Отто пришел к Герде. Она встретила его в красивом пеньюаре, как подумал Отто, наверняка, тоже стандартном. Сделав дело, он задал ей вопрос, который сидел у него в голове все это время.
— Откуда в Рейхе такие пеньюары? Не считается ли это излишеством? Раз не хватает даже бумаги…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
