
Бесплатный фрагмент - Треугольное лето
На роль моря
Седьмой день съемок.
Сегодня весь день снимали море.
То нежное и ласковое в лучах солнца, то беспокойное и хмурое под темными тучами, то бурное и грозное в шторм.
Море играло отлично — я еще никогда не видел море, которое играло бы так живо и убедительно. А ведь на кастинг на роль моря кто только не приходил, какие только моря-океаны не появлялись, а все не то, не то… все было какое-то… ненастоящее, фальшивое, то переигрывает море, то, наоборот, как-то лениво играет, нехотя, исподволь…
А тут сразу видно — море.
Нежно плещется, ласкает песок, грозно шумит, беспокойно бурлит, волнуется, пляшет, искрится в лучах заката.
Сегодня весь день снимаю море.
Я еще не знаю, что его убьют.
Не сейчас.
Через год.
Когда я приду сюда, и увижу вместо моря мертвую, безжизненную пустыню, покрытую солеными вихрями.
— Вы убили море?
Так я буду спрашивать все моря, ездить от моря к морю, вопрошать:
— Вы убили мое море?
— Да как вы смеете!
Бурлит, шумит, переигрывает море, сразу видно, фальшивит…
Ну а как же иначе, уж не вы ли завидовали юной восходящей звезде?
Ну не до такой же степени, чтобы убить его! Да и вообще… как вы себе это представляете?
— Вы убили мое море?
— Ой, ну что вы говорите такое… — лениво ответит еще одно море, которое я не взял на главную роль, уж очень оно ленивое…
— Вы убили море? — буду спрашивать я, — вы убили мое море?
Я найду его. Уже потом, когда отчаюсь искать. Он будет бормотать какие-то оправдания про необходимость отвода реки для орошения чего-то там, что-то про экологию, что-то про пустынные районы, которые теперь зацвели — но мне будет все равно.
Он убил мое море.
Потом я буду подкарауливать его, сжимать револьвер.
Потому что.
Он убил мое море.
Он.
Убил.
Мое.
Море.
Я увижу его — когда он будет выходить из ресторана, десять шагов до машины, десять выстрелов.
И только потом я увижу, что он шел не один.
А под руку с морем.
С тем морем, которое переигрывает и фальшивит.
И пойму все.
Воскресшее лето
…а куда я иду?
Вот так, дохожу до перекрестка, где только-только начинается маленький городок — и спрашиваю себя, а куда я, собственно, иду.
В магазин… нет, не то, для магазина в такой час рановато. Значит, на работу. А где я, собственно, работаю. Не знаю. Нет, не то, что не помню, просто — не знаю.
Идти. Хоть куда-нибудь. Просто. Идти. В надежде, что ноги сами принесут, куда надо.
В надежде…
Что я здесь делаю этим летним утром, спрашиваю я себя, что я здесь делаю этим погожим утром, в маленьком городке, на мощеных улочках, зачем иду мимо еще не открывшихся кафе, мимо цветников, уютных садиков, мимо милых особнячков, мимо…
Зачем я…
…стоп.
Я.
А кто я.
Пробую вспомнить свое имя — имени нет. Год рождения… опять мимо.
Спрашиваю себя, бывает такое, чтобы люди появлялись вот так из ниоткуда ни с того ни с сего. Спохватываюсь, а кто мне вообще сказал, что я чело…
…нет. Хватит. Голова идет кругом, если она вообще есть у меня, эта голова. Найти. Найти хоть кого-нибудь в этом еще спящем городе, спросить… что спросить… кто я. И зачем я здесь.
Смотрю на венецианские окна, закрытые плотными шторами, на флорентийские окна, спрятанные гардинами — понимаю, придется подождать часика два, что-то подсказывает мне, что сегодня выходной, люди не скоро выберутся из-под своих одеял, и из флорентийских и венецианских окон не скоро повеет свежезаваренным кофе.
…замечаю её не сразу, едва не наступаю на неё, лежащую в придорожной траве, да и неудивительно, здесь, в овражке даже луч солнца её не разыщет.
Хочу окликнуть её — не могу. И не потому, что не знаю имени.
А потому что…
…потому что…
…уже понимаю — мертва.
Ужас сковал сердце — и тут же схлынул, когда понимаю — мертва уже давно, дней несколько как. Наклоняюсь, ищу, сама не знаю, что, — снова вздрагиваю, как от удара, когда вижу мертвые пустые глаза.
Меня подбрасывает на месте, — вот теперь не ждать, вот теперь бежать, бежать, стучать во все двери, скорее, скорее, тут такое…
Бегу.
Стучу в дверь трехэтажного особняка с башенками, колоннами, флорентийскими окнами, причудливыми балконами и террасами.
Жду.
Хочу снова заколотить в дверь, вовремя замечаю колокольчик, — он откликается тоскливым треньканьем.
В доме отдергивают шторы.
Открывают окна.
Распахивают двери на веранду, я понимаю — впускают меня. Вхожу во все окна сразу, как-то так получается у меня — входить во все окна сразу, разбегаться сразу по всем улицам…
— Ну, наконец-то! — хозяин дома недовольно смотрит на меня, поправляет свой клетчатый халат, — где вы были, позвольте поинтересоваться?
Я…
…что за мода пошла, опаздывать! Вот в наши времена такого не было, честное слово.
— Но… — спохватываюсь, — так ведь еще только восемь утра, что вы…
— Ах, восемь утра, говорите? А на календарь вы не удосужились посмотреть, а?
Удосуживаюсь посмотреть на календарь, — календарь как календарь, ничего особенного, десятое июня. Спохватываюсь, а когда, собственно, меня ждали. Не знаю.
— А… а когда вы… меня ждали?
Хозяин дома закатывает глаза, уже все понимаю — как я могу не знать, как я могу этого не знать. Хочет что-то сказать, — не успевает, в комнату врывается стайка детей, окружают меня, ура, ура, ура, обнимают, радуются, а давай на море, а давай на речку, а давай в лес, а давай, а давай, а давай…
Умоляюще смотрю на хозяина. Хозяин недовольно кивает мне, что стоишь, развлеки детей, иди с ними, куда они там просят, только, чур, не на море, там через железную дорогу идти надо, и не на речку, еще утонут, и не в лес, заблудятся еще, и… ка-а-а-кая еще стройка, на какую на крышу, я вам такую стройку-крышу покажу, мало не покажется… А черт с вами, все равно же по-своему все сделаете, не удержишь вас… Вы уж там посмотрите за чертенятами моими, чтобы не убились совсем…
Понимаю, что не могу возразить, что нет сил что-то возражать, что сейчас я пойду с ними — на речку, в лес, на море, на стройку, на крыши, и все одновременно, это я могу…
Стойте-стойте, вы меня-то не бросайте, куда вас понесло-то?
Спохватываюсь. Не бросаю. Остаюсь и в доме тоже, вытягиваюсь на ковре, вспоминаю:
— Там… женщину убили.
— Там… что вы сказали?
— Там женщину убили.
— Г-где?
— Там… в овраге… то есть, не знаю, может, убили и не в овраге, потом бросили в овраг…
Хозяин, сутулый, нервный, с проседью, — всплескивает руками:
— Слушайте, ну что это такое, а? мало того, что вы опоздали на десять дней, мы уже извелись все, так теперь еще и с таких новостей начинаете! Слушайте, вот обязательно надо такой день портить, а?
Вспыхиваю:
— Ну а что вы предлагаете…. Ничего не делать, ну лежит мертвое тело, ну пусть себе и лежит, да? Лежит себе, есть не просит?
— Что с вами поделаешь… счас… позвоним…
Шелестит клетчатый халат, хозяин долго возится с телефоном, набирает номер, бормочет что-то, путается, теряется, спохватывается, умоляюще смотрит на меня, а в каком овраге-то, хот адрес, что ли, назвали бы… Понимаю, что не знаю никакого адреса, я всего несколько часов в этом городе, на мое счастье хозяин тут же сам вспоминает, что в городе один-единственный овраг…
Дети побежали на море, заплывают за буйки, умоляюще смотрят на меня, а мы тихонечко, а мы осторожно, а вы никому не скажете, правда-правда, ну пожа-а-алуйста… Слежу за детьми, чтобы не утонули, а то два трупа, это уже перебор, да что я несу, один труп, и то уже перебор…
— Вы трогали тело? — полицейский недовольно смотрит на меня.
— Да… то есть, нет… то есть… нет, нет.
— Так да или нет?
— Нет…
Следователь поворачивается к хозяину:
— Вы знаете эту женщину?
— Первый раз вижу.
— И я тоже… похоже, приезжая какая-то… Хотя… хотя постойте… слушайте, как будто видел где-то… не помню, где…
— Вот-вот, и у меня такое же чувство… — хозяин смотрит на распростертое тело, — видел же… или нет… или да… нет, нет…
Мне что-то суют под нос, бумаги какие-то, здесь распишитесь, — хочу возразить, что даже имени своего не знаю, — тут же вижу свое имя в отчете, начинаю понимать…
…быть того не может…
…а ведь может…
Я -…
— Хоть бы воду согрели, что ли, — ворчит хозяйка кирпичного дома на углу.
Бросаюсь в кухню, еще отчаянно соображаю, что делать, вскипятить чайник, или разогреть воду в кастрюле — хозяйка смотрит на меня, кажется, сейчас покрутит пальцем у виска.
— Ох, ты ж, горе мое… да вы в реке-то воду согрейте, люди-то купаться хотят!
Покорно согреваю воду в реке, тут же кто-то ворчит, что можно было бы и улицы прогреть, тут же кто-то замечает, что жарковато, можно и ветерка, эй, давай, пошевеливайся, ветерок подай, да не сильный, послабее, куда ты так дуешь… Кто-то из мужчин спохватывается, да перестаньте вы ему указывать, а то обидится еще, ему лучше знать, что делать. Кумушки у ворот тут же парируют, это мы обижаться должны, десять дней его не было…
Мечусь по городу, стараюсь всем угодить, не могу, вхожу в дома — через раскрытые окна, спрашиваю то у того, то у другого, не видели ли вы эту женщину, ну эту, которую в овраге убили, ну, не в овраге, не знаю, где — люди разводят руками, что-то припоминаем, понять бы еще, что… нет, не помним… не было такой у нас тут…
— Здравствуйте.
Нет, не так он сказал, когда пришел ко мне. Он поклонился и сказал:
— Здравствуйте… уважаемое лето.
Вот это меня сразу насторожило, ко мне еще никто так не обращался, по имени, даже следователь. Мне показалось, пришедшему что-то нужно от меня — и показалось не зря.
— Э-э-э… утро доброе.
— И правда, очень доброе утро, теплое такое, летнее, это здорово у вас получилось, солнышко, ласточки… небо синее…
Так и хочется спросить — что вы от меня хотите.
Не спрашиваю.
— Уважаемое лето… вы… вы мне поможете…
Киваю:
— Помогу.
— Думаю, чем помочь, урожай там хороший в огороде или погоду отменную в выходной, да такому учтивому господину ничего не жалко…
— …найти убийцу…
Меня передергивает.
— Вам же не все равно, правда? Вы же… вы же так волновались, да? Вы же поможете…
Хватаюсь за соломинку:
— Вы… вы её знали?
— Знал. Любил…
Вздрагиваю. Понимаю, что все серьезнее, чем казалось.
— Но… постойте-постойте, а почему же вы её знали, а остальные говорят…
— …они врут.
— Врут?
— Врут.
— Все? Весь городок?
— Весь городок. Врет.
— Но… зачем?
— Вот это я и хотел бы знать.
Мне становится не по себе.
Слушайте, быть такого не может, я понимаю, один-два человека её убили, скрывают, но чтобы весь город…
На этот раз передергивает человека, который пришел ко мне.
— Вы думаете… в заговоре весь город?
— Ну, я такого не говори…
— …а ведь верно получается, они же все сказали, что её не помнят…
Спохватываюсь:
— Но вы-то её знаете?
Сглатывает:
— Знал… хорошо знал.
— Так скажите мне, кто она такая?
Мотает головой:
— Этого… этого я вам не могу сказать.
— Послушайте, вы странный человек, вы просите меня помочь, а сами ничего не говорите…
— Но… я правда ничего не могу вам про неё сказать…
Вежливо кланяюсь. Иду развешивать на деревьях спелую вишню, рассаживать последние одуванчики. Он догоняет, он хватает меня за плечи, смотрит умоляюще:
— Вы найдете убийцу… найдете… обязательно…
*
…на этой неделе лето на нас обиделось, и очень серьезно: как только начался июль, зарядили дожди с утра до вечера, крупные капли падали с листьев, стучали по крыше, река стала холодной, мокрой, промозглой. Уже не хотелось выбираться из дома в такую непогоду, хотелось разжечь камин и собраться в тесном домашнем кругу. Кто-то поговаривал, что лето ушло, уступило место осени, — но другие подтверждали, что это все еще именно лето — обиженное, озлобленное на нас на всех. Люди даже видывали, как лето с умным видом хаживает в городской архив, ищет что-то в старых газетах, в старых книгах, незнамо, что…
(из чьего-то дневника)
— Я знаю… я знаю, что случилось!
Просыпаюсь от крика, недовольно смотрю на лето, ну что ты опять вломилось в дом с утра пораньше, светишь в глаза, кричишь что-то, я знаю, я знаю, да что ты знаешь, что ты мелешь, какое наследство, не было у убитой никакого наследства, вообще никто не знает, кто покойница, а ты что-то про наследство несешь…
Поднимаюсь на постели, смотрю на лето в упор, ну это уже слишком…
— Уважаемое лето… это уже десятая версия происходящего с вашей стороны…
— Но я…
— …уважаемое лето… это уже тринадцатая версия происходящего, которую вы мне предлагаете…
— Тринадцатая — и значит, правильная, да?
— С чего вы взяли?
— Ну… так всегда бывает… в книжках…
— Мы не в книжке, уважаемое лето. Это жизнь. Я понимаю, вы решили прошертстить всю библиотеку, проштудировать все истории преступлений… похвальная тяга к знаниям… Но с чего вы взяли, что здесь произошло что-то подобное?
— А вы… — лето спохватывается, — у вас дети… а где ваша жена?
Меня передергивает, это уже слишком.
— Моя жена покойница уже два года, да будет вам известно. Если вы скажете, что это я её убил, и что это её труп лежит в овраге — мне больше не о чем с вами говорить.
— Ничего… — лето сжимает кулаки, которых у него нет, — я найду убийцу… пусть даже через много лет…
— Видите ли, уважаемое лето… — хозяин дома осторожно откашливается. Я не люблю, когда он так откашливается, значит, хочет сказать что-то неприятное.
— Что я вижу?
— Вы говорите… много лет… но у вас есть только одно лето… которое вы сами. У вас только три месяца…
Не понимаю. Оторопело смотрю на него.
— К-как три месяца?
— Даже не три, что я говорю… июль уже идет вовсю, уже половины вашей как не бывало…
Смотрю на себя, что он несет вообще, какой половины не бывало — не понимаю, что я вообще вижу, где мои ноги, почему я парю в воздухе, почему меня нет — до пояса, почему, почему…
— У вас осталось мало времени.
Это тот человек. Который говорил — я её люблю.
— У вас осталось мало времени.
— Вы… почему вы мне не сказали?
— Простите… я думал… вы знаете…
— Знаю? Откуда?
— Ну… не знаю… правда, откуда лето может знать, что оно кончится… Она вот не знала… не знала… только догадывалась о чем-то…
— Она… кто она?
— Она… которую убили…
Озарение.
Внезапное.
Яркое, как вспышка.
Бросаюсь в неприметный домик своего случайного друга, еще раз смотрю на фотографию — он и она, только сейчас понимаю, где я её видело…
— Так это же весна… весна!
Он кивает:
— Да. Её звали весна.
Еле сдерживаюсь, чтобы не засмеяться, понимаю, тут не до смеха.
— Так весна же тоже не вечная… вы… вы когда с ней познакомились?
— В марте.
— Ну вот, видите, все правильно, в марте она пришла, в мае её не стало… Что вы хотели, весна тоже три месяца живет…
Он бледнеет.
Понимаю, что делаю ему больно.
Очень больно.
Тихонько ускользаю прочь из дома — запахами цветов, шорохом ветра в листве, шумом дождя. Буквально натыкаюсь на того, в клетчатом халате, только он уже не в халате, на нем другое что-то…
— И что это? И что это, я вас спрашиваю?
— А… а что?
— Нет, вы на него посмотрите, оно еще спрашивает! Какой сейчас месяц, разрешите узнать?
— А-а-а-а…
— …вот именно, август! Ав-густ! А где грибы, хотел бы я знать?
— А…
— Бэ! Маслята, подберезовики, белые — где все это? А лисички, лисички где, я вас спрашиваю? А черника? Первое августа на дворе, Ламмас, Лугнасад, свадьба луга, черничные пироги пора печь — и где черника, я вас спрашиваю? Вы как работаете-то вообще?
Вспыхиваю:
— А ничего, что Лугнасад — начало жатвы? Что-то я не припомню, вы когда последний раз в руки серп брали? А косу?
— Да как вы смеете!
Он бросается на меня, — что-то происходит, отступаю от него, но не в пространстве, а как-то по-другому, почему-то тает человек передо мной, почему-то пропадают яблоки на ветках, почему-то снова пробиваются одуванчики.
Десятое июня, вот почему.
Смотрю на себя, наконец-то снова чувствую свое тело все, целиком, — остаться бы здесь навсегда, в первом своем дне, когда еще толком не понимаю, кто я, и что я.
Даже не удивляюсь, что я могу вот так легко шагнуть в июнь.
Ведь я — лето.
Ловлю себя на том, что иду теми же улочками, что и в первый день, сворачиваю к переулку, за которым начинается овраг. Сейчас я снова увижу её, почему я хочу снова увидеть её, почему…
Смотрю на умершую весну, в её волосах еще остались белые цветы, уже мертвые, но еще не потерявшие свою красоту. Спускаюсь в овраг, зачем-то поворачиваю мертвое тело, что я ищу, что мне вообще здесь нужно, что, что…
…вот оно…
Глубокая черная рана на груди.
*
— …вы трогали тело?
Да… мне показалось… а вдруг она живая еще… а вдруг еще можно что-то сделать… массаж сердца там, или я не знаю…
— Так может, вы и убили?
Вздрагиваю.
Вот оно, началось…
Тут же парирую:
— Так вы проверьте, когда она умерла, тут дней десять прошло, а я же тут только сегодня…
— …опоздали на десять дней! — добавляет господин в клетчатом халате, нет, это не халат у него, это пальто, да что за господин такой, все-то у него клетчатое. Дети господина обступают меня с криками, пошли-пошли-пошли, в лес, на речку, на море, на стройку, на край света… Господин тоже не отстает, да как вам не стыдно, да мы вас десять дней ждали, вы как работаете вообще, я на вас нажалуюсь, — киваю, думаю про себя, кому ж ты жаловаться-то будешь…
…нет, нет, какого черта я вообще тут делаю, назад, назад, в первое июня или еще там какое, когда весна была еще жива, когда еще можно было узнать, кто её убил, или вообще сделать так, чтобы никто её не убил…
Хочу отступить назад.
Не могу.
Что-то не дает, что-то не пускает, какая-то стена, но не в пространстве, а во времени, что-то…
Проклинаю себя, что опоздало на десять дней.
Проклинаю.
Спохватываюсь, хочу вернуться в июль, когда зарядили дожди, ведь можно все исправить, сделать солнце, жару, вот это вот все…
…меня коробит, еще успеваю подумать — интересно, бывают у времен года нервные срывы, или нет. А пропади оно все, пропади, пропади, чтоб вас всех с вашими клетчатыми халатами, с вашими претензиями, с вашими трупами, с вашими…
*
…лето окончательно обиделось на нас, — сегодня после полудня грянула гроза, с молниями, с громом, с градом, — грохот раскалывал небо, здоровенные градины колотили по крышам, от нашего роскошного сада осталось только печальное воспоминание. Больше всех досталось Пэгги, её здорово пришибло градиной, если бы Букман не затащил её на террасу, не знаю, что было бы с бедняжкой. Пожалуй, только тогда мы первый раз осознали, что лето не обязано нам прислуживать, что лето живет по своим законам и правилам, и если рассердится на нас окончательно, то нам несдобровать…
(из чьего-то дневника)
*
…сегодня празднуем Лугнасад.
Ну да. Успокаиваюсь, спохватываюсь, стыжусь, отматываюсь назад, кое-как мастерю теплый июль, убираю грозу с градом, после которой город стал похож на поле боя, готовлю чернику к началу августа, — в домах пекут черничные пироги, дети плетут фигурки из колосьев. Вечером собираемся в доме господина в клетчатом, пьем чай с пирогом, я устраиваю роскошный звездопад, дети наперебой загадывают желания.
Буквально налетаю на хозяина дома, он смотрит на меня, руки трясутся, глаза сверкают, да что опять не так…
— И что это? И как это понимать, я вас спрашиваю?
— А… что такое?
— А Юнона где?
— Это… это…
— Вы с ней были сегодня!
— Да я со всеми было…
— Я третий раз вас спрашиваю — где моя дочь?
Даже не поправляю, что не третий, а второй. Юнона, Юнона… я не помню имен, не помню лиц, для меня все люди на одно лицо, на одно имя — Люди…
— Она…
— Где. Моя. Дочь. Где вы с ней были, черт вас дери?
— В лесу… на речке… — припоминаю, ничего не могу припомнить, — у моря…
— Ну и где я теперь Юнону искать должен? В реке? В море? В лесу? Или её поездом переехало?
Отскакиваю назад — не назад по траве, а назад в утро Лугнасада, дети обступают меня толпой, а пошли, а пошли, а пошли, а туда, а туда, а туда…
Следить. Во что бы то ни стало — следить, ни упустить из виду ни… а кого я собираюсь не упускать из виду, я их не различаю, все на одно лицо, может, Юноны уже и нет, а я и не знаю…
Не выдерживаю:
— Ребята, а где Юнона?
— А… а туда пошла!
— А не, туда!
— А туда!
Понимаю, что я ничего не добьюсь, что Юноны уже нет, черт возьми, если её нет утром, значит…
…бросаюсь в дом, хозяин в клетчатом халате пьет чай на веранде.
— А… а Юнона где? — выпаливаю ему в лицо.
— Что значит, где, она с вами пошла, вы что…. Это я у вас должен спрашивать, где Юнона!
Снова возвращаюсь назад, в первое августа еще до рассвета, осторожно заглядываю в окна, в комнаты, где спят дети, вижу пустую кровать, понимаю, что Юноны нет.
Время играет со мной, время смеется, время не дает мне Юнону. Что-то подсказывает мне, что если я вернусь в десятое июня, Юноны не будет и там.
Потому что.
У времени свои правила.
Возвращаюсь в вечер Лугнасада, — бежать, искать Юнону, искать по лесам, по полям, по морям, ой, нет, нет, только не по морям, если кто-то утонет, в жизни себе не прощу… если кто-то утонет во мне… или мной… не знаю… человек бы сказал — если кто-то утонет этим летом, я говорю — если кто-то утонет мной…
Бежать.
Искать.
Найти — пока не нашли другие, это очень-очень важно. Прекрасно понимаю, что ничего мне за это не будет, если погибнет Юнона, не повесят же меня, в самом деле, и не сожгут… хотя кто их знает… в городке Таймбурге этим летом казнили лето за неисполнение своих обязанностей… да что я несу, каждым летом кто-то утонет, кто-то заблудится и погибнет, каждой зимой кто-то умрет от простуды, или там еще что, эдак каждое время года надо казнить… и каждый день… и каждый час…
Пробегаю мимо дома того человека, который любил весну, — что-то ёкает в сердце, почему я бегу к нему, почему я стучу в дверь, почему я врываюсь в дом, почему бегу по лестнице, залитой закатным солнцем…
— Вы… вы поможете мне?
— А? — он поднимает голову, выбирается из кресла, кажется, дремал человек, а тут я…
— А тут… а тут девочка пропала… а вы не поможете найти?
— Да… да вы что? — человек бледнеет, подскакивает, как ошпаренный. Понимаю, что значит для людей пропажа одного из них, понимаю, что этого-то мне точно не простят, долго еще будут вспоминать недобрым словом, а-а-а, это лето, когда девочка пропала, так и останусь в истории — лето, когда пропала девочка…
Человек мечется по комнате, бормочет что-то, да где она может быть, да куда вы с ней таскались вообще, вам, блин, только ребенка доверить, — я в ответ ляпаю что-то невпопад про лес, человек хватает со стены причудливое оружие, что-то настораживает меня, что-то, что-то…
…а вот оно что…
— Это вы её убили.
Человек падает в кресло, как подстреленный, бледнеет, покрывается красными пятнами, хватается за горло, хочет что-то сказать, не может.
Спрашиваю:
— Вы… зачем вы это сде… да что с вами?
Первый раз такое вижу у людей, чтобы мелкая дрожь, чтобы судороги, отчаянно вспоминаю номер скорой помощи, отчаянно понимаю, что не помню. Проклинаю себя, кто меня за язык тянул, что я вообще не могу остановиться, что я вообще продолжаю…
— Вы убили весну…
Он прячет лицо в ладонях, не то истерически смеется, не то рыдает, не то и то и другое вместе, я не понимаю.
— Вы… я… да… да…
— Вот… у оружия треугольный клинок… у весны была треугольная рана на груди… вы…
— …да…
— …но…
— …я любил её…
— …любили… и…
— …я… вы поймите… я хотел… чтобы она принадлежала мне… только мне… а она…
— Но это невозможно… весна принадлежит всем… всем!
Он бросается ко мне, лицо перекошено болью:
— Она моя, слышите вы? Моя! Это я любил её, это я… Да что вы вообще докажете, весна все равно до июня живет и умирает, ничего мне за это не будет, ничего!
Начинаю понимать:
— Так вот оно что… вот почему я опоздало на десять дней… вы умоляли весну задержаться, потому что любили её… она задержалась до десятого числа, она не хотела покидать вас… Но потом ей все равно пришлось исчезнуть… как вы не понимаете, глупый вы человек, что весна не может быть с вами вечно!
Хлопаю дверью, ухожу от него — прочь, прочь в тенистые улицы, бегом, бегом в леса, в поля, искать Юнону…
*
— Почему вы не приходите ко мне?
Вот так. Он останавливает меня на улице, он хватает меня за руку (лицо и правая рука у меня еще есть, а всего остального уже нет), он спрашивает:
— Почему вы не приходите ко мне?
Отвечаю как можно спокойнее:
— А я не хочу приходить к человеку, который убил весну.
— А лучше бы вы пришли… а то плохо ваше дело…
— Слушайте, я не обязано…
— …девочку-то нашли.
— И…?
— И. В реке нашли, мертвую.
Рушится мир.
— Вам лучше затаиться пока… люди на вас злы, очень злы…
— …ну что значит, злы, ну будут шипеть мне в спину, а-а-а-а, это то самое лето, в которое девочка утонула… Мы, знаете, не можем так, захотели, вышли на работу, не захотели, не вышли…
— …кто бы говорил…
— А что я, это вы меня на десять дней задержали с вашей весной!
— Да не напоминайте вы мне про неё, душу рвете! — он срывается на крик, тут же остывает, — нет, дело-то, конечно, ваше, только тут уже поговаривают, что вас казнить хотят…
— И что они мне сделают?
— Не, ну если вам так интересно узнать, так ваше дело, пожалуйста… мне и самому интересно посмотреть… Я вам помочь хотел, а дальше ваши проблемы… правда, чего я вообще лезу…
Уже хочу отмахнуться от него, тут же спохватываюсь, что если убили весну, то и меня угробят так же легко. А может, и не легко. Вспоминаю какие-то жуткие жути про средневековые пытки, прочитанные в местной библиотеке, поеживаюсь.
Так что вам лучше затаиться пока, — продолжает человек, — вот у меня дома хотя бы… осмелюсь предложить… не дворец, конечно, но жить можно…
…ужинаем.
Режем яблочный пирог.
Пьем что-то медовое, яблочное, пьем за упокой весны. Я понимаю, что здесь нужно что-то сказать, только я не знаю, что…
В половине одиннадцатого звонят в дверь, приходят люди, ищут меня, слышу обрывки голосов:
— …нет… его здесь нет… оно вообще ко мне не ходит, обиделось на что-то… Да куда вы меня тащите, да у меня вообще гастрит, ага, прихватило, да ничего, не надо врача, отлежусь как-нибудь, только вы уж как-нибудь без меня тут… а я если лето увижу, так непременно вам скажу…
Хлопает дверь.
Выжидаю.
Человек поднимается в комнату, тихонько кивает мне, все, все хорошо, они ушли…
— Спасибо, — шепчу я, — спасибо…
Он обнимает меня, я обнимаю его, я уже знаю, кому подарю последние теплые дни…
*
— …нет, там лета нет, — кивает почтенный Бишеп.
Почтенный Клаб недовольно смотрит на дом Даймонда, хмурится:
— Вы проверяли?
— Ну как… он вышел к нам, сказал…
— Мой дорогой Бишеп, мало ли что вам сказал Даймонд… вы проверяли его слова?
— А вы что предлагаете, обыскать дом?
— Именно так!
— Почтенный Клаб, в своем ли вы уме… как можно не верить на слово…
— …так можно не верить на слово. Лето пропало. Сами посмотрите, что на улице творится, это уже не лето, уже десять дней, как не лето, послезавтра сентябрь, а мы так лето и не нашли…
— Ну… может, лето такое…
— Ну, дорогой мой Бишеп, я сорок лет на свете живу, лето от не лета отличить еще могу. Нет, вы прислушайтесь, принюхайтесь, вы почувствуйте осень… осень…
— Ну… может, лето ушло от нас пораньше? Оно и пришло позже, это лето, схалтурило, и ушло раньше…
— А вы уверены, что оно ушло… а не его ушли?
— Но к-кто? Осень?
— Да нет, тут дело нечисто… видите как… проще всего сказать — ленивое, бестолковое лето, опоздало, безобразничало тут, бездельничало, а потом Юнона моя утонула, лето испугалось, что такое натворило, и ушло… может, ему стыдно стало, что не уследило оно… Только… только чувствую я, что-то тут не так…
— Почтенный Клаб, вы детективы пишете, вот вам и чудятся везде всякие что-то-тут-не-таки.
— А весну кто убил? Сначала лето опоздало, потом труп весны, и понеслось…
— Убедили. Пойдемте к Даймонду, он поймет…
Люди идут к дому Даймонда, маленький у Даймонда дом, но уютный, что есть, то есть, и лужайка перед домом, и куст акации вырезан в форме не то пешки, не то шахматного слона. Незваные гости раскланиваются перед Даймоном, простите за беспокойство, тут дело такое, лето-то пропало, надеемся, вы нас поймете, позволите… Даймонд кивает, проходите, проходите, извините за бардак, эх, мне только гостей в дом пускать…
— …его здесь нет.
Два человека переглядываются в последней комнате на втором этаже, понимают, что лета здесь нет. Нет, попадались пару раз зеленые листья, ягоды какие-то, высохшие бабочки, ну так это в каждом доме можно найти…
Лета здесь нет.
Даймонд хлопочет на кухне, заваривает чай, бормочет что-то, да что за лето такое, не лето, а сплошное недоразумение, разрешите вам чай предложить, извините, чем богат, тем и рад, вот, пирог грушевый, о-ох, мне только гостей встречать…
*
— …взгляните…
Это уже потом, когда Клаб и Бишеп возвращаются из гостей, проходят мимо переулка, где овраг, Клаб щурится, показывает в темноту оврага, чуть подсвеченную последним фонарем.
Взгляните…
— Что такое?
— Да как вы не видите… это же…
— Да что такое… опять, что ли?
— Похоже, что опять…
Оба бросаются к неподвижному телу в овраге, еще надеются на что-то, хотя на что тут можно надеяться, и так видно, — все, что осталось от лета.
— Лето! Очнитесь! Пожалуйста! Очнитесь! Вот чер-р-рт, мертво…
— Поразительно… пока лето было живое, оно таяло, а мертвое оно целехонькое…
— Потому что мертвое… стойте… это еще что?
— Опять то же самое… горло проткнули… дыра треугольная…
— А вот и оружие…
— Слушайте, я с ума сойду, — Бишеп умоляюще смотрит на Клаба, — сначала весну кто-то угробил, потом лето… хотя такое лето я бы и сам угробил, чесслово…
— Да это мне с ума сходить надо! — Клаб срывается на крик, — я дочь похоронил, а вы…
— …вот я про то и говорю… поганое вышло лето…
— Да как вы не понимаете, что лето-то не виновато ни в чем?
— Ну как же… недоглядело…
Клаб хочет что-то сказать, тут же отмахивается, набирает номер полиции, алло, у нас тут лето убили…
*
…зачем я снова и снова возвращаюсь сюда, в мой первый день, который по хорошему должен был стать десятым, зачем снова иду по утреннему городку, который еще спит, зачем спускаюсь в овраг, где весна, зачем, зачем, зачем, перебираю в овраге какие-то обрывки газет, кусочки прошлого, новости какие-то, вернее, уже старости, фестиваль чего-то там где-то там, авария чего-то там где-то там, а это…
…а это что…
Не понимаю, что я вижу, это было в кармане у весны, это выпало, какие-то записи, заметки какие-то, не забыть то-то и то-то, что-то там про снег, про паводок, про Пасху, про первую листву, и дальше, в конце страниц —
Не забыть.
Даймонд убил зиму, она…
…а дальше оторвано.
Оторвано…
…возвращаюсь в гостиную в доме человека, который убил весну.
Даймонд.
Теперь я знаю.
Даймонд.
— Дамйонд… вы… вы сожгли записи весны?
Даймонд краснеет.
— Вы понимаете… это касалось только нас двоих…
— …боюсь, что нет. Весна… она знала, что вы убили Зиму.
— Наглая ложь, я…
— …убили зиму. Я верю весне… Вы убили весну, потому что она знала, что вы убили зиму… — спохватываюсь, продолжаю, — потому что зима знала, что вы убили осень, а осень знала, что вы убили лето…
— Верно, — кивает Даймонд, — убил лето…
— Прошлое лето?
— Нет… не прошлое…
Не успеваю спросить, что такого знало лето, в голове вертится бешеной каруселью, — убил весну, потому что весна знала, что убил зиму, потому что зима знала, что убил осень, потому что осень знала, что убил лето, потому что лето знало, что убил весну…
…лезвие пронзает меня насквозь, еще успеваю подумать, что тут что-то не так…
*
…снова стучат.
— Да-да, входите!
Спохватываюсь, невежливо это как-то — да-да, входите. Открываю дверь, смотрю на человека, что за человек, не знаю, они для меня все на одно лицо…
— Э-э-э… вечер добрый.
Киваю:
— И вам того же.
— Разрешите… представиться… Клаб.
— Очень приятно, — пожимаю протянутую руку, — мое имя, я думаю, вы знаете.
— Разумеется, как не знать… мы вас любим… очень любим…
— Да неужели… обычно люди другое говорят.
— Что они вообще понимают, эти, которые другое говорят. А мы в вас души не чаем, правда… красота такая…
Настораживаюсь. Если вот так с бухтты-барахты заваливают комплиментами, тут что-то не так, что-то хочет от меня этот человек, понять бы еще, что. И сдается мне, что просить будет не богатый урожай и погожие денечки, а что-то посерьезнее.
Делаю вид, что ничего не замечаю, наливаю гостю глинтвейн, подбрасываю дровишек в камин, люди это любят.
— Ой, спасибо огромное, вы меня прямо выручаете, а то простуда одолела… как же мы вас все-таки любим вот за это за все, камин, глинтвейн, листья… Я, собственно… вы простите за беспокойство… у меня тут просьба к вам…
Мысленно киваю, так я и думала…
— …вы не подумайте, мы вас очень любим… но понимаете… вы бы не могли…
Договариваю:
— …уйти?
— Да что вы, как можно? Ни в коем случае. А не могли бы… на денек-другой…
Договариваю. Человек вздрагивает:
— Мысли читаете?
— Да нет, обычно только это и просят…
— Очень вас прошу… пожалуйста. Вы поймите правильно, мы же не потому, что вас не любим, просто… тут дело такое…
Слушаю. Понимаю, что дело нешуточное.
— Ну, хорошо… это против всяких правил… вы поймите, я же тоже так не могу, делать, что хочу… у меня же тоже своя работа…
— …понимаю, работа есть работа, что же делать…
— …давайте так… чтобы и я, и оно…
Человек подскакивает:
— Одновременно?
— Ну да… тогда, может, и не нажалуется никто…
— Спасибо вам огромное… вы только пожалуйста не думайте, что мы вас не любим… еще как любим… просто…
— Да, да… я понимаю… раз такое дело…
*
…пронзает насквозь…
…нет, нет, хватаюсь за грудь — ничего подобного, целехонько, да как так, было же, было, стальное лезвие, нестерпимая боль, меркнущий мир…
— …вам лучше?
— А?
— Да вы лежите, лежите, что вы… если что нужно, так я принесу…
Узнаю голос, разлепляю веки…
Даймонд.
И Клаб.
Даймонд спохватывается:
— Клаб, да вы бы хоть водички принесли лету, что ли, или чаю там… вы поймите, я бы и сам принес, так я ж не знаю, где у вас тут в доме что…
Все понимаю.
Хочу кричать, из горла вырывается хрип:
— Не… не…
— …правда что, какая там водичка, тут бы посерьезнее чего, чаю там или кофе… или чего покрепче?
Невыносимо. Побороть эту слабость небытия, сказать…
— Не… не у-хо-ди-те…
Заставляю себя сжать руку Клаба.
— Он… Даймонд… он у-бил ме-ня… по-то-му-что…
— Бредит, — вздыхает Даймон.
— У-бил… вес-ну… а я уз-на-ло… а вес-на… зна-ла… у-бил… зи-му…
— Бредит…
— А зи-ма… — понимаю, что надо ближе к делу, — прошлым… летом… он… у-бил… Юно…
Даймонд бросается прочь из комнаты. Клаб кричит из окна, держите, держите, — шум на улице, громкие крики…
…мир снова плывет в тумане…
*
— А почему он убил Юнону?
Это уже потом. Когда еле-еле отдираю себя от кровати, когда кое-как устраиваюсь в кресле, когда Клаб приносит мне глинтвейн, я раньше и не знало, что это такое — глинтвейн, и тыквенный суп, и равноденствие, и Мабон, и листья, листья, почему они красные, желтые, рыжие, люди жгут костры из листьев, пишут на листьях все плохое, что случилось с ними, бросают в костер, — робко надеюсь, что там нет моего имени.
И вот, уже потом —
— А почему он убил Юнону?
Клаб отмахивается, Клаб не хочет говорить. Вспоминаю что-то из прочитанного в архивах и библиотеках, какие-то жуткие вещи, которые делают с детьми — не хочу вспоминать.
Кстати…
— …а где дети?
Оглядываю дом, непривычно пустой и тихий.
Клаб разводит руками:
— Ну что вы хотите, лето-то кончилось…
Что-то вспоминаю:
— В школе, да?
Клаб обреченно смотрит на меня:
— Вы что… правда ничего не помните?
— Ну как же не помню, все помню… флорентйские окна… мертвая весна… вы ругались, что я на десять дней позже… дети… на речке…
— Да нет же… — Клаб роняет голову на руки, — у меня даже фотографий не осталось, вы же на фото не проявляетесь… Да нет же… первая встреча… в июне… мы танцевали… потом целовались украдкой… только луна знает… сцены ревности… ты будешь принадлежать только мне… наши дети… Юнона… Юлия… Август…
Обнимаю Клаба, воспоминания наваливаются все, разом…
— Это было… в прошлом году? Или в позапрошлом? Или…
— …или десять лет назад…
— А может, двадцать…
Понимаю, что Клаб думает, одно это было лето или разные. Клаб бормочет что-то про Даймонда, он больше всех орал, что нельзя так, чтобы человек — и лето, но что он детей наших убивать пойдет, уж никто не ждал…
— Но… но зачем?
— Ну, видишь как… дескать, не должно быть такого, это против самой природы… чтобы наполовину люди, наполовину времена года… гибрид пространства и времени…
Молчим.
Осень стучит дождем в окна, хочет войти.
— Ты… ты останешься?
Я не знаю, что ему ответить.
Я не знаю.
*
— …не уходи…
Это Клаб.
Я не хочу уходить.
Даже сейчас.
В конце сентября.
Я обнимаю Клаба, Клаб сжимает мои руки, пытается удержать то, что удержать невозможно. Я бормочу какие-то обещания, я вернусь, обязательно, и мы будем вместе, и дети наши будут, и я никуда не уйду, никуда-никуда, ни в сентябре, ни в декабре, мы еще Мабон вместе отпразднуем, и Самхейн, и Йоль, и будем есть жареную индейку, когда за окнами будет снегопад, вот почему-то это важно, чтобы индейка и снегопад, и подарки под ёлкой…
*
Он смотрит на календарь.
Накрывает на стол.
Распахивает окна.
Первые лучи солнца касаются крыш, тихонько ползут вниз.
Оно приходит в город — запыхавшееся, растерянное, спешит по улице, волоча за собой чемодан. Клаб выходит из своего дома ему навстречу, перехватывает чемодан из тонкой руки, разрешите помочь…
Спрашивает:
— Вы… вы меня… помните?

Треугольное лето
Мы облюбовали себе лето.
Ну, само собой, что же еще, не суровую же зиму и не промозглую весну, и не темную осень — а бескрайнее светлое лето.
Итак:
Мы облюбовали себе лето.
Я и Ингрид.
Июнь, июль и август. И снова июнь. И снова июль. И по кругу, по кругу.
Здесь можно есть вишню прямо с деревьев. Или малину с куста. А больше у нас в поместье ничего не растет. Здесь можно лежать на траве. Или бегать в лес за черникой. Или сидеть у костра в самую короткую ночь в году. Или собирать звездопады.
Ингрид целует меня в губы. Мне этого мало. Ингрид просит не торопиться, подождать еще. Я не тороплюсь, я жду, осторожно намекаю, что не могу ждать целую вечность.
Ингрид убила меня.
Нет, не сегодня.
Это случится не сегодня.
А в сентябре.
Отсюда, из августа, хорошо виден сентябрь, какое-то там число — когда Ингрид убила меня.
Выстрелом из лука.
Вот так.
Выстрелом из лука.
Из дома выходит Ингрид. Мне становится страшно, тут же одергиваю себя, что сегодня август, а убьет она меня в сентябре, так что бояться нечего, мне ничего не грозит.
Спрашиваю Ингрид, умеет ли она стрелять из лука.
Ингрид говорит — нет.
Не умею.
А давай я тебя научу, говорю я.
А давай, соглашается Ингрид.
Понимаю, что Ингрид даже не умеет держать лук, она и правда не может меня убить.
Вечером идем домой.
Отчим курит у камина.
Ужинаем.
На каминной полке стоит глобус времени.
В который раз хочу спросить отчима, откуда взялась Ингрид.
В который раз не спрашиваю.
В который раз хочу спросить у самой Ингрид, откуда она взялась.
В который раз не спрашиваю.
Август кончается.
Мы спорим с Ингрид, куда пойти дальше.
Я хочу в июнь, теплый и солнечный, я хочу в июнь, потому что рядом май, когда я перывй раз увидел Ингрид. Я хочу перейти в май, чтобы снова пережить этот день, когда вошел в гостиную, а Ингрид сидела у окна, и еще тогда цвела сирень.
А Ингрид хочет июль.
Почему-то.
Просто.
Хочет июль.
Мне не нравится июль, из июля виден студеный январь. Ладно бы еще начало конец июня, начало июля, когда из лета виден кусочек зимы с Рождеством и Новым Годом, елка, свечи, пряники, — а просто январь, кому он нужен, январь… ну, может и нужен кому-то, не спорю, но не мне.
Наконец, договариваемся. Сначала немножко июня и немножко мая, чтобы сирень, а потом июль. Ингрид догадывается о моих мыслях, кивает, а потом еще в Новый Год пойдем и в Рождество…
Отчим говорит, что пора бы и в сентябрь, не век же лету быть.
Заикаюсь что-то про весну.
Отчим настаивает — надо и осень тоже, всякому времени свое время, не любит время, когда им не пользуются, так и сломается.
Бормочу про октябрь, хороший месяц, там и до Самхейна недалеко, украсим дом тыквами и летучемышиными крыльями…
Отчим говорит про сентябрь, отчим настаивает, в сентябре тебе восемнадцать стукнет, наследником станешь, знаешь же, что мать покойница поместье тебе завещала…
Сжимается сердце, зачем напомнил про мать, зачем, зачем…
Киваю. Теперь знаю. Отчим еще что-то говорит про вступление в права наследования, рассеянно киваю, да-да-да…
Учу Ингрид стрелять из лука.
Она сама попросила.
У Ингрид получается.
Здорово получается.
Стрела вонзается прямо в цель.
Сердце прошибает запоздалый страх, что я делаю, я сам рою себе могилу. Тут же заставляю себя успокоиться, ведь это будет в сентябре, а в сентябрь мы не пойдем.
Просто.
Не пойдем.
На каминной полке стоит глобус времени, кто-то (Ингрид?) поставил эту пирамиду на зимнее основание, повернул к нам треугольником лета. Машинально читаю по граням — июнь-июль-август. Если повернуть пирамиду, на соседней грани с августом будет сентябрь.
Почему-то вспоминаю те времена, когда время представляли прямой линией.
Меня тогда не было.
Почему-то вспоминаю мать, которая доказала, что время имеет форму пирамиды.
Пирамидальный год.
Треугольное лето.
А значит, можно попасть не только из июня в май, из сентября в август, но и в март — из октября, в январь из июля.
Через грани пирамиды.
…вылезаем из речки, отряхиваемся.
Ингрид отжимает волосы.
Не выдерживаю, обнимаю Ингрид, целую загорелые плечи, целую…
…черт…
…только сейчас понимаю, что чувствую губами мертвый пластик.
Ингрид смущенно набрасывает одежду, ускользает в заросли жасмина.
Я остаюсь один.
Наедине с июнем.
А давай сегодня июль, говорю я за завтраком.
Лишь бы оборвать это тягостное молчание Ингрид. И бормотание отчима, что не век же быть лету, надо бы и осень, ну хоть сентябрь, а то так и время поломать можно, время не любит, когда им не пользуются.
Вот я и говорю:
А давай сегодня июль.
Ингрид бледнеет.
Роняет чашку, разбивает на осколки, хлопочет, да я уберу, уберу, опускается на колени перед разбитой чашкой.
Я увожу Ингрид, я бормочу что-то, что ну хотела же июль, ну вот же, пожалуйста, ну не хочешь, не надо…
Ингрид сжимает пальцы добела.
Кивает:
Июль.
Собираем чернику.
Едим.
Хочу спросить у Ингрид, а почему так было, что мертвый пластик под моими губами — не спрашиваю.
Ингрид целует меня. осторожно. Робко. Как будто боится, что я её оттолкну, прогоню, испугаюсь. Не отталкиваю, не прогоняю, расстегиваю её корсет, я уже не спрашиваю, почему мертвый пластик…
…отсюда видно январь.
Потрескивающие от мороза звезды.
Заметенное снегом крыльцо черного хода.
Свет фонарей.
Кабинет отчима, святая святых, куда мне ходить не велено.
Отчим склоняется над чертежами.
Приплясывают язычки пламени в камине.
Ингрид берет лук, хочет стрелять — мне становится страшно, чего я боюсь, чего, чего, чего, сейчас же не сентябрь, не сентябрь, нет, нет, нет…
Ингрид кружится с луком по траве, смеется, делает вид, что хочет стрелять наугад.
Замирает.
Пускает стрелу, уже никаких сомнений — в отчима там, в январе.
Смеется.
Я тоже смеюсь, я понимаю, что ничего не случится, потому что мы — летом, а отчим — зимой.
Кричу — когда спину отчима пронзает стрела, чертежи заливаются кровью. Я бегу из июля в январь, я еще надеюсь что-то сделать, но уже понимаю —
Мертв.
Оборачиваюсь в раскаленный июль:
Ингрид!
Ингрид нет, Ингрид тускнеет, тает, падает на траву пустое платье.
Не понимаю.
Дрожащими руками набираю телефон полиции, от волнения даже не могу сказать, куда ехать — в январь или в июль.
Вот как по-дурацки все получилось, говорит следователь, сделал человек механическую женщину, а она сама же своего создателя застрелила из будущего в прошлое, из июля в январь…
Пьем кофе.
Следователь спрашивает меня, да точно ли случайно, я киваю — точно-точно, своими глазами видел, она играла, она вообще хотела в июле в какое-то дерево попасть, и тут нате вам, в январь стрела вылетела…
Следователь соболезнует.
Иду в сентябрь. Ненадолго — подмахнуть бумаги на наследство, и дальше, в багряно-красный октябрь, где плед у камина и капли дождя. Я не хочу возвращаться в лето, в лето, в котором нет Ингрид.
Из октября виден март.
Смотрю на март, сам не знаю, зачем, отсюда вижу отчима в кабинете, вижу Ингрид, недавно собранную, еще недоделанную, еще с торчащими пружинами и шестеренками, еще не понимающую, кто она и что она, еще лысую — отчим только подбирает ей парик, назаказывал же где-то париков полную коробку.
Я уже знаю.
Он выберет волосы цвета солнца.
Так и есть.
На стене моя фотография.
Отчим вкладывает в пластиковую руку Ингрид маленький ножичек, показывает, как бросать…
Смотрю.
Понимаю всё…

Краденая судьба
— Ой, я так испугалась…
Элина входит в холл из прихожей, вся дрожит, ну еще бы ей не дрожать после увиденного. Вспоминаю, что должен провести её к горящему камину и усадить в кресло, — неловко подхватываю девушку под руку, не умею я с женщинами, не умею. Пытаюсь укрыть Элину пледом, плед выскальзывает из рук, ладно, пусть думают, что я сам струхнул…
— Она… она ушла? — спрашивает Элина, — эта… женщина… Эта тень… Этот… это призрак…
Здесь я должен сказать: Не бойтесь, милая барышня, она ушла.
Я не говорю.
Дворецкий делает мне отчаянные знаки, ну давай, давай, говори уже, видишь, на даме лица нет, успокой богатую наследницу… да что наследницу, невесту свою утешай давай, что ты встал, как на параде…
Я не говорю.
Теперь уже не только дворецкий, теперь уже и Элина оторопело смотрит на меня.
Выжидаю еще несколько секунд, наконец, чеканю слова:
— Мисс… вы обвиняетесь в ограблении.
Она оторопело смотрит на меня:
— Мэтт?
— Вы. Обвиняетесь. В. Ог…
— …ты с ума сошел, кого я…
— …Вы ограбили Элину Хэлкетт.
— Но я…
Повторяю:
— Ограбили Элину Хэлкетт. Очень ловко провернули это дело… где вы её встретили? Позвольте догадаться — в поезде, не так ли? Разговорились в купе, потом вы дождались, пока Элина уснет, чтобы потихоньку вытащить из саквояжа попутчицы её имя, её судьбу, её внешность…
— Вы… вы… Мэтт, вы с ума сошли… господин дворецкий, будьте так любезны вызвать врача, мой бедный Мэтт…
— Не верите? В таком случае позвольте позвать сюда призрак этой несчастной леди, и мы сами у неё спросим, как было дело!
Хочу распахнуть дверь, — теперь уже дворецкий перехватывает мою руку. Готовлюсь приводить какие-то доказательства, которых у меня нет, аргументы, которых у меня тоже нет, — не успеваю. Та, которая называла себя Элиной Хэлкетт, роняет голову на руки, трясется в беззвучных рыданиях.
— Я… у меня же… у меня нет ничего… совсем… я же…
— Ну, сударыня, это отнюдь не повод красть чужие судьбы и чужие имена…
— Я… — рыдает в голос, — у ме-ня-ни-че-го-нет!
— Сударыня, — говорю строго, с нажимом, — верните судьбу моей невесте, — чувствую, как сжимается сердце, — я… мы… я обязательно помогу вам… Я… я разберусь…
Элина (Элина?) покорно вытаскивает чужое имя, чужую судьбу, перебирает на ладони, протягивает мне. Делаю знак дворецкому, ну только попробуй не открыть дверь — все понял, распахивает двери, в комнату врывается осенняя морось, холодок октября, пара кроваво-красных листьев падает на ковер.
Сжимается сердце.
Неслышной тенью плывет в прихожую призрак серой леди, пытаюсь узнать в её чертах милую сердцу Элину, — не могу. Не выдерживаю, хватаю её имя, судьбу, неумело прикладываю к серой тени, сейчас отвалится, как пить дать отвалится — нет, что-то происходит, бесплотный призрак преображается, Элина бросается в мои объятия.
— Мэтт! Милый мой, я так волновалась… я уже отчаялась…
Никогда не надо отчаиваться, любовь моя…
Спохватываюсь. Оборачиваюсь, смотрю туда, где минуту назад сидела незнакомка — уже никого нет, пустое кресло, серая бесплотная тень ускользает в прихожую, в дверь, в темноту ночи.
Черт…
Бегу за ней, осень обдает серой сыростью, сырой серостью, еле успеваю заметить тень в свете фонарей, хочу окликнуть её по имени, тут же вспоминаю, что нет у неё никакого имени…
— Постойте! Подождите! Я… я обещал вам…
Останавливается спиной ко мне. Продолжаю:
— Вы… вы что-то помните о себе?
Отрицательно мотает призрачной головой.
— Вы… кем вы были?
Нет ответа.
— Вы… кем вы были?
Уже не может мотать головой, делает мне какой-то знак, знак пустоты, знак ничего — даже толком не могу понять, как я его воспринимаю…
— Так и скитались от человека к человеку?
Знак согласия.
— Долго?
Что-то, похожее на знак вечности. Так и не понимаю, то ли это метафора, то ли он и правда скитался с самого сотворения мира… он? Понимаю, что ничего не знаю об этом существе…
Что-то происходит, нечто неведомое, бесплотное выхватывает из моего кармана что-то… ключи… нет, не ключи, не сразу понимаю, что у меня вытащили имя, и еще бумаж… нет, не бумажник — судьбу, бросаюсь за грабителем — понимаю, что не могу бежать, у меня нет ног, не сразу соображаю, как управлять бесплотной тенью, которая от меня осталась… тенью? Нет, я не вижу себя, меня уже нет, — только воспоминание, только отчаянно бьющаяся мысль…
Еще пытаюсь догнать то, что было мной — не успеваю, он прыгает в кэб, цокот копыт, скрип колес, одинокий фонарь кэба тает в тумане. Чувствую, что тоже начинаю таять в тумане, тихонько проклинаю грабителя, хоть бы сказал, сволочь такая, что он такое, как он живет…
…что-то знакомое вспархивает в темноте ночи, еще не понимаю, что, — устремляюсь к нему, вижу знакомые строки:
— Ой, я так испугалась…
Элина входит в холл из прихожей, вся дрожит, ну еще бы ей не дрожать после увиденного. Вспоминаю, что должен провести её к горящему камину и усадить в кресло, — неловко подхватываю девушку под руку, не умею я с женщинами, не умею. Пытаюсь укрыть Элину пледом, плед выскальзывает из рук, ладно, пусть думают, что я сам струхнул…
…вспоминаю сегодняшнее утро, которое кажется бесконечно далеким, мои ленивые попытки написать что-то стоящее для местного журнала, охватившее меня отчаяние, рукопись, брошенная в окно, в холодный ветер осени…
Хватаю рукопись — нет, не так, рукопись хватает меня, мир снова переворачивается с ног на голову, не сразу понимаю, каково это — быть промокшим листом бумаги. Мир вертится бешеным волчком, стоп, стоп, стоп, держаться, держаться, держаться… за воздух? За пустоту? Неимоверным усилием воли направляю себя к знакомому дому, падаю в приоткрытое окно, на стол. Почему я жду Элину, чего я жду от Элины, он войдет, она возьмет листок, бросит его в стол, не более… или… или…
….что я могу сказать ей…
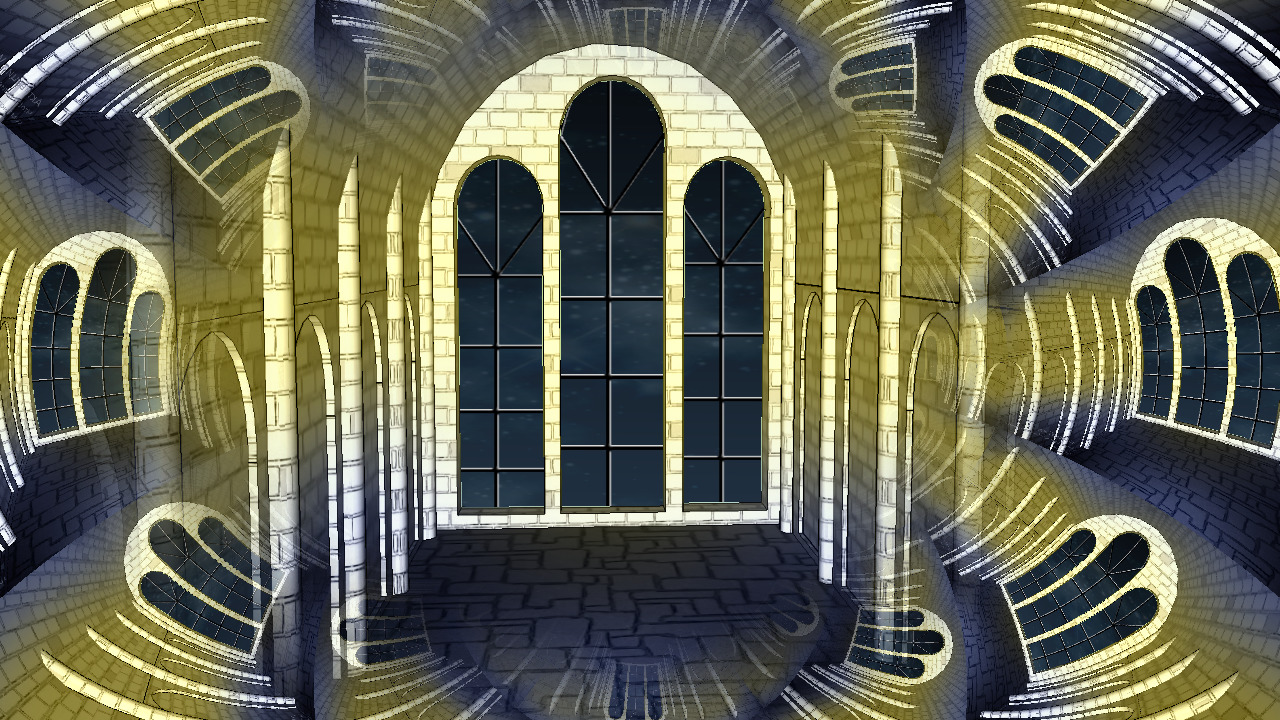
Бездомный дом
…каково же было мое удивление, когда я увидел сон, который в то же время не был сном: под моим окном стоял замок. Самый настоящий замок, с башенками, фахверковыми пристройками, стрельчатыми окнами. Замок заметил, что я смотрю на него, и вежливо приподнял крышу:
— Почтенный господин… не могли бы вы уделить мне немного вашего драгоценного внимания?
Я окончательно убедился, что это не сон, выбрался из постели и приоткрыл окно — холодок сентября пробрался в комнату и свернулся калачиком у остывающего камина.
— Внимательно вас слушаю, — сказал я замку, — чем могу быть полезен?
— Я пришел к вам за помощью, сэр… дело в том, что мой хозяин… хочет меня сжечь.
Меня стало не по себе. Я еще раз оглядел замок, пытаясь найти в нем хоть какой-то серьезный изъян — но чем больше я смотрел, тем больше понимал, что замок, несмотря на почтенный возраст, отлично держится.
Я откашлялся:
— Боюсь, что это не ко мне… Я же всего-навсего полицейский, а не специалист по старым домам…
— Да-да, мне нужен именно полицейский, — с жаром ответил дом, — видите ли… мой хозяин… мистер Каннингун… собирается сжечь меня не просто так… он… он заметает улики.
По спине пробежал холодок.
— А, вот это уже серьезнее… он что… что-то прячет?
— Он собирается убить свою супругу.
Перебираю причины, по которым муж может так поступить, тут же сдаюсь, спрашиваю:
— А… что случилось?
— Жена слишком много знала о его… темных делах.
— Об амурных похождениях, вы хотите сказать?
— Нет, я имел в виду другое, — замок замотал башенкой, — темные дела… подделки счетов… вот это вот все… в конце концов, он повинен в смерти своего адвоката, и жена это знает!
Меня передернуло, я понял, что страсти творятся нешуточные.
— Где… где он живет… где этот дом? То есть, где вы?
— Королевская площадь, семнадцать.
— Скорее… — я хотел броситься на улицу, но тут же спохватился, что на мне нет ничего кроме легкой пижамы, в которой я уже изрядно продрог. Перспектива одеваться и идти куда-то по холодной ночной улице нисколько меня не радовала, но, к счастью, дом пришел мне на помощь:
— Не беспокойтесь об этом… пожалуйста… входите…
Недолго думая, я вошел в замок, прямо так — прыгнул из окна своей спальни в окно спальни для гостей в большом замке. Несколько секунд я еще раздумывал, насколько тактично будет выйти к хозяевам дома в халате — но решил, что халат подойдет к ситуации ничуть не меньше, чем полицейская форма.
— Показывайте, — нетерпеливо попросил я, — покажите… улики…
— Вот, смотрите, смотрите, — оживился замок, — вот потайная ниша, сюда он спрячет тело жены, а вот тайный ход в секретную комнату, сюда он спрячет тело секретаря, а здесь будет убита служанка…
— Постойте-постойте, — спохватываюсь, — так этого еще… еще не случилось?
— Не случилось, — замок чуть смущается, — но… но случится. Обязательно. Да вы сами, сами посмотрите по сюжету!
Замок показывает мне на книгу, брошенную на стол, — листаю, перелистываю, чувствую, как остатки волос на затылке встают дыбом. Н-да-а, намудрил хозяин дома, так намудрил, что в жизни не расплатится за свои преступления…
…вздрагиваю, подброшенный шорохом шагов на лестнице.
Выжидаю.
Сжимаю револьвер в кармане халата.
Вижу долговязую фигуру на лестнице, догадываюсь:
— Имею честь говорить с мистером Каннингуном?
— К вашим услугам… чему обязан?
Вы обвиняетесь в четырех убийствах, подделке документов…
— …да вы с ума сошли, — вижу, как хозяин дома стремительно теряет самообладание, — вы…
— А вот посмотрите сами… почитайте… Это же книга про нас, не так ли? Вот здесь-то вы по сюжету и собираетесь сделать все это…
— Но… позвольте-позвольте, всем известно, что мы можем изменить сюжет так, как сочтем нужным, книга не указ нам…
— …и именно это я сейчас собираюсь сделать, когда арестую вас.
— Но… — Каннингун неуверенно смотрит на фолиант, — это… где вы нашли книгу?
— Мне любезно показал её ваш дом… мистер Каннингун! Вы… с вами все в порядке?
В первую минутку я подумал, что хозяин лишился рассудка, — так внезапно он опустился на ступени лестницы и расхохотался почти истерически.
— Вы… вы… вы верно подметили… уж чем-чем, а литературным талантом жизнь мой замок не обделила…
— Простите?
— Мой замок… Каннингун-холл… он не только уютнейший дом, но и автор многочисленных романов.
Вздрагиваю. Вроде бы давно пора привыкнуть, что в наш прогрессивный век дома пишут книги, играют на скрипках и гуляют по улицам — так нет же, нет, каждый раз слушаю о достижениях домов, как о каком-то чуде…
Каннингун тем временем осторожно взял у меня книгу и пролистал несколько страниц.
— Поразительно… какая ловкая мистификация, как удачно выдумано…
— Выдумано? — дом вздрогнул, я схватился за колонну, чтобы удержаться на ногах, — господин следователь, вы верите этому мошеннику?
Я и ахнуть не успел, как дом покачнулся так, что Каннингун потерял равновесие и упал в маленький чулан, который дом гордо назвал потайной комнатой, — и дверь чулана захлопнулась.
— Скорее готовьте наручники! — скомандовал замок, — я помогу вам задержать его…
— Стойте! — голос Каннингуна из-за двери звучал глухо, — вы… скажите, почему вы верите ему?
Я не успел ответить, он не дал мне опомниться, добавил:
— Вы посмотрите… посмотрите книгу… полистайте… ничего не замечаете? А я заметил на седьмой странице…
Я старательно прочитал седьмую страницу, уже хотел сказать, что в ней нет ничего особенного, когда спохватился.
— Чёрт… Каннингун поправил свою крышу и открыл чердачное окно… Миссис Каннингун за ужином пожаловалась на свое крыльцо, которое нуждается в ремонте… ну конечно же, это писал дом!
Угрожающе хлопнула входная дверь — я понял, что замок не собирается шутить, но и я был не промах. Недолго думая, я сунул книгу в пламя камина и вытянул руку с пылающими страницами%
— Уважаемый замок… если вы немедленно не прекратите свои глупости, я сожгу вас дотла, я клянусь!
Я не ожидал, что мои слова возымеют действие, я думал, что мне еще придется повоевать с домом — но замок, похоже, понял, что я не шучу, покорно открыл двери.
— Вот так-то, и чтобы без глупостей, — сказал Каннингун, выходя из чулана, — я должен попросить прощения за свой замок… вот уж не ожидал от него такой выходки.
— Осмелюсь предположить… может… вам и правда будет безопаснее покинуть дом?
— Ну, я живу в этом доме более тридцати лет, и как никто знаю его непростой характер… Думаю, мы и на этот раз помиримся.
— Но… но… почему ваш дом хотел убить вас?
— Трудно сказать, — ответил Каннингун, — возможно, это связано с тем, что я завещал ему после смерти все мое состояние…
— Ничего подобного, — обиженно отозвался дом, — вы… вы… это несправедливо!
— Что такое? Что несправедливо?
— У вас… у вас есть дом! — крикнул замок.
— Ну, разумеется…
— …а у меня нет! так нечестно! Вы… вы… — мне казалось, что дом сейчас заплачет, задребезжит всеми стеклами.
— Уважаемый дом… — примирительно заговорил я, — мы… мы обязательно что-нибудь придумаем…
— Что? — замок сердился не на шутку, — что?
— Не знаю. Но придумаем. На то мы и люди, чтобы придумать…
Мы перебрались в маленькую гостиную, где леди Каннингун приготовила чай. Я восхищался самообладанием этой женщины, которая готовила чай как ни в чем не бывало, как будто дом только что не пытался убить нас всех.
— Удивительно… — пробормотал Каннингун, — дом, который переживает, что у него нет дома… кто бы мог подумать…
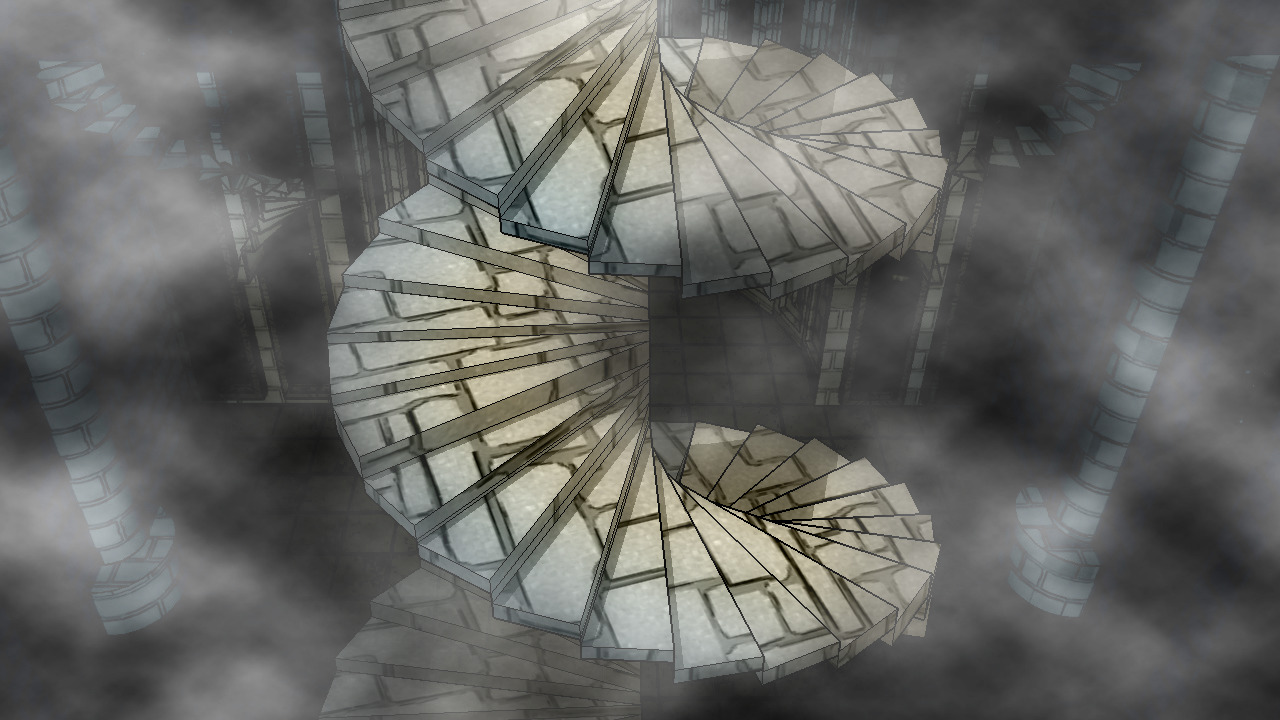
Натотсветные
Поднимаюсь по пересохшему руслу реки.
Боюсь опоздать.
Смотрю на часы.
Нет, не опаздываю. По-моему. Хотя кто его знает, сейчас постучу в дверь, а Чикен откроет и скажет с самодовольной ухмылочкой, что я опоздал.
Чикен открывает.
Не говорит.
Бормочет какие-то привычные вежливости, рад вас видеть, и все такое, кричит супруге, чтобы поторапливала горничных, пора на стол подавать, гость пришел.
Гость…
Смотрю на семейство Чикена — плотные, непрозрачные, почти как живые, если не считать синеватой кожи. С интересом смотрят на меня, призрачного, невесомого, почти невидимого, ну еще бы, нищета им в диковинку. Мне подают чашу с кровью «для гостей» — малую чашу, но и этого хватает, чтобы насытиться.
Я жду.
Чикен обещал.
Сегодня.
Чувствую, что они тоже ждут, поглядывают на часы, старший сын то и дело подскакивает с места, расхаживает по комнате.
Я хочу спросить у хозяина — будет или не будет, зря я, что ли, пришел сюда, скажет мне или не скажет Чикен, откуда они берут кровь. Тем более, Чикены делают вид, что вообще ничего не происходит, допивают кровь, вытаскивают какие-то причудливые шахматы на десятерых, дочка хозяина терпеливо объясняет мне правила игры, её жених недобро косится на меня, отец семейства делает ему знаки, да ты посмотри на этого доходягу, нашел к кому приревновать…
Спохватывается.
Поворачивается ко мне:
— Ну, смотри, парень… никому не слова…
Отчаянно киваю.
Часы бьют три часа пополудни.
Что-то происходит, — неуловимо, мимолетно — я вижу на столе стопку бумаги там, где секунду назад ничего не было. Все спохватываются, по очереди кидаются к бумагам, подписывают что-то, хлопочут, паспорт, паспорт мой где, давайте скорее, да пора бы уже наизусть запомнить, да ну вас, я имя свое наизусть не помню, а вы…
Наконец, очередь доходит до меня, мне протягивают список. Уже хочу нарисовать цифры, тут же спохватываюсь, и — чер-р-р-рт, кто меня за язык тянет, опять полезла идиотская привычка еще оттуда, из жизни, не ставить подписи куда ни попадя, нет, смотрю на них, на всех, спрашиваю:
— А… за что подписываемся?
Чикен смеется:
— А тебе не все равно?
— Да… мало ли… а если я сейчас почки свои продаю или там…
— …почки твои уже двадцать лет как сгнили, и остальное все тоже, что-то поздновато ты продавать собрался…
— Ну… мало ли там что… душу дьяволу…
За столом снова смеются.
— И много ты в этом мире дьяволов видел? Еще кого выдумаешь?
Не выдерживаю:
— Нет, правда, за что подпись-то?
Чикен хмурится.
— Парень, тебе не все равно, что там у них делается? — кивает куда-то в сторону никуда.
Душа переворачивается:
— Так это… это оттуда?
— Оттуда… мы им подписываем, они нам…
…Чикен не договаривает, — бумаги исчезают так же внезапно, как и появились. Все замирают, ждут чего-то, я уже догадываюсь — чего…
— …так и есть.
Массивные бутыли крови появляются на столе. Сидящие разбирают, каждому по две, почему-то мне кажется, что получу только одну — нет, тоже две…
— С-спасибо…
— Да не за что… ты парень не промах, только, чур, молчок, никому…
Уже не боюсь опоздать.
Уже знаю, что пришел вовремя.
Дом узнает меня, открывает ворота. Прохожу мимо по-осеннему поредевшей аллеи, мимо резных хэллоуинских тыкв, посмеиваюсь про себя горькой иронии, что мертвые празднуют день мертвых. Где-то видел еще похлеще, жители дома снимали с себя черепа, расставляли по крыльцу, зажигали в черепах свечи.
Дверь узнает меня, открывается с легким скрипом. Чикен уже ждет меня, стоит спиной ко мне в большой зале, — я знаю, он зол, очень зол…
— Явились… не запылились… — говорит вкрадчивым шепотом, недобрым шепотом.
— Э-э… вечер добрый.
— Ой ли? — Чикен разворачивается, — добрый ли?
— Я…
— Какого черта вы это сделали?
— Ч-что сде…
— …не притворяйтесь. Можно подумать, меня за слепого держите… какого черта во всех домах кровь?
— Ну…
— Вы им подсказали? Вы?
— Ч-что под…
— То… можно подумать, где-то еще можно добыть крови в таких количествах! Хороши вы, ничего не скажешь… Что я видел вчера у Букманов? Что?
— Откуда мне…
— …да вы-то прекрасно знаете… подписи… они ставили подписи…
Меня передергивает.
— А вам жалко, да? Хорошо устроились кровью торговать, ничего не скажешь, в городке голод, а вы втридорога продаете…
— И не ваше дело, что я там продаю, уговор у нас был? Был? То-то же… сами клялись, никому ни слова, молчок… долгонько же вы свое слово держите…
Он не договаривает, он делает знак своим людям — думаю, что они сотворят со мной, как-то никогда раньше не задумывался, что можно сотворить с мертвым, еще кичился, еще бахвалился, мне-то теперь все нипочем, ну да все мы поначалу кичились-бахвалились, когда высохли наши первые и последние слезы…
…скручивают руки за спиной…
…вспоминаю какие-то жуткие разговоры вечерами у очага, а что будет, если умершего разрубить на куски или там бросить в огонь, ну что ты ужасы такие говоришь…
Оборачиваюсь.
Смотрю в темноту ночи, что-то неуловимо изменилось, что-то…
Вот оно.
Да.
— Взгляните, — хватаю за руку хозяина, — смотрите сами!
— Что такое?
— Да река же… река…
Оторопело смотрит на пересохшее русло, теперь заполненное чем-то тягучим, солоноватым, липким…
— Черт… — шепчет Чикен, — вот черт…
Люди бегут к берегу с ведрами, люди набирают кровь, много крови, разливают по бадьям, по цистернам, по канистрам, кричат что-то про богатый урожай.
К рассвету поток иссякает.
Собираем последние капли.
Думаем, скоро ли будет новая кровь.
Чувствуем — не скоро…

О,…
О«Кенни
О«Тимми
О«Тэмми
О«Мур
О«Дан
И О»…
Её здесь не любят.
Потому что она ирландка.
И рыжая.
А они — нет.
А какие они, спросите вы.
А белые.
Ну, одна совсем белая, другая не совсем.
Рыжая смотрит, не понимает, как так — белые.
Белые смотрят, не понимаю, как так — рыжая.
Но её здесь любят.
Любят.
Потому что приходит и прогоняет это… это…
…что это?
А не знает никто толком.
Что-то большое.
Зеленое.
Горячее.
Приходит каждый год, когда его не ждут — и все уже, и нет больше белой, и почти белой больше нет, есть только это, жуткое, зеленое…
И ирландка.
Она приходит потом.
И выгоняет это, которое зеленое, горячее, не пойми, что.
Что-то ты долго сегодня, говорит белая.
Что-то ты долго сегодня, говорит почти белая.
Пьют чай.
Рыжая хочет сказать, что она вообще не должна приходить и прогонять что-то зеленое, не нанималась.
Не говорит.
И чай пьют, да.
А люди какие, спрашивает почти белая.
Рыжая настораживается.
А кто ж их знает, говорит почти белая.
Чай пьют.
На веранде.
— А может… а может… а может, они такие как мы?
Это ирландка.
Ну тут все на смех подняли, ишь чего выдумала, как мы, быть того не может.
Ирландка хочет спросить, почему не может.
Не спрашивает.
О«Кенни
О«Тимми
О«Тэмми
О«Мур
О«Дан
И О»…
А сегодня люди придут.
Нет, ну а как, люди-то, они повсюду, вот и сюда добрались.
Сегодня придут.
Еще вчера обещали.
Все в доме чистоту наводят, до блеска, и белая, и почти белая. А рыжую только гоняют все, пошла, пошла, от тебя только сору-то, сору…
Плачет рыжая.
Уходит в глубину дома.
Оглядывается, не крадется ли зеленая, а то мало ли.
Сегодня люди придут.
Хозяйки накрывают на стол.
Ждут.
Приходят люди.
Смотрят.
Люди не такие.
Совсем-совсем не такие.
Смотрят.
Решают.
Так, говорят белой, тебя не будет.
Гром среди ясного неба.
Тебя не будет.
Белая хочет спросить, почему, — не успевает.
Её уже нет.
Кто-то кричит, кто-то волнуется, не-не-не, оставьте белую, ну на неделю оставьте с первого по десятое…
Другие кричат, с какого с первого, с двадцать четвертого давайте.
А третьи вообще кричат — с двадцать второго.
Ладно, порешили.
С двадцать второго по седьмое.
И хорош.
И хватит.
Потом на почти белую смотрят, почти белая сжимается, чует, сейчас и ей достанется…
А люди её р-раз — и пополам перерубили.
Больно-больно.
Половину выбросили.
Половину оставили.
Сказали — так надо.
Чай попили.
Да какой уж тут чай, когда почти белую чуть не убили, а белую — совсем. Вроде и сами белые, только один среди людей пришел с цветом кожи, как шоколадный торт, и глаза у него большие и круглые.
А так-то белые все.
И белых убили.
А потом спрашивают, а зеленая где.
И хозяева вздрагивают, ой, ой, свят, свят, ишь ты, зеленую вспомнили.
И говорят так осторожненько, да вы не беспокойтесь, прогнали мы зеленую эту, и след простыл. Ну, для справедливости скажут, эта нам помогла, ирландка которая. У вас тут в делегации ирландцы есть? Нету? Хотят добавить — ну вот и хорошо — не добавляют.
А эти по дому пошли зеленое искать.
Выискали.
В подвале.
Вытащили.
Радуются, чего радуются, зеленое же, и не она, а оно, не пойми, что.
И говорят, быть ему круглый год.
Ну, почти.
Ну, немножко белой. И немножко почти белой. И от рыжей кусо… да ладно, кому она нужна, рыжая эта, вообще не любят рыжую эту, ишь чего удумала, зеленое гонять…
Ирландка бросается в комнаты, в одну, в другую, в… снова в одну, комнат-то в доме раз-два и обчелся, не очень-то побросаешься от преследователей туда-сюда, а вот, еще лестница есть наверх, в башню, и…
— Ай, ах!
— Я нашел вас… наконец-то…
— Вы…
— …не бойтесь, я вас выведу… отсюда… от них… никто не узнает…
— Они меня за то… что я это гоняла… зеленое?
— Да… да…
— Но… почему?
— Мы его любим… очень…
— …странно…
— …ничего странного…
— Не понимаю…
— …и не поймете.
— Но… почему?
— Не спрашивайте.
— А… а я?
— А вас… а… эм… мало, кто любит…
— А кто, например?
— Я…
— А вы… вы ирландец?
— Нет, простите… а вы… да?
— Ну… у меня фамилия ирландская… О,…

Отрезанное время
Мне говорят:
Вы можете быть здесь всего час.
Спрашиваю:
А через час?
На меня смотрят, как на психа:
— А через час не можете.
Что не могу, спрашиваю я. Не могу быть или не могу здесь?
Не можете здесь быть, отвечают мне.
А не быть здесь могу?
Смеются.
А не быть здесь можете.
Мысленно киваю себе.
Могу здесь не быть.
Это главное.
Больше и не надо.
Я иду по старинному городу, по извилистым улочкам, по причудливым аркам, фонари покачиваются на цепях.
Можно не торопиться.
Я еще успею рассмотреть этот город со всех сторон, пропитаться его духом до мозга костей, прожить в нем жизнь, и не одну, я еще успею подняться на башню, увидеть город с высоты, я еще увижу его в свете полной луны поздней осенью и в свете солнца ранней весной…
…войдя в город, точно отметьте время и дату, — с точностью до секунды. Лучше всего купите себе часы, измеряющие доли секунды, чем точнее, тем лучше. Помните: начинайте отсчет с того момента, как вы вошли именно в город, — не с трассы, не с выхода из аэропорта, не с районов, которые вам неинтересны. Начните отсчет с момента, когда сказали сами себе — вот оно.
Точно так же запомните, когда именно вы покинули город — с точностью до долей секунды. Об этом, к сожалению, забывают чаще всего.
Выходя из города, не хватайтесь сразу за время, которое вы провели там. Дайте ему отлежаться, осознать, что оно такое. Пусть пройдет час. День. Но не больше месяца, иначе время начнет подтаивать. Аккуратно отрежьте время с начала и конца. Не верьте никаким «специалистам», вы должны сделать это сами, только сами, ведь это ваше время. Отсекать придется точно по линии отреза, ни больше, ни меньше.
Вхожу в квартиру.
Которая не моя.
Но моя.
Закрываю за собой дверь, поворачиваю ключ в замке. Не удерживаюсь, снова открываю — чтобы снова закрыть, снова испытать, как это.
До сих пор не верю, что у меня есть крыша над головой.
До сих пор.
Мне надо привыкнуть. Что это все мое. Одежда, непривычно чистая, непривычно целая. Вещи. Что никто не войдет, никто не причинит мне вреда. Что не пойдет дождь — вернее, пойдет, но мне будет все равно.
Лечь в чистую постель… нет, сначала набрать полную ванну воды. Нет, сначала выпить кофе, хоть узнаю, что это такое вообще. Нет, сначала… чер-р-рт, хорош я, хорош, грязными башмачищами ковер истоптал, меня только в квартиру пускать…
…ничего, привыкну… Не терпится докрутиться до тех времен, когда вообще забуду, что было что-то кроме квартиры, когда мне наскучит квартира, когда захочется выйти на улицу…
…ловлю себя на том, что складываю из ширмы какое-то подобие шалаша — к черту, к черту, больше не придется ютиться в рекламных щитах…
Многие спрашивают, как замкнуть время. Правильный ответ — никак. Время само знает, что ему делать, как стать кольцом.
Есть и такие люди, которые спрашивают, как войти в закольцованное время. Ответ — опять же, никак. При жизни вы туда не войдете.
Очень много читателей спрашивает меня, что делать, если такое закольцованное время не одно, а их великое множество. Ничего удивительного в этом нет, как раз наоборот, странно, если у кого-то только одно кольцо.
Попробуйте приблизить два кольца друг к другу, понаблюдайте за их реакцией. Если кольца подходят друг другу, они сами составят единое целое. Ни в коем случае не пытайтесь разорвать кольца, чтобы сделать цепь — разорванные кольца погибнут.
Помните: кольцо времени само решает, как ему быть. Не вы. А кольцо. Даже если это ваше прошлое.
Даже.
Если.
Это.
Ваше.
Прошлое.
Многие спрашивают — сколько таких колец я могу нанизать на цепочку времени? Сколько угодно, отвечу я. чем больше у вас в жизни будет хороших моментов, тем лучше. Только имейте в виду, что если ваш счастливый момент меньше одного часа, не забудьте поместить его во временную капсулу — в так называемое «пустое» время, чтобы размер кольца дорос до размеров целого дня.
Но больше всего меня поражают личности, которые спрашивают, как переходить из одного кольца времени в другое. Если вы ждете от меня ответа — никак, то я вас разочарую. Правильный ответ будет — этого никто не знает. Когда вы окажетесь там, вы сами поймете, как это делается.
Теперь город мой.
Насовсем.
Думаю, когда мне наскучит этот город — через век, через два, через тысячу лет. Может, я пробуду здесь так долго, что забуду, что у меня есть какие-то другие времена, другие города, другие прошлые…
…ну и, конечно же, обязательно напомню вам самое главное: ни в коем случае не выбрасывайте то, что осталось от вашего времени — обрезки, обрывки, кусочки, которые вы не хотите проживать снова! Помните, что у кого-то нет даже таких, нейтральных воспоминаний, как хождение в магазин за хлебом или уборка квартиры — помните, что кто-то живет под открытым небом и думает, где достать воду для питья. Так что не стесняйтесь относить ненужные обрезки жизни в приемные пункты! Кому-то вы окажете неоценимую помощь.
— Э-э-э… день добрый…
— Добрый.
Смотрю на неприметного человечишку, есть такие люди, про которых вообще ничего не понятно, что за человек, откуда, зачем…
— У вас тут, говорят… воспоминания есть…
Откашливаюсь:
— Ну, вы не совсем корректно выразились, это не воспоминания, а обрывки прошлого…
— Вот-вот, я про них и говорю. А… а взглянуть можно?
Смотрю на посетителя, прикидываю, какое прошлое ему предложить — что-нибудь интересное, посиделки какие-нибудь на берегу реки у костра, или этот человек всю жизнь на улице у костра и жил, так что ему один день в теплой квартире раем покажется, особенно когда на улице мороз трещит…
Гость перебивает мои мысли:
— А есть у вас прошлое… чтобы совсем уж никуда не годилось?
— Ну, мы клиентам хорошие вещи предлагаем, а не…
— …это да, да, — он похлопывает меня по руке, терпеть не могу, когда так делают, — а есть такие… чтобы… чтобы совсем плохие воспо… плохое прошлое было?
— Ну… мы такие… как бы это сказать…
— …сжигаете?
Почему-то краснею, сам не знаю, почему, вроде всегда сжигали, и ничего, а тут нате вам…
— М-м-м-м…
— …а сколько стоят?
— Так мы их… бесплатно отдаем…
— Так мне, пожалуйста, этих… которые плохие совсем… войны там, катастрофы всякие…
Мне становится не по себе.
— Но… з-зачем?
— Ну как вы не понимаете…
— …не понимаю.
— …это же… они же… они никому не нужны, никому, понимаете? А они что… виноваты? Виноваты, что они такие?
— Ну как же…
— …так это же люди их такими сделали, люди! Было время, ни плохое, ни хорошее, в нем вообще могло ничего не случиться, или доброе что-то случилось бы, фестиваль там какой… А тут люди пришли, испортили все, войну устроили или скандал, или еще пакость какую… А времена-то ни в чем не виноваты!
— И вы хотите…
— …приют хочу.
— В смысле?
— Приют… для времен. Которые никому не нужны.
Вздрагиваю. Мне становится неловко перед человечком, что думал про него плохо.
— Понимаю… так… давайте я вам помогу… выбрать… вы… вы сколько возьмете?
Не верю своим ушам, когда слышу:
— Всех.
— Вы… кому вы продали плохие времена?
Откашливаюсь:
— Никому не продавал… он взял бесплатно… он…
— Координаты оставил?
— Н-нет… а…
— …о-о-х, горе вы наше, хоть бы смотрели, кому отдаете-то…
— А… а он что?
Незваный гость устало машет рукой. Понимаю, что не скажет.
Хочу спросить, что теперь будет со мной.
Понимаю, что ничего.
И понимаю, что вот это вот незнание, что случилось, будет похлеще любого наказания…
Думаю, можно ли привыкнуть к смерти.
Отвечаю сам себе — нельзя.
Сжимается сердце — понимаю, что сейчас опять подорвусь на мине.
Вот.
Сейчас.
…Вселенная разрывается болью…
…короткая передышка…
…и снова…
…и снова…
…не забыть, говорю я себе, не забыть того, кто бросил меня сюда, выбраться отсюда, растерзать его на куски…
…время сжалось до одного шага и щелчка под ногами…
…не забыть…
…через тысячи лет…
…вселенная снова разрывается болью…
— Э-э-э… день добрый.
— Добрый.
— А от меня жена ушла…
— Соболезную…
— Да вы понимаете, квартиру отжала, сука…
— Вообще кошмар…
— А вы, говорят, помочь можете…
— Так это вам к юристу, а не…
— Да не-е-ет… говорят, наказать можете… чтобы всю вечность мучилась, гадина…
— Ну… есть такое…
— А… почем стоить будет?
— Двушечку платите.
— Э-э-э… две тысячи?
— Обижаете…
— Двести?
— Два лимончика стоит…
— Вы там…
— …охренели, вы это хотите сказать? Ну а как вы хотели, время вырезать, сохранить, в кольцо спрятать — это ж какой труд…
— Ну и врешь ты, думаю про себя, ну и врешь…
— Ну да, конечно… я и не подумал… а в кредит… можно?
— Отчего ж нельзя, берите кредит в банке, да денежки несите…
— Э-э-э… вас понял. А… куда нести-то?
— Ну, давайте встретимся… поговорим… завтра вечерком, в парке, знаете, где четыре колонны стоят?
— Вы арестованы.
Человек на скамейке вздрагивает, понимаю, не ожидал, не ожидал…
— …а в чем, собственно… дело?
— Вы обрекали людей на вечные муки.
— Да вы бредите, я…
— Кейс ваш откройте, будьте добры.
— Да там…
— Кейс. Ваш. Откройте.
— Да как вы сме…
— …а это у вас что?
— Время, что… прошлое чье-то…
— Дайте-ка посмотреть как следует…
— Этот? — следователь показывает мне на подозреваемого, которого я уже знаю.
Киваю.
— Здесь распишитесь.
Вздрагиваю:
— Вы что его… арестовать хотите?
— Ну да, а…
— …отпустите его.
Следователь смотрит на меня. Недоуменно.
— Но…
— …отпустите. Он ни в чем не виноват.
— Да вы с ума…
— …нет.
— А как вам тысячи людей, запертых там…. в кольцах…
— Ну, насчет тысячи вы что-то загнули… — усмехается нарушитель.
Парирую:
— А вы не смотрели… что там с ними делается?
…лопата натыкается на что-то в земле, не сразу понимаю, что я вижу — что-то из бесконечно далекого прошлого, когда здесь еще не было деревеньки, не было поля, не было цветника перед домом, было другое что-то, я уже не помню толком, что именно. Осколок чего-то недоброго, чего-то страшного, от чего нужно было прятаться, когда оно со свистом летело откуда-то с небес…
…отбрасываю осколок, что это было вообще, вертится, вертится в голове, нет, не помню…
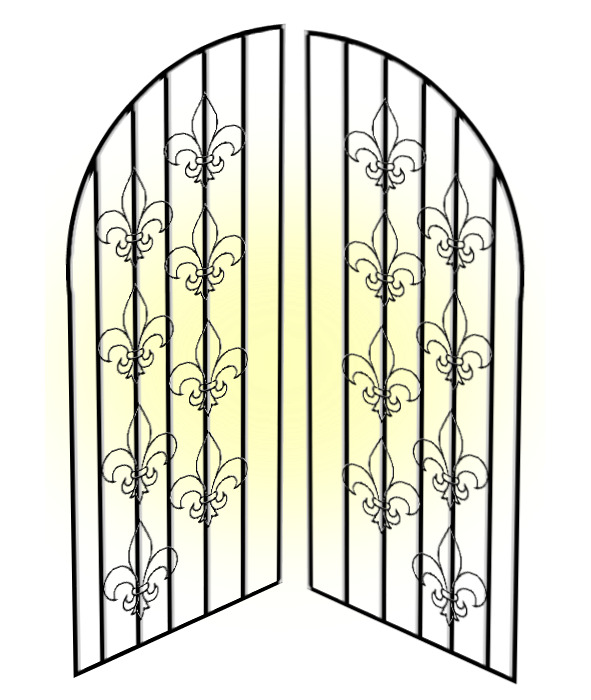
Непонимающая книга
…я всегда знал, что моя драгоценная Джейн безумна — но никак не думал, что до такой степени. И надо же было этому случиться именно в тот день, когда я наконец-то решился просить её руки. Впрочем, я так и ожидал, что этот день окажется не из простых — уже когда вышел из дома, пряча под сюртуком драгоценные обручальные кольца. Не было никакой надежды, что наследница миллиардера обратит внимания на простого клерка — и все-таки я решил рискнуть. Слуга, который открыл мне дверь, посмотрел на меня так, будто я был… нет, даже не пустым местом — меньше, чем пустым местом. Секретарь сухо сообщил мне, что леди занята, и вряд ли сможет принять меня в ближайшее время. К моему немалому счастью в этот момент распахнулась дверь в большую гостиную, пропуская Джейн, которая крепко обняла меня.
— Джим! — радостно закричала она, — как хорошо, что ты пришел, Джим! Мы летим на луну!
— Да… конечно же…
Я уже знал, что спорить с Джейн бесполезно.
— Отличная идея…
— Ой, Джим, какой ты молодец, я так и знала, что ты меня поддержишь! — Джейн чмокнула меня в щеку, — пойдем же скорее!
Я еще не понимал, куда ведет меня Джейн — вверх по винтовой лестнице, — пока не увидел в зале под самой крышей причудливую машину, которая, по мнению её создательницы, должна была летать.
— Как ты думаешь, Джим… мы доберемся на этой машине до Луны?
Я никогда не спорил с Джейн, но на этот раз меня буквально передернуло:
— Э-э-э… вряд ли… Я думаю…
— Так давай проверим, что может быть проще! Скорее же!
Джейн потащила меня в кабину крылатой машины — я был так ошарашен, что даже не успел сказать, что это форменное безумие. Тем более — обручальные кольца все еще лежали у меня в кармане сюртука…
Чувствую, что больше не могу.
Здесь.
В бесконечных туманах, чуть подсвеченных фонарями, в бесконечных лабиринтах сырого промозглого города, в прокуренных пабах, в холодных комнатах, чуть подогретых пламенем камина.
Я больше не могу.
Я помню, что было еще что-то, кроме одинокой луны в удушливом чаде большого города, кроме запаха смерти откуда-то с реки, кроме призрачных огней в окнах домов. Что-то, что-то…
Замираю.
Вспоминаю.
Вот же, вот же, вот…
…стук копыт, скрип колес, грубый окрик, хлыст больно обжигает спину, мир летит кувырком в канаву…
…черт…
…то, что уже готово было вспомниться, растаяло бесследно, и не поймать, не вернуть…
Оглядываюсь, пытаюсь разглядеть за бесконечным туманом хоть что-то, хоть какие-то намеки на мое прошлое…
…вижу.
Вот здесь.
На витрине в лавке старьевщика.
Это…
Это…
Вертится на языке — не вспоминается, что я делаю, что делаю, хватаю это… это…
— Эй, а платить кто будет?
Бегу прочь в лабиринты мостовых…
— Держи-держи-держи!
Поворачиваю медальон, уже знаю — надо поворачивать, вот так, до щелчка, и…
…туман растворяется…
…вспоминаю…
…сворачиваю на Смог-Стрит…
Эр свое дело знает.
Еще бы ему свое дело не знать.
На то он и Эр.
Эр видит камень, говорит Симплексу:
Вижу камень.
Эр видит гору, говорит Симплексу:
Вижу гору.
А Симплекса Эр не видит.
Симплекс далеко.
Эр видит нечто, говорит Симплексу:
Вижу нечто.
Уточните сигнал, говорит Симплекс.
Вижу нечто.
Нечто.
Симплекс и сам видит — нечто. Туманное облако ползет над лунной пустыней, оглядывает провалы кратеров — без глаз оглядывает провалы кратеров, смотрит на Эр…
Отступать, приказывает Симплекс.
Эр не слушается, не отступает, смотрит во все глаза на нечто… нечто…
Симплекс молчит, уже понимает, командовать бесполезно.
Хочет вычеркнуть Эр. Есть же еще Эс, Ку, Эм, Эл…
…Эр отступает.
Симплекс не вычеркивает Эр.
Нечто уходит.
Симплекс спрашивает себя, что это было.
Симплекс говорит себе осторожно:
Не было.
Ничего не было.
— Хватит с меня! Хватит!
Она собирает вещи. Уходит.
Она.
Кто она.
Я не знаю, кто она такая, я только понимаю, что она важна для меня, очень важна, я должен сделать все, чтобы она не ушла, все…
Вспоминаю.
Жизнь, прожитую с ней.
Вспоминаю.
Чувство какое-то, сладкое, щемящее, какое было, когда первый раз её увидел.
Вспоминаю.
Это очень важно — вспоминать, это очень важно — понять, почему я не хочу, чтобы она уходила…
Я должен это понять…
…сворачиваю на Смог-Стрит, не сразу понимаю, что я вижу, туман, нет, не туман, тут другое что-то, что-то, ползущее на меня, что-то, призрачное, меняющее очертания, что-то…
Бегу.
Уже понимаю — зря, все зря, потому что призрачное нечто несется за мной — стремительно, понимаю — догонит в два счета…
Догоняет.
Проносится не надо мной, а как-то сквозь меня, я чувствую его каждой клеточкой, каждой молекулой…
…исчезает.
Тает.
Спрашиваю себя, что это было, не нахожу ответа. Хочу сказать, что видел очередную загадку огромного города — но что-то подсказывает мне, что город здесь не при чем…
Я должен быть здесь.
Почему-то.
Не знаю, почему.
Здесь.
Среди бескрайних пустынь, испещренных камнями, упавшими с неба.
Под колючими звездами.
Здесь.
Я должен парить над пустыней, я должен смотреть, как ползет по пустыне что-то металлическое, я должен понять…
…что понять?
Я не знаю.
Но должен.
Понять.
Знаю — пока не пойму, не покину эту пустыню…
Нелли хочет хлопнуть дверью.
Не хлопает.
Оборачивается, смотрит на то, что только что было Артуром, что-то проступает из лица Артура, что-то невидимое, неведомое, что-то…
Что-то смотрит.
Не понимает.
Нелли пятится назад, тихонько, по стеночке, по стеночке, захлопывает дверь, черт, вещи забыла, да черт с ними, черт со всем, со всем черт, бегом отсюда, бегом…
Выжидающе смотрю на торговца, ну только попробуй отказать после всего, что было, только попробуй…
— Видите ли… — начинает торговец.
Подхватываю:
— Не получилось?
— Ну, как вам сказать…
— Получилось?
— Н-нет… и да, и нет.
— В смысле?
— Ну…
Говорю строго, с нажимом:
— Я понял книгу. Понял.
— Верно, вы поняли.
— Так в чем дело тогда?
— Видите ли… книга…
— Что такое?
— …книга не поняла вас.
— То есть?
— Книга не знает… как к вам подступиться… вы-то все прекрасно прочувствовали, и промозглую лондонскую сырость, и лунные пустыни, и вот уж не ожидал, что вы любовь так с ходу поймете… а книга вас не поняла…
Понимаю:
— Это значит — нет?
Торговец делает паузу.
— Ну… вообще-то… именно так.
Понимаю, что не отступлю.
— Давайте… попробуем.
— Вы… вы уверены?
Киваю:
— Уверен.
Книга смотрит на меня, книга боится меня, — протягиваю руку, тц-тц-тц, на-на-на, книга осторожно раскрывается…
…я всегда знал, что моя драгоценная Джейн безумна — но никак не думал, что до такой степени. И надо же было этому случиться именно в тот день, когда я наконец-то решился просить её руки. Впрочем, я так и ожидал, что этот день окажется не из простых — уже когда вышел из дома, пряча под сюртуком драгоценные обручальные кольца. Не было никакой надежды, что наследница миллиардера обратит внимания на простого клерка — и все-таки я решил рискнуть…
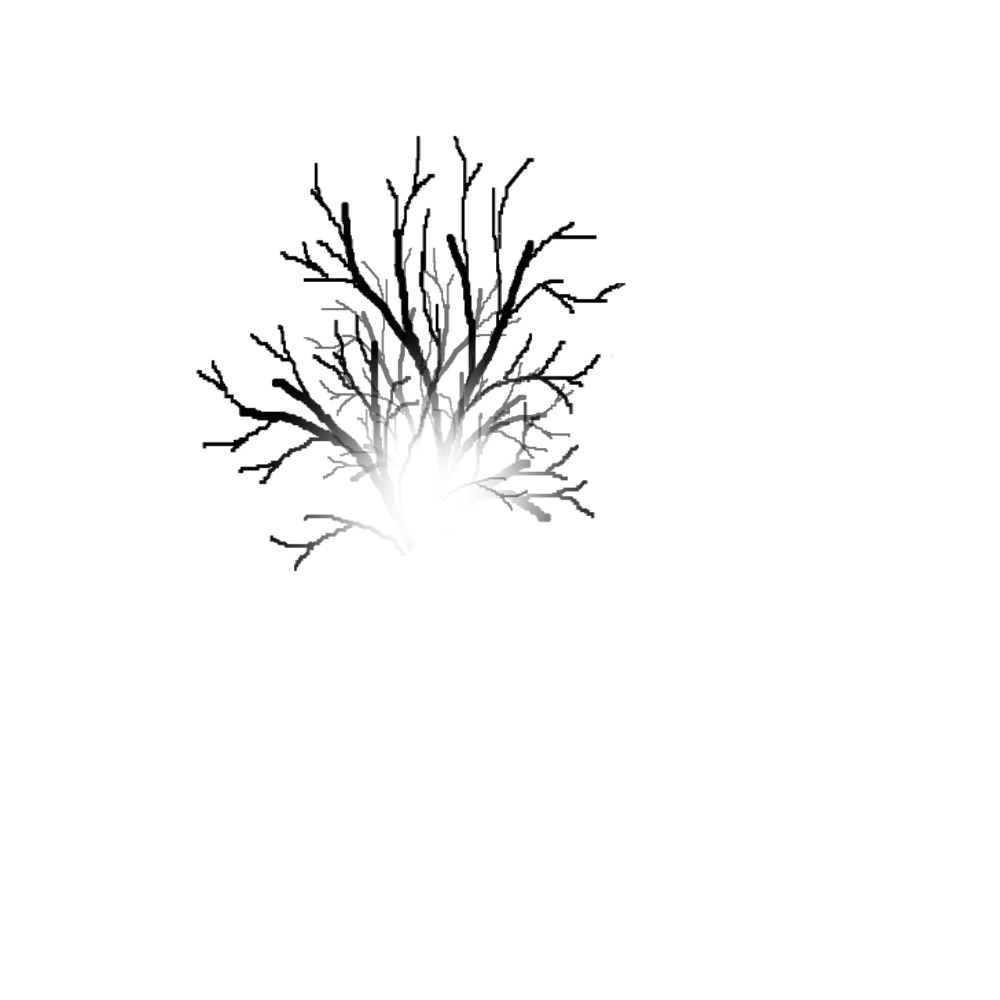
Ледяной спор
…был у мельника осел…
Интересно, как выглядит осел, думает Й. И как выглядит мельник.
Й смотрит на осла, отлитого из бронзы, Й думает, правда у осла шесть граней, двенадцать ребер, восемь вершин, или нет. Про пса Й знает, у пса, вроде, четыре грани, четыре вершины, шесть ребер, правильно пса сделали. И кота правильно, у кота граней вообще нет. А вот насчет петуха Й сомневается, правда ли у петуха две прямые пересекаются под углом в девяносто, Й кажется — в шестьдесят.
Впрочем, с градоначальниками не поспоришь, они так решили, так оно и будет.
И с народом не поспоришь, зря, что ли, народ в ратуше голосовал.
А завтра ледяной спор.
Завтра ледяной спор, говорит Й, когда встречается с Ъ. У Й колеса, чтобы по улицам ездить, и четыре ноги, чтобы по лестнице подняться.
И полозья еще есть у Й, только их не видно.
Зачем?
А вот нужны.
Завтра ледяной спор, кивает Ъ.
Древний такой обычай есть — кивать.
Идут по улице, смотрят на дом, большой дом, красивый дом.
Там очаг.
И окна полукругом.
И много еще чего.
Й говорит — будут деньги, купим дом. Я уже придумал кое-чего, чтобы денег получить.
Ъ говорит — будут деньги, купим дом, я уже придумала кое-чего, чтобы денег раздобыть.
Так говорят.
Прощаются.
Й засыпает, думает, как же все-таки выглядит осел.
И мельник.
Мельник, наверное, муж мельницы, у него четыре крыла…
— Ну, знаете, первый раз вижу, чтобы заказывали тело определенной массы. А можно поинтересоваться, зачем?
— …все равно не понимаю. Вам нужно для максимальной скорости?
— Теперь совсем не понимаю. Какие фунты, что за фунты, вы мне в килограммы переведите.
— …полозья? Это еще что?
— Вы меня с ума сведете. Хорошо… будет сделано.
— …нет, я не знаю, как выглядит мельник. И осел тоже.
Сегодня ледяной спор.
Уже сегодня.
Все торопятся к Везеру, и стар и млад, и беден, и богат. Все вырядились кто во что горазд, какие только тела себе не заказали. Кто побогаче, тот и тело себе праздничное прикупил последней модели, кто поскромнее живет, тот каждый год одно и то же праздничное тело надевает, кто совсем скромно живет, тот с одним телом круглый год ходит, но тоже как может, украшает, цветы из фольги, птицы какие-то, а то и вовсе не поймешь чего, что только не придумают. Ну и, конечно, в осла наряжаются, в пса, в кота, в петуха, в мельника, в мельницу, вон парочка идет, мельник да мельница, под ручку.
Й смотрит на разодетых граждан, думает о тех временах, когда ходили по земле вот так парочками мельники с мельницами, под ручку.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
