
Бесплатный фрагмент - Страна потерянной души
У каждого есть такие места, забыть о которых невозможно, хотя бы потому, что там воздух помнит твоё счастливое дыхание
Эрих Мария Ремарк
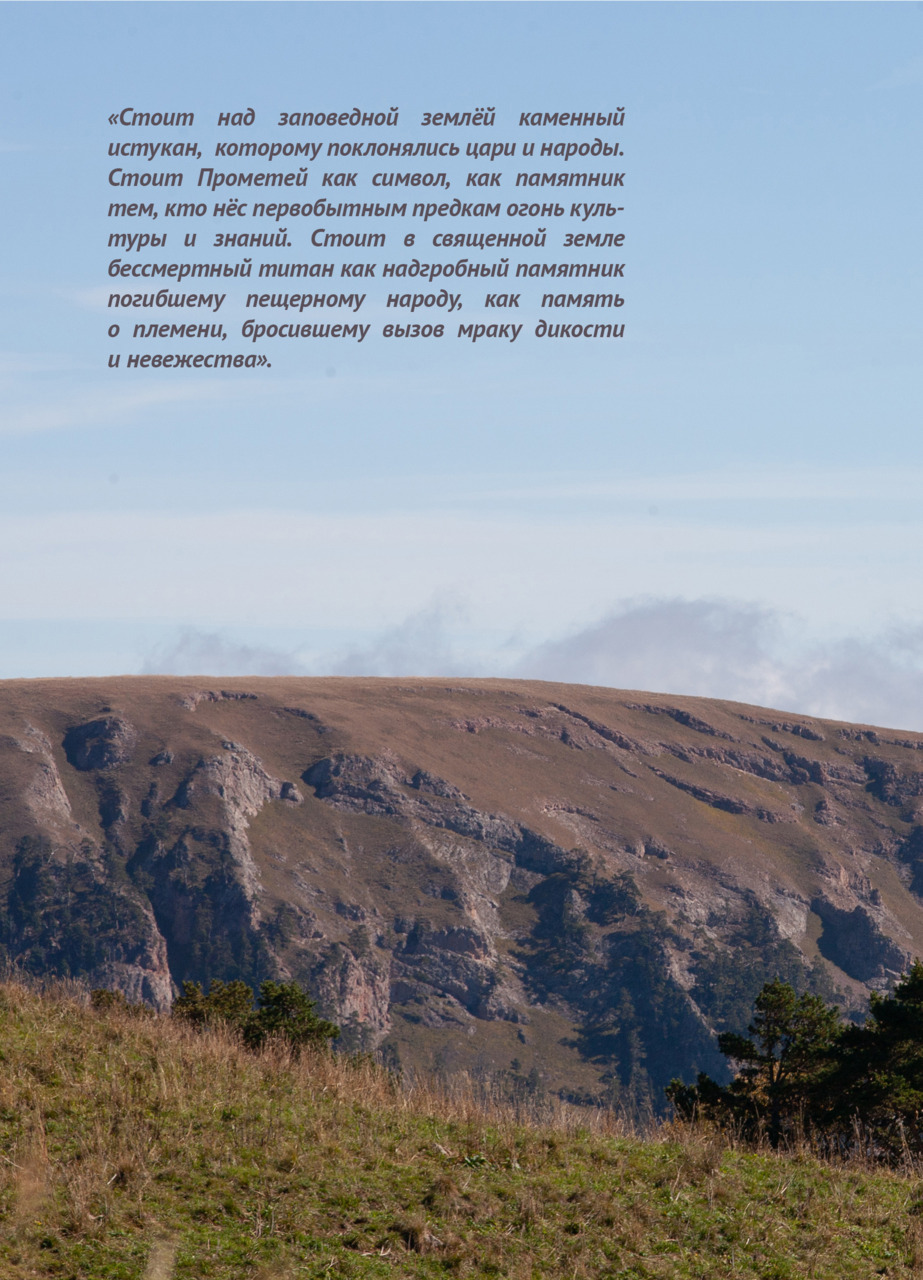

Пролог
В деловой поездке в Канаду, в Торонто, в кругу городских журналистов меня познакомили с Бэлой Бэйли. Бэла работала помощником главного редактора газеты «Торонто стар», одной из старейших газет Канады. Узнав, что я из Москвы, она рассказала, что её предки — выходцы из России, и ей приятно познакомиться с её представителем. Бэла попросила рассказать ей о нашей стране. В течение вечера я рассказывал новой знакомой о нашей жизни. В конце встречи мы обменялись визитками, попрощались и пожелали друг другу новых встреч…
С той поездки прошла пара лет, и неожиданно мне на почту пришло письмо от Бэлы. Приведу вам это письмо:
— «…Февральским днём на адрес газеты, почтовый рассыльный принёс на моё имя посылку. Я была удивлена этой посылке, так как она была из Аргентины, а её отправитель Георгий Мендель был мне незнаком. Вначале я не придала значения этой фамилии, но, открывая посылку, вспомнила, такая фамилия в девичестве была у моей мамы.
В посылке сверху лежал свёрток плотной бумаги, развернув который, в моих руках оказался странный предмет верхней одежды серого цвета. Данный гардероб был мне не знаком, он одновременно был похож на полупальто и на камзол старого образца с короткими рукавами. По виду и состоянию, одежда была очень старой, из выцветшей ткани, но ещё достаточно крепкой на вид. На левой и правой стороне, где грудной отдел, были пришиты длинные трубочки похожие на пенальчики (их было 14, по семь с каждой стороны). Поискав в справочниках, я узнала, что данный образец одежды называется черкеска, и он распространен среди горцев и казаков Кавказа.
Кроме черкески, в небольшой картонной коробочке лежали две медали, бережно завёрнутые в хлопчатобумажную ткань. Нижняя часть медалей была в виде серебряных крестов, а верхняя в виде черно-оранжевой ленты, частью завязанной бантом. В справочнике о наградах я определила, что это ордена Российской империи под названием «Георгиевский крест — 3 и 4 степеней».
Вместе с орденами там же лежал овальный серебряный медальон, инкрустированный минералом. Минерал ещё с университета был мне знаком под названием «лунный камень». Внутри медальона были две черно-белые фотографии мужчины и женщины. Фотографии выцвели, но на них ещё можно было рассмотреть молодого усатого мужчину в военной форме и красивое лицо девушки восточного типа.
Также там лежал лист бумаги с запиской и пожелтевшая от времени стопка тетрадей, бережно завёрнутая в пергаментную бумагу. Текст записки был следующий:
— «Дорогая Бэла!
Меня зовут Георгий Леонтьевич Мендель. Мы с Вами не знакомы, но являемся родственниками. Ваш дедушка (по матери) и я — родные братья. Наш отец Леонтий Борисович Мендель родился в Российской империи на Кавказе в 1874 году, его отцом был Борис Петрович Мендель. У нашего отца было три брата и одна сестра. С Вашим дедом и двумя нашими сёстрами мы так же родились на Кавказе. Вам дали имя в честь нашей тёти Бэлы, так как она помогала нашей семье после гибели отца и старших братьев. Во время гражданской войны в России, когда мы были детьми, наша большая семья переселилась во Францию. Повзрослев, мы с моим братом (Вашим дедушкой) переехали в Канаду…
Дорогая Бэла, я уже старый и одинокий человек (мне исполнился 91 год) и я не знаю больше родственников, кроме Вас (после войны мы с братом много лет искали наших родных во Франции, но так и не нашли). Во вторую мировую войну мой единственный сын, служивший в канадской армии, воевал в Нормандии. Он погиб летом 1944 года, освобождая Францию. Вещи в посылке, которые я передаю Вам, достались мне от моего отца. Ордена принадлежали моим старшим братьям.
Надеюсь, эти вещи Вы передадите своим детям как память о наших общих предках.
С Любовью к Вам,
Георгий Мендель»
Причина, по которой Бэла отправила письмо, заключалась в том, что, по её мнению, часть сведений из дневника её аргентинского родственника меня заинтересует. Прочитав записи, я нашёл их интересными, в связи с чем предоставляю читателям часть дневника, присланного мне Бэлой (любезно согласившейся на его публикацию).
Дневник Бориса Петровича Менделя
Что подвигло меня к написанию этих страниц? Рождённый и воспитанный на равнине, где окружающий мир воспринимается в плавных линиях, остальную сознательную жизнь я прожил горцем. Изломанный рисунок гор горячим темпераментом матери отпечатался в моих детях, разбавив отцовскую тихую кровь. Я видел, как аборигены покидали благословенный край и он заселялся новыми жителями. В те времена корабли ходили под парусами, а передвижение по земле происходило по лесным тропам. Разрушая неведомую до этого ойкумену, я застал некоторых врагов, воюющих с нами луком и стрелами, часть из них были босыми. Я увидел страну, где дворяне жили разбоем и торговали людьми, приравнивая это к доблести. Страну, где большая часть населения не знала грамоты и не ведала мира дальше трёх дней конного пути…
На моих глазах уходило прошлое, чтобы дать рассвет новому. Исчезали селения с примитивными строениями, и появлялись каменные дома посёлков и городов. Я видел и ощущал явления, неповторимые и труднообъяснимые. Я познал много радости и горя, их было примерно поровну. Несмотря на тяжести жизни, я видел вокруг громадное стремление выжить, сделать свою жизнь лучше, не только на уровне личности, но и в обществе.
Для памяти я делал заметки, чтобы когда-нибудь описать всё видимое и упомянуть встреченных мною людей, от которых слышал их мечты и видел плоды их дел.
⠀
Начало службы — Пицунда —
дело у Псахэ — Гагры
Мои предки, прусские дворяне по фамилии Мендель, переселились из Пруссии в Российскую Империю в конце 17 века. Родился я 21 апреля 1842 года. Жили мы тогда в городе Могилеве. Отец мой, Мендель Пётр Леонтьевич, рано ушёл из жизни, оставив мою мать с семью детьми. Нашей большой семье, оставшейся без кормильца, помогал родной брат отца Константин, бывший флотский офицер, живший в Лужском уезде.
В 1858 году, с участием уездного предводителя дворянства города де-Липского и доктора из губернской медицинской управы Роланда (товарищей моего отца), меня в 16-летнем возрасте определили в фельдшерскую школу при Обуховской больнице Петербурга. Школу я окончил с отличием и получил звание младшего фельдшера.
Я был старшим в семье, и все ждали от меня помощи. По совету благодетеля нашей семьи я направил прошение для зачисления меня на военную службу, дававшую в то время хорошее материальное довольствие и некоторые льготы. С точки зрения моего дяди, служившего когда-то на Кавказе, наиболее перспективным в плане карьеры и довольствия был кавказский театр военных действий. Я был молод, мне было всё равно где служить.
Через какое-то время после моего прошения я получил предписание о моём направлении на службу в Абхазское княжество. Приехав на несколько дней в Могилев, я попрощался со своей семьёй и отбыл на Кавказ.
25 марта 1861 года в Новороссийске я сел на пароход до Сухума. Весь мой багаж состоял из одного дорожного сундучка, в котором была смена белья и стопка книг. К чтению меня пристрастила учёба в больничной школе и близость её библиотеки.
На пароходе было много новобранцев для пополнения абхазских гарнизонов. Погода при переходе в Сухум стояла солнечная, большую часть пути мы не покидали палубы. По левую сторону от нашего движения простирался горный пейзаж. Ближайшие к побережью невысокие волнообразные гряды утопали в молодой зелени лесов, выше, на фоне синевы неба, простирались серые скал и заснеженные вершины каменных громад. Видимое нам побережье, населённое горскими народами, в то время было нам неподвластно. Все с интересом всматривались в новые места, в места нашей будущей воинской славы или погибели.
Прибыв в Сухум, я доложил о себе полковнику Шатилову, а он в свою очередь после беседы отправил меня с запиской к доктору N. Посмотрев мои бумаги, доктор зачислил меня фельдшером в 3 роту 33 Кавказского линейного батальона, дислоцированного в селении Пицунда. Доктор, будучи немцем, узнав, что я имею прусские корни, любезно предложил мне переночевать в его доме, а вечером в кругу своей семьи устроил для меня чаепитие. Переночевав в уютном домике доктора и получив от него необходимые наставления и советы специфике местной службы, я поспешил к интенданту за полевыми вещами. Получив военную форму и мединструменты, я отправился на причал.
Сообщение между Сухумом и Пицундой в то время осуществлялось лишь по морю. В сухумском порту я и несколько молодых солдат погрузились на баркас, отправляющийся в Гагринское укрепление, с заходом в Пицунду. Баркас управлялся азовскими казаками.
На пицундском берегу меня встретил капитан N — начальник гарнизона. Познакомившись, мы пошли в укрепление, где располагалась рота. Местность здесь была ровная, заросшая травой и кустарником, изредка на ней произрастали сосны. К северу от укрепления ровная поверхность переходила в лесистые так называемые «пицундские высоты», соединённые с покатостями уже довольно высоких, покрытых дремучими лесами гор.
Гарнизон стоял укреплённым лагерем на развалинах древней крепости, окружённой ещё более древними развалинами монастыря и, судя по площади, бывшего когда-то здесь города. В укреплении находились несколько целых каменных строений, самым большим из которых являлось здание, похожее на церковь. Лазарет располагался в этом древнем храме, в нём же находился и склад ротного провианта.
В основном служба моя состояла в лечении солдат, страдающих лихорадкой. Болотной лихорадкой болел практически каждый второй солдат в подразделении. Пики заболеваний приходились на знойные летние месяцы, в холодные месяцы лихорадка отступала. Лечение сводилось к выдаче больным рвотных порошков и хинина. Два раза в месяц из Сухума к нам приходило судно с провиантом и фуражом.
15 июля 1862 года с баркасом в укрепление прибыл нарочный с приказанием явиться мне и одному из моих санитаров в Гагринский гарнизон. Сев на этот же баркас, мы с санитаром к вечеру высадились в гагринском укреплении.
Начальник гарнизона полковник Стражецкий направил меня к батальонному доктору. Доктор сказал мне располагаться пока в гарнизоне и ждать дальнейших указаний. С моим санитаром, солдатом Захаром Мораитисом, прикомандированным ко мне из инвалидной команды, мы расположились в одной из комнат батальонного лазарета. Захара Мораитиса, самого «старого» солдата нашего батальона, все уважительно величали по отчеству — Порфирич.
Гагринский гарнизон состоял из трёх линейных и одной стрелковой рот Кавказского линейного батальона №33 (к этому батальону относилась и наша пицундская рота).
18 июля, после обеда, мне было приказано с санитаром отправиться в распоряжение поручика Дмитрова, рота которого выходила в полном походном снаряжении на прибрежную полосу. В это же время к Гаграм уже подходил паровой транспорт. Погрузившись на судно, мы увидели здесь генерал-губернатора и капитана генерального штаба.
Выйдя в море, через какое-то время наш пароход догнал другие транспорты, тащившие за собой с десяток баркасов. Так, конвоем мы направились вдоль берега в сторону Новороссийска. Во время похода никто из нас кроме начальства не был в курсе о том, куда мы идём, и какую задачу нам необходимо выполнить.
Прибыв до рассвета к назначенному пункту, нам прояснили предстоящую операцию. Высадиться десант должен был в земле убыхов, в устье небольшой горной реки Псахэ. Десант должен был захватить урочище, где находились административные здания меджлиса горцев, уничтожить эти здания и отступить на корабли. Наша рота должна была прикрывать отход других рот.
На рассвете, ввиду близкого берега, мы пересели с транспортных судов на баркасы и линией одновременно высадились на берегу. Баркасы сразу же отошли и заняли позиции вдоль места высадки. Пройдя неширокий галечный пляж, роты без единого выстрела вышли густым лесом на небольшое плато.
Здесь, посреди большой поляны с отдельно стоящими громадными дубами, находилось несколько деревянных строений. Наша рота цепью растянулась вдоль поляны. Солдаты из других рот стали поджигать здания меджлиса и другие хижины.
Буквально с нашим появлением на поляне убыхи подняли тревогу, начались перестрелки. Когда постройки сильно разгорелись, две сухумские роты стали отступать на прибрежную полосу. Для нашей роты, рассеянной линией по опушке леса, нужно было время для сбора. Пока мы стягивались, прошло какое-то время. Ввиду большого скопления неприятеля рота уже не могла отступать по тропе, которой мы сюда поднялись (она была занята противником).
Отступление было обременено и тем, что у нас было убито четверо и ранено около десятка солдат.
Перевязку раненых мы делали у крутого откоса, обрывавшегося в сторону моря. Склон был покрыт густым кустарником, лианами и небольшими деревьями. Здесь Порфирич по счастливой случайности нашёл тропинку, ведущую к берегу. Тропа была крутой, но за неимением лучшей рота, цепляясь одеждой и амуницией за колючки, быстро скатилась на берег моря. По пятам, стреляя нам в спины, бежали горцы.
Как только на берегу показались первые солдаты нашей роты, две роты, до этого отстреливающиеся от неприятеля, стали спешно грузиться на баркасы и уходить в море. Без арьергарда отступающие стали лёгкой мишенью для горцев, обстреливающих баркасы с ближайших высот.
Здесь, на берегу, перевязывая раненого солдата, я был тяжело ранен в плечо. Захар Порфирич ползком оттащил меня к баркасу и под его защитой перевязал рану, он же помог мне перевалиться через борт лодки, где я и потерял сознание. Тем временем наша рота, умело руководимая командиром, отстреливаясь, постепенно отошла к своим баркасам, быстро погрузилась и отчалила от берега.
При этом деле у нас были большие потери. Некоторые лица потом ставили нашей роте в упрёк эти потери, дескать, если бы мы, как и они, быстро отступили и вовремя погрузились на баркасы, то потерь было бы намного меньше…
По прибытии в Гагринский гарнизон, я был помещён в лазарет. Только через месяц после ранения я смог восстановить свои силы, и более или менее мог управлять раненой рукой. В моё отсутствие, в пицундскую роту уже прибыл новый фельдшер, и, по ходатайству полковника Стражецкого, я был оставлен служить в Гаграх в должности старшего фельдшера.
До начала 1864 года служба в укреплении проходила мирно и скучно. Местность из-за своей возвышенности была здоровой, лихорадки здесь были редки по сравнению с другими гарнизонами, в наш лазарет на лечение переводили раненых и больных из Пицунды и Сухума.
К укреплению часто приходили абазины — «досты», или, как их называли приазовские казаки — «кунаки» (товарищи) наших солдат. Практически каждый солдат укрепления имел среди абазин своего доста. Они обменивались взаимными подарками. С забавой можно было наблюдать, как, жестикулируя руками или просто молча, на пригорке, на фоне моря, часами сидят двое, солдатик и абазин. О чём они общаются, можно было лишь догадываться. Временами казалось, что только спирт, до которого были охочи оба собеседника, сближал их общение.
Старослужащие, прослужившие в укреплении несколько лет, могли запросто общаться с местным населением на их языке. У меня тоже был дост, лекарь из селения Хысха князей Анчибадзе — Пата Квадзба. Познакомил меня с ним Порфирич, так как он дружил с его родственником. С Патой у нас была общая страсть — медицина. Он мне много рассказывал о своих методах врачевания, принося при этом целые охапки местных растений, по его опыту, являющихся лекарственными и помогавшими при многих заболеваниях. В свою очередь, я делился с ним своими скромными познаниями в медицине, вначале с помощью своего санитара, знавшего абазинский, а со временем и без переводчика, так как со временем изучил, более или менее язык моего доста.
Лечение травами, которые передал мне абазинский лекарь, я потом много раз применял на практике, при этом с благодарностью вспоминая Пату Квадзбу, с которым, покинув Гагры, я так больше и не увиделся.
В нашем гарнизоне несла «службу» дюжина больших лохматых собак. Собаки были натасканы охранять периметр укрепления. Любые попытки хищников незаметно подойти к стенам крепости прерывались их громким лаем.
Из забавного можно упомянуть о том, что среди местного населения ходили легенды о нашей крепости (как и в Пицунде гарнизон располагался на древних развалинах). Среди горцев ходили слухи, что под нашей крепостью есть большая разветвлённая сеть тоннелей, в которых спрятаны большие сокровища. Веря этим слухам, солдаты перерыли всю территорию гарнизона.
Вначале начальство смотрело на эти забавы снисходительно, заставляя солдат потом засыпать свои подкопы. Но когда начальнику донесли, что солдат Пилипенко собирается взорвать часть северной стены, где по его расчётам была заложена камнями потайная дверь в тоннели (при этом, предварительно украв из погреба порох и, подговорив на это дело пару своих товарищей), терпение начальника лопнуло, кладоискательство было запрещено. Когда дело открылось, Пилипенко в своё оправдание говорил, что если бы он нашёл сокровища, то начальство ему бы всё простило. Провинившийся был отправлен на гауптвахту, предварительно получив тридцать палок за проступок.
Военная обстановка вокруг гарнизона в целом была спокойной. Несколько раз вызывались роты для усмирения высокогорных обществ в бассейне реки Бзыб.
За это время к западу от нас кубанскими войсками постепенно были покорены все прибрежные общества. С побережья, от нашего укрепления до Тхагапса, на фелюгах и транспортах шло переселение горцев в Турцию. Лишь малая их часть не желавшая переселяться к османам, получив разрешение, переходила через перевалы на плоскости Кубани для расселения.
Жившие среди горцев муллы, турецкие и английские эмиссары, вначале подговаривали народ к бесполезному сопротивлению, теперь же стали уговаривать их к переселению. Местные князья и дворяне, напуганные отменой крепостного права в России и беспокоившиеся, лишь о том, чтобы у них остались подвластные сословия и привилегии, в короткие сроки собирали свой народ к выселению.
Все эти фракции горцев, шли в фарватере плана, разработанного известными генералами. План по очищению горной части от аборигенного населения, был согласован с турками.
В начале апреля 1864 года в гарнизоне началось движение. С Сухума стали прибывать по суше и по морю воинские части. Носились слухи о том, что война с горцами скоро закончится, и войска собираются для последнего похода перед её окончанием.
Также, все уже понимали, собранные части должны выступить для окончательного покорения двух горных обществ ахчипсху и айбуга в стране Ахчипсоу. Жителей Ахчипсоу, адыги северного склона и наше командование именовало медовеевцами.
Всем непокорные, отличающиеся духом воинственным, эти два общества до падения убыхов были с ними в тесной связи. С покорением их соседей, они практически одни остались наедине с нашими войсками. Сложная, закрытая гористая местность, где проживали эти общества, затрудняла их покорение до сегодняшнего дня. Вьючные тропы в их горные котловины шли через земли приморских джигетов и высокогорное общество псху (покорённое нами несколько лет назад).
Если в последний год дворяне Ахчипсху делали попытки для переговоров с нами, то айбуга решили обороняться до последнего. Как поговаривали прибрежные абазины, к такому решению их побуждали скопившиеся в их землях недовольные части покорённых горцев (в основном молодёжи). Поджигало пламя сопротивления и то, что жители Ахчипсоу искренне считали, будто бы в их землях зародилось «семя абхазства», что их земля является колыбелью абхазской чести и мужества. По понятию горных абазин, они были вправе делать набеги на своих соседей, потерявших и то, и другое, покорившись иноземцам.
В подразделениях, прибывшими в Гагры, было много так называемых «фазанов» — офицеров, которые до этого мирно служили в штабах и губернаторстве. Узнав о походе, они решили без особого риска и труда добыть себе «воинской славы», наград и поощрений. Так как война заканчивалась, то это был их последний шанс в этом преуспеть. Зная об этом их желании, офицеры и солдаты строевых частей косо на них посматривали и презирали.
Поход в страну Ахчипсоу — бой за гору Дзыхра — окончание Кавказской войны
Ещё во время сосредоточения войск, в расположение гарнизона со своим штабом прибыл командующий войсками в Абхазии. 10 апреля в сторону мыса Константиновского выдвинулся конный авангард, за ним охраняемые линейными батальонами сапёрные и строительные отряды. Передовые части приступили к разработке вьючной дороги вдоль морского берега к реке Псоу. В этот же день, получив приказ и инструкции от батальонного доктора, я с младшим фельдшером Ю. Зуевым и тремя санитарами стал готовить лазаретный обоз. Завьючив походные палатки, провиант и аптечку, мы раздали каждому солдату по индивидуальному пакету с перевязочными бинтами. На следующий день в поход вместе со всеми частями выдвинулся и наш батальон.
За время перехода была одна незначительная стычка, в результате которой ранены были два солдата из сапёрной роты. Во время продвижения нам встречались идущие к побережью многочисленные группы джигетов. Абазины скапливались на морском берегу, в ожидании отправки в Турцию. Большая часть горцев состояла из низших сословий, оно больше всего и страдало в этом хаосе переселения. Многие солдаты и унтер-офицеры, видя плачевное состояние переселенцев, отдавали свою пайку старикам, женщинам и детям. Весна в этом году была тёплой, стояли жаркие дни. Находясь в заболоченной местности, в антисанитарии, среди джигетов начались лихорадки. Находя нужным им как-то помочь в этой беде, я через Порфирича уменьшил лазаретные запасы хинина более чем на треть. Там же на морском берегу, в ожидании скорого подхода кораблей, среди народных толп отдельно стояли кучки горских аристократов, окружённые своими семействами и слугами. Среди них нередко можно было увидеть женщин с кокетливыми зонтиками.
К 25 апреля наши части подошли к устью реки Псоу. Не переходя реку войска стали лагерем. Рядом с устьем на морском берегу, турецкими и греческими торговцами был устроен импровизированный рынок. Как говорили солдаты: «Кому худо, а у кого мошна жмёт». На рынке продавался за бесценок абазинский домашний скот и нехитрый скарб, лошади и оружие. Причиной продажи было то обстоятельство, что на суда скотину не допускали. Лошадей перевезти могли себе позволить зажиточные дворяне, оружие перевозить было запрещено турецкими властями. Оплата проезда в Турцию осуществлялась за счёт казны Российской империи.
Разбив лагерь, на рынок устремились офицеры и нижние чины. К вечеру в наш лагерь Захар Порфирич привёл молодого абазина, ведущего за собой статного вороного коня и молодую рыжую кобылу. Порфирич на пару с абазином стали уговаривать меня купить или коня, или кобылу. В то время я был безлошадным, так как не считал это необходимостью. Куда в укреплении ездить на коне? После долгих уговоров я уступил и купил вороного, а так как цена за него была очень мала, я пожалел его хозяина и заплатил за него цену, которая была (по моему мнению) справедливой. Абазин радостно поблагодарил меня за этот поступок, поклонился и убежал, за ним побежал и мой санитар.
Не успев рассмотреть с солдатами приобретённого коня, я услышал сзади взрыв хохота. Оглянувшись, я увидел улыбающегося Порфирича, едущего верхом на рыжей кобыле, при этом на его ногах не было сапог. Побранив его за сапоги, на которые он поменял животное, я спросил, как он собирается дальше служить без сапог? И зачем ему нужна лошадь, ведь он санитар? На это он мне ответил, что у него в обозе есть запасные сапоги, а кобыла пригодится как вьючное животное для лазарета.
Действительно, в лазаретном обозе вьючных коней мало, а те, которые были в наличии, были перегружены тяжестями. Похвалив Порфирича за участие, несмотря на его протесты, я пошёл к интенданту и выхлопотал ему новые сапоги. Я часто вспоминал эту историю, так как впоследствии, вороной верой и правдой служил мне на протяжении многих лет, и от него наша кобыла родила много прекрасных скакунов. Коню я дал имя Черныш, а Порфирич назвал кобылу Веснянка. На мой вопрос по поводу клички лошади он ответил: — дескать, так как он её обменял весной, то пусть «кличется» Веснянкою.
Утром 29 апреля, на морском горизонте показался идущий со стороны Сухума конвой. К восьми утра, напротив Константиновского мыса, где раньше располагалось укрепление «Святого Духа», конвой встал на рейд. В 9 утра началась высадка десанта.
Десятки гребных судов, беря с кораблей войска, высаживали их на берег. Высадка продолжалась в течение трёх часов. С нашего лагеря вся эта военная панорамы была, как на ладони. Сотни горцев столпились на берегу посмотреть на это невиданное им зрелище. Импровизированный рынок распался, торговцы закрыли свои лавки, и тоже побежали на берег. Высадкой десанта руководил князь Святополк-Мирской.
В полдень, со стороны гагринского укрепления послышался гул. Через какое-то время на дороге проложенной нашими войсками, показались всадники, за ними поднимая пыль нёсся громадный табун коней. Не останавливаясь, взвод казаков через брод и вплавь переправился через реку Псоу, за ними ринулся табун, подгоняемый другими казаками. К нам подъехал запылённый есаул в сопровождении нескольких казаков. Казаки, напившись воды, рассказали, что они перегнали коней из Сухумского гарнизона для отряда, высадившегося сегодня на мыс Константиновский.
Вечером к нашему генералу прибыли нарочные с указаниями от генерала Святополк-Мирского.
На следующее утро (30 апреля) мы снялись с лагеря, и стали левым берегом реки Псоу продвигаться вверх по её течению. Я ехал на своём Черныше и был очень рад его приобретению. Перед отбытием из лагеря, Порфирич сторговал у турецкого торговца отличное черкесское седло с уздечкой.
Продвигаясь к урочищу Хушкарипш, у села Лакирха отряд имел незначительную перестрелку. Дойдя до левого притока речки Псых, мы разбили лагерь в селении Багрибш дворян Мкялба. На следующий день сапёрная рота приступили к постройке вагенбурга.
1 мая передовые части главного отряда, под начальством князя Святополк-Мирского и под руководством генерал-майора Батезатула прошли 14 вёрст по правому берегу реки Мдзимты, перешли её вброд, и в урочище Ахштырх стали лагерем. Остальные войска подтянулись туда к 6 мая. Туда же прибыл со своим штабом Главнокомандующий.
3 мая наш отряд перешёл вброд реку Псоу и занял позиции вблизи селения Салата. К северу от селения начинались высокие покатости, переходившие в виде возвышенных террас в уже довольно высокий горный хребет, покрытый лесом. Горная преграда, с крутыми скалами и двуглавой вершиной, носившей название Дзыхра, прорезалась рекой Псоу, чей бурный поток вырывался из стен узкого ущелья в 2 вёрстах от нас. Начало ущелья считалось границей между землями приморских джигетов и обществом айбуга. Офицеры и солдаты, впервые вступившие так далеко в горы, с недоверием смотрели на крутые склоны горы Дзыхра. Как мы их будем покорять? С нашего лагеря склоны горы выглядели неприступно.
Генерал Шатилов отправил в горное общество двух джигетских парламентёров, с намерением уговорить их не сопротивляться, а добровольно сдаться, избежав кровопролития. Через день он отослал к ним ещё пару человек. Парламентёры вернулись 6 мая и доложили о том, что айбуга не принимают предложение генерала и будут защищать свою землю до последнего. Джигеты также сообщили о том, что горцы укрепили завалами теснину реки, по скалам которой была проложена вьючная тропа.
Вечером состоялся военный совет, на котором было решено, как должно быть произведено наступление. Этим же вечером мы с доктором подготовили наш походный лазарет.
7 мая начался обстрел артиллерией горного дивизиона позиций горцев (из трёх орудий). Затем начался штурм. С передовым отрядом ушли санитары. Захара Порфирича я хотел оставить при лазарете, но он воспротивился и ушёл вместе с колонной. Через час к нам стали поступать раненые.
Поток раненых не прекращался на протяжении двух часов. Затем, когда штурмующие роты отошли к лагерю, наступило затишье, изредка прерываемое одиночными выстрелами. На нас с доктором было страшно смотреть, все в крови, мы были вымотаны непрерывными операциями и перевязками. Потери были большими. Огнестрельные ранения были получены, когда отряды подошли к завалам устроенными горцами поперёк тропы. Большая часть ран и ушибов была получена штурмующими отрядами, когда на них с обрыва, полетели сброшенные камни и брёвна (отряды поднимались по узкой горной тропе).
На следующий день после артиллерийского обстрела, роты опять пошли на приступ. Как и вчера, атака захлебнулась. Горцы стойко защищали свои завалы. К обеду, штурмующие подразделения отошли в лагерь.
8 мая, джигетские дворяне, через своих посыльных дали знать нашему генералу, что, прослышав о наших неудачах, некоторые из джигетов собираются в небольшие отряды с намерением идти обходными тропами на помощь айбуга (ходили слухи о том, что правитель Абхазии, сочувствуя сопротивляющимся, тайно доставил им боеприпасы).
Узнав о таких настроениях, генерал срочно отправил в лагерь на Ахштырх послание. От тех же посыльных он узнал, что в земли айбуга есть довольно сносная тропа по левому берегу реки Псоу, идущая через скалы горы Ахахча. 9 мая он отправил на эту тропу батальон полковника Романуса. Этот батальон, перейдя Псоу, пошёл обходным манёвром с намерением оттянуть от горы Дзыхра часть обороняющихся горцев.
Урочище Ахштырх было в 4—5 вёрстах к западу от наших позиций. Между этими пунктами джигетские проводники указали нам хорошую вьючную тропу, наш генерал использовал её для оперативных донесений в штаб Главнокомандующего. Когда был начат штурм горы Дзыхра, из лагеря на Мдзимте, для разработки вьючной тропы к горе Ахца, за которой находились земли ахчипсху, выдвинулись передовые отряды.
Узнав о нашем положении, Командующий приказал генералу Батезатулу, обойти гору Дзыхра с севера и ударить в тыл завалов. 10 мая, затемно, взяв сухарей на 4 дня, отряд из урочища Ахштырх выдвинулся на северный склон горы Дзыхра. Дойдя по тропе и частью по бездорожью до двух вершин Дзыхры, отряд спустился в верховье реки Дыэрх, где остановился на ночёвку. Генерал Батезатул (прозванный солдатами за его маленький рост и большие амбиции «наш маленький генерал»), пройдя этот тяжёлый путь, хотел расстрелять трёх проводников, заподозрив тех в измене.
Обходной манёвр принёс нашему отряду большую пользу, так как мы за четыре дня штурма понесли существенные потери. 11 числа, пойдя на приступ завалов, мы обнаружили их пустыми. Как потом нам стало известно, один из дозорных горцев вечером обнаружил лагерь Батезатула. За этим дозорным с дикими криками побежали грузинские милиционеры, стреляя в него на ходу. Из-за этой чехарды горцы, посовещавшись, решили покинуть завалы, перейдя за речку Дыэрх. Переход туда они совершили ночью.
Утром 11 мая отряд генерала Батезатула, в районе реки Дыэрх, столкнулся с неприятелем, во время перестрелки его отряд понёс несущественные потери. В этот же день, преследуя горцев, отряд генерала занял хребет Алква, затем спустился в одноимённое урочище, где стал на бивак. При спуске в урочище, он чуть было не вступил в перестрелку с батальоном полковника Романуса (спускавшимся вдоль левого берега реки в котловину), только счастливая случайность предотвратила перестрелку между нашими отрядами.
12 мая колонна генерала Батезатула, разорив правобережные селения, выдвинулась обратно в Ахштырх, куда прибыла 14 числа.
В отряд полковника Романуса, стоявшего биваком на левой стороне реки Псоу, для переговоров прибыли парламентёры от обществ айбуга и псху. Полковник, не имея полномочий, приказал им дождаться генерала Шатилова.
К 17 мая наш отряд, перейдя правые теснины и балки реки Псоу, стянулся в урочище, оставив в лагере близ селения Салата раненых с двумя санитарами под защитой линейной роты. Замыкая отряд, по верхней более удобной тропе, наш лазаретный обоз также подтянулся в урочище.
Я впервые так глубоко был в горной местности. Красота окружающего мира меня восхитила. Горная котловина, по краям была покрыта лиственным лесом, с высотой переходившим в темнохвойные дремучие леса, окружённые со всех сторон снеговыми хребтами. Посреди горной котловины протекала река Псоу, с высоты казавшейся серебряной лентой, брошенной посреди долины, утопающей в нежной зелени полей и изумруде прирусловых полян. На востоке, на высоту 8500 футов возвышалась двухвершинная гора Хаг, высокая и крутая, безлесная на вершинах. К северу от горы отходил лесистый перешеек, соединяющий её с господствующей над всей местностью вершиной горы Агепста, окружённой не менее высокими скалистыми вершинами под общим названием Адзитуко. Горы Адзитуко превышали высоту 10000 футов. От горы Агепста на запад безлесные хребты понижались и носили название Хысырха.
Долго мы любовались горной панорамой, надоедая своими расспросами о названиях нашему проводнику — абазину.
Как оказалось, в обществе айбуга было не более 200 дымов (дворов). Селения представляли собой разбросанные по всей горной котловине хутора. Таких больших скоплений было двенадцать, все они носили общее название Аибго. В каждом селении был свой дворянин, все они подчинялись князьям по фамилии Морщан (Маршания).
18 мая, наш отряд, с намерением выйти в земли общества Ахчипсху стал подниматься по крутому подъёму, через девственный широколиственный лес. В один день, обойдя справа гору Ахюмюэ, перевалив перевал Аибго, отряд спустился в Ахчипсху, в урочище Кубаадэ (перейдя при этом деревянный мост, построенный сапёрной ротой через реку Мдзимта).
Впереди колонны со своим штабом ехал генерал Шатилов, среди них было несколько дворян из обществ айбуга и псху. Большая часть дворян айбуга, после своего поражения, принеся безусловную покорность генералу, стала собираться к переселению в Турцию, меньшая же часть обратилась с просьбой разрешить им переселиться к своим родственникам в Абхазию или на плоскости Кубани. Не имея полномочия на такое дозволение, генерал взял этих горцев с собою в Ахчипсху, куда должен был прибыть Главнокомандующий. Генерал в знак уважения приказал не забирать у них холодное оружие.
Спустившись в урочище, мы увидели там отряд генерала Граббе. Этот отряд, сосредоточившись в верховьях реки Малая Лаба, 8 мая выдвинулся на перевал Псегашко. На другой день марша, его авангард имел перестрелку с горцами, устроивших завал на водоразделе рек Уруштена и Алауса. Потеряв при стычке двух солдат и проводника, перейдя перевал через заснеженные хребты, отряд 12 мая спустился в Ахчипсху. Здесь у подножия хребта Псехако генерал оставил 1 батальон в вагенбурге, а сам с основным отрядом прибыл на поляну Кубаадэ, назначенную сборным местом всех войск. На следующий день сапёрные и строительные роты этого отряда приступили к разработке вьючной тропы вниз по ущелью Мдзимты на встречу войскам князя Святополк-Мирского.
По прибытии генерала Граббе в Ахчипсху жители урочища стали в основной массе отправляться на побережье для переселения в Турцию. Небольшая их часть стала дожидаться Главнокомандующего с просьбой дозволить им переселиться на плоскости Кубани, к своим одноплеменникам.
К 20 маю в урочище Кубаадэ, перевалив через скалистый хребет Ахца, пройдя общество чужгуча, прибыл мдзимтинский отряд. Во главе отряда стоял Главнокомандующий и командующий войсками Кубанской области. Отряд во время своего продвижения не встретил сопротивления.
Последним в Кубаадэ прибыла колонна генерал-майора Геймана. Этот отряд, 14 мая выдвинулся от поста Кубанского на север через земли нижних убыхов, в верховье реки Соча, повернул на восток и, пройдя параллельно Главному хребту, через земли верхних убыхов и общества цвиж, спустился в ущелье р. Дчипцы, впадающей в Мдзимту. Колонна эта потеряла по пути два десятка вьючных коней, сорвавшихся со скалистых утёсов. Весь край, ею пройденный, был уже безлюден.
21 мая в общем лагере в урочище Кубаадэ сосредоточилось около 20 000 личного состава. В присутствии Его Императорского Высочества, Командующих войсками Кубанской области и Кутаисского генерал-губернатора был отслужен благодарственный Господу молебен об окончании Кавказской войны, произведён церковный парад, были награждения, милости.
Солдатам, участвовавшим в походе, вместо 20 летнего срока службы оставили 15 лет. Женатым офицерам и нижним чинам, инвалидам и у кого с этой милостью закончился срок службы, было дозволено остаться на место жительства в урочище Кубаадэ, с переселением по желанию их семей из губерний.
Зайдя днём в докторскую палатку, я застал там генерал-майора Геймана. Доктор лечил его от простуды накрыв тому голову полотенцем над парившим из медного таза отваром какой-то травы. Кашляя и бранясь, генерал сетовал на скверный местный климат и на то, что из-за простуды его отвадили от общества брата императора. С длинными мокрыми усами, по которым стекали капли отвара и витиеватыми оборотами ругани, генерал вызывал смех у доктора и присутствовавшего ординарца…
22 мая войска стали покидать общий лагерь. Даховскому отряду было приказано расположиться эшелонами по реке Мдзимте, для контроля переезда в Турцию джигетов и ахчипсхувцев. Некоторые части должны были продолжать начатые ими дорожные работы, а затем вернуться в пункты дислокации.
В Ахчипсху были оставлены два батальона для контролирования переселения горцев. Нашему отряду было приказано вернуться в бассейн реки Псоу, в урочище Аибго. Здесь отряд должен был проконтролировать соблюдение соглашения с горцами о выселении, а затем частью отряда перейти в верховье реки Бзыб, в общество псху для контроля над выселением этого общества.
В Кубаадэ начальством было принято решение оставить в Ахчипсоу доктора или фельдшера при остающихся отрядах. После вывода войск, этот чин должен был создать в урочищах Кубаадэ и Аибго для будущих переселенцев фельдшерские пункты. Таковым ответственным лицом выбрали доктора нашего батальона, но он отказался, сославшись на свой возраст, и, в свою очередь, порекомендовал меня.
Так меня зачислили в 1 роту 21 Кавказского линейного батальона, квартира которой было выбрано урочище Ахштырх. Мне было приказано выбрать себе в помощники трёх нижних чинов и одного санитара.
Получив приказание, я уже с бывшим своим отрядом стал подниматься на перевал в Аибго. По пути с нами шли абазинские дворяне, четыре дня назад ехавшие с нами в урочище Кубаадэ. С одним из них, Берком Аегба-Морщан, высокого роста здоровяком, лет пятидесяти, с окладистой бородой, мы по дороге разговорились. Оказалось, что он был двоюродным братом псхувского князя Заусхана Маршания, и являлся дальним родственником убитого накануне князя Шахима Маршания. Когда я рассказал ему о смерти последнего, он лишь усмехнулся. Потом я узнал, что среди многочисленной фамилии Морщан была вражда, так как отдельные её представители служили в нашей армии, т.е. были врагами свободы других.
Спустившись в Аибго, я поехал в наш лазарет, а Берк Аегба со своими спутниками — в окрестные леса, где они спрятали от наших войск свои семьи. По величайшей милости, в связи с окончанием войны, дворянам Ахчипсоу и их подвластным, кто не захотел переезжать в Турцию, было дозволено переселиться к родственным абазинам на плоскости Кубани или в Абхазию.
В лазаретном лагере я предложил Захару Порфиричу остаться со мною на моей новой службе. Старый солдат с радостью согласился.
Через пару дней мой бывший отряд под предводительством генерала Шатилова ушёл через перевалы в Псху. С грустью я попрощался с моими боевыми товарищами.
Затем, в течение нескольких дней происходило выселение горцев из Аибго. Расположившись на пригорке у последней усадьбы, наш небольшой отряд был немым свидетелем этого переселения. Беспрекословно подчиняясь своим дворянам, крестьянские семьи покидали родную землю…
Чуть ниже нас, стояло несколько семейств абазин, чьи дворяне отказались переезжать к османам. Среди них был Берк Аегба.
Жизнь в Ахчипсоу после окончания войны — служба в Лесном — встреча с Айей
По решению командиров четырёх отрядов, военное поселение, образованное в урочище Кубаадэ, решено было назвать Романовским в честь царствующей фамилии, а поляну, где было объявлено окончание войны — Царской (поселенцы в дальнейшем стали называть её Красивой).
До середины лета в урочище остались две роты гренадёрского линейного батальона, которые обустраивали и улучшали вьючную тропу на побережье. Строительные подразделения построили два фельдшерских пункта (в Романовском и Аибго). Солдаты также помогли построить первым поселенцам деревянные небольшие дома. Затем после ухода основных подразделений, в урочище Кубаадэ остался лишь один взвод под начальством поручика И. Е. Алекси. Военное поселение состояло из отставных женатых унтер-офицеров и солдат. Поселенцам было выделено по тридцать десятин земли, материальная помощь и годовое довольствие. В урочище Аибго был оставлен небольшой гарнизон из солдат 2 роты нашего батальона.
Вначале, покинутый коренными жителями край, заполненный в конце весны тысячами солдат, не ощущался нами покинутым местом. Но по мере того, как горную котловину покидали последние армейские колонны, ощущение пустоты вместе с их уходом словно спускалось с гор и постепенно заполняло горные долины и наши души. Чувство потерянности, усугублялось видом разорённых многочисленных абазинских жилищ, немым укором напоминавшим нам о том, что ещё недавно здесь кипела жизнь, которую мы пресекли. Нам, состоявшим на службе, это чувство одиночества приходило мимолётно, но новые поселенцы, с их слов, ощущали его очень сильно. Привыкшие к походам и гарнизонной жизни, отвыкшие от мирной работы, бывшие солдаты, став поселенцами, с трудом привыкали к новым условиям.
Наступило лето, цветущие сады и заколосившиеся нивы заброшенных полей, развеяли со временем грустное настроение новых обитателей долины. Богатство и красота окружающей природы сглаживали нелёгкую новую жизнь солдатского посёлка и службу нашего гарнизона. Провиант доставлялся нам из продовольственных складов на побережье. Осенью большую часть нашего повседневного рациона составляли плоды бывших абазинских садов. Солдатами и поселенцами был собран хороший урожай фруктов и ягод, грецких орехов и каштанов. В сентябре прибыло несколько солдатских семей из губерний.
Однотонные дни тянулись подолгу и казались бесконечными. Часто, мы с Порфиричем и Алекси ходили на охоту. Зверь, почуяв, что долина опустела, стал спускаться близко к нашему поселению. Животных привлекали осыпавшиеся плоды фруктовых деревьев. Без заботливой руки бывших своих хозяев, урожай садов портился на земле и своим запахом привлекал медведей, оленей и целые гурты кабанов. Все мы поражались стремительности перемен в окружающем мире, быстрому наступлению дикой природы. Оторванные от внешнего мира, вместе с природой дичали и мы. Целым событием для нас был момент, когда к нам приезжал раз в месяц нарочный с письмами.
Когда наступил декабрь и пошли первые снегопады, мы поняли, что зима будет снежной и для нас она будет от непривычности к горной жизни тяжёлой.
В середине января выпал глубокий снег. Наступили морозы. Сообщение с побережьем полностью прекратилось. Каждый день нам приходилось расчищать тропинки между строениями. Через несколько недель мы передвигались в снеговых тоннелях, доходивших многим из нас до плеч. К середине марта стало заканчиваться продовольствие. Нами был собран хороший урожай с садов, но, не имея навыков его хранения, он почти весь был испорчен. В особенности пострадали грецкий орех и фундук. По неопытности солдаты засыпали орехи на настилы чердачных перекрытий, и через короткое время на этих чердаках в несметном количестве расплодились местные серые грызуны похожие на мелких белок, уничтожившие большую часть наших запасов. От частого поедания орехов у многих солдат появились на теле красные пятна и сыпь, стала опухать гортань.
Спасала положение водившаяся в Мдзимте рыба. Мы её ловили в больших количествах, ели свежую, много сушили. На охоте удавалось подстрелить кабанов и оленей. Мука у нас закончилась, а так как «мясом и рыбой сыт не будешь», мы с командиром взвода и старшиной поселения решили снарядить в урочище Ахштырх (где располагался склад нашего батальона) небольшой отряд с вьючными лошадьми с намерением привезти муку и другое необходимое продовольствие.
Пятеро солдат, я и Порфирич, с десятью вьючными лошадьми проложили снежный путь к квартире батальона. Так как кони не могли идти по глубокому снегу, нам приходилось, сменяя друг друга, по грудь в снегу прокладывать тропу. На пятый день к обеду, перевалив через хребет Ахца, мы вышли в долину Мдзимты, где снега было мало. Придя в расположение батальона, мы всех удивили своим появлением. Узнав о нашем бедственном положении, полковник N выдал нам запасов сверх нормы и, дав дополнительно трёх вьючных коней, на следующий же день отправил наш караван обратно.
С не меньшими усилиями, на второй день после прихода в Кубаадэ, часть провианта доставлено было гарнизону в Аибго, не менее нас нуждавшегося в продовольствии. Возможно, эта небольшая экспедиция спасла первых поселенцев и наши гарнизоны от голода.
На следующий год мы ожидали быстрого заселения покинутых земель, но действительность разочаровала. Не говоря уже о горных урочищах, само завоёванное побережье заселялось медленно. Не было охотников на переселение ни среди казачьих станиц, ни среди губернского крестьянства.
Кроме небольшого поселения в урочище Кубаадэ, большое поселение образовалось лишь в урочище Аштырх, где первоначально была квартира нашей роты и батальона. Здесь солдатское поселение насчитывало более 200 человек, часть успела до зимы вызвать из губерний свои семьи.
Не предвидя потока переселенцев, в июле начальство вызвало меня на побережье. С собой я взял Захара Порфирича. Алекси был назначен командиром нашей роты. Рота была переведена в урочище Лесное на водораздел Мдзимты и Кудэпсты.
На протяжении двух лет в урочище Лесном тянулась моя гарнизонная служба, обстановка мало менялась. Изредка я выезжал к батальонному доктору в Даховский посад, часто посещал гарнизоны в Кубаадэ и Аибго. Массовое переселение, как предполагало начальство, так и не произошло. Для стимулирования переселенческих процессов, 10 марта 1866 года был образован Черноморский округ.
В конце лета 1867 года я, через Ахштырх и Аибго, отправился в Романовское. В этот год только через Аибго было сообщение с Кубаадэ, так как тропа, проложенная войсками в 1864 году по правому берегу Мдзимты, была смыта дождями.
Побывав в поселении и гарнизоне Кубаадэ, мы с Порфиричем перешли в Аибго. Как обычно, мы остались ночевать в фельдшерском пункте, представлявшем собой деревянное строение из двух комнат. Захару Порфиричу в этот вечер нездоровилось, он рано ушёл спать, я же допоздна занимался своими бумагами.
Был поздний час, я собирался идти отдыхать, когда услышал негромкий, но настойчивый стук в дверь. Подумав, кого там ещё из солдат занесло так поздно, я открыл дверь и увидел перед собой в свете факела закутанную в бурку фигуру. Присмотревшись, я узнал Берка Морщана. Я был немало удивлён, ведь прошло около трёх лет после нашей встречи. Увидев меня, абазин схватил меня за руку, и эмоционально стал говорить что-то на своём языке. Вначале я не мог разобрать его речь, но потом в общих чертах понял, что ему нужна моя помощь как медика в лечении кого-то. Так как уже была ночь, я попросил отложить это до утра и предложил ему переночевать в соседней комнате, где спал санитар. Но он стал горячо убеждать меня, что помощь моя требуется немедленно. Не понимая до конца смысла сбивчивого монолога Берка, я разбудил Порфирича, и он, переговорив с ним, объяснил суть происходящего.
Оказалось, что у Берка есть дочь, которая тяжело заболела, ей стало очень плохо за последние два дня. Узнав вечером от одного из своих людей (который имел доста среди солдат в Аибго), о приехавшем туда докторе, он пришёл за помощью.
На дворе была безлунная ночь, мне уже хотелось отдохнуть после пути из Кубаадэ, но что-то внутри говорило мне, что мне нужно идти с Берком. Порфирич не хотел отпускать меня одного в ночь, но, так как ему с вечера нездоровилось, я запретил ему ехать с нами.
Успокоив сбежавшихся на голоса солдат, я сел на Черныша и поехал за абазином. Ночь была безлунной. Ехавший на коне впереди меня Берк, высоко подняв руку, освещал лесную тропу факелом, представляющим собой длинное корневище сосны, которое хорошо и равномерно горело. К его седлу была приторочена целая охапка этих своеобразных факелов.
Я думал, что путь будет близким, так как абазин, при разговоре показывая в сторону горы Хаг, объяснял, что его селение близко. Но прошёл уже час, а мы все поднимались выше и выше по дремучему лесу, вдоль одного из левых притоков Псоу. Молодость не позволяла мне остановить Берка и спросить, долго ли нам ещё ехать. Часа через два, мы перешли через высокий лесистый хребет в бассейн Геги, и в четвёртом часу выехали из тёмного покрова на лесную поляну. На поляне, в свете тусклого факела были видны очертания нескольких абазинских хижин. Берк подбежал ко мне, и едва я спешился, как он увлёк меня в одну из этих хижин.
Абазинское жилище — сакля представляла собой турлучное строение с низким потолком. Зайдя в неё, глаза у меня, прежде чем привыкнуть к полумраку, стали слезиться от дыма, стоявшего под потолком. В трубе над очагом в нескольких местах были дыры.
В сакле находились двое, высокого роста женщина — жена Берка и, лежавшая возле пылающего очага на топчане, укрытая шубой девушка подросток. Внимательно оглядев больную, я сказал, что у той лихорадка. Спросил, как она заболела этой болезнью, если они находились высоко в горах, где лихорадки не бывает.
Берк рассказал мне о том, что после покорения айбуга, он переселился к своим родственникам на Гегу. Прожив там, около двух лет, он и его люди приняли участие в Бзыбском восстании, в котором участвовали многие Моршания. Подавив восстание, сухумские власти за этот проступок приказали им выселяться с семьями в Турцию. На берегу, в селении Бомборы, в ожидании судна, его единственная дочь заболела. Опасаясь, что при переезде она умрёт, и, зная о том, что в горах лихорадка быстро проходит, он решил увезти её обратно в горы. Своих людей со старшими сыновьями и их семьями он отправил в Турцию, сам же с женой и наиболее близким к семье человеком по имени Пшимаф вернулся в горы. Прошло уже две недели после их возвращения.
Дочь Берка звали Айя. Учитывая плохое её состояние (она была в бреду), видя состояние жилища, антисанитарию и смог от очага, я ему посоветовал перевезти Айю в более подходящее для лечения место.
Такого места не оказалось, все селения по Геге были пусты и частью разорены. Взвесив все возможности, я предложил Берку перевезти его дочь в Аибго в наш просторный и чистый фельдшерский пункт, и остаться с ней там до полного её выздоровления. Подумав, он согласился.
После непродолжительных сборов, все вместе тронулись в обратный путь. Впереди меня ехал Берк со своей женой, завёрнутую в бурку больную Айю, вез на коне я. Впереди нас, освещая путь, шёл Пшимаф. Когда поднялись на водораздел, начало уже светать, спустя два часа мы спустились в Аибго, где нас встретил Порфирич.
На третий день после нашего приезда, лихорадка стала отпускать Айю. Большую помощь при борьбе с этой болезнью наряду с обычными лекарствами мне оказали местные лекарственные травы и рецепты, переданные мне Патой Квацба.
Когда больной стало лучше, я оставил семейство на попечение Порфирича, а сам выехал в расположение роты. Приехав в Лесное, я рассказал Алекси о случившемся. Будучи приятелями, мы договорились, что Берк со своей семьёй поживёт какое-то время в Аибго, а там, в зависимости от обстоятельств, будет видно. Иван написал записку о своём решении командиру батальона.
Приехав в Даховский посад к попечителю, я рассказал ему об абазинской семье и о нашем разговоре с Алекси. Попечитель согласился с нами по поводу оказания помощи семье Берка, и, в свою очередь, рассказал мне о том, что в отделе планируется создание двух черкесских поселений. В данные поселения будут поселять семьи горцев, прячущихся в лесах, а также водворяться все беженцы, возвращающиеся из Турции, и горцы с северного склона, по тем или иным причинам, переходящие на южную сторону. Одно из таких поселений будет создано в верховьях реки Кудэпсты, возле речки Псахо, в зоне действия нашей роты. А пока такое поселение еще не создано, попечитель разрешил семье Берков пожить под присмотром аибгинского гарнизона. Взяв у командира батальона необходимые бумаги, касающиеся семьи Берка, я отвёз их в Аибго.
Рассказав абазину о решении начальства, я спросил у него, что он собирается предпринять после выздоровления дочери: переселиться в Османскую империю, как он и планировал, или, как предлагает начальство, поселиться в будущем поселении. Посовещавшись со своей женой, а затем, объяснив на языке жестов Пшимафу (тот был глухим), он принял решение остаться в Аибго, надеясь на то, что впоследствии ему удастся вернуть остальную часть семьи из Турции.
Мне приходилось часто бывать в разъездах. В мои служебные обязанности входила инспекция ротных лазаретов, стоящих в бассейнах рек Мдзимта и Псоу. Данное положение мне нравилось, так как постоянное нахождение в расположении гарнизона было тягостно из-за однообразия. При поездках меня сопровождал Порфирич, должность помощника я ему выхлопотал после того, как начальство стало его уговаривать покинуть военную службу и перейти на поселение в любое из подразделений. Захар Порфирич был самым старым солдатом нашего батальона, ему в этом году исполнилось 60 лет.
В долине Мдзимты располагалась лишь наша 1-я рота (урочище Лесное). Вблизи развалин укрепления «Святого Духа» стоял небольшой пикет из одного отделения солдат, и полувзвода гребных матросов. В долине реки Псоу, на её левом берегу в урочище Михельрипш, стояли две роты Сухумского отдела под начальством капитана Демидова. Так как этот гарнизон стоял на землях Черноморского округа, а до квартир его отдела было далеко, то начальство посчитало, в целях целесообразности медицинскую службу поставить в одном месте, и мне как старшему фельдшеру, по поручению батальонного доктора Д. И. Сиверцева, там бывать. Через брод возле селения Михельрипш, было основное сухопутное сообщение между отделами, брод у устья Псоу, был доступен лишь в межень.
Обычно свой объезд я начинал с урочища Лесного, посещал поселение на Ахштырхе, оттуда переезжал в Микельрипш, далее на Аибго и Романовское.
В Аибго меня радостно встречала семья Морщан. Берк с семьёй прожил там около двух лет. Затем они переселились в верховье Кудэпсты в аул, который горцы назвали Лэшьу. Аул находился в одной версте от гарнизона в урочище Лесном, на другом берегу реки. В этом поселении первоначально жило лишь четыре семьи, включая семью Берка.
Я видел, как трудно даётся Берку не свойственная ему трудовая жизнь. Его руки огрубели. Воспитанный в духе вольности, удальства и хищничества, он не привык к другому виду деятельности. Тем не менее, ещё живя в Аибго, Берк своим примером показал солдатам гарнизона, что в горах можно хорошо жить, и два семейных солдата решили осесть там, вызвав свои семьи из Могилёвской губернии. В этой связи, начальство решило образовать в урочище селение Аибга.
Горная рыбалка — лечение первых переселенцев — заболевание лихорадкой
В марте 1869 года, приехав в Михельрипш, я застал капитана Демидова, выезжающего из лагеря в сопровождении пятерых верховых солдат и пары вьючных. Увидев меня и Порфирича, капитан, сказал, что мы вместе с ними едем на рыбалку. На мои слабые возражения о служебных обязанностях он рассмеялся и сказал, что за пару дней в подразделениях ничего не случиться…
Вначале я думал, что мы поедем на берег моря, где азовские казаки с баркасов сетью ловят рыбу для продажи гарнизонам на побережье. Но проехав с версты три, и перейдя небольшой приток Псоу, мы повернули влево от реки и стали углубляться в горы. На мой удивленный вопрос, капитан ответил, что мы будем добывать рыбу в реке острогами, ночью, с помощью факелов. О такой ловле я впервые слышал.
Погода была солнечной. Путь пролегал по пересечённой местности, где густой лес чередовался с лесными полянами. Поляны были бывшими пашнями, заросшими прошлогодними побуревшими травами, внизу которых, пробивался изумрудный ковёр из весенних трав и цветов. Между лесом и полями отдельными участками встречались сады, заросшие колючими кустарниками, диким виноградом и плющом. Среди дикости запустения отдельными купами цвели груши и вишни. Трудолюбивые пчёлы гудели над цветами, распространяя их тонкий аромат.
Весенний серый лес, с ещё только-только молодой листвой и вечнозелёным подлеском из экзотических субтропических растений был наполнен пением птиц.
Проехав по лесу и живописным полянам, мимо заброшенных абазинских усадеб, мы ко второму часу дня достигли теснин реки Жеопсе. Не доезжая до скалистых участков ущелья, наш небольшой отряд, стал лагерем под раскидистым дубом, на левом берегу обмелевшей реки. Расседлав и стреножив коней, солдаты поставили две палатки, натаскали туда сухой прошлогодней травы для постелей и подготовили кострище. Затем четверо солдат отправились на скалы искать корневища сосны и собирать валежник. Игнат, солдат лет сорока, стал готовить остроги для рыбалки. Остроги представляли собой выкованные из железа пятизубые заострённые наконечники, с зазубринами вблизи остриёв. Остроги Игнат вставлял в четырёх аршинные деревянные рукоятки, вырубленные из орешника, произраставшего в изобилии по берегу реки. Затем, с помощью бечевы, острога и рукоятка туго обматывались вместе. Порфирич в сём деле принимал активное участие, предварительно расспросив по дороге у Игната об этом промысле.
Я спросил у Демидова, как они догадались о такой рыбалке. Капитан рассказал, что год назад, в это же время, он отправил на охоту нескольких солдат. Среди них был Игнат, родом из калужской деревни. Стоя биваком на этой речке, Игнат увидел в реке, в так называемых «ямах», много большой форели. Сделав из ореховой палки копьё, изловчившись, он загарпунил пару рыб. Вернувшись в гарнизон, показал их Демидову. Также он рассказал, что до того, как его отдали в солдаты, он несколько раз участвовал в ночных охотах с острогой. В деревне они добывали рыбу с лодок, с помощью факелов. Ну а здесь, по его мнению, охоту с острогой можно было делать и с берега, так как река обмелела и рыба стояла косяками в глубоких небольших ямах, коими изобиловала река Жеопсе. Посмотрев на убитую простой заострённой палкой рыбу и зная о том, что такая рыбная охота практикуется в центральных губерниях, Демидов поехал с Игнатом, к ближайшему кузнецу. Кузнец выковал им несколько острог. Через несколько дней они отправились на эту охоту и набили достаточно рыбы для гарнизона…
В Мдзимте и Псоу Порфирич и солдаты гарнизонов ловили много форели, но на крючковую снасть. Добываемая ими форель была не более фута весом, рыбы с пуд, как говорил капитан, нам не попадались. Возможно, из-за того, что ям на этих реках было мало, и они были всегда полноводны.
Для навыка, Демидов показал мне, как правильно пользоваться острогой. Он тихо подходил к водяному омуту, осторожно опускал в воду железную вилку, и, видя якобы рыбу, резко наносил удар, приговаривая — «Бей, Боря, в голову»! Игнат, учил этому же Порфирича. Вода в реке была почти прозрачной и очень холодной. Судя по всплескам в ямах, по теням в воде, рыбы в реке было много…
Близился вечер. Солдаты натаскали целую гору валежника. Большой медный котёл с ухой кипел над кострищем. Ещё засветло, капитану и Игнату удалось, загарпунить четырёх небольших рыб. Возле палаток лежала порядочная охапка сосновых сухих корней.
Оставив одного солдата на биваке, взяв с собою остроги, сосновые коренья и мешки, мы выдвинулись на охоту. Место охоты представляло собой скалистое ущелье, шириной до десяти сажень, местами сужающееся до пяти. Речка небольшим руслом петляла между галечниковыми наносами, на поворотах создавая ямы-омуты. Борта ущелья были из серых скал сотен футов высотой, на скальных полках рос смешанный лес.
Мне в напарники капитан определил Игната. Охота состояла в том, что один освещал воду, другой бил рыбу. Потом мы должны были меняться. Вначале меня как неопытного Игнат поставил с факелом, показав, как правильно его держать, освещая воду и как перемещаться с ним вдоль русла и ям.
Рыба могла от испуга «убегать» из одной ямы в другую по неглубоким протокам между ними. Один солдат должен был собирать рыбу в мешки и отвозить на коне в лагерь.
Ночь опустилась быстро. Мы зажгли факелы и цепочкой растянулись по реке. Вначале мне не очень импонировала роль факелоносца, и подчинение тихим командам Игната. Но по мере того, как я смотрел на то, как мой напарник ловко гарпунит рыбу и выкидывает её на берег, древний охотничий инстинкт во мне разгорелся. Через полчаса, после пары неудачных попыток, я уже сам наколол на острогу свою первую рыбу. Вытаскивая рыбу из воды, почувствовал её тяжесть и силу, а когда освещённое факельным светом серебристое с пятнами тело показалось из воды, я уже полностью вошёл в охотничий азарт…
Через час, все забыли о тишине рыбной охоты. До этого, мы осторожно подходили к спокойному зеркалу воды, и тихо подводили острогу к стоявшей в воде рыбе. Теперь же, как только в световом круге появлялся силуэт рыбы, мы, не мешкая, наносили удар, временами прыгая в воду, не ощущая холода воды. В азарте было много брызг, беготни и криков.
Это было какое-то охотничье помешательство, основанное на древнем инстинкте. Со стороны мы выглядели, словно африканские дикари с копьями на охоте. Наши тени в свете факелов, плясали на стенах каменных громад. Всё это фантасмагорическое зрелище дополнял вой и хохот десятков шакалов, сбежавшихся на запах крови, которую река уносила вниз по ущелью…
Примерно через два часа охоты, Демидов крикнул — «Всё, братцы, достаточно! Поохотились»!
Собрав в мешки рыбу, которую не успел перевезти на бивак солдат, мы подождали, когда прибудут вьючные. Загрузив коней, мы уже за полночь пришли в лагерь. Только здесь я почувствовал большую усталость. Сапоги были полны воды, ноги от беготни по речной гальке гудели. Думаю, и другие «рыбаки» были не менее меня уставшими. Войдя в палатку, и прикоснувшись к своей постели, я провалился в глубокий сон…
Проснувшись от духоты, стоявшей в нагретой от солнца палатке, я посмотрел на часы, было девять утра. С наружи раздавались голоса и смех солдат. Рядом на сухой траве, покрытой буркой, храпел Демидов. Выйдя из палатки, увидел Порфирича с Игнатом, они сидели на камнях перед большим куском парусины, на котором громоздились потрошённые рыбьи туши. Беря из стоявшего рядом мешка соль, они обильно натирали ею рыбу, и укладывали её в мешки. Двое солдат хлопотали у костра. В котле варилась уха, а на углях жарились куски рыбы, надетые на ореховые палочки, предварительно очищенные от коры. Остальные солдаты разделывали у реки рыбу. Часть рыб была с красной икрой, её так же солили и складывали в отдельные плетёные плоские корзины, обтянутые парусиной…
После того как проснулся капитан, мы пообедали. Более вкусной ухи из голов, икры и печени этих рыб я больше никогда не ел. Жареная рыба была превосходной.
Когда мы отдыхали после обеда, я спросил у Демидова, почему он прервал охоту? Капитан ответил, то, что мы добыли достаточно для гарнизона. Больше не нужно понапрасну истреблять рыбу. Месяц солдаты будут утолять плоть, после зимней пищи, состоявшей из сухарей, каши и солонины. Простую мелкую форель солдаты и так достаточно ловят в Псоу удочкой. В прошлом году они от жадности набили много рыбы. Часть её решили посушить на зиму. Но на сушке мухи ее испоганили. Ну а часть, так как её предварительно не присолили, просто испортилась. Теперь же, наученные опытом, половину рыбы они посолят, уложат в деревянные бочки, затем, предварительно отмочив, съедят. Остальную свежую, которую не посолили, съедят за пару дней. Также он сказал, что, когда вода в реке поднимется, большая форель из реки исчезнет. По мнению Демидова, рыба уходит в это время года в море, так как она там иногда попадается казакам в сети…
В эту охоту мы смогли загарпунить около семидесяти рыб, некоторые из них превышали пуд.
В этот же день, к ночи, мы с Порфиричем прибыли в Аибго. С собой мы привезли несколько рыбин. Часть мы отдали солдатам гарнизона, часть семье Берка…
С начала 1869 года на побережье стали прибывать первые переселенцы из Бессарабии. Они основали четыре поселения. Вслед за молдаванскими переселенцами с территории Турции стали прибывать понтийские греки. Начальство расселяло их по правому берегу реки Мдзимты.
По указанию батальонного доктора, патронаж над новыми поселениями в бассейнах Мдзимты и Псоу был возложен на меня, в помощь дали одного из фельдшеров батальона. В августе месяце, при лечении лихорадки у жителей деревни Весёлой, я почувствовал слабое недомогание, и уже на второй день после первых признаков, понял, что заразился. Приём хинина, хоть и приостанавливал болезнь, но не давал ей затихнуть. По причине обстоятельств (из-за жаркого лета лихорадкой заболела половина жителей и многие стали умирать), я не смог быстро покинуть заражённую деревню. Надеясь на чудодейственное действие хинина и других лекарств, я ещё больше запустил болезненные процессы. Через неделю, лихорадка окончательно подкосила меня. С большим трудом, при помощи Порфирича и старшины Гергиша, мне удалось попасть в ротный лазарет.
Надеясь на более возвышенное место гарнизона, я думал, что болезнь меня отпустит, но приступы лихорадки лишь усиливались, временами я впадал в беспамятство. Последнюю неделю я смутно воспринимал происходящее, помнил лишь, как в тумане, лица Порфирича и Берка, помнил длинные многочасовые переходы, где меня, беспомощного, завёрнутого в бурку, везли на коне, помнил смутные очертания гор и ущелий, как меня часто и чем-то поили…
Очнулся я в незнакомом месте, лёжа на бурке на берегу небольшого горного потока. Вокруг возвышались поросшие вековым лиственным лесом склоны гор. На прирусловой поляне были построены два шалаша из веток, возле них, разжигая костёр, суетился Порфирич. Рядом, на корточках, в шароварах, обхватив ноги руками, сидела Айя. На большом камне у реки Берк мастерил что-то из сучка дерева. Увидев, что я очнулся, Берк позвал Айю и Порфирича…
Я спросил у них — как мы здесь оказались? Порфирич рассказал, что, когда меня больного, привезли в гарнизон, увидев моё состояние, все думали, что я помру. Видя мои страдания, Берк попросил Алекси дозволить ему отвезти меня в горы, возможно, болезнь там отпустит меня. Алекси с ним согласился, дав ему в помощники Порфирича. По каким-то неведомым им причинам, Айя стала упрашивать отца взять её с собой. Берк был категорически против, но она с таким серьёзным видом и строгостью доказывала ему, что увяжется за ними, что ему пришлось уступить.
Приехав в Аибго, они как могли (помня, как я лечил Айю) стали лечить меня травами. Через несколько дней, приступы лихорадки стали ослабевать, но из-за ослабления организма, на меня напала еще какая-то другая напасть. Будучи знаком с симптомами этой второй болезни, Берк сказал, что она лечится у горцев лишь одним способом — водой. Как рассказал Порфирич, он сначала не понял, о какой воде говорит ему абазин, пока тот не объяснил, что эта вода считается у горцев лечебной, и они пользуются ею испокон веку для лечения многих болезней.
Мои спутники перевезли меня к подножию горы Аишхо, в верховье реки Мдзимты. Здесь, у лечебного источника, они четыре дня поили меня его водой. Порфирич очень волновался, так как Берк запретил им с Айей пить эту воду. От этой воды мне становилось хуже. Но Берк сказал, что беспокоиться не о чем, эта вода убьёт мою болезнь. На пятый день они перевезли меня на наше сегодняшнее место, на реку Ачипсэ где был другой источник. Как сказал Берк — уже с живой водой, которая должна была восстановить мои силы, а верхний источник, по его словам, убил мою болезнь. Также, Порфирич рассказал, что, во время болезни я не мог самостоятельно есть, Берк ходил высоко в горы, где добывал горных куропаток, из этих птиц Айя варила для меня бульон, а из мяса делала кашицу, которой потом кормила меня.
Ожив в прямом смысле, я с искренностью стал благодарить своих спасителей…
На пятый день моего пребывания в долине реки Ачипсэ, я уже имел достаточно сил, чтобы совершать непродолжительные прогулки…
Вечером, у костра, Берк рассказал о месте, где мы находились. Здесь когда-то был абазинский аул Рыхъ-Айя, до него место просто называлось Рыхъ. Невдалеке находился аул предков Берка. Матери его деда, которая была на сносях, при переезде с мужем и его крестьянами, пришлось рожать в этом месте, так как время её пришло. Наступала ночь. Разложив костры, ожидали рождения ребёнка. Когда послышался первый крик новорождённого, ночное небо прояснилось от облаков, появилась большая луна, до того большая и яркая, что вся горная долина осветилась ярким лунным светом, стало светло, словно это был день, на деревьях была видна листва.
Турок мулла, живший среди горцев уже не первый год, в экстазе упал на колени, простёр руки к ночному небу и стал кричать, что это — Айя. Когда абазины, поражённые увиденным, стали спрашивать муллу, почему он так кричит, он показал им на яркий диск луны, развёл руками по освещённой горной долине, указал на роженицу, сказал, что у той девочка и сказал, что это Айя. Турок настаивал, что новорожденную необходимо назвать Айя — именем, которое переводится как «Лунный свет». Прадеду Берка понравилось это имя, так как оно было созвучно с самоназванием айбуга и родом Аегба, и он назвал свою дочь Айя. Со временем на этом месте возник небольшой аул Рыхъ-Айя. В честь своей прародительницы, Берк назвал свою дочь Айя…
Совсем выздоровев, я со своими спасителями вернулся в расположение роты. Алекси был поражён моим бодрым состоянием, так как он уже не чаял увидеть меня живым.
Новая семья — Алимат —
переселение в Аибго
Наступил 1870 год. В этом году было отменено довольствие для поселенцев и упразднены льготы. Военные поселения стали заметно пустеть. Романовское поселение покинули больше половины его жителей, то же было и в Ахштырхе, там, освободившиеся места заняли молдаване из деревни Адлер.
Я очень часто, больше, чем прежде, наведывался к семейству Берка. В один из таких приездов, мы с Алекси и Берком, за разговорами провели приятный вечер. Когда, попрощавшись с гостеприимным хозяином, мы с Алекси уже сели на коней, ко мне подбежала Айя, протянула свёрток, затем, прикрывшись рукой, убежала в саклю. Иван рассмеялся и сказал, что я нравлюсь девушке.
Приехав в расположение роты, я открыл свёрток и увидел в нем бережно сложенную серую черкеску, Айя сшила её из когда-то подаренного мною куска материи. Алекси, увидев подаренную вещь, на полном серьёзе сказал — «ну всё, брат — девушка точно в тебя влюблена».
После его слов я задумался. Действительно, за последний год, Айя из девочки подростка превратилась в стройную, высокую, очень красивую девушку. От этих мыслей мне стало не по себе. Я стал реже бывать в гостях у семейства Морщан. Берк, в свою очередь, вначале не замечал чувств дочери ко мне, но, когда его жена, рассказала ему об этом, он приехал ко мне и без обиняков спросил — «нравится ли мне его дочь?»…
В марте, полковой священник обвенчал нас с Айей в Пицундском храме. Берк не был против нашего венчания, сам по себе он был язычником, но в его роду, как он помнил, были и христиане. В связи с редким явлением, когда северный иноземец венчался с абазинкой, в храме собрались Маршания чуть ли не со всей Абхазии.
Так как я уже был женат, мы с Айей поселились в урочище Ахштырх, на территории поселения. С нами жил Захар Порфирич. Будучи в возрасте, он уже не мог нести военную службу, как прежде, и решил поселиться там вместе с нами, уйдя в отставку.
Со временем и я стал понимать, что военная служба, с её частыми переездами становится мне в тягость. Старая рана от продолжительных трясок в седле часто напоминала о себе. После двух лет жизни в посёлке, я решил уйти с военной службы, и перевестись в гражданский статус. Когда решение было принято, я съездил в батальон, к доктору. Зная о том, что старая рана меня беспокоила, а служба усложняла её болезненное состояние, по его ходатайству, я получил должность гражданского фельдшера. В мои новые обязанности входило лечение лиц, проживающих в гражданских поселениях Кубаадэ и Аибго, по необходимости присутствуя в посёлках на побережье. Лекарства и другие необходимые материалы я получал в интендантском складе в Адлере, туда они приходили с баркасом из Даховского посада. В то время Адлер представлял собой заросшие бурьяном развалины бывшей крепости, от которых к морю стояло несколько хижин, пара духанов и деревянная пристань…
Прошло больше года, и я стал задумываться, чем же ещё заняться, кроме фельдшерской службы. В то время отставным чинам, выдавалось до тридцати десятин земли. По совету своего тестя (он в прошлом имел большой табун) при живом участии Порфирича я решил поселиться в Аибго и заняться разведением лошадей. Этот выбор я сделал и на основании того, что у меня были связи с частями, дислоцируемыми в Сухумском отделе и Черноморском округе. Я договорился о поставке коней с начальством, которое нуждалось в хороших породах лошадей.
Во второй половине лета 1873 года, получив необходимые бумаги на поселение у попечителя, я приехал за тестем в Лэшьу. В кунацкой хозяев не оказалось и я зашёл в саклю. В сакле были только мать Айи и молодая хакучинка. Они готовили на очаге щипс. Жена Берка сказала, что её муж с Пшимафом должны скоро вернуться, так как они ещё с ночи ушли вместе с другими аульчанами охотиться на кабанов, разоряющих их посадки кукурузы, Выйдя на улицу, я сел на лавочку возле кунацкой и закурил трубку. Из сакли доносились женские голоса и стук посуды.
Мать Айи звали Алимат, она была из рода Заурым, одного из колен многочисленных Маршаниев. Алимат относилась ко мне с почтением, и с присущей горянке скромностью. Все эти годы, при общении со мною она избегала длинных монологов, и ограничивалась обычными фразами. Когда я входил в их саклю, она всегда встречала меня приветливым и добрым взглядом. При моём появлении она всегда вставала, скрестив на груди руки, чуть наклонив в почтении голову, ждала, о чём попросит её муж для гостя. Если я входил в комнату, и Алимат была одна, она произносила на русском: «Здравствуй Борис! Как твоё здоровье? Хочешь ли отдохнуть с дороги?», получив ответ, она, чуть поклонившись, уходила на женскую половину. В начале, для меня это казалось странным, но потом я привык к такому «молчаливому общению». Айя объяснила, что у них в роду, так принято общаться с мужем дочери. С Захаром Порфиричем, Алимат общалась свободно, когда мы приезжали в их аул, она у него подробно расспрашивала о нашем хозяйстве и делах…
К вечеру, перед спуском в Ахштырх мы заехали к Алекси. Войдя в комнату ротного, мы застали Ивана о чём-то оживлённо беседующего с гражданским чином, брюнетом среднего возраста. Алекси познакомил нас. Новым знакомым оказался Арсений Верещагин, один из главных сподвижников освоения земель вокруг Даховского посада. Так как нам нужно было засветло успеть в поселение, мы с Арсением Васильевичем ограничились лишь короткой беседой, и пригласили его посетить наш будущий дом в Аибго…
Через два дня, увязав наш нехитрый скарб на трёх вьючных коней, я с Айей, Порфиричем, Берком и Пшимафом прибыли в урочище Аибго. Урочище было заброшено. Небольшая солдатская слободка просуществовала здесь недолго, после того как была отменена государственная поддержка она разбежалась. Остатки абазинских селений, плодовые сады, поляны и пашни заросли травой и колючими кустарниками. В аибгинском гарнизоне осталось лишь четверо сменяющихся солдат, остальные были переведены в Даховский посад. Начальство на следующий год собиралось упразднить все горные гарнизоны.
Берк показал нам место, где когда-то было одно из его бывших селений, на высоком правом берегу реки Псоу. Участок находился недалеко от тропы, ведущей в урочище Кубаадэ. между двумя небольшими ручьями. Порфирич спросил у него, чем это место лучше, чем прибрежные поляны в нижней части урочища. Берк объяснил, что здесь солнечный склон, здесь теплее, меньше сырости и климат здоровее, от этого места можно быстро пройти на высокогорные пастбища.
Так мы поселились с Айей и Захаром Порфиричем в Аибго. Жили мы первое время в одном из пустующих солдатских домов, в качестве конюшни используя наш старый фельдшерский пункт. Другие строения в урочище, без людей быстро приходили в негодность. Осенью, узнав о том, что мы переехали, в урочище вернулись две семьи её бывших поселенцев, жившие возле Даховского посада. На следующий год, Айя родила сына Леона, названного в честь моего деда. Ещё через год у нас родилась дочь Бэла.
Беря разрешение у командира роты Алекси, к нам в сопровождении Пшимафа часто приезжал Берк. С их помощью, мы построили просторный деревянный дом и приобрели на северном склоне у абазин, живших по Большой Лабе, несколько лошадей черкесской породы.
Захар Порфирич, на удивление, словно он всю жизнь ждал этого момента, развернул бурную сельскохозяйственную деятельность. Как только нам стали позволять средства, он стал нанимать на побережье молдаван (в то время они были самыми трудолюбивыми работниками), собирал с ними значительные урожаи с заброшенных садов, и сбывал его в гарнизоны на побережье. Сливы и груши сушились в больших количествах, так как на них был большой спрос у интендантов, отправлявших их во внутренние части империи. Также, работники очистили нам бывшие поля горцев. На этих небольших полях мы сеяли местную рожь и просо. Часть урожая зерна продавалась на побережье.
Потом Порфирич надумал построить в урочище водяную мельницу. Зерна было много, по его мнению, глупо было покупать муку на побережье. Услышав о намерениях будущего мельника, Берк привёз ему откуда-то два больших каменных круга для жерновов. Так как в строительстве мельниц мы мало соображали, Порфирич объездил все ближайшие гарнизоны, нашёл среди солдат тех, кто понимал в этом деле. Не знаю, как он договорился с их командирами, но они позволили их нанять. Эти солдаты работники в короткий срок построили нам мельницу, вода в которую поступала по длинному жёлобу из ближайшего ручья…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.