
- Все
- Экономика и бизнес
- Промышленность
- СМИ и индустрия развлечений
- Издательская деятельность и журналистика
Бесплатный фрагмент - Спецблокада
Тюремные и лагерные истории
Рассказы, вошедшие в сборник «Спецблокада (тюремные и лагерные истории)» являются художественными произведениями.
Рассказы содержат специфическую жаргонную и ненормативную лексику, сцены курения табака и употребления алкоголя, однако при этом не пропагандируют и не призывают к употреблению алкоголя, табака и наркотиков.
В произведениях встречаются также изобразительные упоминания о противоправных действиях, но такие описания являются художественным, образным и творческим замыслом, не являются призывом к совершению запрещенных действий.
Автор осуждает противоправные действия, употребление наркотиков, алкоголя и табака. При возникновении зависимости обратитесь к врачу.
Категория 18+ — только для взрослых!
Предисловие автора
Книга посвящается светлой памяти
профессора Сергея Александровича Степанова —
незабвенного наставника и настоящего товарища
~СЛОВО О НЕВОЛЬНОЙ ПРОЗЕ~
В одном из интернет-каналов однажды мне встретилась фраза: «Заключённые пишут историю России». Фраза эта запомнилась и навела на некоторые размышления. Не чересчур ли смело и громко заявлено?
Относиться к этому можно по разному, и, безусловно, найдётся немало скептиков, кто станет возражать. Найдутся и те, кто даже будет возмущаться, а кто и просто презрительно усмехнётся…
Действительно, из окон верхних этажей обзор и шире, и, вообще — помасштабнее. Однако при этом нельзя увидеть того, что творится под спудом. А из подземелья, наоборот, мало, что видно из явного, зато можно разглядеть много тайного…
Представим себе, что осталось бы от истории сахалинской каторги, если бы Чехов и Дорошевич в своё время проигнорировали свидетельства каторжан и поселенцев?
А что осталось бы от истории ГУЛАГа и вообще сталинского периода, если б А. Солженицын, В. Шаламов, В. Фрид с Ю. Дунским, Т. Петкевич и многие другие бывшие узники не оставили нам своего литературного наследия?
Честные и объективные ответы на эти вопросы при всех оговорках и допусках будут явно не в пользу оппонентов, настроенных недоверчиво или скептически.
Итак, заключённые пишут историю России…
На самом деле, говоря о тюремной и лагерной прозе, надо понимать, что это не жанр в прямом смысле слова. Точнее, употребляя слово «жанр», в данном случае нужно сознавать его условность. Ведь книги, написанные заключёнными или бывшими заключёнными, вовсе не обязательно должны содержать арестантскую тематику или иметь какое-то субкультурно-шансонное звучание. И, напротив, профанации в виде околокриминального чтива с налётом блатной романтики и надуманными эпизодами из «тюремной» жизни, авторов которых сия горькая чаша никаким боком не задела, вряд ли стоит причислять к невольной прозе.
Говоря о тюремной литературе, надо также иметь в виду, что её авторами могут быть не только заключённые. Среди писателей, работавших по такой специфической теме, были и бывшие охранники (достаточно вспомнить хотя бы С. Довлатова), журналисты, врачи, психологи, правозащитники. Да и просто те, кто смог досконально вникнуть в суть вопроса.
В этой связи вспоминается «Зелёная миля» Ст. Кинга. Эта замечательная книга настолько безупречно написана, будто её текст продиктован лично главным героем по горячим следам с места событий. При этом, насколько помнится, знаменитый автор этой книги не был ни заключённым, ни служащим тюрьмы.
Или, например, А. П. Чехов. Он тоже в тюрьме не сидел, как и журналист В. М. Дорошевич. Однако их знаменитые произведения о сахалинской каторге — не что иное, как бесценные документальные свидетельства, поскольку они были созданы на основе личных впечатлений от того, что писатели увидели своими собственными глазами при посещении Сахалина и что услышали непосредственно от каторжан.
Впрочем, не будем теоретизировать на этот счёт. Это хлеб специалистов: литературоведов, книжных обозревателей и критиков. У нас иные задачи.
Как известно, отцом-основателем жанра тюремной прозы в России считают Ф. М. Достоевского с повестью «Записки из мёртвого дома». Также иногда в качестве предтечи упоминают «Былое и думы» А. Герцена, который также подвергся уголовному преследованию, но, в отличие от Фёдора Михайловича, кандалов не носил и вкуса тюремной баланды не познал.
Кстати, об истории. Во времена Герцена до арестантов в плане пропитания государственные заботы не доходили. Было принято кормить заключённых, в-основном, за счёт милостыни. Либо, как говорится, за свой счёт. Так что Герцену по сравнению с Достоевским крупно повезло. В период ареста последнего государственное содержание было мизерным, а милостыней пробавлять арестантов уже стали стесняться — всё-таки великая империя, как никак. Так что стимул для творчества русский классик мировой литературы получил, скажем прямо — нешуточный…
Говоря о тюремной литературе вообще, в первую очередь следует вспомнить те книги — памятники общемирового значения, которые были написаны ещё в средневековых тюремных застенках. Это «Книга чудес света» или «Книга Марко Поло» Рустикелло, «Смерть Артура» Томаса Мэлори, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля де Сервантеса, «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы.
Среди самых значительных произведений мирового литературного наследия — также книги О. Генри, О. Уайльда, Ж. Жене.
Отечественная тюремная проза не менее значительна, а её история не менее трагична.
Как уже отмечено выше, историю жанра в России принято исчислять с выхода в свет повести Ф. М. Достоевского «Записки из мёртвого дома», которая носит документальный характер и знакомит читателя с бытом заключённых преступников в Сибири второй половины XIX века. Писатель художественно осмыслил всё увиденное и пережитое за четыре года каторги в Омске, будучи сосланным туда по делу петрашевцев. Произведение создавалось в 1860—1862 гг. Первые его главы были опубликованы в журнале «Время». Повесть не имеет целостного сюжета и предстаёт перед читателями в виде небольших зарисовок, личных впечатлений автора, историй из жизни других каторжан и глубоких философских размышлений. Подробно описываются нравы каторжан, их отношение друг к другу, вере и преступлениям.
Надо добавить, что в последующих произведениях, принёсших Фёдору Михайловичу мировую известность, он часто обращается к теме тюрьмы, а кроме того, прототипами ряда персонажей явились люди, с которыми Достоевский встретился в период пребывания в каторжном остроге.
Ещё одно некогда очень известное произведение русской литературы XIX-го века родилось в тюремных стенах. Это настольная книга русских революционеров и интеллигентов «Что делать?». Она была написана Н. Г. Чернышевским в одиночной камере Алексеевского равелина Петропавловской крепости в 1862—1863 гг. Удивительно, что роман пропустила цензура: «Что делать?» был напечатан в журнале «Современник». Однако царская охранка быстро осознала свою ошибку: цензора уволили, а книгу запретили. В СССР роман вошел в обязательную школьную программу, а Чернышевский был включен в пантеон пламенных борцов с ненавистным царским режимом (который, прошу заметить, все-таки позволил Николаю Гавриловичу работать в заключении).
В связи с этим нам представляется очень непростой задачей писать о вещах и явлениях, которые общеизвестны, и о которых было много написано и сказано. Но, с другой стороны, нельзя не вспомнить и не сказать, например, о печально известных событиях советского периода — репрессиях в отношении деятелей культуры, творческой элиты страны в частности, и всего народа в целом. Это не могло не получить отражения в литературе. Гулаговская тематика, лагерная проза и поэзия стали неотъемлемой частью литературного наследия второй половины двадцатого века.
В качестве яркого примера нелишне вспомнить историю создания писателем Леонидом Соловьёвым второй части знаменитой дилогии «Повесть о Ходже Насреддине». Эту книгу Соловьев написал в мордовском Дубравлаге. В 1946 году автора любимой миллионами советских читателей книги «Возмутитель спокойствия» арестовали по сфабрикованному обвинению в «подготовке террористического акта», объявили врагом народа и осудили на десять лет исправительно-трудовых лагерей. По протекции начальника лагеря, который оказался поклонником творчества писателя, Соловьеву разрешили в свободное время работать над второй частью «Повести…». «Очарованный принц» был закончен к концу 1950 года. Но жизнь в неволе наложила характерный отпечаток на эту книгу. Вторая часть похождений Ходжи Насреддина сильно отличается от первой — она проникнута глубокой печалью, в ней много философских рассуждений. По свидетельству современников начальник Дубравлага разрешил Соловьёву работать над книгой при условии, что тот примет его в соавторы. И не просто разрешил, а «организовал» творческий процесс в добровольно-принудительном порядке… То есть по принципу:
Поймали птичку голосисту
И ну сжимать её рукой.
Пищит бедняжка вместо свисту,
А ей твердят: «Пой, птичка, пой!»
(Гавриил Державин)
Фантазиям начальника не суждено было сбыться — соавтором Соловьёва он не стал, и мало того, говорят, якобы сам следом угодил в лагерь. А жаль — был бы ещё один красноречивый и многозначительный памятник подлости целой исторической эпохи!
Однако, время на месте не стоит. Уроки истории, к сожалению, быстро забываются. Кто теперь из писателей, переживших сталинские лагеря, широко известен читающей публике? Александр Солженицын, Варлам Шаламов. Да, пожалуй, и всё… Благо, их произведения входят в школьную программу. Хорошо, если кто-то теперь может припомнить имена Соловьёва, Домбровского, Тамары Петкевич, сценаристов Дунского и Фрида. Горький упрёк, конечно. Но уж, как оно есть…
В связи с этим будут уместны следующие цитаты:
«Кинофильм „Один день Ивана Денисовича“ — это же смертная скука для нынешнего зрителя! Безусловно, в наше время это интересно далеко не всем. А после первого просмотра — уже почти никому. Единицам. Тем, кого это коснулось лично…».
«Существует немало примеров того, как актуальные в свое время романы сейчас просто, что называется, выдохлись. На роман Рыбакова „Дети Арбата“ записывались на два месяца вперед в библиотеках. На „Новый мир“ подписка была ограничена. Прошло не так много времени, кто сегодня читает „Детей Арбата“ или „Белые одежды“?».
Однако, надо признать, что это общая тенденция, касающаяся литературы в целом.
Ещё цитата:
«… Кто читает цикл романов «Бешеный» Виктора Доценко? Или прозаика Денежкину?
А многие ли помнят первого лауреата модной некогда премии «Букер»?
Во времена Пушкина одним из самых популярных романов был роман Фадея Булгарина «Иван Выжигин». Фадей — не из бедных писателей, и Пушкин отчасти завидовал его литературному успеху. Но кто его, этот роман, нынче знает?».
Что касается постгулаговских времён, имея в виду именно отечественную прозу, уже неплохо, если кто-то из современных читателей вспомнит некогда очень известных авторов, таких, как Синявский (Абрам Терц) или Буковский.
А ведь некоторые прозаические произведения данной тематики в советское время даже издавались! И были когда-то очень известны. А сколько было опубликовано за рубежом, да потом и в перестроечной России, не говоря о девяностых! Это книги Л. Леонова, В. Туманова, В. Майера, М. Дёмина, Л. Шейнина, Ю. Ветохина, Е. Карасёва, Л. Габышева и многих других авторов.
Сетевая цитата:
«Принято считать, что корпус «лагерной» литературы советской эпохи в первую очередь составляет мемуаристика политзаключенных (распространявшаяся в околодиссидентских кругах), и за литературное отображение ужасов тюрем, пересылок и колымского ада символически отвечают именно те, кто был осужден по многочисленным пунктам печально знаменитой 58-й статьи. С этой точки зрения может показаться, что для писателя пребывание за решёткой — драма всегда нравственная, а ключевой вопрос для героя (и автора) — какова степень падения человека и какими из своих ценностей можно жертвовать, дабы его избежать.
Крайняя точка этого спора — бескомпромиссная позиция Варлама Шаламова: тюрьма есть абсолютное зло. «Автор считает лагерь отрицательным опытом для человека — с первого до последнего часа. Человек не должен знать, не должен даже слышать о нем. Лагерь — отрицательный опыт, отрицательная школа, растление для всех — для начальников и заключённых, конвоиров и зрителей, прохожих и читателей беллетристики» («О прозе»). В кухонных спорах 70-х было принято противопоставлять этому точку зрения другого титана, Александра Солженицына, который искал и находил что-то человеческое в нечеловеческих условиях лагерной жизни, от маленьких радостей до дружбы на долгие годы, и вспоминать Ивана Денисовича, остро ощущавшего удачу каждого прожитого дня.
Однако современному читателю значительно менее известны книги авторов, строивших на тюремном материале произведения не философские, а жанровые, — хроникеров и бытописателей этого странного и страшного подземного мира, отделённого от обычного столь тонкой гранью закона, что они то и дело перетекают один в другой, взаимно разрушая (или обогащая) друг друга. Уголовный мир тут часть обыденной повседневности, так что соскальзывают в него подчас с шажка мелкого почти до неразличимости. Часть этих книг читает мораль, другие бунтуют против самого понятия морали; часть эксплуатирует лагерный опыт, иные скорбят о нем, — но можно ручаться, что о самой возможности существования многих из них вы даже не подозревали».
Ещё цитата из сети:
«После оттепельных публикаций текстов о сталинских репрессиях наступают новые заморозки — тюрьма и лагерь остаются реальной перспективой для любого инакомыслящего, начиная с процесса Синявского и Даниэля диссиденты оказываются на скамье подсудимых один за другим. Тюрьма воспринимается уже не как смертный опыт, о котором могут поведать редкие возвращенцы с того света, а как метафора русской жизни в целом, modus vivendi советского человека. Довлатов впервые пишет о лагере с точки зрения надзирателя, а не заключённого, показывая, что разница между двумя этими состояниями вполне условна; Буковский и другие диссиденты-сидельцы описывают свой опыт почти как робинзонаду, создают инструкции по психическому и физическому выживанию; Габышев рассказывает о детской исправительной колонии, где насаждается кодекс звериной жестокости».
И ещё одна цитата из предыдущего источника:
«В постсоветское время, у Лимонова и Рубанова, тюрьма окончательно приобретает метафизическое измерение, парадоксальные свойства пространства внутренней свободы в несвободном государстве».
Среди массы постсоветской и современной литературы, касающейся данной темы, серьёзной прозы, если разобраться, не так уж много. Большей частью это была дань своеобразной моде на субкультурные «ценности» да околокриминальные и маргинальные поветрия. Однако они даже отдалённо не напоминают художественные исследования. Большинство авторов явно знакомы с этим вопросом поверхностно, понаслышке, а их книги — сплошная профанада, связанная с банальным незнанием вопроса. Крупных, запоминающихся, наполненных серьёзным содержанием — единицы… Взять последние два десятка лет — кого знает читатель? Лимонова. Может быть, Рубанова, Земцова. Ну и кое-какие мемуары известных людей, угодивших за решётку…
Сказанное выше отнюдь не означает, что следует целенаправленно эпатировать читателя, спекулируя на негативных проявлениях действительности, или ратовать за популяризацию тюремно-лагерной литературы. Вовсе нет. Каждый сегмент должен занимать своё место и в культуре, и в искусстве, и в литературе, но…
Хотелось бы напомнить то, с чего начиналось данное предисловие: как ни поверни — а это всё-таки пусть малая, но часть истории нашей страны. Ведь сама-то тема никуда не делась, как и острота связанных с ней общественных проблем. Они не ушли в прошлое и не стали менее актуальными, как бы ни старалось общество от них увильнуть, отвернувшись и закрыв глаза. Вот тут-то, безусловно, требуется объективный взгляд на тайные аспекты современной жизни, но не через витражные стёкла пентхаузов, а непосредственно из подземелья. Это, по большому счёту, и послужило основным мотивом для создания данного сборника — цикла короткой прозы «Спецблокада (тюремные и лагерные истории)».
Все представленные в сборнике произведения описывают реальные события либо созданы на их основе. Читатель вправе (и должен!) знать, что творится рядом с ним — в реальном мире и сокрытых в нём субмирах и субмирках!
С уважением, А. Игоревич
август 2025 г.
Адреса для обратной связи с читателями:
https://t.me/nevolnaya_proza
https://dzen.ru/subcivilization
ТЮРЕМНЫЙ ЛИКЁР
Рассказ-быль
«Вечерок в радость, чифирок в сладость!» — эта незамысловатая, но душевная прибаутка нередко слышна в местах, не столь отдалённых: тюрьмах и исправительных лагерях.
Вы, несомненно, догадались, что она играет там роль приветствия вместо всем известного: «Добрый вечер!». И именно там испокон веку прижился обычай пить крепко заваренный чай, который носит название «чифир». Правда, мне за годы скитаний попадались и другие, созвучные ему названия: «чАфир», «чифИрь», и совсем не похожее: «шара».
Ещё в детстве, от приятеля — сына военного офицера, служившего в Монголии, я узнал, что монголы-кочевники готовят на основе чая питьё, от которого они, с его слов, балдеют, как от водки.
По всей видимости, это было преувеличение. Мне, помнится, стало интересно, и я выспросил у него все подробности. Монголы приготавливали его так: в котелок, кипящий на костре, забрасывали чай (тот самый «индийский со слонами», эсэсэровский) из расчёта пачка в двести грамм на литр кипятка, проваривали две-три минуты, снимали с костра и заправляли бараньим жиром, а если была возможность, то банкой сгущёнки.
Время было советское, «дефицитное». Но в военном гарнизоне, тем более в дружественной народной республике сгущённое молоко (натуральное, по ГОСТу) и этот знаменитый чай были в открытой продаже и пользовались большим спросом у туземцев, которым в определённые дни позволяли отовариваться в магазине «Военторг».
А в иное время, когда монголов не пускали в военный городок, они выменивали чай у пацанов, и у моего приятеля в том же числе, на разные безделушки или покупали за тугрики и мунгу. Та ещё валюта — типа современного рубля. А добыв чай, тут же возле городка, принимались варить свой чафир. Приготовив, садились в кружок, по очереди отхлёбывали его и млели от наслаждения.
В те же годы я ещё кое-что узнал об этом загадочном напитке от тёти Маруси — сестры моей бабушки. Она ездила на свидание в какую-то колонию навестить своего племянника — и моего, соответственно, дальнего родственника — отбывавшего там наказание. Потом рассказывала, конечно, не мне, а взрослым, что первым делом этот племянник, даже не поев, кидался заваривать чай. С её слов, пил «гольную заварку».
Услышал я это случайно и не придал тогда никакого значения, но в память, тем не менее, почему-то запало.
Лет, эдак, в пятнадцать, я попробовал приготовить и употребить этот чудо-напиток на основе знаний, о которых поведал выше. Вроде бы всё сделал верно, но эффекта никакого не получил. Попытка увеличить дозу вызвала только тошноту.
Вообще, тошнота при употреблении чифира — это нормальное сопутствующее явление. Избавиться от неё можно, бросив в рот маленькую щепотку соли.
Кто-то из друзей пытался объяснить мне, какой эффект производит чифир, так сказать, с физиологической стороны. Он якобы повышает давление за счёт высокой концентрации кофеина, учащает сердцебиение, в итоге «кровь приливает к голове и человек кайфует».
Не исключено, что ранние гипертоники в самом деле испытывают от этого головокружение, ощущение, что теряют ориентацию в пространстве и прочее. Но лично я никогда, ни на воле, ни в тюрьме никакого кайфа от этого дела не почувствовал. И более, чем уверен, что подавляющая масса зэков, регулярно «чифирящих», тоже…
Однако, обо всём по порядку.
В зрелые годы я вновь столкнулся, скажем так, с культурой употребления данного напитка в произведении А. Солженицина «Архипелаг Гулаг». Цитирую по памяти пояснение автора: «„Чифирь“ [именно так] — это вид наркотика, приготовленного из чая».

Как показали мои дальнейшие наблюдения, естественно, уже после того, как попал я в эту юдоль, так оно и есть. Если выразиться коротко, то приём чифира никакого эффекта эйфории обычному человеку с нормальным физическим здоровьем не даёт. Чтобы получить от него некое подобие удовольствия, надо сначала на него «подсесть», то есть выработать у организма что-то вроде наркотической зависимости.
Затея эта очень опасна. Опьянения или одурманивания в прямом понимании чифир не вызывает. Но тому, кто на него «сел», без него плохо, порой мучительно, а с ним — либо терпимо, либо нормально, либо более-менее хорошо. Получается, сам себе, по глупости, в погоне за сомнительной романтикой нажил «геморрой» в виде постоянного добывания чая, без которого жизнь не в жизнь, а толку, в общем-то и нет.
У «чифирных», когда заканчивается чай, начинается паника, их изнуряют головные боли, появляется тремор пальцев рук, вялость и упадок сил сменяются раздражённостью вплоть до агрессии. В общем, почти как у типичных наркоманов. Выпив, наконец «чая», как иногда запросто называют чифир его любители, они возвращаются в нормальное состояние: настроение повышается, появляется интерес к жизни и чувство довольства.
Помню, одному человеку, из второходов, то есть не раз отбывавших, во время этапа стало так плохо, что он начал поедать сухую чайную заварку…
Но это я так, для острастки любителям над собой поэксперементировать.
А в целом, как говориться, традиция есть традиция. И от этого в тюрьме не всегда можно увильнуть. Да и не нужно.
Дело в том, что, во-первых, непосредственно чифир зэки пьют редко. Причин тому несколько: не каждый сорт и вид чая годится, готовить его хлопотно, расход чая велик да и здоровье тоже не казённое. Поэтому его заменяют просто на крепко заваренный чай, который называют «купец» или «крепкий купец».
Во-вторых, сам этот обряд употребления, как говорят, «чифирить», не лишён настоящей романтики, особенно, если чифирят по какому-нибудь хорошему поводу.
Церемония примерно такова. Собираются в круг добрые знакомые, которых объединяют общие интересы, есть о чём пообщаться, есть место взаимопониманию, приязни, позитивным эмоциям. Это уже хорошо, если чифир собрал такую компанию. В центр круга на столик или табурет ставят «чифирбак» — ведёрко или другую ёмкость с чаем, раскладывают «закуску» — конфеты, шоколад и другие сладости. Но сведущие люди не дадут соврать — очень хорошей прикуской к чифиру служат также кусочки сушёной рыбы, солёного сыра, копчёностей. В общем, как говориться, чем богаты… Ну, на худой конец и сахар-рафинад тоже не плох. Но в любом случае сладкий закусон — обязателен! Иначе может случиться с кем-нибудь неприятность, которую обозначают словом «тряхануло». Я чуть позже объясню, что это такое.
И вот, когда все в сборе, ритуальный напиток тюремно-лагерной субцивилизации наливают в кругаль, подают первому, обычно наиболее уважаемому члену компании. Тот говорит какой-нибудь тост, желает всем здоровья, а если поводом собраться стал чей-либо день рождения, то произносит соответствующее поздравление. Потом делает две-три «хапки» — таких коротеньких хлебков, похвалит напиток от души либо из вежливости («Хорош, зараза! Чистый яд!») и подаст кругаль соседу, чаще слева, то есть, по часовой стрелке. Потом вкинет кусочек закуски. Очень хорошо идут для этого самые банальные из конфет — «подушечки», особенно если они мягкие. И так кружка ходит по кругу, лишь успевай пополнять. Однако каждый сам, соразмерно своим возможностям, дозирует принимаемое количество. Некоторые пригубляют только, так сказать, символически.
Нет, есть в этом ритуале что-то. Магическое-немагическое, но завораживающее, как будто погружение в первозданное состояние, ощущение братства, согласия, некоей невидимой нити, которая связывает всех присутствующих.
В ходе церемонии обычно ещё и много курят.
Завершается этот процесс, соответственно, когда чай выпит или подавляющее большинство участников отсеялась.
Расчитывать свои силы при этом надо обязательно, не жадничать, не лишковать. Иначе могут возникнуть неприятные катаклизмы.
Высокая концентрация таннинов — дубильных веществ — в чае, воздействуя на пищевод и желудок, может вызвать тошноту вплоть до рвоты. В таких случаях говорят: «словил мутного», то есть человека мутит.
А ещё, как я понимаю, таннины раздражают и поджелудочную железу, из-за чего она вбрасывает в кровь избыточное количество инсулина. От этого наступает резкое понижение уровня глюкозы в крови, фактически приступ гипогликемии, как при диабете. А выражается это в ощущении тревоги, головокружении, тряски во всём теле, особенно пальцев рук, и в том, что называют «сосёт под ложечкой». Такое явление и называется: «тряхануло».
Был даже такой случай, что один пожилой зэк скончался буквально при освобождении, на выходе из зоны. Перечифирил на прощанье — от радости забыл меру. На самочувствие внимания не обратил. Пока дожидался документов, становилось всё хуже и хуже, но крепился. В итоге потерял сознание — впал в кратковременную кому. Вызвали «скорую». Увы, спасти его не удалось. Надо думать, если бы нашлась у него в кармане дешёвая простецкая карамелька, да не суетился бы он так от волнительного и радостного события, всё могло бы закончится вполне благополучно…
Выходит, что сладости на основе сахара — это главная прикуска к чифиру! Без этого лучше не рисковать — последствия могут быть плачевны.
А вот, если «словил мутного» — помогут солёности. Или, как я уже упомянул, несколько крупинок поваренной соли.
Лично я люблю закусывать крепкий чай или чифир сушёными кальмарами, которые подают к пиву. Они одновременно и солёные, и сладковатые на вкус. Жаль только, что случается такое раз в несколько лет…
На «купчик» идёт любой чёрный чай: крупно- и мелколистовой, гранулированный или их смесь. А вот для чифира предпочтительнее только мелколистовой. Гранулированный — «горошек» — даёт сильную взвесь чайной пыли и в итоге чайный настой как-бы сворачивается. Крупнолистового нужно слишком много, больше, чем воды, иначе не будет должной крепости.
«Купец» получают простой заливкой заварки кипятком. Чифир же после заливки ещё раза два-три «поднимают», то есть с помощью кипятильника нагревают почти до кипения, но не варят. При этом разбухающая заварка действительно поднимается шапкой. Так ускоряется экстракция веществ из чаинок в чайный раствор. Затем чифир «килишуют» — переливают из одной ёмкости в другую и обратно. Заваренные чаинки — нифеля — оседают на дно. Чифир — это настой, а не отвар.
Если качество чая низкое, то уже готовый раствор снова нагревают и заливают им ещё одну, а то и две порции сухой заварки и после опять поднимают и килишуют, пробуют на крепость.
Готовый чифир в идеале должен быть похож на пиво сорта «портер» и по цвету, и по прозрачности — насыщенно тёмно-коричневый, почти чёрный, без мути.
Многие зэки приписывают чифиру разные чудодейственные свойства от всех болезней. Полагаю, небезосновательно. Всё-таки тюрьма лишает человека не только полноценного рациона питания, но и свободного доступа к лекарствам.
Как говорил «дитя природы» Дерсу Узала: «Пища, она тоже лекарство». Крепкий чай — хорошее средство, предохраняющее от кишечных заболеваний. Благодаря высокому содержанию дубильных веществ он обладает вяжущими, противовоспалительными и противогнилостными свойствами. Более того, почему-то никто не придаёт значения тому, сколько чайный лист содержит разных витаминов, микроэлементов и прочих полезных веществ.
Однако обольщаться тоже не стоит. Достаточно представить, сколько пестицидов вылили на чайный куст, чтобы в условиях мест возделывания его не съели полчища всевозможных тропических вредителей. И сколько «химии» содержит после этого чайная заварка? А кроме того, говорят, чифир сильно портит зубы и сажает «мотор» (сердце).
Так что лучше руководствоваться золотым правилом, что всё хорошо в меру.
Лет, скажем, десять назад, помню, в тюрьме чифирили почти все. Если кто отказывался, на него смотрели с некоторым подозрением и отчуждением. Даже шутили, мол, что-то не то за собой чуешь? Это значило шутливый намёк на нелады с прошлым или с мастью, якобы человек сухарится (скрывает что-то потаённое, например, порочные наклонности), потому и не садится со всеми чифирить. То есть побаивается, что будучи разоблачённым, ему несдобровать. Примерно как в словах булгаковского Воланда насчёт человека, который отказывается выпить. Как там? Значит, он либо болен, либо втайне ненавидит окружающих? Ну, вот примерно так и в этом случае.
В настоящее время, когда зоны наполнены уже не только поколениями «пепси» и «нэкст», а теми, кто вырос на песнях Дани Милохина, Люси Чеботиной и Вали Карнавал, то есть рождёнными после 2000 года, им уже трудно втолковать «прелести» некоторых традиций, в том числе культуры употребления чифира. Поэтому эта традиция тоже стала потихоньку вырождаться.
А вот, помнится, в самом начале моего пребывания в сетях пенитенциарной системы судьба-злодейка свела меня с одним интересным человеком. Хотя лучше будет, если я скажу — с самобытным человеком. Иначе напрашивается комическая параллель: герой гражданской войны Семён Будённый, когда вспоминал о другом герое, своём коллеге — Оке Городовикове, а именно о виртуозном владении им шашкой и способности разрубать людей от плеча до бедра, то восхищённо резюмировал: «Какой интересный человек!». Эдак мы, пожалуй, скатимся до уровня цинизма этого усатого кентавра…
Короче, свела меня судьба в тюрьме с одним занятным зэком. Мы с ним несколько раз попадали в один этап на ИВС и сидели там в одной камере. Самобытность его заключалась в том, что он в свои семьдесят лет провёл в местах лишения свободы без малого полвека! Был судим многократно и отбыл десять ходок со сроками от трёх до десяти лет, при этом все по одной и той же статье — за драки, в основном с поножовщиной, и, следовательно, нанесением тяжких телесных повреждений.
Вот такой самобытный старичок, хотя старичком его назвать язык не поворачивался. Он был высок, статен, сухощав, жилист и очень моложав. На зэка абсолютно не похож. Даже наколок не было ни единой. Все ходки, начиная с советских времён, проработал лагерным кузнецом. Звали его дядя Саня Рожков, а навес (прозвище) — Рожок. Сам себя он называл: «старый каторжанин». Был глуховат, видимо из-за издержек лагерной профессии.
Сел он впервые в восемнадцать лет. И с тех пор, освобождаясь после очередной ходки, проводил на свободе редко, когда более двух месяцев, после чего садился опять. И всё, с его слов, за правду, из-за врождённой непримиримости к хамству и несправедливости. «Десятку» схлопотал, например, за избиение участкового, который беспричинно к нему придирался, язвил и грозился посадить. Вот и посадил…
На слова дядя Саня «Рожок» был скуп, но поразительно точен и лаконичен в суждениях и оценках происходящего. При этом охотно делился со мной, первоходом, всякими тюремными премудростями.
После водворения в хату он, постучав в кормушку — окошко на камерной двери, уведомлял сотрудника изолятора (ИВС):
— Начальник! Ругаться не будем? Нет? Дружно будем жить? Ага. Ну, ты знаешь — мне надо чифирнуть. Пока мы не чифирнём, никуда не пойдём, Ты скажи там, кому надо…
Говорил он вежливо, но твёрдо, непреклонно, без вариантов, давая понять, что следователи, прокуроры и судьи подождут, им, мол, спешить некуда. А нам — тем более. И принимался за приготовление своего напитка, возведённого им в некий культ.
Как любовно, умело, ловко и сноровисто творил он свой «ритуал» — только ради этого стоило посмотреть! Будучи впечатлён в своё время данным завораживающим зрелищем, я и завёл весь этот разговор. Это была песня!
Чай у него всегда был при себе, заготовлен с запасом и заранее расфасован по дозам («замуткам») в одинаковые аккуратные кулёчки из газетной бумаги. Лежали эти кулёчки ровными штабелями в полиэтиленовом пакете. Он бережно доставал один кулёк, и, пока я грел воду кипятильником в своей алюминиевой кружке, откупоривал его, не спеша, и ссыпал замутку в свой кругаль.
Когда вода закипала, дядя Саня заливал кипятком заварку и со словами:
— Пускай парится… — накрывал кружку тем же газетным листочком, что служил кульком, предварительно разгладив его своей крепкой ладонью.
Минут через семь он начинал килишевать чай, то есть переливать его из одной кружки в другую, раз пять, не больше. Ждал еще с минуту, пока все чаинки лягут на дно. Затем разливал чифир со мной напополам и, взяв со стола кубик рафинада, принимался чинно и очень культурно прихлёбывать, почти беззвучно, как бы выказывая своё уважение к «священному» тюремному напитку. Глядеть на него было одно удовольствие. Хотя, казалось бы, ну что в этом такого? И что я во всём этом такого нашел?
А то, что это, на мой взгляд, было не субкультурной девиацией, а действительно проявлением самой настоящей культуры. Всё поведение, все поступки, разговоры, даже манера пить чай были у старого зэка гораздо более цивилизованными, чем таковые у новоявленной «знати», нуворишей из числа чиновников, политиков и псевдоинтеллигентов, с которыми мне приходилось общаться на воле.
Кстати, дядя Саня «Рожок» не выносил матерщины и укоризненно на меня посматривал, когда я нецензурно выражался.
Остаётся только вспоминать «железных леди» — руководительниц региональными и муниципальными органами управлений образования и культуры, поливавших трёхэтажным матом учителей и директоров школ, деятелей искусств и творческие коллективы…
У дяди Сани даже тот квадратик из старой газеты не был пренебрежительно растерзан и скомкан после употребления. Он сначала послужил тарой для чая, потом «крышечкой» для кружки, а затем, сложенный аккуратно в несколько раз оборачивался на ручку кругаля, чтобы не обжечь пальцы. В этом не просто сноровка старого уголовника — в этом уважение, почтение к самой жизни! Это проявление ничего иного, как высокой этики поведения и отношения к жизненным ценностям!
Суровые испытания и лишения, выпавшие на долю закоренелого каторжанина, научили его по-настоящему любить жизнь и ценить все её явления, как подарки судьбы.
К сожалению такие гуру, как дядя Саня «Рожок», теперь большая редкость. Но это и закономерно.
Для одних тюремная романтика становится чужеродной, но увы, их кредо: «сладко поесть, долго поспать, день прошел и ладно», то есть потребительская сущность, ничем не лучше, да ещё и заразительна для других.
А у многих она вообще пародийна и смехотворна: сопляк-малолетка пытается убедить, что он по жизни чифирной, чуть ли не с воли, и у него без чифира начинает дико болеть голова — наслушался историй, прогужевавшись пару-тройку месяцев в СИЗО…
Вот такие дела. Чифир на вкус терпок и горек, как и вся тюремная жизнь…
Стоп! А что же такое «тюремный ликёр»? Он же, ликёр-то, должен быть не горьким, а сладким! Значит, это не чифир? А что же?
Да есть такой напиток. Он делается на основе чифира и называется «конь». Его принимают в узком кругу по значительным поводам: юбилей, семейное событие, освобождение и т. д. Вещь на самом деле сладкая, но для его любителей запас здоровья точно должен быть лошадиным.
Делают его так: в крепко заваренный чифир добавляют хорошую порцию растворимого кофе и сдабривают, тоже щедро, сгущёнкой. Получается вполне неплохой на вкус, без горечи и вяжущей оскомины, сладкий густой напиток, который якобы способен коня свалить с ног.
Не знаю, всё может быть. Но я лично сам принимал пару раз этот «тюремный ликёр» и ни малейшего удовольствия от него не получил. Наоборот, давило виски, казалось, вот-вот расколется голова, и в целом самочувствие чем-то напоминало состояние с похмелья, когда по молодому делу пил без разбору вино и водку, а догонялся пивом. А ведь тех «коней» готовили не профаны, но знатоки этого дела — рецидивисты. Короче, кроме сомнительной ностальгии по бурным временам далёкой юности — ничего путного. Видно, на него, «коня» этого, тоже, как и на чифир, предварительно надо подсесть, чтобы потом познать всё его «величие».
Ну, если уж речь зашла о бурной молодости, то, например, нынешние новоявленные адепты тюремной субцивилизации мажорят всяк по-своему, изобретая какие-то «энергетики» на основе кока-колы и кофе.
И вот, к завершению рассказа, я что-то крепко призадумался. Ведь, не смотря на кажущуюся консервативность, тюрьма чутко реагирует на все метаморфозы, происходящие в обществе. Они отражаются в ней, как в кривом зеркале.
Кто ведает, может быть, и эта чайная традиция в скором времени канет в прошлое, а коктейли из кока-колы придут на смену старому доброму дедовскому чифиру…
2013, 2024 г.г.
ПРАЗДНИК В КЛЕТОЧКУ
Монолог
«Она [душа] плачет, — сказал Егор. —
Нужен праздник»
(В. Шукшин «Калина красная»)
«Будет и на нашей улице праздник»
(народная поговорка)
~1~ «Ожидание праздника лучше самого праздника» — авторство этой крылатой фразы молва приписывает Екатерине Великой. Всё может быть. Так это или как-то иначе, но в народе она прижилась, став поговоркой, которую люди повторяют порою походя — в дело и не в дело. А вот постичь её истинный, глубинный смысл способен далеко не каждый.
И это, скорее, хорошо. Потому что в полной мере понять такое дано по большей части тем, кто познал на себе утрату одной из главных жизненных ценностей — свободы. Проще говоря — тем, кто волей судьбы угодил за решётку…
Вообще, бывают ли праздники у тех, кто оказался за бортом корабля, именуемого государством и обществом? А если бывают, то как их отмечают? Что при этом говорят, думают, чувствуют? Как это вообще выглядит?
Речь не об официальных мероприятиях, приуроченных к каким-то государственным праздникам, а о тех днях и датах, дорогих сердцу, которые когда-то отмечали дома вместе с любимыми людьми…
Конечно, сама по себе эта тема для рядового, пошлого обывателя может показаться странной — он на неё отреагирует вполне ожидаемо: «Что? Какие ещё праздники уголовникам? Их дело — сидеть и страдать! Раз посадили, значит, за дело, у нас просто так не сажают…».
Да что обыватели? Благовоспитанные, образованные граждане точно так же могут рассудить. По себе знаю — чего уж греха таить?
Да и что обычные граждане? Я точно такие же слова однажды услышал из уст ни много, ни мало — судьи одного из районных судов, кстати, бывшей прокурорши.
Это было лет двенадцать тому назад. Помню, тогда отложили из-за новогодних праздников какое-то судебное заседание. Точнее, отложили его потому, что меня не доставили в суд из СИЗО. А уж что там у них не срослось: знать не знаю, как говорится, ведать не ведаю.
И вот, наконец, после праздников меня привезли в суд, как положено — на воронке. Ввели в зал судебных заседаний и заперли в клетке. Сижу, значит, с адвокатом общаюсь. Следователь тоже там с кем-то лясим-трясим.
Входит судья. Секретарь провозгласила по регламенту:
— Встать, суд идёт!
Вдруг эта почтенная дама, судья то есть, пристально посмотрев на меня, строго спросила, по какой-такой причине я не ознакомился с каким-то важным документом. Я почему-то растерялся и промямлил:
— А я, Ваша честь, не знаю. Меня никто не знакомил. Праздники же были… Новый год…
И тут она, судорожно перекосив лицо, истошно заорала:
— Какие ещё у вас там в тюрьме праздники? Вам что, заняться там больше нечем? Я с работы ушла в девять вечера под новый год! А вы… такие-сякие, немазанные-сухие…
И понесла, и понесла…
В зале все опешили. А я, наверное, больше всех. Поэтому ляпнул:
— Так ведь, это… следователь-то не пришёл. Как же я ознакомлюсь-то?
Зря я это сказал. Дама в черной мантии аж зашлась вся — пуще прежнего:
— У вас всегда следователи во всём виноваты! А вы все бедные-несчастные, белые-пушистые! Да вы…
И так далее.

Тут уж я и сам разозлился. Нет, ну в самом деле: в чём я-то виноват? Мне что ли решать: кого, когда, и по какому делу пускать в СИЗО, а кого не пускать? Разве у меня есть ключи от всех камер и коридоров, чтоб самостоятельно направиться искать тюремную канцелярию и ознакомиться там с какими-то неведомыми мне бумажками? Или во мне увидели экстрасенса? Да разве могу я определённо знать, что делается в головах у следователей и тюремного начальства? Они что — согласовывают со мной свои планы и намерения? Или никто иной, как я, распорядился ввести в стране двухнедельные новогодние каникулы? Да, вообще, разве моё мнение для кого-то что-то значит? Играет в этих делах какую-то роль? И, главное — кому всё это нужно, в конце-то концов? Мне?!
А я ведь ещё на тот момент осуждён не был. И, кстати сказать, в ту новогоднюю ночь, воленс-неволенс, в 22—00 согласно режиму лёг спать — на холодную тюремную шконку, полуголодный, с мрачной тоской по семье, по дому. А тут на тебе! Наорали ни за что, ни про что, закидали какими-то идиотскими предъяами! Как тут не разозлиться?
Ну, я и возмутился:
— Да. Представьте себе — я действительно невиновен. А меня держат в тюрьме! Какие у меня при этом могут быть праздники?! Вы что говорите? Сами подумайте!
Ругаться-то я с ней никак не собирался. Вообще в мыслях не держал. Женщина всё-таки. Пожилая, заслуженная. К тому же районная судья. Но терпежу не стало. Вот я и высказался, хотя, вроде бы, даже не нагрубил. А самого-то аж трясло! Только чую — адвокат меня за рукав дёргает: замолчи, мол, сядь, а то она никогда не уймётся.
И действительно. Я сел, замолчал. Все тоже сидят — ни гу-гу. Ну, а она, поистерив ещё пару минут, впрямь угомонилась. Заседание пошло своим положенным ходом. Лишь в самом конце после дежурной фразы: «Есть вопросы к суду?», она нервно проигнорировала моё заявление: «Да, Ваша честь, у меня есть вопрос» — просто взяла и, стукнув по столу кулачком вместо молотка, рявкнула: «Вопросов нет. Заседание окончено!».
Между прочим, когда я получил решение этого суда, то искренне изумился — оно было целиком в мою пользу… Да и рассматриваемый вопрос-то был плёвый — разногласия со следователем — и сути уголовного дела не касался. Так с чего же она так взбеленилась?
Может, из-за того, что ей пришлось, как ни крути, принять сторону арестованного, а не следствия — у нас это не ахти, как любят. Тем более, что ей, бывшей прокурорше, куда привычнее обвинять, чем защищать.
Ещё вполне может быть, что её раздосадовала оплошность следователя, а я просто подвернулся под горячую руку — она увидела во мне виновника этого неприятного для неё прецедента.
Не исключено также, что следователь, например, является её дальним родственником — у нас такое тоже далеко не редкость. Или, скажем, сыном (внуком, правнуком, племянником) её хороших знакомых. А тут пришлось его наказать — тоже ничего приятного.
Как знать, быть может у неё дома что-то случилось. Или, наоборот, много лет ничего такого не случалось — вот она и вскинулась.
Этого я не знаю. Но с того самого времени так и засело во мне, как заноза, желание разобраться, есть ли он вообще у арестанта — праздник…
~2~
В этой связи на память приходит эпизод из романа А. И. Солженицына «В круге первом»: как в сталинской шарашке бывшие иностранные шпионы отмечали католическое Рождество — тихо-мирно, почти без слов, с ломтиками хлеба, политыми сахарным сиропом (вместо торта). Наши «враги народа» от «шпионов-иностранцев» там тоже особо не отставали — нет-нет, да и норовили что-нибудь отметить… Вот только ничего праздничного я там так и не разглядел.
Что касается личных наблюдений, то… Впрочем, судите сами.
Итак, как же встречают и проводят в тюрьмах да лагерях те или иные праздники?
Однозначно на этот вопрос не ответить.
Случается, что люди здесь вовсе забывают про собственные именины — бывает и такое…
Многие просто никак не отмечают: бродят понуро весь день, а по отбою ложатся спать. И никто не догадается, что у человека день рождения, если случайно не взглянет на прикроватную бирку — табличку с личными данными на шконке. Или какой-нибудь активист не повесит на доске объявлений бумажку с каракулями, что-то вроде: «Дни рождений в таком-то месяце» и списком именинников. Но это опять же, если кто-то заметит. Ну, хорошо, положим — заметили. Дальше что? А дальше — ничего. То же самое. Поздравят: кто сердечно, кто коряво, кто как умеет, и… Короче, как говорится — проехали и забыли.
Иные же постараются какой-никакой стол организовать, чифир заварят, гостей позовут. Последние, ради приличия, попытаются изобразить веселье. Но надолго их тоже не хватит: лыбу подавят натужно минут десять-пятнадцать, чифир выпьют, приколюхи схавают и свалят. Какой же это праздник?
Да и, честно говоря, обычно складывается впечатление, что гости эти приходят даже не поздравить, а пожалеть что ли, поддержать, посочувствовать. Как ни старайся, а этого не спрятать: всё читается в глазах, так или иначе проявляется в словах. Это, разумеется, совсем не то. Не праздник…
А вот в самом процессе подготовки, например, к новому году или дню рождения, что-то такое есть! И подобие праздничного настроения, иногда с налётом веселья, и затаённая надежда — некое предвкушение или, скажем так, предвосхищение если не чуда, то уж, по крайней мере, какой-то перемены к лучшему. Наступает оживление, суета: обдумывают, где, с кем и как отмечать, припасают продукты для праздничного стола. Но вот наступает долгожданный день, и… куда всё подевалось? Стихают, поникают и прячутся по углам.
Поистине — праздник растворился в его ожидании без остатка. Выходит, ожидание — это и есть арестантский праздник?
Ждали-ждали нового года, а накануне новогодней ночи разбрелись, кто куда, в тишине. Самые неунывающие, да и те молча поели-попили повкуснее, чем обычно, туда-сюда, телевизор посмотрели, родных по телефону поздравили — и спать в 22—00, как положено по режиму. Вот и всё…
Бывает, что тюремное или лагерное начальство разрешит новый год встретить, посидеть до часу ночи. Иногда и телевизор на ночь не отключают. Но всё равно: большинство по отбою уже на шконках, а остальные с унылыми и мрачными лицами дожидаются, а там под бой курантов — кто лимонад, кто колу, а кто просто чай, и… по шконарям…
Понятное дело: в отрыве от дома и семьи, со сроками по десять, пятнадцать, двадцать лет, да, например, на строгом режиме… Действительно, какое у зэка может быть праздничное настроение?
Спору нет, уголовное наказание, особенно, если оно назначено обоснованно и по закону, кое-кто, конечно, справедливо заслужил — сам виноват. Вот та старенькая судья-прокурорша тоже об этом толковала.
Но когда начинают одолевать подобные мысли, противоречия и сомнения, когда чувство непримиримости и осуждения берёт верх над милосердием, полезно полистать печальные страницы истории: вспомнить о временах, когда чесали под одну гребёнку и правых, и виноватых. Неужели эти уроки не пошли впрок, неужели ничего не осталось в людской памяти хотя бы от ужасов красного террора или сталинских чисток?
А мало ли поучительных примеров в литературе? Взять хотя бы классику. Достаточно лишь вспоминить один маленький эпизод из книги Власа Дорошевича «Каторга. Преступники» о пожилом каторжанине — бывшем дворянине, совершившем в юности убийство и проведшем десятилетия на каторге. В разговоре с автором он в сердцах выплеснул накопившуюся горечь: «Наказывайте человека как хотите, но когда-нибудь конец этому должен же быть. Оттерпел человек всё, что ему приходится, и покончите с этим… Неужели взрослый, пожилой мужчина должен терпеть за то, что сделал когда-то мальчишка?».
Действительно, жизнь арестанта поделена на три части: до, во время и после. Прошлая жизнь, текущее существование и призрачное будущее. И, как правило, это жизнь трёх разных людей…
Размышляя над этим, полезно помнить народную поговорку о том, что от сумы да тюрьмы не зарекаются. Подавляющее большинство арестантов думать-не думали и предположить не могли, что вольно или невольно преступят черту закона, после чего окажутся за решёткой! Это были самые обычные люди, ничем не отличавшиеся от окружающих, от тех, кто сейчас на свободе… Так надо ли теперь клеймить их всю оставшуюся жизнь, лишая простых человеческих радостей?
Впрочем, речь сейчас не о социальной справедливости, не о возмездии, не об искупительных жертвах. Был лишь простой вопрос: «Есть ли праздник у арестанта?», и утвердительного ответа на него пока нет.
Что же, в самом деле, неужели совсем не бывает у зэка никаких радостных событий?
Бывает!
~3~
Бывает. Взять хотя бы так называемую роспись. То бишь — бракосочетание.
А что? Чем не радостное событие? Жених-зэк спозаранку бегает по зоне — задница «в мыле», бледный, взъерошенный. И нервный аж до тряски: то начальства в зоне нет — заявление некому подписать, то разрешение на что-то не дают, то родственники справку какую-то дома забыли, то представитель ЗАГСа задерживается. А то все в сборе, только его некому препроводить — все сотрудники заняты, а потом у всех обед, а потом…
Жениху искупаться бы, погладиться, почиститься, а тут…
Это всё не страшно. Ведь на воле точно такие же хлопоты — обычное дело. В конце концов, всё само собой улаживается, и новобрачного уводят на церемонию заключения брака.
Несмотря на торжественное звучание, тут это всего лишь скромная процедура, правда, в относительно уютной обстановке, в присутствии, помимо самих брачующихся, служащей ЗАГСа да сотрудника в синем камуфляже, ещё и одного-двух близких родственников, а также, если разрешат, фотографа из числа осуждённых. Обмен кольцами, обмен поцелуями, фото на память и всё такое — если не напыщенное, то, надо признать, довольно трогательное, памятное действо…
После росписи, поздравлений и недолгого воркования, «голубков» разводят. Только не в гражданско-правовом смысле, а чисто физическом — кого куда. Жениха, то есть теперь уже молодого мужа, сопровождает обратно в зону всё тот же сотрудник в синей пятнистой форме. А шмыгающую носом, с размазанной тушью на лице молодую жену — наоборот, за зону, вместе с кольцами, родственниками и свидетельством о браке…
Словом, если это праздник, то весьма специфического свойства, как говорится — на любителя.
Другое дело, если эта самая роспись совпадает по дате с положенным длительным свиданием. Вот тогда зэка ожидает подобие свадебного столаэ с новоиспеченной супругой, первая брачная ночь, да и вообще — трое суток полуволи: в благоустроенный комнатке, в любимой домашней одежде, привезённой родными, по собственному режиму со своим распорядком дня. А самое главное — в кругу самых любимых, родных и близких людей. Тех, для кого он тоже самый дорогой на свете человек!
Не возразить — атмосфера, безусловно, праздничная. Хотя её тоже непременно отравит довлеющее осознание стремительной скротечности времени: не успеют оглянуться, как трое суток пролетят, и свидание закончится. Придётся зэку понуро тащиться в опостылевший барак, а родным — ехать обратно, в слезах, домой. Но без него для них дом будет пуст и так же постыл…
Вобщем, компенсация за радость неизбежна — горечь расставания обнулит всё настроение, полученное от этого праздника. А это уже не то. Опять не то…
~4~
Не надо слёз, не надо грусти,
Настанет день, и нас отпустят!
И будем помнить целый век
Тюремный суп и чёрный хлеб…
Будут ещё у зэка такие праздники. И ещё. И ещё. Лишь бы родным хватило сил и здоровья нести это нелёгкое бремя. Очень нелёгкое, очень непростое…
Пройдёт время. Рано или поздно наступит настоящий праздник: самый заветный для зэка, долгожданный, подлинно радостный для его семьи! Как говорится, хэппи энд…
Но речь сейчас опять не об этом — в тот день и зэк будет уже не зэк, а вольный человек. Стало быть, это тема уже другого рассказа, а пока…
Пока пожелание скорейшего освобождения — всего лишь тост, поздравление друг друга по любому поводу, нечто вроде обязательного атрибута.
~5~ В прежней вольной жизни мало кто из обитателей лагерей и тюрем отличался особой набожностью. Несвобода, однако, многих привела в храмы, мечети, молельные комнаты — претерпев утраты, скорби, лишения они находят утешение и отраду в вере. Дай им Бог!
Традиционные религиозные праздники, давно ставшие общенародными, отмечают и в местах лишения свободы. В зависимости от наличия тех или иных конфессий Рождество Христово, Пасха, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам и, конечно, Масленница празднуются организованно, более-менее массово, можно сказать — на официальных началах. Инициатива же исходит когда снизу, когда сверху, а бывает встречной — и оттуда, и отсюда.
В любом случае организация ложится на плечи осуждённых из числа верующих, активно участвующих в деятельности религиозных общин. Они от души стараются придать праздникам широту, стараются попотчевать окружающих традиционными угощениями.
Это замечательно (в тюрьме-то), но… Увы, не доводилось видеть мне в такие дни по-настоящему радостных и счастливых лиц даже у самых ярых и фанатичных ревнителей веры…
Кстати, лагерное начальство в такие дни тоже в сторонке не остаётся: в столовой помимо баланды выдают ещё какие-нибудь приколюхи.
На Пасху, например — традиционное крашеное яичко, куличик. Тут уж, как говорится — не до жиру, всё по возможности. Иной раз на всех не хватает, так вместо целого куличика дают половинку, а случалось — четвертинку… Радуйтесь, мол, и этому малому, а то в следующий раз вообще ничего не получите, не положняк, чай…
Зэка ничем не удивить. Ещё совсем недавно — несколько лет назад — у нас вместо куличей давали такие булочки-небулочки, колобки-неколобки из хлебного теста, обмазанные сверху мочёным сахаром. При воспоминании об этих кулинарных «творениях» неизменно возникает ассоциация с «шарашкиным застольем» из того же солженицынского романа о событиях без малого вековой давности…
На мусульманские праздники на столах — неизменный плов. Правда, порции такие, что на куске хлеба уместится.
Масленницу встречают традиционно блинами! Но увы, казусы и тут случаются: то кому-то не достанется, то вместо целого блина преподнесут половинку… Четверть блина на моей памяти пока не вручали, но, как говорится, лиха беда начало! Пипл схавает…
Так-то оно так — пипл, зэки то есть, всё схавают. Как говорится, и на том спасибо. Речь-то я веду не о еде, а о празднике. А какой после такого убожества и унижения едой может быть праздник? Вот то-то и оно…
~6~
Если уж речь зашла о еде, то закономерен вопрос: что принято у зэков подавать к праздничному столу? чем угощают гостей?
Тут принцип простой — чем богаты, тем и рады. Даже если на столе чай да горстка дешёвых карамелек, никто дурного слова не скажет — угостится тем, что есть, и поблагодарит. Нос воротить от предложенного угощения — моветон.
Арестанты — народ находчивый, сноровистый. Воображение у них обычно работает в форсированном режиме. Если удаётся в лагерном ларьке разжиться печеньем, сгущёнкой, маслом-спредом — такой торт забабахают, что пальчики оближешь! Крем обычно взбивают электродрелью с самодельной насадкой — мастера на все руки, право слово!
Можно, конечно, готовый тортик купить — какой-нибудь вафельный. Но это, во-первых, дорого; во-вторых, мало; и вообще не то, что сами сварганили, продемонстрировав и умения, и радушие — так оно душевнее выходит.
Кстати, в местах, не столь отдалённых, выражение «вафельный» — тоже неприкрытый моветон, и вслух его лучше не произносить. Зэки вместо слова «вафли» говорят: «печенье в клеточку», а сами при этом хмыкают, лукаво поглядывают и кривят рот.
Кстати, насчёт способности к воображению. Со временем она здесь поневоле развивается даже у тех, кого природа «наградила» сугубо конкретным мышлением.
Вот нагладный пример. Когда зэки с отвращением впихивают в себя баланду из перекисшей капусты с кусочком варёной сельди, почти поэтически именуемую в меню как бигус, я им советую действовать по следующей инструкции:
1) мелко покрошите варёную селёдку в капустное месиво;
2) посолите и поперчите по вкусу;
3) хорошенько всё перемешайте;
4) возьмите в левую руку хлеб, а в правую — ложку (можно наоборот, если так больше нравится);
5) представьте, что едите домашний пирог с квашеной капустой и рыбными консервами, из которого якобы случайно, хорошо, что в тарелку, а не на стол и не на пол, не на штаны, вывалилась начинка;
6) для пущей убедительности, вслух или про себя посетуйте, а ещё лучше — выругайтесь, мол, эх, растяпа я, разрастяпа, балда безрукая и так далее в том же ключе;
7) ешьте воображаемую «начинку», заедая её куском хлеба, то есть условной «корочкой пирога», не забывая также вслух или про себя нахваливать: «М-м-м, сегодня мой пирог особенно удался — тесто замечательно пропеклось, и начинка необыкновенно вкусна!».
За редким исключением, все уверяют, что еда, употребляемая так по моей методике, становится намного вкуснее, полезнее и питательнее, и едят с большим аппетитом.
Те же штуки можно проделать и с другими неудобоваримыми разновидностями баланды: каша — жидковатый пудинг, макаронное месиво — пельмени, которые разварились, типа не успел вовремя снять с плиты и т.д., и т.п..
Так что данный метод превосходно работает. Да, собственно, никакого особого воображения, а тем более самовнушения тут и не требуется. «Метод» основан исключительно на оптимистическом и позитивном отношении к жизни, словом, на жизнелюбии.
Аналогичная история была у папы Карло в «Золотом ключике»: не имея денег на дрова и ужин, он смотрел на очаг, намалёванный на куске старого холста, и ему становилось теплее и даже сытнее от аромата кипящей бараньей похлёбки с чесноком. Только в отличие от похлёбки папы Карло наша еда не воображаемая, а, как есть — реальная, только условная.
Конечно, здесь, как и на воле, многое, если не всё, зависит от возможностей конкретного человека или группы людей. В наши времена при особом на то желании всё-таки «замутить» недурный стол стало вполне решаемой задачей. Можно тем или иным способом раздобыть, скажем, пиццу, или курицу-гриль, или шашлыки — почти с пылу-с жару, или торт какой угодно, и всё такое прочее.
Возможность-то изыскать при большом, повторяю, желании, в принципе, реальна. Но, во-первых, такие скачухи даются не всем подряд — их надо ещё заслужить. Во-вторых, это далеко не каждому простому смертному по карману. В-третьих…
А в-третьих, много ли от этого радости? Нет. Если это и праздник, то разве, что для плоти. А для души?
Да вообще, просит ли она, душа, праздника здесь, за забором с колючей проволокой?
На этот вопрос я и для себя однозначного ответа пока не нашёл…
~7~
Может быть, хроническое отсутствие праздничного настроения у зэков вызвано самой банальной причиной — отсутствием на столе традиционных ободряющих напитков?
С одной стороны, разумеется, не помешало бы. Я по себе знаю, что человек, «измученный нарзаном» в течение десяти-пятнадцати, а то и более лет, становится гораздо опаснее для окружающих, чем был ранее.
Но с другой стороны, ни для кого не секрет, что добыть или самому забацать какое-нибудь пойло при желании можно и здесь. На вкус и цвет товарищей нет. Кому-то нравится мутная жижа из карамели и хлеба, кощунственно именуемая вином. Кому-то нет. А кто-то вроде бы не проч, да опасается последствий: это дело сопряжено с большим риском оказаться не только в ШИЗО, но следом даже в СУСе или в БУРе…
Эту дрянь обычно делают так. Чтобы активировать споры пекарских дрожжей, размоченный и подслащённый опарный хлеб замешивают как тесто, раскатывают в коржи потоньше и лепят их на голое тело: грудь или живот — для тепла и, заодно, чтоб не спалиться мусорам на случай шмона в бараке. Спустя время, эту закваску бросают в тёплый раствор сахара или карамели для дальнейшего брожения…
Если человек с тонкой внутренней организацией явственно представит себе спартанские условия такого «производства», учитывая также сомнительную гигиену рук и тела местных «виноделов», полагаю, ничего, кроме омерзения и позывов к рвоте, его не ожидает. Отговорки тюремных «сомелье», что якобы там всё, что попало, перебродило — простое невежество. Как известно, ничего там, кроме сахара, перебродить не может.
Конечно, в идеале было бы перегнать эту бурду в чистоган, но где-то имеется такая возможность, а в основном-то и нет.
Ну, и как такую гадость пить? Нормальному человеку должна быть свойственна брезгливость, как минимум умеренная. Узнав такие подробности, он не то, что это выпить, а и просто поесть явно не скоро захочет.
Хотя, повторяю, если задаться целью, то в зоне достать можно всё, что угодно. Вот только надо ли?
Признаться, порой возникает охота выпить. Но придаст ли это хоть чуточку радости и веселья в праздничный день? Вот в этом-то я глубоко сомневаюсь…
~8~
Так что же делать, когда вдруг захотелось выпить, но претит физиологически, и знаешь наверняка, что не поможет?
Я, к примеру, поступаю так: достаю из тумбочки книгу с поэмой Венедикта Васильевича Ерофеева «Москва-Петушки», открываю её на нужной странице, и она погружает меня в свою реальность.
…И вот я уже не в лагерном бараке на железной шконке, а в вагоне советской электрички, в компании Венечки, который охотно делится со мной выпивкой и мыслями относительно философии Розанова…
Где-где, а в тюрьме безо всяких методик и духовных практик таким штукам можно быстро научиться. Я уже упоминал выше о форсированном воображении, присущем сидящей братии.
Кстати, вполне резонным был бы вопрос: а откуда в моей тумбочке взялась эта книга — прекрасно изданный, широкоформатный, иллюстрированный сборник литературного наследия В. В. Ерофеева? С удовольствием отвечу: нашёл на лагерной помойке..!
Да-да. Точнее будет сказать — почти на помойке, чуть-чуть до неё не доходя. И не я её нашёл, а она меня нашла. Такая встреча не могла быть случайной, ведь она немало повлияла на мою жизнь: послужила чём-то вроде искры — импульсом самому взяться за перо. Но об этом как-нибудь в другой раз. А пока…
Если коротко, то дело обстояло так. Иду я, значит, по своим делам, а навстречу мне — знакомый парень, зэк-уборщик из воспитательной части колонии. И за плечами у него — здоровенный мешок!
Поравнялись, поздоровались. Смотрю, а через ткань мешка — очертания такие угловатые. Меня тотчас подозрение обуяло: уж не книги ли? Бывает, учебники устаревшие списывают на утилизацию, старые пропагандистские брошюры да кое-что из художественной литературы, если уж помногу страниц не хватает и обветшали донельзя.
Я ему и говорю: тормози, мол, показывай. Он помялся, поерепенился чуток: так и так, начальство велело сжечь или в макулатуру — боялся, что влетит за ослушание. Вобщем, забрал я у него мешок, выпроводил, нашёл укромное местечко — спокойно книги перебрать: может, что путное найдётся. Выгрузил содержимое мешка на землю и…
Таких страшных ругательств в адрес местных дураков-библиотекарей и вандалов, давших им указание списать и уничтожить книги, полагаю, на этом островке зла, именуемом зоной строгого режима, мало кто слышал, но бумага-то их точно не стерпит…
Гоголь, Достоевский, Толстой, Чехов… Дюма, Гофман, Мериме, Гюго, Экзюпери… Булгаков… Шварц… Пикуль… Обложка затёрта или отслоилась, страничка порвана — неужели так трудно книжку подклеить? Проще выбросить? Паразиты! Савонаролы херовы…
Ого! Ерофеев? Венечка? Лев Лосев, Пётр Вайль, Дмитрий Быков, Маруся Климова, Галковский… Откуда они в лагере строгого режима? Кто их сюда принёс? А главное — зачем? Здесь что — литературный бомонд собрался? Клуб интеллектуалов? Тоже мне, нашли литературную гостиную…
На самом деле, это отнюдь не мелочи. Это, увы, свидетельствует о многом! Если люди позволяют себе так невежничать: бесцеремонно, безбережно, хамски обращаться с культурным наследием, то они, соответственно, и в остальном: в работе, в службе, в повседневном обиходе и во всём прочем, поступают (или способны поступать) ничуть не лучше — с тем же тупым самодовольством, так же невежественно, цинично и безжалостно…
Не это ли суть уголовного наказания — растереть в пыль, на многие годы втиснув бок-о-бок к подобным оголтелым недоумкам и сволочам, которые, ничтоже сумнящеся, способны швырнуть в костёр великие творения классиков, не говоря уже о современниках?
Что за пытка такая сверх назначенных судом срока лишения свободы и строгого режима? И ведь никакие конвенции от неё не оградят…
Что же мне с ней — с моей бесценной добычей — делать? Ну, хорошо: классику починю-подклею, потом верну в библиотеку — незаметно по полкам расставлю, и всё. А остальное? Конечно, оставил бы себе, да нельзя: зэку разрешено хранить не более десяти экземпляров — таковы режимные ограничения…
Что ж, отберу штук пятнадцать: в тумбочку пять, как положено, а десяток — в сидор (у нас так по традиции называют сумки для личных вещей). Если что, скажу, мол, в тумбочке не мои, а соседа. Он всё равно не читает, и своих книг у него, естественно, нет. Остальное — раздам, точнее подарю. Или дам почитать, но с возвратом! Не все же, в конце концов, здесь такие…
Одному предложил без особой надежды. А он, когда разглядел, вдруг охнул, схватил целую стопку и убежал в свой барак! Даже не счёл нужным поблагодарить. У другого тоже глаза загорелись при виде толстенького сборника современной поэзии. Третий сам пришёл — первые два по секрету всему свету раззвонили. Потом был четвёртый, и так далее…
Оказалось, что большей частью эти списанные книги на библиотечных полках и не стояли никогда — годами валялись про запас по каким-то чуланам. Однако, теперь все они, горемычные, благополучно разошлись по рукам — недолго пришлось устраивать их дальнейшую судьбу. На сборник Ерофеева, помню, даже очередь образовалась. Но суть дела не в том…
Спустя несколько дней после моего самодеятельного буккроссинга повстречалась мне возле лагерной столовой та первая тройка библиофилов — новых владельцев опальных книжек.
Один и говорит:
— Ты даже не представляешь себе, какой это был сюрприз! Обожаю современных питерских поэтов! У меня дома целая полка сборников, альманахов. Я печатной версии этой книги на воле найти не мог, а тут… Откуда?
А те двое поддакивают:
— Да уж. Праздник ты нам устроил настоящий! От души благодарим.
Хотел я им, было, секрет открыть — откуда мешок с книгами добыл. Но… Стоп-стопэ! Я не ослышался? Праздник? Настоящий праздник?
Вот тебе раз! А я-то голову ломал…
Бывают, оказывается, и у зэков настоящие праздники. Только, жаль, что далеко не у всех. И очень редко…
Странно это всё, на первый взгляд. Хотя, собственно, почему бы и нет? Разве встреча с гениальными произведениями, открытие для себя новых творений талантливого автора, общение с интересными людьми — это не есть праздник? Жизнь-то продолжается! Всему своё время… 2023 г.
ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭТАПА
Рассказ-быль
~1~ «Вагон медленно тронулся с места и плавно покатился по полотну железной дороги, издавая характерные звуки, так полюбившиеся многим ещё в детстве и навевающие романтическую ностальгию», — а неплохое было бы, однако, начало для какой-нибудь мирной истории о курортном романе или, скажем, авантюрного триллера о карточном шулере–катале, промышлявшем по поездам дальнего следования.
Но увы, у нас, горемычных, своя история. Как и свои особенные вагоны. Те самые, приснопамятные вагонзаки, известные в народе как «столыпинские». Надо полагать, если дух Петра Аркадьевича Столыпина периодически посещает родную для его бренного многострадального тела русскую землю, то он искренне удивляется живучески своего имени.
Но, к сожалению, прочно увековечено его имя не в институтах государственной власти, для которой он радел: вспомнили, покричали, воздвигли памятник, переименовали улицу и… забыли. Увы. Стало оно нарицательным в уголовном жаргоне, низкопробном тюремном шансоне и обиходной речи заключённых, а также сотрудников ФСИН — уголовно-исполнительной системы. Всё-таки второй век, как никак, спецвагоны для этапирования спецконтингента носят звучное название — «столыпин».
Отчего и почему это название так въелось в столь специфический язык — неизвестно. Надо думать, что отчасти это дань признательности арестантов суровому и деспотичному премьер-министру царя за благое дело — пересадили таки заключённых из вагонов для скота в мало-мальски человеческие условия.
Хотя и не для арестантов вовсе постарался премьер Столыпин, а ради собственной реформы — для поселенцев на новые земли. Но всё-таки. В итоге кому достались вагоны-то? Вот то-то и оно…
А с другой стороны, за оставшиеся годы монархии, весь советский период и постсоветские десятилетия (да-да, уже десятилетия!) во внутреннем «убранстве» этих вагонов мало что поменялось, как и в способе этапирования зэков. Ну, подумаешь, не нашлось почти за полторы сотни лет никого разумнее и изобретательнее, чем Пётр Аркадьевич. Ничего. В России-матушке уже никого ничем не удивить. Вот и прижилось название.
Тип планировки столыпинских вагонов такой же, что и у обычных купейных. Одна сторона представляет собой коридор, но с зарешёченными и зашторенными окнами, а другая поделена перегородками на отсеки-«купе», изолированные от коридора решётками-отсекателями и дополнительно мелкоячеистой сеткой (чтоб исключить передачу из одного отсека в другой различных предметов, записок-«маляв», сигарет и т.д.). Дверь в «купе», соответственно, имеет вид распашной решётки в центре отсекателя. Окна в отсеках порой вовсе намертво заварены железными щитами и к тому же зачем-то зарешёчены. Полки-сидения, конечно, не такие мягкие, как в настоящих купе, а где и вовсе жёсткие, голые деревянные, как нары. Но устроены они примерно также — по паре нижних, по паре верхних (второй ярус) и багажных (третий ярус), которые здесь служат не для чемоданов и рюкзаков, а для живого груза — зэков. Наконец, выдвижные столики (ах, эти милые выдвижные-раскладные столики!) где есть, а где и вырваны с корнем. Вот и весь антураж.
Опроси сейчас широкие народные массы, а кто собственно такой Столыпин? Надо полагать, что результат опроса заставит крепко призадуматься. Или насмешит, но смех этот будет горьким. Саратовцы-то ещё туда-сюда, что-то слышали — земляк, как никак. А в целом, боюсь, кроме учителей истории, музейных работников и любителей исторических романов, лишь единицы смогут обойтись без Википедии.
А поинтересуйся у любого распоследнего сидевшего алкаша или у другого алкаша, ранее караулившего первого, что они знают о Столыпине, так они сразу очнутся, оживятся, разулыбаются беззубыми ртами и закивают, мол, плавали — знаем…
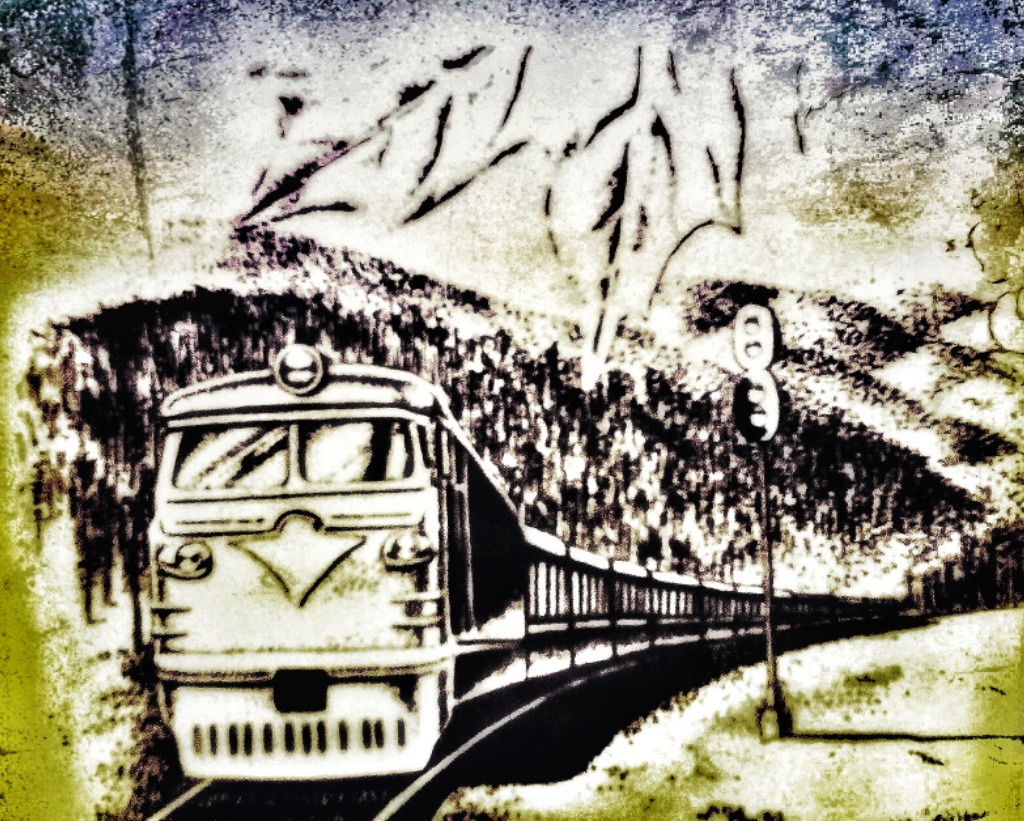
Это так, к слову, о бренности мирской славы, о «благодарной» памяти общества к тем, кто отдал ради его благополучия годы жизни, здоровье, силы и, в конце концов, пожертвовал собой и всем, чем дорожил. Историческая память народа в отношении лучших его сынов, увы, часто бывает недолговечна…
А начать эту главу следовало бы иначе — в соответствии с нашей арестантской ситуацией. То есть примерно так: «Вагон судорожно дёрнулся и пополз по рельсам, издавая тревожный тоскливый скрежет…». Ну как? Пойдет? Колорит поменялся? А интонация? Тогда за дело! Итак…
~2~
Весна 2014 года. Россия. Железнодорожный перегон где-то в центре Саратовской области.
Вагон судорожно дёрнулся и пополз по рельсам, издавая тревожный стонущий скрежет. Стук колёс был неприятно схож с аритмичным биением больного изношенного сердца умирающего организма.
Столыпинские купе были отчасти пусты, а частью забиты до отказа людской массой. В отсеки раздельно помещали мужчин, женщин, малолеток, бывших служителей Фемиды, лиц с известными порочными наклонностями и т. д.
Поневоле вспоминаются мрачные гулаговские времена, по А. И. Солженицыну, как в такие же «купе» набивали, словно огурцы в банку, аж по двадцать четыре человека! Грубый век, грубые нравы, романтизьму нет. Одно слово — сталинщина…
С тех пор минуло семьдесят лет. Эх, Александр Исаевич, кабы дожили Вы до наших дней, мы бы Вам обязательно рассказали, что и нас, грешных, возят теми же «столыпинами» по двадцать четыре зэка на одно «купе». И неизвестно еще, сколько десятилетий будут возить.
Старые советские ГОСТы в новой России так же живучи, как слухи об отменном качестве советских товаров и услуг. И пересматривать их, похоже, никто не собирается — сами с усами… Автобусы для зэков? Вы с ума сошли? А железнодорожную спецбригаду, конвой и прочих куда девать? Расформировывать? Сокращать? Да там же Зинкин брат в начальниках, а Нинкин сват — в замах по снабжению! А у Зинки муж — в Минюсте, да у Нинки зять в Генпрокуратуре, а сноха — тендерный субподрядчик. А сама Зинка кто? А Нинка? О, вам лучше и не знать… Дешевле оставить всё, как есть, и безопаснее. Эх, Россия-мать…
Да, собственно, какая это проблема? По пять-шесть зэков на нижних полках, по три-четыре на вторых верхних, да по два-три на багажных, в разных комбинациях, как у нас говорят, «по мастям, по областям», кому, где и с кем приемлемо, где захотелось и с кем суждено. Разместились, утряслись и поехали, как само собой разумеется. Ни тебе охов-вздохов, ни ахов-страхов, всё на позитивной волне.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
