
Бесплатный фрагмент - Сибирь — любовь моя, неразделённая
Том 2. Междуреченск (1956—1959). Эпилог (1960—2010)
Роман от первого лица
Не бойся врагов —
в худшем случае они могут тебя убить.
Не бойся друзей —
в худшем случае они могут тебя предать.
Бойся равнодушных —
они не убивают и не предают,
но только с их молчаливого согласия
существует на земле предательство и убийство.
Бруно Ясенский
Страдания любви нельзя победить философией — можно только с помощью другой женщины.
Эрих М. Ремарк

1956 год
Проскочил незаметно январь, от которого сохранилось лишь два листочка в блокноте. Восьмого числа, например, зашёл на наряде раз-говор о труде, о производительности его. В ответ на моё замечание, что её рост обогащает страну и увеличивает возможности для повышения благосостояния населения, один из навалоотбойщиков бросил в сердцах: «Какое мне дело до всеобщего благосостояния — я жрать хочу!» Какое убийственное у всех равнодушие ко всему, кроме этого: «Я жрать хочу!»
…Насколько мне было тягостно и тоскливо в эти январские дни можно судить по заметке восемнадцатого января о весне сорок первого года с любящими меня матерью и отцом и другими людьми, с пекарней на барже и заключённым пекарем-грузином и его ласковым словом «синок». От приятных воспоминаний поднималось в какой-то, знать, степени настроение, становилось чуточку легче и теплей на душе.
…Вдруг, после многомесячного молчания, я получаю от Людмилы письмо — не письмо, паническую записку: у неё болят глаза, кажется, она начинает слепнуть. Я рассказал о письме своему начальнику, и он разрешил мне прихватить пару деньков к выходному, чтобы съездить к возлюбленной.
…Открыв дверь, любимая меня обняла, прижалась всем телом ко мне, и губы наши слились в поцелуе. В долгом, кружащем голову, обещающем поцелуе. Все они были, кружащими и обещающими… А глаза у неё действительно покраснели, и на работу она не ходила — больничный лист был.
Не знаю, чем я мог ей помочь, и для чего она меня вызвала. Тоска тоже, что ли, нахлынула?.. Днями мы бродили по городу и говорили, и говорили, и говорили. Жалела меня, что мне трудно в глуши, где я, вероятно, отвык от высоких домов, театров, трамваев… Вспомнила! Но ни в какие театры, ни в какое кино мы с ней не ходили, я и не подумал её туда пригласить, как не подумал и о ресторане. Мне и без того было с ней хорошо, ничего мне этого было не нужно, мне была нужна лишь она. Только видеть её, только слышать… А о ней, что ей нужно, не подумал ни разу. Кем же я в глазах её выглядел? То-то. Ей, возможно, совсем другого хотелось, чем од-
ни разговоры. Но и меня можно понять. Я так безумно любил, так страшился её навсегда потерять, и так был ею два раза ушиблен, что страх сковывал меня по рукам и ногам, я мог только приходить в восхищение ею, но ни на какое действие решиться не мог, инициатива должна была теперь только от неё исходить. Легко, конечно, меня назвать дураком, но побывали бы вы в моей шкуре.
…на ночь я уходил в знакомую комнату на втором этаже общежития, где всегда находилась пустая кровать, всегда кто-то был в третьей смене.
Я вернулся на шахту и вдруг стал получать от неё за запиской записку (такие уж письма у неё выходили). «Володя! — в первой писала она. — Обеспокоена твоим молчанием… Пойми, дорогой, что это молчание страшно угнетает меня, в голову лезут чёрт знает какие нелепые мысли… Несколько раз я порывалась приехать, но не могла: вечером не идут к вам машины, а я могу уехать только вечером… Всё ещё хожу по бюллетеню, но я уже почти здорова… Пиши. Напиши хоть одно слово… Люся».
…много позже, перечитав эти записки, я подумал о причинах её беспокойства: не случилось ли чего со мной в шахте? Да, пожалуй, в то время это был бы самый лучший выход для нас, для меня то есть, хотел я сказать… И в порывы её не очень поверилось. Почему только вечером? За два года, последовавших затем, так ни разу и не приехала, хотя побывала в гостях у многих друзей и съездила аж в Таштагол на самом юге Кузбасса, километрах в ста за Осинниками.
…В следующей записочке: «Вовочка! Я очень хотела, чтобы ты приехал. Не приехал, значит, не мог… Не приехал, но ведь ты же мог ответить хоть на одно моё письмо хотя бы двумя словами…» И ещё: «Фразы и слёзы к чёрту! Хочу, чтобы ты приехал! Вот и всё. Жду тебя. Люся».
Какой музыкой звучали эти слова! «Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!»
…вероятно, и ей на шахте было тоскливо, но не горше же моего? Город большой, есть театр, кино, и свои ребята живут в общежитии… Но нельзя исключать, в большом городе одиночество и свою затерянность чувствуешь сильнее… А друзей, интересных знакомых у неё, по всему, пока не было.
В конце января я ещё раз побывал у неё. Она мне сказала будто слышала в разговоре о создании в Сталинске института ВНИИГидроуголь на основе отделения гидродобычи КузНИУИ. И что этот институт рассылает в тресты заявки на курсы по гидродобыче, а те, в соответствии с приказом комбината, отправляют на эти курсы людей.
…Я мигом помчался в Прокопьевск: в Сталинске был готов только корпус, а люди и штаб-квартира оставались ещё там. В КузНИУИ я застал заместителя Мучника, Теодоровича Михаила Борисовича, того самого, кому встретился ночью с перевязанной головой. От него я узнал, что сообщение о курсах — правда, и попросил его посодействовать мне попасть на эти курсы. Михаил Борисович тотчас же поручил секретарше отпечатать письмо в трест «Молотовуголь» и, спросив:
— Вы то теперь куда?
— В Сталинск, — пригласил меня в свою машину:
— Я тоже в Сталинск сейчас выезжаю.
Вместе с нами поехал и руководитель моей дипломной работы Караченцев Валентин Игнатьевич. В пути на «Победе» Теодорович веселил меня смешными историями, случавшимися с Караченцевым — они вместе воевали солдатами, — а Караченцев в ответ подначивал Теодоровича: «Остановимся ночевать где-нибудь в хате, хозяйка на стол горшок вареников выставит, а Теодорович давай нас смешить. Пока нахохочемся, глядь, а горшок уже пуст: Теодорович все вареники слопал».
…По возвращении из этой поездки я проработал на своём участке день или два. Во исполнение приказа по тресту Плешаков направил меня с первого февраля на двухмесячные курсы повышения квалифи-кации в области гидродобычи в Сталинск в Сибирский металлур-гический институт. Приехав в институт и получив направление в общежитие, я обнаружил там четверых наших ребят, в том числе Суранова Славу и Потапова Людвига. Остальные были людьми, не имеющими никакого понятия о гидравлической добыче угля.
Мы, выпускники КГИ, поселились в одной большой комнате, больше похожей на зал с двумя высоченными окнами. Собравшись вместе, мы решили нагрянуть в гости к Володиной, и там кого-то из нас осенило: а нельзя ли и её к нам пристроить на курсы. Людмила пришла от этой идеи в восторг — ещё бы!.. на два месяца с шахты удрать!
Идея, конечно, была хороша, но как её в жизнь провести?.. Тут все взоры оборотились ко мне, о моих «особых» с ней отношениях, оказалось, знали решительно все. И поручили этим делом заняться… кому же ещё?.. мне, разумеется.
Наутро я снова у Михаила Борисовича. Он и Мучник уже перее-хали в Сталинск в здание института, покуда ещё необжитое, гулкое пустотой и сияющее свежей побелкой и, в коридорах, голубой крас-кой панелей. Приёмная у них была общая, кабинеты — напротив, как водится.
…вот вхожу я к Теодоровичу в кабинет, большой, светлый, не загромождённый какой-либо мебелью. Теодорович один, за столом. Я здороваюсь и, обращаясь по имени-отчеству, говорю: так, мол, и так, вот я прибыл на курсы, а здесь на шахте работает моя невеста, тоже выпускница нашего института. Нельзя ли и её на курсы устроить?
— Она тоже дипломировала по гидродобыче? — спрашивает Теодорович меня.
— Нет.
— Ну, да это не так важно… Фамилия?.. Имя?.. Отчество?..
— Володина Людмила Кузьминична.
— Кем? На какой шахте работает?
— Помощником начальника участка вентиляции шахты имени Орджоникидзе треста «Сталинуголь», — выпаливаю я без запинки.
— Ну, что ж, попробуем… — тянет Теодорович, поднимается и идёт в угол к маленькому столу, на котором стоит пишущая машинка… Тут надо сказать, что Мучник был человеком неординарным, взглядов самых передовых, и старался оснастить свой институт тем, что позже стали оргтехникой называть… Из доступных в то время средств этой техники были в Союзе лишь комбайны чертёжные и пишущие машинки. Ими Мучник и снабдил каждого инженера, включая себя и своего заместителя, чтобы не бегали с каждой чепуховой бумажкой к секретарю-машинистке или в машинописное бюро института…
…и вот навис огромный Теодорович над пишущей машинкой, заложил в неё бланк с грифом «ВНИИГидроуголь» и не очень умело начал выстукивать текст:
Управляющему трестом «Сталинуголь»
Прошу направить выпускницу Кемеровского горного института, специализировавшуюся в области гидравлической добычи угля и работающую в настоящее время помощником начальника участка вентиляции шахты им. Орджоникидзе, горного инженера Володину Людмилу Кузьминичну на двухмесячные курсы повышения квалификации при Сибирском металлургическом институте с…
— Какое у нас сегодня число?
— Третье…
…с 5-го февраля 1956 г.
Директор В. С. Мучник
— Посиди, — говорит Михаил Борисович мне, — я схожу к Мучнику, подпишу.
Через несколько минут он возвращается:
— Уже отправили… Ну, что?.. Доволен?
— Большое спасибо, — говорю я, приподнимаясь со стула, — очень большое спасибо.
Теодорович смеётся:
— Ничего… Пусть у тебя будет всё хорошо, — он жмёт мою руку, и я ухожу.
…через два дня Люся на курсах.
Эти два месяца мы (кроме Людмилы) ходили регулярно на курсы в СМИ, слушали лекции. Я занимался прилежно, тем более что занавес, отделявший нас от презренного Запада, чуть приоткрылся, и нам давали кое-что новое, чего я прежде не знал. Да, я занимался усердно, то есть писал конспекты, перечитывал их, запоминал всё, что услышал и, тем не менее, в памяти эти два месяца запечатлелись как непрерывное сидение в общежитии за столом с бутылками и закусками и с Людмилой подле меня.
Но, странное дело. Ещё две недели назад забрасывавшая меня своими записками-письмами — приезжай!.. хочу тебя видеть! — она сейчас была… как бы это сказать… нейтральна со мной, неприветлива. Ни любезной улыбки, ни не только что предложения её проводить, но и неизменное её уклонение под каким-либо выдуманным предлогом от подобного моего предложения… Да, за эти два, нет, три — потом месяц добавят ещё — за эти три месяца мы ни разу не остались наедине, мы ни разу по городу не гуляли. Встречались лишь на занятиях, которые она посещала нечасто, да за пиршестен-ным столом в общежитии, где, я думаю, товарищи мои специально делали так, чтобы она оказалась рядом со мною. После пиршества она исчезала, без меня, разумеется.
…Но застолья наши были весёлыми, шумными, ребята шутили, острили. Я, не чувствуя таланта быть душою компании, не выпен-дривался, из кожи не лез и, по привычке, отмалчивался, хотя от всей души веселился вместе со всеми.
…и пусть глаза любимых нам не улыбаются при встрече.
…Лишь единожды в ответ на чьи-то слова я вбросил реплику в разговор, от которой все покатились и долго от хохота не могли прийти в нормальное состояние, после чего кто-то восхищённо воскликнул: «Ай да Платонов!.. Молчит, молчит, но если уж скажет…»
Не скрою, такая оценка мне польстила. В самом деле, я часто бывал остроумен, но с замедлением остроумен. Как говорят французы — на лестнице. И посему моё остроумие бывало никем не замечено, ибо не было выказано. Не ляпнешь же остроумную фразу не к месту, когда разговор зашёл о другом. Так и дурнем не трудно прослыть: как до жирафа доходит. А на деле дошло-то мгновенно, да ответ на малый миг запоздал. И обнародовать его теперь было бы до крайности неуместно. Вот такая недоделанная у меня голова.
…За три месяца я в Томусе так ни разу и не появился. По воскресеньям мы всей тёплой компанией ездили в гости к кому-либо из наших товарищей и проводили время в застольях, не зная вестей, не слушая радио, не читая газет.
Два раза мы были в Прокопьевске у Юли Садовской. Двухкомнатная квартира. Из коридора, ведущего в кухню, две двери. Первая — в комнату Сюпа, вторая — к Юлии. К ней переехала мама, Екатерина Константиновна, знакомая мне по Гурьевску. Она хлопочет на кухне, чтобы хлебосольно встретить гостей. На стол выставляются необъятных размеров сковорода с подрумянившимися ломтиками поджаренного картофеля, миски с солёными капустой и огурцами и целое блюдо котлет. Мы извлекаем из свёртков бутылки с сорокаградусной влагой и, опрокинув в себя по стакану, с большим аппетитом уплетаем никогда не приедающуюся еду.
…Тут, у Юли, мы узнаём, что у Сюпа начинается драма. Пережив измену любимой, наш Юра, приехав на шахту, мгновенно влюбился в молоденькую маленькую и очаровательно красивенькую евреечку — секретаря шахтного комсомольского комитета. И не просто влюбился, но и скоропалительно женился на ней. И тут-то и началось… Секретарь комитета по определению должна быть общительной. Вот она и общалась и на шахте, и в горкоме на собраниях, заседаниях, пленумах, конференциях с шустрыми комсомольскими вожаками. И это общение порой неприлично затягивалось. И слухи всякие появились, и до Юриного уха дошли, хотя он вроде на людях и не бывал, пропадая по двенадцать часов ежедневно на шахте и в шахте… И начались объяснения, выяснения отношений. В довершение молодую супругу не устраивал маленький заработок мужа. Участок, где Юра работал помощником начальника, плана не выполнял, а это — больше работы, больше ругани, нагоняев, и — только оклад. А оклад у помощника — возле двух тысяч. Это по шахтёрским меркам немного… Вот и упрекнёт её Сюп за свободное поведение, а она ему скандальчик в ответ, что он на её шее сидит и в шахте своей ни черта заработать не может.
…После набегов к Юле, мы зачастили к Потапову Людвигу, всё в тот же Прокопьевск, где жила его тёща и беременная жена. Дом их стоял в самом центре Прокопьевска на взлёте трамвайных путей, необычность которых была нами замечена во время подготовки дипломных проектов.
Трамвайная линия от шахты «Красногорская» №1—2, где я в 53-м году на практике был, подходила к впадине центра Прокопьевска и прогибалась чрезвычайно крутой дугой — не верилось, что трамвай из неё сможет выехать… Но трамвай опускался, похоже, без тормозов с жутким лязгом и внизу летел бешено, так что страшно становилось за пассажиров и за себя, и, набрав сумасшедшую скорость, без труда взлетал на подъём. Этот трюк представлялся мне очень опасным, но каждый раз как-то всё обходилось. Пируя у Людвига, мы то и дело слышали чудовищный грохот из котловины.
…У Потапова, кроме того, что было везде, на столе появлялся томатный соус, приготовленный его домовитою тёщей. … Изумительный соус! Вне конкуренции! И меня от него не могли оторвать, я бессовестно съедал, наверно, полбанки. За едой я никого никогда не стеснялся. Любил вкусно поесть.
…и всегда крутилась чёрная пластинка на патефоне, и игла извлекала слащавую мелодию на сладенькие слова:
Пой, ласточка, пой.
Пой, не умолкай —
Песню блаженства любви неземной
Век мне напевай.
…зато сам Людвиг порадовал нас своим пением. Был он в ударе, пел много, задушевно и с большим артистизмом. Голос у него ещё сохранялся, был полным, чудесным — и доставил нам огромное удовольствие.
…Из занятий на курсах, кроме, естественно, Мучника, помню лекцию Караченцева о креплении анкерами. Это была новинка, впорхнувшая к нам из Соединённых Штатов Америки в ту самую щель под железным занавесом, приоткрытым Хрущёвым. Получалось и в самом деле отлично для крепления выработок на пологом падении: пропластки породы в кровле пласта сплачивались анкерами в сплошной монолит и не отслаивались, и, поэтому, по отдельности не обрушались. А монолит трудно обрушить. Кровля стояла. Это похоже на пакеты из досок. Когда доски просто лежат на опорах одна на другой, то выдерживают нагрузку много меньшую той, которую выдержат, если стянуть их болтами.
Интересно, захватывающе читал лекции нам сам Мучник. Но вот ничего из них я не помню, как не помню и названия его курса. Во многом они были общими рассуждениями. Караченцев окрестил его курс «Философией гидродобычи». Суть философии была в том, что заметный скачок в производительности труда дают лишь технологии, сокращающие число операций в процессе. Говорил он с большим увлечением, горячо, убедительно, подкрепляя выводы из суждений примерами и расчётами. Безапелляционная убедительность его выступлений захватывала меня и других и позднее, когда слушал его на совещаниях и конференциях.
…А в жизни было всё не так убедительно. Всё было сложнее. Не в одном сокращении операций зарыта собака. Гидродобыча их действительно в ряде случаев сокращала. Но ведь и сами-то операции требуют тщательной отработки, шлифовки, чтобы шли они без сучка, без задоринки. А вот эту сторону Мучник упускал, от неё просто отмахивался. И когда противники его способа, выступая с трибун, называли многочисленные ухабы и нестыковки, на которых застревала работа, зал охватывал панический пессимизм. В самом деле, всё разваливается на каждом шагу, и при таком положении ничего из нашей затеи не выйдет. Тогда вновь в заключение выступал на сцену Мучник и, отметая, как мелочь, как сор, все возражения, говорил о существенном, главном, о таких значительных преимуществах, что все предыдущие построения его недругов рушились карточными домиками, воспринимаясь как нечто нестоящее. Настроение зала менялось, речь Мучника казалась неотразимой, противники, не найдя знáчимых аргументов для возражений, молчали. Слушатели убеждались: всё хорошо, всё хорошо! В таком состоянии и покидали мы зал, с тем и разъезжались по шахтам. Но проходили дни и недели, жизнь подбрасывала новые затруднения и проблемы, да и старые трудности никуда не девались, и вновь колебания начинали одолевать многих из нас.
…И снова критика на очередном совещании, и снова выступление Мучника, не оставляющее и тени сомнения в его правоте: «Всё хорошо!.. Всё хорошо!»
…надо уметь убеждать, увлекать!
…В одной из своих лекций Мучник заговорил о постоянных изменениях представлений в науке, о постоянных сменах её воззрений на мир и, в этой связи, упомянул о книге Инфельда и Эйнштейна «Эволюция физики», что подвигло меня к дальнейшему стремлению расширить свои взгляды на строение мира. Этот вопрос был мне чрезвычайно интересен всегда. И тут же в Сталинске в магазине, не найдя упомянутой книги, я увидел другую книжку Эйнштейна «Сущность теории относительности». Я её, конечно, сразу купил. Сущность-то в общих чертах я знал и до этого, но мне захотелось в неё проникнуть поглубже. Однако после первых страниц я перестал вообще что-либо понимать, споткнувшись на тензорах. Что это за зверь, я не знал, и спросить было не у кого.
Сейчас мне смешно. Ведь ещё в школе мы с тензорами дело имели, изучая взаимодействия электрических и магнитных полей. Вспомните хотя бы взаимодействие тока: «Правило правой руки», «Правило левой руки», где результирующий вектор направлен перпендикулярно к плоскости взаимодействия двух векторов, но никто не упомянул, что это результат умножения векторов. А в институте, где тоже эти векторы перемножали, никто не сказал, что такое умножение и есть этот самый тензор. Вообще оказалось, что, не подозревая о том, мы знали больше, чем думали. А не догадываясь об этом, не умели свои знания применить, как у меня получилось с теорией ошибок в маркшейдерском деле.
…Не удивительно, что при таком философском размахе двух месяцев на обучение не хватило, и Мучник испросил у министра продления срока курсов на месяц… Мы ликовали!
…По окончании курсов мне вручили чёрную книжечку — удостоверение в том, что я повысил квалификацию, и где против всех прочитанных дисциплин стоит одна и та же отметка — отлично.
…В один из последних дней апреля я, наконец, явился на шахту, где был ошарашен ворохом новостей.
Закончилось строительство четырёхэтажных домов у края проспекта, начинавшего город за проездом под линией железной дороги. Город начал приобретать очертания, и наше дотоле безымянное поселение, затерянное среди сопок Горной Шории меж реками Томь и У-су, было наречено городом, и имя ему было присвоено: Междуреченск.

В Междуреченске утверждалась советская власть, вскоре должны был появиться и все властные и не властные атрибуты: горком партии, горсовет, горком комсомола, горком профсоюзов, военкомат. Из треста «Молотовуголь» выделялся самостоятельный трест «Томусауголь», и несколько работников и работниц с мужьями и жёнами уже прибыли в новый трест из Осинников, и с ними — работница планового отдела, которая накануне трестовского раздела сумела подписать у Соколова приказ о назначении её мужа Свердлова начальником строящегося Томусинского гидрокомплекса. И Плешаков этот приказ продублировал!
…Вот это был удар так удар!.. И он требовал незамедлительного ответа. Ни слова ни говоря, — не буду же я пустыми руками перед Плешаковым размахивать, — я разворачиваюсь и еду в комбинат в Кемерово к Кожевину.
…наутро я уже в его приёмной, но Кожевина нет в комбинате, Кожевин в командировке. В отчаянье я направляюсь в приёмной к противоположной двери, к Ковачевичу, заместителю Кожевина по добыче.
…передо мной за громадным столом сидит человекообразная глыба со звездой Героя Социалистического Труда на груди. Это и есть Ковачевич. Я объясняю ему происшедшее, прошу вмешаться, восстановить справедливость. Слова мои производят на Ковачевича впечатление обратное ожидаемому. Лицо его багровеет, и, опираясь руками о стол, он приподнимается, оторвав огромный зад от широкого кресла:
— Ты чего шляешься здесь?! Марш на шахту немедленно! И работать! — орёт он таким страшным голосом, что сейчас, думаю, рявкнет: «Вон!» — но он молча плюхается в кресло.
— До свиданья, — говорю ему я, понимая, что делать здесь больше нечего, и выхожу, ошеломлённый приёмом.
Неужели всё рухнуло?! Нет, есть ещё один шанс: я вспоминаю о договорённости Мучника с Линденау и поднимаюсь на третий этаж в приёмную главного инженера. Кажется, я здесь когда-то бывал. Во всяком случае, красавица секретарша с бровями, удлинёнными тушью наискосок и придающими ей сходство с очаровательной японкой, сидевшая за столом, повернулась ко мне и благожелательно улыбнулась. Так улыбаются людям, которых видели и к которым благоволят.
Не успел я и рта раскрыть после приветствия, как она опередила вопрос:
— А Николая Ивановича сейчас нет, но после двух часов он будет.
— Спасибо, — улыбнулся и я, — я зайду после двух часов.
…в четырнадцать ноль-ноль я открыл дверь приёмной, в которой тонкими духами благоухала красавица. Она снова мне улыбнулась:
— Он у себя. Заходите.
Я вошёл, рассказал о причине приезда. О своём визите к Ковачевичу, благоразумия ради, я умолчал.
Линденау нажал кнопку селектора и вызвал к себе начальника отдела руководящих кадров.
— Да захватите с собой все дела по строящимся гидрокомплексам, — добавил он под конец.
Когда вызванный начальник вошёл и, приглашённый жестом руки, сел за приставной столик напротив меня, интеллигентнейший Николай Иванович сказал ему:
— Как-то у нас была договорённость о руководителях строящихся гидрокомплексов. Посмотрите в своих бумагах, там всё должно быть.
Кадровик раскрыл папку, перелистал в ней бумаги и протянул Линденау большой сдвоенный лист, на котором напечатано было что-то вроде таблицы.
— Пришла пора сделать назначения, — взглянув на таблицу, сказал Линденау. — И сегодня же — в приказ! Особо проследите, чтобы начальником Томусинского гидрокомплекса был назначен горный инженер Плато-онов, — он протянул предпоследний слог и вопросительно взглянул на меня.
— Владимир Стефанович, — догадался подсказать я.
— Владимир Стефанович, — повторил Линденау и, встав, протянул мне руку:
— Желаю удачи, Владимир Стефанович!
Я поблагодарил его и вышел.
— Ну, как, всё в порядке? — поинтересовалась очаровательная красавица.
— Да, всё хорошо. Вам большое спасибо, — и я распрощался тронутый расположением дивной красоты секретарши.
…и какое счастье, что в жизни не одни Ковачевичи!
…Время в поездках издали кажется промелькнувшим совсем незаметным, впрочем, как и вся прожитая жизнь, хотя в жизни той дни порой тянулись до чрезвычайности нудно и медленно. Но, так или иначе, вернувшись из Кемерово в Междуреченск, я приступаю к своей работе помощника на прежнем участке. В последний апрельский день я сижу на первом наряде. Звонит телефон. Мой начальник берёт трубку, слушает, говорит: «Да, хорошо, — трубку кладёт и посылает меня к Плешакову. — Плешаков тебя вызывает».
Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж, вхожу в кабинет начальника шахты.
— На, познакомься, — он подаёт мне лист, на котором читаю: «Приказ по комбинату „Кузбассуголь“ номер (такой-то) от (такого-то) апреля…» — Я пропускаю преамбулу и бегу глазами вниз по листу до слов «произвести назначения». Теперь я читаю внимательно. Слева — названия гидрокомплексов, справа — должности и фамилии. Гидрокомплексы мне знакомы — знакомой фамилии против них — ни одной.
Наконец, в самом низу:
Гидрокомплекс шахты «Томь-Усинская» №1—2
— Начальник — Платонов Владимир Стефанович
— Механик — Исаев Александр Иванович
Да, это же тот самый Санька Исаев, которому палец отдавило на практике на «Пионере» в Белово и которому я на «Полысаевской» нечаянно дорогу перебежал, уведя возлюбленную его. Чудны дела Твои, Господи, в третий раз вне института наши дороги пресекаются.
Я от радости прыгать готов, разумеется, не от Саньки — он то мне безразличен — от назначения…
Между тем Плешаков предлагает мне стул (!) и заводит такой разговор:
— Работы по гидрокомплексу, в сущности, у вас пока нет никакой.
Тут я позволяю себе его перебить. Дело в том, что ещё в декабре прошлого года, я сумел выкроить время и заглянуть на участок, где, как мне сказали, шахтостроители закончили горные работы для гидрокомплекса. Безусловно, поступил я в нарушение всех правил техники безопасности, отправившись в путешествие это на заброшенные горные работы один, но я знал, что шахта наша не газовая (в ней не было обнаружено выделений метана), и, стало быть, в восстающих выработках метан не соберётся, и мне ничто не грозит. Что касается углекислого газа, то он опускается вниз и уносится током свежего воздуха, поступающего в шахту снаружи.
Участок шахтного поля, отданный гидрокомплексу, был частью того же ІІІ пласта и на том же горизонте, где я на трёх участках в разных слоях поработал. Вскрывался он небольшой самостоятельной штольней, пройденной по углю и креплённой деревянными рамами. Метрах в четырёхстах от устья эта штольня смыкалась с главной штольней горизонта +345 м, вильнувшей к пласту и перешедшей там в откаточный штрек. Следовательно, наша штольня могла проветриваться за счёт общешахтной струи, но проветривалась ли, я не удосужился выяснить. Я проник на участок не через неё, а по параллельному ходку, вроде того, в котором полтора года назад трудился на «Пионере». В ходке на почве были уложены четыре нитки десятидюймовых труб большого диаметра — два водовода и два пульповода, то есть был резерв на случай аварии. Это порадовало — хорошо! Пробираясь по трубам, я миновал забетонированную камеру углесосной станции, сопряжённой с ходком. Трубы заворачивали туда, но углесосов пока что там не было. Удивило меня, что остальные три стены камеры углесосов были глухие, не было никакого намёка на зумпф — колодец забора угольной пульпы — около углесосной. Дальше пошли ещё более странные вещи: трубы — теперь уже только две нитки — снова вышли из углесосной и потянулись далее по ходку. По ним я и вышел к первому очистному забою — печи. Вышел… и пришёл в изумление… ахнул. Зрелище было для человека, в горном деле хоть что-либо смыслящего, потрясающее — вверх по восстанию поднималась выработка невероятных размеров. В высоту метра четыре и столько же в ширину. Для чего?.. Чтобы поместить в нём водомёт (гидромонитор, по-научному) высотой в семьдесят сантиметров и человека — в метр восемьдесят?.. В самом деле, не железнодорожные же вагоны мы туда собирались пускать?! Идиотизм настоящий!
И какой дурак станет работать в этой печи на границе с выработанным пространством (где каждый миг грозит обрушение) под прикрытием верхняка на недосягаемой высоте?!
…Да, то, что сотворили в шахте шахтостроители, привело меня в ужас! Впрочем, шахтостроители тут не причём, они исполняли проект, а проект смастерили спецы из Всесоюзной проектной конторы «Союзгидромеханизация», никакого представления о подземных работах никогда не имевшие: они занимались вскрышными работами на карьерах. И всё, что делалось на поверхности, они бездумно в шахту перенесли. Трудно даже поверить, что у серьёзных людей не хватило простого здравого смысла.
Трубы обрывались сразу у первой печи, но за ней были пройдены ещё три такие печи, через десять метров каждая. Как из них уголь брать после выемки первого же столба и обрушения кровли — неизвестно, никаких охранных целиков не было предусмотрено. А как уголь из печей до углесосной камеры транспортировать?.. Чуть позже, зайдя в маркшейдерский отдел и найдя в нём проект горных работ гидрокомплекса, я увидел синьку: вверху перед выработанным пространством стоит монитор, за ним две плахи от бортов печи под углом сходятся к жёлобу, направляя в него поток пульпы. Из жёлоба пульпа попадает в дробилку, а оттуда передвижным углесосом подаётся в камеру к углесосам стационарным. Полный абсурд!
Не говоря уже о том, что надобно будет перетаскивать неподъёмные механизмы, так и сами они не смогут работать.
Струя воды смывает уголь неравномерно, бывает, вода скапливается за грудой угля, а потом как прорвёт её, хлынет с углём — селевой поток позавидует… И уже завалены с верхом и дробилка, и углесос… и маши-ка лопатой, матушкой-выручалочкой, да ещё ведь и снова вопрос: куда ею маши?!
Словом, проект никуда не годился, и горных работ, считай, не было, печи были практически бросовые. Ну, допустим, проектировщики — дураки с открытых работ, шахты не видели, — но как мог проект миновать отделение Мучника? Он же всё контролировать должен, он заказы министерства на проекты проталкивал. Неужели ему было всё безразлично, и он довольствовался тем, что гидрокомплексы спроектированы и строятся потихоньку. Или всё у него по русскому обычаю выходило: вали кулём — потом разберём!
…Я даже не стал читать пояснительную записку к этому бреду. А ведь всё до крайности просто и на «Полысаевской-Северной» в принципе отработано. Перед углесосной — зумпф и дробилка, далее с уклоном пять сотых — аккумулирующий штрек с желобами, от него вверх по почве пласта — печи, сечением максимум два метра на два.
А надо сразу сказать, более идеального места для гидравлической добычи угля, чем здесь, невозможно было представить. Мощность пласта — девять с половиной метров, падение пологое. При обычной технологии пласт отрабатывался четырьмя слоями — я описал, как там работается. Гидравлический способ же без труда позволяет вынимать уголь сразу на всю мощность пласта. При том же самом, как и на прочих гидрокомплексах, объёме подготовительных работ, к выемке здесь подготавливается в три-четыре раза больше угля. А если ещё учесть, что отрабатываемый горизонт на сто метров выше промплощадки, и, гидротранспорт затрат энергии не потребует, то, думаю, пояснения не нужны.
…Но, безусловно, горные работы надо было проектировать и выполнять заново. Я, хотя и желторотый юнец, понимал, коль деньги потрачены, то ничем не заставить ни проектантов, ни шахтостроителей всё переделать. Выходит, проектировать систему разработки для этого пласта придётся мне самому и согласовывать её с Мучником, и утверждать в Гостехнадзоре.
…Но в суматошной жизни своей, занятый другими делами, я сразу ничего не предпринял; к тому же шахтостроители пока других работ не вели, поверхностный комплекс вообще не был построен… и до пуска — ай как ещё далеко!.. Да ведь и полномочий я не имел никаких. Хотя надо бы, надо бы было дать знать Мучнику. Видно думал, что это никуда от меня не уйдёт. Или ничего вовсе не думал.
Итак, эта картинка до поры выветрилась из головы у меня, чтобы возникнуть сейчас, когда я перед Плешаковым сижу и разглядываю его. Я уже кое-что знаю о нём. Может пообещать, но почти никогда обещанного не выполнит, ну, разве обещанное само свалится с неба. Жёсток, хваток, самолюбив, властолюбив. Не любит, когда ему перечат. Летом ходит в тёмном костюме. Осенью и весной носит длинное демисезонное пальто и большое кепи, правда, всё же меньших размеров, чем «аэродромы» лиц «кавказской национальности».
…Сейчас я впервые внимательно его вблизи рассмотрел. Низенький человек с сообразной росту комплекцией, плотен, не толст. Лицо крысиное какое-то, угловатое с желваками на щеках, клином суживается книзу, так и кажется, что оно должно закончиться короткой бородкой, но бородки не было. Щёки и подбородок выбриты тщательно и отливают синевой — щетина, видно, густая. Волосы зачёсаны назад. Выражения глаз не разглядеть — взгляд уклончив. И вот, глядя в эти уклончивые глаза, я и вспомнил картину горных работ гидрокомплекса. А, вспомнив, позволил себе его перебить:
— Не совсем так, — проговорил я, — горные работы хотя и выполнены, но выполнены по проекту безграмотному, совершенно безумному. В таком виде принимать гидрокомплекс нельзя. Пока есть возможность и время необходимо внести в проект горных работ изменения, и это некому сделать кроме меня. Выработки для начала очистных работ, скорее всего, придётся проводить нам самим после сдачи комплекса в эксплуатацию. Но для гидродобычи это не вопрос. Выработки все по углю, и мы сами проведём их за два месяца, но надо решить вопрос с шахтостроителями, чтобы они сделали непредусмотренный зумпф и поставили перед ним дробилку и гидромонитор, дабы мы могли проходку начать сразу после ввода в строй гидрокомплекса. К тому же сейчас начинается строительство наземных объектов, а за ними — монтаж оборудования, тут за строителями тоже нужен догляд. Так что…
Выслушав мою речь, Плешаков чуть смягчился:
— Ну, скажем так, работой пока вы не будете перегружены. Поэтому на какое-то время я предлагаю совместить её с работой диспетчером шахты…
Пока строители не развернули работ на поверхности, у меня не было никакого резона артачиться, и я согласился. Тем более, что появлялась возможность познакомиться с работой этой огромной уникальнейшей шахты, самой крупной в Союзе, с производительностью десять тысяч тонн угля в сутки, на которой только добычных участков было более двадцати. И пласты «Томь-Усинская» №1—2 разрабатывала редчайшие: кроме нашего, почти десятиметрового III-го, под ним пласт IV — V, двенадцатиметровый, разделённый тонкой породной прослойкой, отчего и двойное название у пласта, за ним, ниже, отрабатывался шестиметровый VI-й пласт — и везде великолепнейший малозольный коксующийся уголь. А ещё ниже целая свита невскрытых пластов вплоть до XVIII-го, разведанных до глубины восемьсот метров.
— Вот с первого мая и приступайте, — заключил разговор Плешаков, — тут уже твой механик прибыл.
— Исаев? — спросил я.
— Да, Исаев.
…С Первого Мая, чередуясь с Исаевым и ещё кем-то третьим, я по двенадцати часов через день дежурю в диспетчерской за столом, хочется сказать: перед пультом, но тогда пультов не было, а стояли два двадцатиномерны́х ручных штекерных коммутатора, по одному на каждый горизонт.
…слышится писк, и над одним из двадцати гнёзд ящика коммутатора загорается красная лампочка. Я вставляю в гнездо штекер. Звонит мастер второго добычного участка:
— Закачали двадцать пять вагонеток и всё, стали, нет леса.
— Заявку на транспорт давали? — спрашиваю.
— Да.
Вставляю второй штекер в гнездо участка шахтного транспорта горизонта. Щёлкаю тумблером: даю зуммер. На другом конце провода берут трубку.
— Вам второй участок давал заявку на стойки и затяжки?
— Да.
— Так какого вы чёрта их до сих пор на участок не завезли, полсмены прошло, лава стала!
— Только что отправили, — оправдывается диспетчер шахтного транспорта.
— Хорошо. Проследите, чтобы на другой участок не заехали невзначай. — Я выдёргиваю штекер и — горному мастеру:
— Слышали?
— Да.
— Если будет задержка — звоните.
Выдёргиваю и этот штекер. Сижу, жду. Если звонков нет, читаю книжку. Но напряжён, как на школьном уроке — успеть спрятать книжку под стол, если дверь начнёт открываться. В конце смены звонят мастера, передают, сколько загружено и вывезено вагонеток. Сверяю их цифры с тем, что даёт опрокид — виноват, разгрузка, у нас ведь вагонетки не опрокидываются, разгружаются над бункером через дно.
…сводка готова. Можно докладывать Плешакову или главному инженеру, тому, кто проводит планёрку, и идти домой, благо сменщик уже стоит за спиной.
…Прошёл май, заметно зашевелились строители, начали рыть котлован под отстойники возле ОФ. В пристройке к фабрике, стали устанавливать центрифуги для обезвоживания угля. Появились люди и на отделке здания насосной станции возле У-су, у моста, и под землёй — в углесосной.
В тресте «Томусауголь», управляющим которого стал Василий Сергеевич Евсеев, учредили дирекцию строящихся предприятий. Директором её назначили Ложкина Николая Ивановича. Я зашёл к нему познакомиться: финансирование шахтостроителей и приёмка работ проходили через него. Встретил он меня доброжелательно, и я стал часто бывать у него, расспрашивая о тонкостях строительных дел. Мы почти подружились, насколько это возможно при такой разнице лет: мне — двадцать четыре, ему — под шестьдесят.
Он был весьма симпатичен, спокойный, большеголовый, высокий седой человек. Вероятно, и во мне он почувствовал человека порядочного, так как стал вести со мной откровенные разговоры. Я уж не говорю о том, что он с его большим жизненным опытом был мне полезен во всех отношениях, его дельные советы были бесценны для новичка. И, полагаю, не обошлось без него: без всяких просьб с моей стороны с июня Плешаков освободил меня от диспетчерской службы и приказом по шахте поручил контролировать строительно-монтажные работы, проводимые на гидрокомплексе генподрядчиком, Ольжерасским ШСУ и его субподрядчиками, строительно-монтажными управлениями (СМУ).
…Николай Иванович был одним из тех старых русских инженеров (послереволюционных, конечно, но учившихся ещё у старых профессоров), которых весной пятьдесят шестого года выпустили из сталинских лагерей… Тогда же стали исчезать и сами эти лагеря вблизи Междуреченска. То ли их вообще уничтожили, то ли часть из них передвинули подальше в тайгу, в сторону строившейся ветки железной дороги от Междуреченска до Абакана.
К сожалению, большинство этих событий прошло мимо меня, просеялось разговорами, слухами. Я не проявил необходимого любопытства, занятый делами и сугубо личными переживаниями, не побывал хотя бы в верховьях Ольжераса, не посмотрел, что там сейчас происходит. — Через год мне доведётся съездить туда, там будет совершенно другая картина. А сейчас немало из тех, кто обрёл недавно свободу и кому некуда и не к кому было деваться, устраивалось на работу на шахту проходчиками, забойщиками, крепильщикам, лесогонами; все те, кто никакой специальности не имел. Среди них случались и уголовники, которые, опять же по слухам, начали безобразничать на нарядах и в городе, но от таких быстро избавились или они попритихли. Возможно, милиция в те времена своим делом занималась усерднее, чем ныне.
Но уголовники меня не занимали, а вот с другими я охотно поговорил бы… Не поговорил. Всё было некогда. И неудачливая любовь моя своими тягостными переживаниями многое заслоняла. Я ведь и разоблачение Сталина пропустил. Хотя тут и есть оправдание. Двадцатый съезд проходил, когда я свою квалификацию «повышал» в городе Сталинске.
Там я даже газет не читал. Впрочем, из газет всё равно ничего не узнал бы, там об этом ничего не писалось. Секретное письмо ЦК партии зачитывали на закрытых партийных и комсомольских собраниях. Я на собрании не был, и о Сталинском бандитизме узнал от мамы по тем отрывкам, которые ей запомнились. Но и этого было достаточно… Это был шок. Сотни тысяч людей казнены ни за что, накануне войны обезглавлена армия. Тухачевский «признался» в заговоре под пытками. Расстреливаемый Якир успел выкрикнуть: «Да здравствует Сталин!» — на что вождь отреагировал в своём стиле: «И перед смертью, подлец, не покаялся».
…Всё это маму потрясло в прямом смысле этого слова. Обрушилось всё, чему она верила слепо. Рухнул мир лжи, пелена спала с глаз. Со слезами рассказывала она мне, как её привлекли к раскулачиванию, к выселению «кулаков»: «А кого высылали? Обыкновенных крестьян-казаков. Дети — мал мала меньше — полураздеты, плачут. Взрослым с собой из вещей взять почти ничего не дают, а на дворе холод, зима. Сердце обливается кровью, глядя на них, а тебе твердят: это враги. Но ведь я живой человек — жалею. Кому незаметно что-либо суну сама, где-то сама „не замечу“, что взяли что-то из неположенного — а что больше могли мы, рядовые партийцы? Что сделать могли?.. Понимали — несправедливо. Думали, местные власти с неугодными свои счёты сводят. Пролезли вредители в райкомы и сельсоветы и творят безобразия. А это, оказывается, сверху всё шло. А как же мы радовались, когда Сталин разоблачал их, „Головокружение от успехов“ напечатал в газете. А всё это ложь. Всё ложь. А я, малограмотная, вождям нашим верила…»
Я был не меньше маминого потрясён. Беззаконие, произвол меня всегда возмущали. И Сталина я, как и мама, с того момента возненавидел. Но дальше этого не пошёл. Крепко сидели у меня в голове с детства вбитые догмы о справедливейшем строе. Медленно, медленно приходило ко мне понимание, что преступна вся наша система, созданная Лениным и большевиками. Ленин ещё много лет для меня оставался кумиром. Я наивно верил, очистившись от сталинской скверны, партия вернёт жизнь в нормальное русло, что никаких беззаконий впредь не допустит. И ведь на каждом шагу убеждался, что в партии честности нет, а всё верить хотелось. Вера — страшная вещь. Недаром ведь сказано было незаурядным умом: «Подвергай всё сомнению». Я этот принцип вроде и исповедовал и многое в нашей системе не принимал, осуждал, а вот глубже проанализировать всё — ума не хватило. Слишком легко дал себя убедить в том, что злодей был один, ну, не один — банда была, и что, убрав её, мы с отвратительным прошлым покончили. И антисталинизм мой на поверку оказался не слишком глубоким, Сталина ненавидя, я ещё начну оправдывать его действия, не разобравшись в событиях, на которые был богат этот год. Событий, ошеломивших меня своей неожиданностью — а ведь всё давно вызревало!
…но сначала было беспредельное возмущение. Я даже в письмах к Людмиле об этом писал. Она меня утешала: «Живут же люди, и ошибки Сталина их не волнуют». Это меня взорвало, я был вне себя. Как это у неё просто выходит: «ошибки!» Да, пожалуй, мне стоило призадуматься, какие мы разные люди. И не в том смысле, как это она понимала, не в том, что я с людьми не просто схожусь, а она с кем угодно — мгновенно, а в том, что вся идейность её напускная, что никакой идейности нет, а есть один практицизм, что ей лю́бы лишь радости жизни — и трын-трава всё остальное. Но до этого я тогда не додумался. И не главное, что в итоге она оказалась права, а я ложью коммунистической пробавлялся. Я честно, искренне заблуждался, а она откровенно лгала.
До конца путь пройти к неприятию большевизма помогла только гласность в восьмидесятых годах. Лишь тогда я впервые серьёзно о многом задумался. Со своим умом, склонным к анализу, ни свою жизнь, ни жизнь общества, я, выходит, не анализировал нисколько, и от этого наплодил столь много ошибок. Даже не по Бисмарку выходило, хуже — и на своих ошибках ничему не учился. Но и по Бисмарку, ибо каждая глупость в новом виде предо мной представала.
…Но вот что странно, проявив на курсах полное ко мне равнодушие, Людмила снова начала переписку со мной. Письма шли от неё, правда, не часто, и были они коротки — чуть длиннее зимних записок. Я же ей отвечал длинными письмами с размышлениями своими о разных вещах, меня интересовавших тогда, и всегда начинаемых и кончаемых признаниями в беспредельной любви.
…да, да, несмотря ни на что, я любил её именно беспредельно. Жизнь без неё не мыслилась у меня. Но всегда она уклонялась от какого-либо ответа, да ведь я ответа и не спрашивал никогда, я только писал о любви. Я вполне понимал, что надо, надо собрать свои силы и переписку, и отношения с ней прекратить. И не мог этого сделать. Мне казалось, я не выживу без неё. Мне было страшно. Страшно потерять её навсегда. Тогда жизни конец, нет в ней просвета…
…В мае я написал ей, не помню о чём, в мае же и ответ её получил: «…ты написал так, как будто и не собираешься приезжать в Сталинск… Приезжай!» И ещё через несколько строк: «Приезжай, Вовчик, обязательно…»
Бог знает, что я ей на это ответил, но в июне в выходной день, в воскресенье, я съездил к ней в Сталинск. Чтобы лишний раз убедиться: не очень-то она со мной встречи ждала. Объятие и ни к чему не обязывающий поцелуй на пороге, и мы тут же едем на встречу с её новыми друзьями. Друзья — молодая пара, не то муж с женой, не то любовники. Влезаем в трамвай и долго тащимся в нём через весь город и ещё долго за городом на пляж на берегу реки Кондомы, впадающей в Томь выше Сталинска…
…лежим на горячем песке, потом лезем в воду. Плаваем. Я в чёрных «семейных» трусах, но это нисколько меня не смущает, поскольку о существовании плавок я не подозреваю. Снова бросаемся на песок. Солнце жжёт, тело жаждет прохлады и влаги, и мы, натянув на невысохшие трусы и купальники брюки, рубашки и платья, идём в павильон «Пиво — воды», пьём холодное пиво. Людмила оживлённо болтает с друзьями о вещах мне неведомых, не обращая на меня никакого внимания, не предприняв и слабой попытки ввести меня в курс разговора. Я чувствую, что оказался не к месту, что положение моё унизительно, что так продолжаться дальше не может… и продолжается. Я не могу встрять в разговор: говорят о людях настолько мне неизвестных, что я понять не могу о чём, собственно, речь… Сейчас бы я инициативу перехватил, влез бы в первую паузу и навязал свой разговор. Но тогда… был несмел… и неопытен… и считал неуместным перебивать разговаривающих…
А ведь можно было просто начать расспрашивать об этих вот неизвестных, кто они, чем занимаются, что с ними произошло. Тут только начни — а потом тебя понесёт!.. В то время я этого не умел, и Людмила не пришла мне на помощь. Неужели ей нравилась роль, которую мне навязали, роль неинтересного бессловесного человека, плетущегося у них по стопам… Да, я чувствовал себя совершенно ненужным, и плёлся, как тень, как собака побитая. И всё больше мрачнел.
…и снова трамвай, «друзья» выходят в центре, а вскоре и я, безрадостный, прощаюсь с любимой… Зачем я к ней приезжал?
…Людмила сговорилась с Самородовой Зиной в отпуск отправиться в Крым. Я дал ей адрес тёти Наташи, и написал тёте письмо с просьбой принять мою «невесту» с подругой.
…в начале августа я получаю письмо: «… Ну вот, милый, я и на юг помчалась…» Далее она путано объясняла, как неожиданно её раньше срока отправили в отпуск, и что поэтому она не смогла заехать ко мне… Да, это у неё всегда хорошо получалось — не заехать ко мне. Совести не было у неё. Вот и сейчас, разве так обязательно в первый день отпуска в Крым уезжать?.. Путёвка у неё не горела. Да если бы и горела, — один день ничего не решал, если хочется встретиться с человеком. Тут никакая путёвка не станет помехой. Разве стала бы помехой она для меня? Ясно, не было у неё желания встречаться со мной. Это больно уязвило меня. Очень обидело. Ну и дрянь! Но чего не вытерпит любящий человек!
…правда, обещала заказать разговор со мной из Москвы, где она недельку погостить собиралась.
…и позвонила. Что-то у неё в столице стряслось, и она попросила выслать ей денег на главпочтамт. Сумму не указала. Я тотчас выслал семьсот рублей телеграфом, но через несколько дней получаю письмо, отправленное из Москвы в день отъезда, что денег она не получила. Перевод не дошёл.
…С этого и закрутилась у меня телеграфная карусель. Я мгновенно на почте телеграфом дослал из Москвы в Алушту отосланный ранее перевод на семьсот рублей и одновременно послал туда телеграфом ещё триста рублей.
В её письме из Алушты было всего несколько слов о том, как они наслаждались красотами Крыма, и приписка, что триста рублей она получила, а семьсот — снова нет. Пришлось мне телеграфировать ей в Москву ещё пятьсот рублей, а семьсот из Алушты отзывать назад в Междуреченск… Пятьсот рублей на сей раз она получила благополучно, а семьсот, совершив почти кругосветное, путешествие, вернулись ко мне в сентябре почти одновременно с письмом Людмилы, посланным из Москвы… В письме она писала, что по дороге из Крыма заезжала к знакомым в Тулу, откуда уезжала здорово под хмельком, и что добрые люди её обобрали.
Я тогда значения этому не придал — в жизни всяко бывает. Но пришло письмо дяди Вани, в котором он сообщал, что передал мне с Людмилой бутылку редчайшего массандровского муската… и не то, что сомнения зародил он во мне — жена Цезаря вне подозрений! — но сделалось мне как-то не по себе. Я воздержался от выводов и заключений — очень любил её и не мог допустить, что она… Сейчас я могу сформулировать то неясное ощущение, что меня охватило. Я впервые почувствовал, не отдавая ещё себе в том отчёта, что Людмила со мной неправдива. Всё время она мне лгала.
…и бутылку у неё не украли, кстати, она и не заикнулась о ней, да и не в бутылке ведь дело. И скорее со «знакомыми» в Туле она в поезде лишь познакомилась, а в Туле это знакомство продолжила, и уезжала здорово под хмельком от мне неизвестного зелья, в котором было и что-то от чудеснейшего массандровского вина.
…Освободившись от диспетчерской службы, я начал обходить разбросанные по промплощадке и в шахте стройки гидрокомплекса. Первым делом я снова отправился в шахту, не только для того чтобы ещё полюбоваться произведением человеческой глупости, уникальным творением Всесоюзной конторы, но и на месте решить, что и как нужно сделать, чтобы можно было работать. Собственно, чтó, я и так знал, теперь следовало прикинуть, где, как и в каком объёме.
…Процедура переоблачения в шахтёрскую робу не показалась на сей раз мне мучительной. Потому, возможно, что бельё и спецовка были сухими и чистыми — мама дома их выстирала, и не надо было спешить, и никакие заботы не мучили, и обстановка располагала… За тот месяц, что я просидел в диспетчерской, в итээровской мойке произошли перемены. Вместо мрачных громоздких деревянных шкафов, поперёк зала воздвигли ряды изящных металлических — на две стороны — шкафчиков, сверкавших приятной эмалевой краской цвета стали с лазурью. В каждом шкафчике три отделения. Вверху — для чистой одежды, ниже — для грязной, а в выступающей части в самом низу, на которой сидят, — отделение для сапог. Задняя стенка шкафчика — дырчатая, за ней, между обеими половинами ряда, трубы с отверстиями для подачи горячего воздуха — одежду сушить…
И сразу в зале стало светло и просторно…
И ещё, к каждому шкафчику — ключик, один ключ открывал все три свои отделения, не открывая чужие. Я с ребятами все замки перепробовал — ни один чужим ключом не открыл. Болезненная проблема была решена. Кражи, подмены сапог — бич жизни шахтёрской — были в зародыше пресечены.
…да, одежда для шахты была у меня теперь всегда чистой, сухой, и переодеваться в неё, в чистые трусы, в белоснежные кальсоны с рубахой, в лёгкую хлопчатобумажную спецовку стало удовольствием даже… Навернув на ноги выстиранные портянки, натянув на ноги резиновые сапоги, а на голову под каску берет, я — чистый, звонкий и прозрачный — иду в ламповую, где, отдав свой жетон, получаю лампу с аккумулятором и коробку самоспасателя на ремне (род противогаза без маски). Перебросив последний через плечо, я цепляю банку аккумулятора на поясном ремне за спиной. Саму лампу в гнездо на каске я почти никогда не вставляю, предпочитая вешать её у подбородка, из-за шеи перекинув кабель сюда. Когда нужно, я снимал лампу, рукой направляя луч света туда, где хотел высветить что-то, головой не вертя каждый раз. Но это когда руки свободны, а у начальника они свободны всегда, если только рабочему не возьмёшься помочь.
…с последней открытой бортовой машиной утренней смены, совершено пустой, ехавшей забрать людей ночной смены, я отправляюсь наверх на горизонт +345 метров. Сидя на скамье спиной к кабине машины и лицом к удаляющейся промплощадке, я с удивлением обнаруживаю, что в момент, когда машина, начальный подъём на гору одолев, втягивается в суживающееся ущелье, строения шахты и Лысая сопка за ними, перестав удаляться, медленно наплывают, надвигаются на меня. Точно не я и машина от них уезжаем, а они приближаются. И я не сразу понял, как такое явление объяснить. Видимо, более быстрым сужением угла зрения на всё обозреваемое пространство, чем на отдельные предметы в этом пространстве. Куда ни кинь — везде относительность!
…вверху, лихо через борт машины спрыгнув на землю и миновав устье штольни этого горизонта, я прямиком направляюсь к небольшой нашей штоленке. Устье её забетонировано метров на двадцать, дальше — крепление деревянное, неполный дверной оклад, стойка к стойке, без каких-либо промежутков. Выше штольни вверху, в десяти метрах, ходок, по которому я пробирался зимой. В штольне настланы рельсовые пути, по которым я и пошёл, переступая по шпалам. Два десятка шагов прошёл при тускнеющем свете дня, не включая своей лампы, чтобы глаза приспособились к сумеркам. Когда сумрак сгустился до темноты, я включил свой фонарь.
…лучик света выхватил впереди верхняки, стойки крепи, я опустил его вниз, осветив рельсы и шпалы. Всё было мшистым, несвежим, изнутри пахну́ло плесенью. Штольня плохо проветривалась или не проветривалась совсем, видно, были закрыты вентиляционные двери у сопряжения штольни с главным откаточным штреком. Я прошёл ещё несколько метров вперёд… и глазам моим открылась фантастическая картина феерического царства плесени и грибов. Плесень с каждой рамы свисала сверху сплошными завесами от борта до борта выработки, кружевными покрывалами, белыми гардинами с неповторимым узором на них. Я шёл вперёд, и предо мной с каждым шагом представали новые непохожие занавеси. Так изощрённо разнообразно раскрашивает узорами окна только мороз. Так непохожи бывают на нашей Земле разнообразные звери, рыбы, птицы, кораллы. Так неповторимо из ночи в ночь заливает нашу планету своим светом Луна, только тут не было света, а была абсолютная чернота, и бесконечность белых покровов. Мне жутковато даже стало немного, будто попал в заколдованное глухое забытое царство. Размахивая фонариком, я рвал сказочные узоры, пролагая дорогу, и шёл всё дальше и дальше…
…вообще-то это был с моей стороны шаг безрассудный — нельзя в заброшенные непроветриваемые выработки заходить. И если вверху, в печах, прошлый раз я был уверен, что метана там нет, хотя и за это никогда нельзя поручиться, то в отсутствии углекислого газа здесь, внизу, никакой уверенности быть не могло. Но молодость опрометчива, бесшабашна, об опасности и мысли у меня не мелькнуло — было просто интересно до крайности, и, как говорится, мне повезло…
…но по мере того, как шёл я по штольне, ошеломление сменялось другим, уже удручающим впечатлением. Впечатлением запустения, разрухи, и тлена. Только змей здесь ещё не хватало. И подумалось, что крепление сгнило, превратившись в едва связанную труху, что от кашля, чихания, крика оно тотчас и рухнет, рассыплется… Я поцарапал стальным ребром лампового зацепа замшелую стойку. Снялся тонкий грязный налёт, а под ним — твёрдая белая древесина. Слава богу, штольню не надо перекреплять, если крепь водою обмыть, побелить — всё придёт в нормальное состояние.
…Через полторы сотни метров я через сбойку вышел в ходок как раз в том самом месте, где он расширялся в бетонную камеру углесосной станции. Оборудования в них по-прежнему не было… Ну, а за камерой — пресловутые печи «Союзгидро…". Я не отказал себе в удовольствии ещё раз взглянуть на глупость, учинённую людьми в больших званиях и чинах. Посмотрел, усмехнулся и, не выдержав, плюнул: как можно таких болванов при ответственном деле держать?!
…жаль было бессмысленно растраченного труда. А ведь всё так просто решалось. Об этом я раньше сказал. А теперь прикидывал место, где устроить колодец с дробилкой над ним, и ясно видел, как вода понесёт к ним из забоев уголь в желобах по небольшим аккуратным печам, а потом по аккумулирующему штреку безо всяких человечьих и машинных усилий. При наклоне пять сотых водный поток увлекает куски угля средней крупности (до пятнадцати сантиметров), а и выплывет в штрек из печи случайная глыба и возникнет затор, — то скопившаяся выше вода так нажмёт, что и он понесётся, да и первый же проходящие мимо затора рабочий, не дожидаясь того, пнёт глыбу ногой, придав ей бóльшую скорость — и понеслось, загудело всё до самой дробилки, где любая глыба будет расколота на куски.
…План развития горных работ был несложен, он давно сложился у меня в голове, сложность в том состояла, как уломать ШСУ, израсходовавшее все деньги для горных работ, пройти нужный колодец, забетонировать стенки… Как удалось мне подвигнуть на неплановые работы начальника Ольжерасского ШСУ Соротокина? Что-то нашёл я в другом месте, что было не сделано, и что делать было не надо, съездил в институт к Мучнику, закрепившего за моим гидрокомплексом главного инженера проекта Дельтувá Альфреда Антоновича, тот согласовал все мои изменения, и Соротокин за счёт этих денег согласился под землёй всё до ума довести.
…Это мой посещение шахты закончилось тем, что я зашёл в трест на приём к главному инженеру Филиппову Антону Порфирьевичу. Филиппов — крупный рыхлый мужчина лет пятидесяти с большим розово-поросячьим лицом и белёсыми бровями над выцветшими глазами и такими же волосами, редкими на голове и густыми на руках и на пальцах, не произвёл впечатления ни умного, ни хотя бы к делу неравнодушного человека. Мой доклад о том, что к моменту пуска гидрокомплекс не будет обеспечен ни одним метром горных выработок, так как-то, что сделано, никуда не годится, он выслушал без всякого интереса. Он равнодушно смотрел мимо меня водянистыми глазами, и, казалось, ничего не улавливал.
— Но это ещё полбеды, — говорил я, — мы за два месяца сами можем нарезать все выработки и подготовить комплекс к добыче. Беда в том, что нет ни метра толстостенных цельнотянутых труб диаметром сто миллиметров. А нам для работы таких труб нужно не менее километра, и к ним тысячу фланцев и пятьсот хомутов быстроразъёмных соединений, не считая тысяч резиновых колец-уплотнений. Ничего этого ни генподрядчиком (ШСУ), ни субподрядчиком (СМУ) не заказано, так как в проекте не значится, и работать нам будет нечем.
— Ну, хорошо, — ответствовал, наконец, мне Филиппов, возвращаясь из небытия, в котором пребывал весь разговор, — я дам указание, чтобы трестовские снабженцы всё заказали. С этим я и спустился со второго этажа от Филиппова вниз к Ложкину Николаю Ивановичу. Пересказав ему разговор, я услышал от Николая Ивановича дельный совет:
— Всё это очень серьёзно. Если гидрокомплекс не заработает после пуска, с кого-то голову будут снимать. И, скорее всего, это будет твоя голова. Так что все доклады свои оформляй докладными записками в нескольких экземплярах и отправляй их официально через секретаря начальника шахты, а один экземпляр с датой и номером регистрации себе оставляй. То же самое делай и со всеми заявками, письмами. Это будет твоя защита. Я знаю этих людей — от любых слов отрекутся, а бумага со штампом, датой, номером, подписью — документ.
Мы ещё о чём-то поговорили, потом Ложкин сказал:
— Сейчас я иду на отстойники гидрокомплекса, там строители начинают арматуру под днище вязать, если хочешь, пойдём вместе со мною.
Я с радостью за ним увязался. Мы вышли из треста на улицу и вместе с улицей повернули к тоннелю под полотном железной дороги — отнюдь не триумфальному въезду в наш город. Проезжавшие по дороге грузовики обдавали нас пылью, и наши белые рубашки быстро поменяли свой нарядный цвет на затрапезный мышиный, да и чёрные брюки приобрели сероватый оттенок. Перед тоннелем от шоссе вправо ответвилась дорога, плавно вползла вместе с нами на насыпь и вывела нас на мост, стальной красной конструкцией перекинувшийся через У-су. Мы шли по дощатому тротуару моста вдоль железной решётки, ограждающей его от реки, изредка перегибаясь через ограду и вглядываясь в неправдоподобно прозрачную воду: не то что галька — каждая песчинка виделась отчётливо на дне, чуть подрагивая в свивающихся струях реки. В воде сверкали чешуйчатым серебром крупные хариусы, изломанной стайкой пересекая реку, а их тени стремительными зигзагами метались по дну в глубине, освещённой дневным ярким солнцем. А глубина была здесь немалая — до четырёх метров в эту пору низкой воды.
…накалённые фермы моста обдавали нас пышущим жаром — невыносимо пекло. И глядя на очевидно прохладную воду, я испытал вожделение, и оно тотчас и проявилось в мысли мной высказанной вслух:
— Вот бы вниз сейчас бултыхнуться! Ух!
— Выскочишь, как ошпаренный, — усмехнулся на это Ложкин, — вода ещё ледяная. А у меня, между прочим, — добавил он, невесело усмехаясь, — навсегда неприязнь ко всему ледяному. Люблю тёплое солнышко.
— Это после того? — спросил я с робким намёком на то, что мне известно о его судьбе зэка.
— Да. Там с нами не церемонились, но самым страшным для меня были зимние дни в нетопленой камере без одежды, в белье. Мерзавцы стёкла в окошке выбили, чтобы было ещё холодней. Всю ночь по камере бегаешь, чтоб не замёрзнуть.
— Вас до войны ещё взяли?
— Да. В тридцать восьмом. И если я выжил и дожил до сего дня, то виной тому моя строительная профессия. Она жизнь мне спасла: строили много. Поперву, не разбираясь, всех в гроб клали подряд, потом спохватились, стали делать это, как бы сказать… выборочно. Кое-кому работу давали по специальности. Вот так я и выжил, а остальные почти все в земле.
Из деликатности, боясь причинить нечаянным словом боль этому человеку, я не стал допытываться подробностей. А он не продолжил. Ничего больше о его злоключениях я так и не узнал и очень жалею об этом.
…Пройдя мимо шахтного АБК к обогатительной фабрике, мы остановились у котлована размером сорок метров на тридцать, не считая заездов. На усыпанном щебнем ровном дне котлована из такого же щебня были насыпаны пять подушек под основания секций отстойников, пять усечённых низеньких пирамид, напоминавших надгробья в метр высотой, длиной в двадцать метров и шириной чуть больше пяти.
Поздоровавшись с рабочими, возившимися на дне котлована, мы сверху наблюдали за тем, чем они занимались.
…два крайних «надгробия» были покрыты чёрными полосами рубероида, проклеенного битумной мастикой — изоляцией от воды. На них электросварщики варили объёмную сетку их стальных рифлёных прутков. В углублениях вне подушек и между подушками рабочие вязали каркасы фундаментов стен здания и секций отстойников.
Николай Иванович указал мне на каркас и на сетку:
— Видишь под нижними прутьями деревянные чурочки.
— Да.
— Это для того, чтобы и рубероид при сварке не сжечь, и, главное, чтобы под арматурой лёг защитный слой бетона. Кстати, — сказал он, — когда начнут бетонировать, не забудь проследить, чтобы после того, как бетон под арматуру зальют, чурочки вынули, и пустоты тоже бетоном заполнили.
Между тем Николай Иванович продолжал:
— И договоримся. Я буду подписывать форму два о выполненных работах только после твоей подписи — подтверждения, что скрытые работы выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиПами).
Я поблагодарил Ложкина. К этому его никто не обязывал, а у меня появлялся реальный рычаг воздействия на строителей. Не подпишу я — не подпишет и Ложкин, и банк денег за выполненные работы не даст.
…в то время как на первых двух основаниях вязали и варили каркас арматуры, на трёх остальных ещё только раскатывали рубероидные рулоны. Они уже стояли по трём сторонам перед каждым «надгробием», каждый последующий позади предыдущего со сдвигом в сторону почти на всю ширину, так что при раскатке последующий перекрывал его всего на несколько сантиметров. Перед раскаткой щебёнку залили расплавленной битумной мастикой, затем начали раскатывать крайний рулон вдоль длинной стороны насыпи, затем второй, третий… Раскатанные полосы рубероида ложились внахлёстку и покрыли целиком всю поверхность. Эту поверхность вновь залили сплошь битумом и на ней раскатали рулоны поперёк продольных полос, вдоль короткой стороны «могильного камня». Их тоже залили мастикой и накрыли опять вдоль длинной стороны днища секции. Три слоя рубероида на битумной мастике были уложены быстро и аккуратно, что свидетельствовало о сноровке рабочих. Впрочем, о чём тут говорить? Половина крыш в Советском Союзе была устроена именно так, только без этой тщательности, да и не всегда в три положенных слоя, один из них, а то и все два иногда исчезали «экономии ради», — хотя в форме два, по забывчивости, очевидно, писали всегда ровно три. И по этой забывчивости три четверти крыш в Советском Союзе безнадёжно текли. И никто не мог понять: почему?!
…Памятуя наставления Ложкина о постоянном контроле, я пошёл к Плешакову и сумел его убедить в том, что мне предстоит серьёзная переписка, так как работы на всех объектах разворачиваются во всю, а в проектах полно несуразностей; строители тоже допустили ряд грубых ошибок, и всё это надо, пока есть время, устранять, согласовывая изменения в проектах и на стройках с институтом ВНИИГидроуголь. Ведь государственным планом сдача гидрокомп-лекса в эксплуатацию предусматривалась в этом году.
— Если всё это свалить на вашу секретаршу, — говорил я ему полушутя, — то ей больше ни на что времени не останется, только мои бумаги печатать и будет.
Словом, выбил я у Плешакова пишущую машинку, притащил её в кабинет, который Плешаков выделил мне в левом крыле первого этажа АБК, и застучал по ней сперва одним пальцем, а потом и двумя, оживляя навыки, приобретённые в бытность мою в КГИ заместителем редактора институтской газеты. Итак, я получил в своё распоряжение кабинет с телефоном, пишущую машинку и право, минуя Плешакова, вести всю переписку по гидрокомплексу на официальных бланках шахты за своей подписью. Так я стал полноценным «директором» строящегося предприятия.
…не теряя попусту времени, я отстучал в трёх экземплярах заявки на трубы, фланцы, хомуты, уплотнения и желоба в отделы снабжения шахты и треста, сочинил докладную об отсутствии всего упомянутого в заявках ОШСУ и СМУ главному инженеру треста Филиппову. Первую заявку я сам отнёс в отдел снабжения шахты, вторую же, как и докладную записку отправил в трест через канцелярию, получив в свои руки копии с указанием всех атрибутов регистрации и подписью юной девы, исполнявшей обязанности секретарши.
…да, по одному экземпляру заявок и писем пошло адресатам, одни копии были подшиты в папку исходящих шахтных бумаг в канцелярии, другие — легли в мою белую папочку с белой тесёмкой, которую я неотлучно держал при себе, начав ограждать себя документами от возможных опасностей.
Предусмотрительность не помешает.
…Прошёл месяц, другой, шахтостроители везде вроде бы шевелились, но их стало как-то значительно меньше. После бурного весеннего всплеска работ к середине лета обозначился спад. Дела шли ни шатко, ни валко, сроки затягивались, месячные планы не выполнялись. Это меня обеспокоило, и я отослал письма в Ольжерасское ШСУ, трест «Томусашахтострой» в Мысках, комбинат «Кузбассшахтострой» в Прокопьевске, в наш трест и в обком партии в Кемерово. Нечего и говорить, что ответа я ни от кого не получил, а, главное — мои письма на темп работ нисколько не повлияли.
…а, между прочим, тезис о строительстве гидрокомплексов и об их в воде в работу до конца этого года был записан отдельной строкой в Законе о Пятилетнем плане, утверждённом Двадцатым съездом КПСС.
И поэтому я полагал, что все на уши должны стать, из кожи вылезти, но гидрокомплекс достроить до первого января. Со школьной скамьи мною было заучено, что пятилетний план — это закон, да он законом и назывался. И он не может быть не выполнен никогда. Он может быть выполнен в срок или досрочно, он может быть перевыполнен, хотя это последнее я плохо себе представлял в отношении гидрокомплекса — зачем мне, к примеру, две угленосных или шесть секций отстойников вместо необходимых для работы пяти.
…тем не менее, простейшая арифметика мне показывала, что при нынешних темпах шахтостроители до января и половины работ не успеют сделать. И я снова принялся бомбардировать письмами все инстанции — в результате работы ещё сильнее замедлились. Так я впервые столкнулся с великой фальшью, что звалась у нас пятилетними планами.
…А жизнь шла своей чередой. Жил я с мамой по-прежнему в квартире вместе с Петровыми, ни с кем не сошёлся, никаких друзей и приятелей не завёл. Тоненькая ниточка взаимной приязни с Юришем оборвалась. Сначала я закрутился с работой и курсами и к Юришу перестал заходить, а по весне Володю избрали первым секретарём Междуреченского горкома комсомола — и уже он утонул в комсомольских делах. В довершение Володя женился на миловидной девчушечке, и появились у него новые интересы.
…В июле, по окончании КГИ в Междуреченск приехали шахтостроители Тростенцов и Китунин и в первый же день навестили меня. Григория Тростенцова я не знал, с Мишей Китуниными был немного знаком. Познакомился с ним в счастливые дни своей «медовой недели» в конце пятьдесят четвёртого года — он захаживал в ту же комнату, что и я, у него был роман с Юлей Садовской, неизменной подруги Людмилы с первого курса. Миша и Гриша были года на три постарше меня, учились курсом младше меня.
Гриша Тростенцов был женат. Отец его, оказалось, был у нас в институте профессором, чего я не знал, он читал лекции шахтостроителям, а до этого был главным инженером комбината «Кузбассшахтострой». Позже я узнал из отрывочных фраз, услышанных мною, что выросший в семье хорошо обеспеченной, он в юности ступил на кривую дорожку. Украл с дружками сладости из ларька, и лишился свободы. Выйдя на волю, он урок из случившегося извлёк. В сущности, он всегда был порядочным человеком, так, бес попутал.
Миша, наоборот, был из самой простецкой бедной семьи. Всю войну, с двенадцати лет, проработал за станком на военном заводе. «Работали, как и взрослые по двенадцать часов, — рассказывал он, — Стоя у станка, мальчишки, бывало, не выдержав, засыпали, падали лицом на резец или на вращавшийся шпиндель. Правда, меры приняли быстро. Стали привязывать. Засыпает мальчонка, но верёвки держат его, упасть не дают. Перестали ребята уродоваться»
…И эти такие несхожие люди сдружились. Что их объединяло — трудно сказать. Добросовестность, дотошность в делах, трудолюбие. И вот они у меня. Они побывали в Томском шахтостроительном управлении, которое строило город, дороги, разрезы (карьеры), и куда они получили направление на работу, а потом решили ко мне заглянуть. Мама захлопотала, мы отметили встречу, а потом, узнав, что они собираются ночевать на столах в управлении, никуда их от себя не отпустили, и дней семь они прожили у нас.
…на пол брошены два лишних матраса. Подушки, одеяла и простыни тоже нашлись.
…по утрам мама жарила нам картошку с котлетами или разогревала на большой сковороде узбекский консервированный плов. Удивительно вкусный плов появился в изобилии в магазине, и мы отдавали ему должное. Удлинённые зёрнышки риса — я до этого таких никогда и не видел, подкрашенные морковью и до прозрач-ности насыщенные бараньим жиром вместе с нежнейшей бараниной таяли блаженно во рту. Перекусив, выпив чаю, мы разбегались на день, я — на шахту, они — в своё ШСУ.
…Вскоре после того, как Миша с Гришей получили комнату в общежитии, приехал ко мне Людвиг Потапов, пришёл Юриш Володя, сошлись все наши ребята. Собирались на встречу, а вышло на проводы. Юриш не удержался на высоком комсомольском посту — честному человеку вообще трудно там удержаться — и уезжал с молодою женой с мостопоездом вглубь тайги в сторону Абакана. Было грустно. Мы гурьбой вышли во двор, провожая его, и, когда он скрывался за углом нашего дома, Людвиг крикнул вдогонку ему на прощанье: «Но ты пиши! Обязательно пиши!»
Я понял так, что «письма пиши!» и тоже крикнул:
— Пиши обязательно! — имея только письма в виду, и лишь после этого сообразил, что Людвиг кричал о другом, о стихах. И мне стало страшно неловко от своей несообразной нечуткости, что я о творчестве Володином позабыл, хотя внешне слова мои не отличались от Людвиговых. Я стыдился того, что не те интонации меня могли выдать. И приземлённость моих пожеланий могла видна стать всем. Мне и до сих пор как-то совестно эгоистичности этой своей — о себе только думал. Хотя, конечно, никто ничего не заметил.
…но эти краткие эпизоды, не избавляли от одиночества. Днём меня занимала работа, по вечерам… А были ли вечера? Кажется, были… Мамы нет дома. В комнате у меня неизвестно откуда взявшаяся гибкая раскованная девица, весьма миловидная. Мы стоим, обнявшись, тесно прижимаясь телами друг к другу. Кровь моя взбудоражена жаркими поцелуями, я охвачен желанием неудержи-мым, я не могу больше вынести поста, в котором годы держу себя сам по незримой воле Людмилы. Я переламываю девицу, ломлю её на матрас. Вот оно, вот то, от чего уклоняется непрестанно Людмила… Но девица выскальзывает из-под меня, страстно шепча:
— Сейчас, сейчас, пойдём лучше ко мне. Хорошо?
— Хорошо, — я отрываюсь от неё разгорячённый и обалдевший, и она убегает к себе на пятый этаж. Она живёт в одном со мною подъезде.
Я порываюсь идти вслед за ней, но передышка охладила меня, в дело вступает разум, всплывают страхи о возможных последствиях… и я остаюсь на площадке, не бегу по лестнице вверх. Трус я несчастный! Об этом я уже говорил.
…откуда взялась эта девица и куда она потом запропала? Раньше я, вроде, её не встречал, а после точно ни разу не видел. Может, она приснилась мне наяву? Однако мама мне говорила, что она справлялась несколько раз обо мне, спрашивала, где я, куда подевался?.. Прямо чертовщина какая-то… А пропадал я на шахте, на курсах.
…Спокойная тихая жизнь в петровской квартире с приездом мамы разладилась. Начались обычные квартирные склоки. Юридически мы в квартире с Петровыми были равными, но они повели себя как хозяева, у которых мы квартиранты. Причём, как прижимистые хозяева и крохоборы. Накидывались на маму по любому никчемному поводу: то много жжёт электричества в кухне и туалете — как бы рубль лишний не переплатить! — То кастрюля не там стоит на плите, то пол не так вымыт. Придирались к маме супруги и без повода, а поскольку их было двое против одной, то она немало от них натерпелась, хотя и умела давать отпор. Впрочем, она вскоре устроилась на работу кассиром в швейную мастерскую промысловой артели «Правда», где её — вечная участь — избрали не освобождённым парторгом артели. Время для скандалов Петровы теперь находили с трудом. Но обстановка была накалённой до такого предела, что побудила меня усилить хлопоты для получения отдельной квартиры.
Квартиру мне обещали и раньше, я вновь Плешакову напомнил об этом, и он заверил меня, что выделит мне её в первом же законченном доме… Однако в августе, когда дом был готов, и я пошёл к Плешакову справиться относительно ордера на квартиру, он мне сказал, что свободных квартир в этом доме у него уже нет, и мне придётся подождать до сдачи нового дома. Я ответил, что ждать не могу, и развернулся, едва не хлопнув дверью в сердцах, но в последний момент благоразумно сдержался — хлопаньем дверей никому ничего не докажешь, только выкажешь слабость свою. Но необязательность Плешакова меня возмутила до крайности, никогда обмана я не терпел. От Плешакова я направился в трест и в приёмной управляющего Евсеева сгоряча написал заявление, не озаботившись, что из этого выйдет. А могло выйти и плохо, нехорошо для меня могло выйти. Всё же надежда была, что против моего назначения комбинатом управляющий не пойдёт. Посему заявление вышло такое:
В связи с невозможностью предоставить мне квартиру прошу откомандировать меня в распоряжение комбината «Кузбассуголь».
То есть пошёл я ва-банк. Могли бы и вышвырнуть, как зарвавшегося щенка. Но не вышвырнули. Не решились. На следующее утро меня вызвали к заместителю начальника шахты по быту и выдали ордер на квартиру номер девяносто три в доме семь, построенном покоем, с фасадом на главный проспект, не имевший названия.
Квартира оказалась однокомнатной. Это не оправдало надежд, думалось, что двухкомнатную дадут — я даже не знал, что однокомнатные квартиры бывают. Но комната была большой, к тому же и с нишей, невидной от порога двери, в которой свободно уместилась мамина кровать, и которую можно было завесить пологом. Ну а всё остальное было, как в нормальной квартире: маленькая прихожая, коридор в кухню с разделочным столом и встроенным под ним шкафчиком-холодильником у наружной стены (поступление холода через отверстие в стене регулировалось тряпкой-затычкой). Из коридорчика — двери в ванную и туалет. Отопление в доме центральное, в кухне плита, топящаяся дровами или углём. Во дворе, повторяя очертания дома, стояли внушительные деревянные ящики с наклонными крышками, с дужками для висячих замков и с номерами квартир. Это были ящики-сундуки, для хранения дров и угля.
Так, я ещё раз с помощью треста, а точнее Евсеева, победил Плешакова — были на руках ещё козыри — но слишком после этого успокоился. Казалось, все преграды преодолены, и больше никаких препятствий не будет. Плешаков же поражений своих не забудет, за моей спиной сплетёт умно интригу, так что я пустить козыри в ход не смогу, и возьмёт реванш за всё сразу. Но до этого пока далеко.
…В моём доме получил двухкомнатную квартиру от ТШСУ и Тростенцов, как человек семейный, женатый. И жена к нему сразу приехала. Мише пришлось подождать — их отношения с Юлей ещё не были оформлены официально.
Вскоре Миша женился и ждал Юлю с мамой.
…Оба они, и Гриша, и Миша, были назначены прорабами на строившийся гигантский разрез №3—4, и работали рьяно, без передышки. Все вечера — а я к ним частенько заглядывал — я заставал их лежащими на полу на расстеленных синьках в Гришиной комнате, изучающих по чертежам всё, что предстояло им строить. Иногда я у Тростенцовых задерживался допоздна, когда работа над синьками прекращалась, и тогда они оставляли меня ужинать с ними. Ужин был однообразным и бедным. Жена Гриши, миловидная Рая, ставила на стол тарелки с варёной картошкой, селёдку с луком, политую подсолнечным маслом, хлеб, чай. Скудость их ужина нас с мамой всегда удивляла. Рая работала инженером в управлении, и вместе они зарабатывали должно быть больше, чем мы. Мама получала в артели семьсот рублей, мой оклад был установлен по минимуму, чуть больше двух тысяч двухсот — мой гидрокомплекс пока угля не давал.
…возможно, скромность в расходах была проявлением рачительности, благоразумия, заботы о завтрашнем дне. Я жил одним днём, нимало не заботясь о будущем. И когда фортуна лишила меня своей благосклонности, я сразу же на мели оказался, не имея ничего за душой, кроме знаний и опыта, не бог весть какого.
…Чуть позже Китунин и Тростенцов стали позволять себе расслабляться. Собирались перекинуться в карты. Играли в «кинга», в так называемый малый преферанс, на интерес — ставка за очко по копейке. Третьим партнёром непременно был я — меня быстро обучили этой занятной игре, требующей наблюдательности, памяти, сообразительности, ну и везенья, конечно. Четвёртым партнёром бывали то Рая, то Виктор Бочкарёв, шахтостроитель, молодой холостой сокурсник Миши и Гриши, работавший в том же управлении мастером и получивший нашем доме однокомнатную квартиру вроде моей, только чуть меньше — без ниши.
Чаще всего собирались у Тростенцовых, но нередко и у меня, в моей холостяцкой квартире. Игра меня увлекала, входил я в азарт и испытывал настоящий восторг, когда за вечер мне удавалось выиграть два-три рубля.
…из всей этой компании только розовощёкий Виктор был мне ровесник, и такой же, как и я, холостяк. Мы и сошлись быстро с ним, хотя никаких общих интересов у нас с ним не было, объединил нас, по-моему, магнитофон.
Мне давно хотелось обзавестись этой редкой новинкой, и деньги небольшие я для этого я отложил, да купить его было негде. Не продавались они магазинах. Даже в Москве.
Витька тоже бредил магнитофоном, но в отличие от меня рискнул на эксперимент, предпринял попытку обзавестись хотя б суррогатом, купил магнитофонную приставку к электрическому проигрывателю пластинок. Вот с этой приставкой мы и возились, записывая свои речи и слушая записи. Давалось это непросто, как и проигрывание пластинок на злопамятном патефоне в общежитии КГИ. Лента, как правило, не шла равномерно, записанный звук, «плавал», и нам приходилось брать в руки ключи и отвёртки и, откручивая бесконечное множество гаек, винтов, вскрывать это чудо советской технической мысли, усиливать натяжение тросиков, снова собирать механизм в единое целое и… снова слышать унылое завывание. Надо было начинать всё сначала. Это доводило до бешенства. Хотелось грохнуть подлую приставку о пол. Но мы смиряли себя и снова, и снова раскручивали, закручивали, разбирали и собирали.
Изредка всё же нам удавалось на короткое время привести её в чувство, она давала хорошую запись, и тогда мы с удовольствием и удивлением вслушивались в свои голоса. Я неожиданно для себя обнаружил, что голос мой и весóм, и внушителен, чего я и представить не мог, мне всегда казался он слабым, невыразительным. Открытие это меня очень обрадовало. Впрочем, на жизни моей оно в то время никак не сказалось. Реально эти качества голоса я использовал четверть века спустя, когда стал выступать с публичными лекциями. До этого в хоре других голосов он был неслышен.
Тесная дружба моя с Бочкарёвым оборвалась внезапно. Ближе к осени в недостроенном доме по другую сторону улицы случился пожар. Кое-где выгорели полы, дверные рамы, оконные переплёты, дом стоял закопчённый, заброшенный, беспризорный. С ним и связался конец нашей дружбы.
…вдруг среди общих знакомых разнёсся слух, что Виктор арестован милицией за… изнасилование непорочной девицы. С девицей этой, по имени Валентина, совершеннолетней вполне — ей было лет двадцать — Виктор завернул в заброшенный дом, на четвёртом этаже нашёл подходящее место с настилом пола, уцелевшего при пожаре, и совершил с ней на этом полу то, что рано иль поздно совершает каждый мужчина с приглянувшейся женщиной, а, бывает, и с вовсе не приглянувшейся. По глубокому моему убеждению, совершил он сей акт по взаимному с ней уговору, а если и не было первоначального соглашения, то, безусловно, на вполне добровольных началах — иначе на кой чёрт она с ним тащилась на четвёртый этаж обгоревшего здания?..
…Виктору на беду девушка Валентина оказалась нетронутой целкой и, получив желанное наслаждение, она не захотела останавливаться на этом и раненько утром побежала в милицию с заявлением, что Виктор её изнасиловал. После этого Виктора и загребли. Поначалу он всё отрицал, но следы сажи на его брюках и на ягодицах Валентины послужили достаточным основанием, чтоб слова его подвергнуть сомнению, и завести на него уголовное дело. Медицинская экспертиза подтвердила свежесть разрыва девственной плевы, а подружка девицы поспешила дать показания, что своими собственными глазами видела, как оба входили в мерзопакостный дом. Умиляет меня, почему следователь не уточнил: на верёвке Виктор вёл Валентину или это иначе было? Наивным человеком был следователь. Но за непрофессиональный подход к делу с него никто не спросил, а для Виктора дело запахло палёным — следователь передал дело в суд.
…Или судьбу решил Виктор не искушать, или на суд наш гуманный не очень надеялся, — через неделю мы гуляли на свадьбе у молодых. Само собой, заявление было отозвано.
Женитьбу Виктора я расценил как попытку скандал потушить, как способ суда избежать. А со временем можно и развестись, благо после сталинской смерти это стало не так и сложно, драконовские законы после этой всенародной утраты как-то вскоре и отменились.
…однако месяцы шли, о разводе Виктор не заикался, а на следующий год Валентина забеременела и в положенный срок родила Витьке дитя. Семейная Витькина жизнь закрепилась прочно и окончательно. А я перестал в людях что-либо понимать. Я бы не смог жить с женщиной, принудившей меня к женитьбе, писавшей заявления на меня…
Какое-то время я забегал к ним по старой привычке. Валентина, девица обыкновенная, непримечательная ничем, меня привечала как лучшего друга, но семья есть семья, у неё появляются собственные особенные заботы, и с рождением у них малыша мои набеги сами собой прекратились.
…встречались мы ещё с Виктором у Тростенцовых за картёжной игрой, но и игра закончилась через год — не до того стало всем.
…Бочкарёв ввёл ко мне Гошу Дёмина, ещё одного шахтостроителя этого выпуска. Его направили к нам на шахту, и Плешаков принял его мастером на ремонтно-восстановительный участок. С Дёминым у нас обнаружилось некое сродство душ, общность неясных стремлений к чему-то более осмысленному, чем та жизнь, которую мы поневоле вели. Люди мы с ним были разные совершенно, но обоих отличало пренебреженье к обыденности, стремленье к делам большим, светлым, разумным. Оба мы подмечали несуразности нашей социалистической жизни и болезненно переживали отступление от идеалов свободы, равенства, братства.
…расхаживая по моей комнате, Гоша, высокий, как я, сухопарый, слегка сутулившийся, в ответ на очередной мой рассказ о бюрократических выкрутасах, чеканил слова:
— Эпоха Победы Труда началась с недоразумения — с Господства Бумажных Отношений.
Всё с большой буквы, не иначе. Это было, конечно, наивно. Эта эпоха, по хорошему-то, должна была называться Эпохой Закабаления Труда, и началась она со Лжи и Коварства, с Крови и Преступлений, но всё же это были хотя бы и робкие наши попытки осмыслить систему, внутри которой мы жили, понять, почему всё в жизни не так, как написано в решениях съездов и в лозунгах, не так как у «классиков» предначертано. О большой утопии мы ещё не догадывались, как не задумывались и о том, что «вожди» на красивой утопии строят власть свою и свою сладкую жизнь.
…мы о многом беседовали, многое обсуждали, чаще сходясь в своих мнениях, но и расходясь иногда. Спорили.
— Ты, Володька, барин, — не то утверждал, не то упрекал он меня в ответ на мои рассуждения, что квалифицированный специалист должен быть освобождён от рутинной работы, от мелочных повседневных забот о быте своём, что человеку вообще нужен хотя бы минимальный комфорт. А может быть, барством казалось ему моё всегдашнее тяготение к упорядоченности, стремление к достижению наибольшего, наилучшего результата при наименьшем приложении сил. А я только следовал законам природы — закону наименьшего действия.
Гоша увлекался Древней Грецией, эллинами:
— Молодой был народ, жизнеутверждающий, бодрый. Они и религию себе придумали лёгкую, человеческую и с богами своими запросто обращались. Духом молодой был народ, — говорил он, как всегда расхаживая по комнате и направляясь к окну.
— А мы, — он повернулся, стёкла очков блеснули, — мы влачим жалкие дни свои, тошные мертвящие грузом скуки, не умея, да и не желая скрасить их хоть каким-либо смыслом. Да, да, мы и желать-то, и радоваться, как следует, не умеем. Чувства в нас мелкие, слабые, тлеющие едва, не в силах вдохнуть в нас полное ощущение жизни. Да и мысль чётко выразить нам не дано, — сокрушённо, но уже и не соотносясь со сказанным ранее, продолжал он.
Я с ним в этом не соглашался, хотя сказанное о греках полностью разделял. К моей страсти к художественной литературе, публицистике, критике, философии и истории не без влияния Гоши добавилось увлечение мифологией. Это им подаренная книга Куна «Легенды и мифы Древней Греции» лет за пять до конца второго тысячелетия перекочевала с полки моей книжной стенки в Санкт-Петербург, где, надеяться хочется, её прочтут со временем мои внуки, если к тому времени не убьёт окончательно книгу ящик с телеэкраном, с умыслом умерщвляющий в людях способность к своему индивидуальному поведению, к собственному независимому мышлению. Это постоянное вбивание в головы штампов, готовых клишé — чем не тот же тоталитаризм, чем не Ленин, Сталин и Гитлер, взятые вместе. А ведь каким мог он стать подспорьем в нравственном, духовном, эстетическом развитии нации?! Но не стал. Находясь в грязных руках, жаждущих лишь денег и власти, он работает на потребу толпы, хамского плебса, ещё более развращая его, оглупляя, возбуждая самые низменные, агрессивные и дикие чувства: мордобой и убийства, ставшие нормой человеческих отношений в нескончаемых телефильмах, эти побоища на стадионах, буйства на дискотеках, обожествление низкопробных кумиров, половой акт напоказ — не тому ли яркое подтверждение.
…Общение моё с Гошей продолжалось недолго. Работа мастера по ремонту и креплению выработок, однообразная и рутинная, не требующая никаких знаний и никакого ума, пришлась Гоше не по душе. И он с шахты уехал. Познакомившись в пятьдесят шестом году, мы летом пятьдесят седьмого с ним и расстались. Он метался в поисках приложения сил, и осел было на Южном Урале, пытаясь применить их в сельском хозяйстве. Но и там он себя не нашёл.
…Жаркое длинное лето пятьдесят шестого катилось к концу. Отстойники медленно вылезали из-под земли, и у меня начинались схватки с рабочими. Я обнаруживал не вынутые чурочки под арматурой в секции, куда начал заливаться бетон, и требовал вытащить их, а пустоты бетоном залить, что они делали с неохотой, или замечал, что бетон утрамбован неплотно, настаивал, чтобы в него вновь запустили вибраторы — и оседающая смесь цементного раствора со щебёнкой наглядно показывала, что я прав в настойчивости своей.
Иногда к моим обходам строящихся объектов присоединялся и Ложкин. И каждый раз Николай Иванович преподавал мне уроки профессионализма. Заметив, что после перерыва бетон в опалубку стенок бассейна начали заливать прямо по старому слою, уложенному накануне и схватившемуся уже, он предупредил: в этом месте неизбежно будет течь. Старый слой надо обеспыливать, а образовавшуюся гладкую цементную стяжку разбивать отбойным молотком, иначе свежий бетон со старым не схватится. После этого я всегда старался попасть к началу укладки бетона, где всегда повторялась одна и та же картина: привезённый бетон рабочие лопатами грузили в бадейку, стрелой поднимали её наверх и норовили быстренько опрокинуть в пространство между досок опалубки. И в этот момент я останавливал их — поверхность вчерашней заливки не была, разумеется, обработана. Начиналась беззлобная ругань с бригадиром, с бетонщиками. Они кричали, что это пустые придирки, я отвечал, что не подпишу форму два. Это их урезонивало. Чертыхаясь, они тащили шланг от компрессора, сдували пыль, щепу, потом подсоединяли молоток к этому шлангу, и, запустив его между клетками арматуры, ковыряли, дробили поверхность.
…а в общем-то мы со строителями жили мирно — не считать же всерьёз подобные перебранки. К концу месяца, когда приближалась пора подписания документов, они всегда перед нами ходили на цыпочках.
…во время моего обучения в Сталинске, на шахте сменили главного инженера. Старый — добрый и бесхарактерный — куда-то исчез, вероятно, был отправлен на пенсию, и уехал в места, более обустроенные. Новый — Крылов Владимир Фёдорович — был молод, крупен и крут. До Междуреченска он работал заместителем главного инженера в Прокопьевске на шахте имени Сталина, когда-то первой по суточной добыче, а теперь второй (после нас) шахте Союза. Человек по натуре властный и беспощадный он имел поддержку в Министерстве в Москве — отец его там Главком руководил — и возможно поэтому он не сдерживал себя никогда, самодурствовал даже, пожалуй. Весь надзор перед ним трепетал, кроме меня — и не потому, что я храбрый такой. Просто дела я с ним пока не имел, не ходил на планёрки, я ведь угля не давал, министром был без портфеля, генералом без армии.
Не помню, при каких обстоятельствах я ему представился. Видимо, ничего особого не было. К моей должности он относился несколько иронически, тем не менее, когда я в общих чертах познакомил его с проектом и с предлагаемыми мной изменениями, он все их одобрил. К чести его, он всё схватывал на лету, и дельное одобрял, в этом ему не откажешь. Когда к нам на шахту приехали оба министра: угольной промышленности — Засядько и строительства предприятий угольной промышленности — Мельников и захотели познакомиться с гидро-комплексом, они со свитой, в которой были и Соротокин, и Плешаков, пришли на отстойники, Крылов давал общие пояснения. По частным вопросам министрам отвечал я, они сами ко мне обращались — я был им представлен Крыловым. Ну, я и говорил, что к чему.
…уходя, министры попрощались с рабочими, а мне оба пожали руку с пожеланиями успеха. Тут же ко мне подошёл Плешаков и за спинами их мне прошептал: «Ты теперь эту руку не мой до следую-щего рукоприкладства с министрами». Я рассмеялся. Его пожелание мне понравилось. Я такое услышал впервые и лишь много позже узнал, что это весьма старая шутка, что слова эти — штамп довольно расхожий.
…конечно, я не послушался Плешакова, и руки перед ужином вымыл. Кто знает, пожалуй, и зря.
После этого высочайшего посещения дела на всех наших стройках начали стремительно замирать. При каждом обходе я замечал, рабочих на каждом объекте с каждым днём становилось всё меньше, да и те работы, что исполнялись, велись спустя рукава. Срок сдачи — тридцать первого декабря — срывался у меня на глазах. Как-то, будучи в кабинете у Соротокина, слушая его бодрый телефонный отчёт тресту о выполнении плана за сутки, я спросил его прямо в упор:
— Почему вы, строители, и субподрядчики ваши, монтажники, ежедневно докладываете в трест об успешном выполнении плана, и только в самый последний день месяца оказывается, что месячный план успешно завален?
— А ты что, — отвечал Соротокин, — хочешь, чтобы я каждый день свою голову подставлял, чтобы меня ежедневно долбали (он употребил более ёмкое слово) за невыполнение плана?.. Этак мне нервов ненáдолго хватит. А так я спокойно весь месяц живу, никто меня не ругает, а один-то раз в месяц, в конце, выволочку можно и потерпеть…
…Я, безусловно, не сидел, сложа руки, писал письма и слал телеграммы, куда только можно, но все были немы, словно воды в рот набрали — реакции никакой!
…в сентябре отдел снабжения шахты начал принимать от участков и цехов заявки на материалы и оборудование на пятьдесят седьмой год, и я такую заявку подал. Одновременно я отправил очередное письмо Филиппову в трест с перечнем всего того, в чём будет нуждаться мой гидрокомплекс в следующем году (надежда на пятьдесят шестой уже умерла).
…папка моя пухла.
…Итак, лето кончилось, Людмила вернулась из отпуска, но ко мне не заехала. Я же, хотя и бывал в Сталинске у Мучника и у Дельтува, к ней тоже ни разу не заявился. Понимал — нечего делать.
…А осень стояла дивная, ясная, в жарком убранстве полыхающих красок.
…И вдруг в ясном социалистическом небе блеснула неожиданно молния, и раскаты грома загрохотали. Два события совпали по времени, но резонанс во мне вызвали разный.
Англо-франко-израильский захват Суэцкого канала в ответ на национализацию его независимым президентом Египта Насером, свергшего проанглийского короля Фаруха, отозвался эхом, затронув-шим струны души коммуниста-интернационалиста; я, прослушав заяв-ление Никиты Хрущёва о готовности послать добровольцев в Египет, тут же отправил заявление в военкомат о готовности поехать в качес-тве добровольца на защиту Египта. Но всё же событие это было от нас далеко, вне интересов, казалось мне, нашего государства. Хотя интерес всё-таки был — область влияния наших идей расширялась, — очередное распространённое заблуждение. Но о заблуждении я тогда не догадывался, а возросшая мощь нашей страны была воспринята с гордостью: угрозы Хрущёва вмешаться заставили троицу уступить (не потому ли, что США к конфликту проявили полное равнодушие).
А вот второе событие — восстание в Венгрии, неожиданное и дикое (на тогдашний мой взгляд), зацепило трагически глубоко. Благостный мир рушился. Вот и в Польше что-то зашевелилось, прав-да, не так, не кроваво, как в Венгрии. Недоумение зашоренного ума было полнейшим. Как же такое случить могло в стране, идущей к социализму, где партия и правительство неустанно пеклись о благе трудящихся, а те в свою очередь были преданы им — в чём ежедневно все послевоенные годы нас газеты и радио убеждали. Как же такое случиться могло, что сотни тысяч, нет, миллионы, пожалуй, вышли на улицы против любимой коммунистической власти?! И незыблемая эта власть зашаталась. В Будапеште на фонарях у горкома закачались трупы повешенных коммунистов.
А новый венгерский премьер Имре Надь заявил о выходе из Варшавского Договора. Для меня это было настоящее потрясение, но прозрения не наступило. Никаких источников сведений, кроме официальных у меня не было, «вражеских голосов» я не слушал — такого приёмника не было у меня, да я о них просто забыл с сорок девятого года, когда у Боровицкого слушал несколько раз «Голос Америки». Ну, а наша пропаганда вовсю постаралась мозги задурить — тут и сотни тысяч вооружённых контрреволюционеров, проникших из Австрии и ФРГ, тут и внутренняя измена в политбюро и правительстве.
И я привычно клюнул на эту наживку.
…так что обращения Яноша Кадара к нам с просьбой о помощи и ввод наших танков на улицы Будапешта, положивший конец бесчинствам в венгерской столице, я воспринял с большим удовлетворением, как писалось в газетах. Двадцать лет спустя, в Киеве, на курсах ЦК, я узнал, чего нам стоила эта «победа». В совершенно секретном фильме я увидел кладбище наших солдат, погибших в венгерских событиях: без конца и без края сотни или тысячи плит на могилах советских солдат, погибших в ту осень.
…Мой незрелый слабенький ум под напором одиозных односторонних вестей колебнулся. С кем-то надо было мыслями поделиться, и я написал Людмиле письмо.
…вначале, естественно, шли объяснения, почему я ей не писал, почему на днях не зашёл, будучи в Сталинске. «… но сегодня я понял, что это была всего-навсего дань оскорблённому самолюбию». Далее я писал о жизни своей, о том, что читаю. О том, что восторженный отзыв Горького о Стефане Цвейге вызвал у меня к тому большой интерес. Я прочитал «Двадцать четыре часа из жизни женщины» и убедился, что это превосходный писатель. Блестящий очерк «Америка» подогрел мой восхищение. «А сегодня его „Подвиг Магеллана“ привёл меня в настоящий восторг — нет, „восторг“ не то слово, я не могу выразить своё состояние, это какой-то экстаз… Между прочим, там есть слова: „Кто чует близость бури, тот знает, что одно лишь может спасти корабль и команду: если капитан железной рукой держит руль, а главное — держит его один“… Венгерские события заставили меня иначе взглянуть на Сталина. Не умаляя его ответственнос-ти за нынешний кризис в коммунистическом движении (чего не отри-цают Торез и Тольятти), я безапелляционно готов оправдать многие действия его до войны (А, каково?! — В. П.). Так было необходимо. Иначе — смерть!.. Мне не нравится дикая расправа над будапешт-скими коммунистами, и я с лёгкой душой отправил бы на виселицу всех истязателей».
Или вот ещё образец из листков дневника того времени. Писал я, напитанный романтическим Горьким, выспренне, как истый коммунистический идиот. Но из песни слова не выкинешь… хотя стыдно-то, стыдно-то как…
«В последних письмах Ленина сквозит глубокая озабоченность судьбами партии, судьбой полуразрушенной (Лениным же — В. П.) страны, дерзко бросившей вызов гнилому мутному миру зла и насилия. Яркий факел смелой мечты и мысли был зажжён в России, вырвав из зловещей тьмы шестую часть мира, и, быть может, поэтому, тьма ещё больше, ещё зловеще сгустилась за границами света, затаившаяся, испуганная, но ещё и сильная, и готовая сомкнуться над головами безумцев, зажёгших факел, и поглотить их…
Грозное было время, и нечеловеческие усилия нужны были, чтобы сохранить это пламя от всех чёрных бурь, от неистовой угрожающей свистопляски взбесившихся защитников «свободы», «права» и «справедливости». Нужна была сильная рука, нужна была единая неколебимая партия…
История лучший учитель. Сегодняшняя история помогает оценить прошлое: разброд и раскол в венгерской партии коммунистов чуть было не привели к торжеству капитала, клерикализма, фашизма.
Раскол в нашей партии был предотвращён. Грандиозные успехи Союза Советов были достигнуты ценой неимоверного напряжения сил, ценой единения, ценой страшной централизации, дисциплины и подавления всех сопротивлявшихся вражеских элементов — после венгерских событий отрицать необходимость мер этих невозможно.
…ограничения и даже жестокость, жестокость к врагам рабочего класса были оправданы».
Господи!.. И это я написал?.. Даже жестокость!.. Я то, считавший себя гуманным, мыслящим человеком! Здесь же нет ни одной живой собственной мысли — сплошной агитпроповский штамп. Но, скажите, как можно мыслить, не имея никакой информации. Над чем размышлять!.. Как наивный щенок я воспринимал печатное слово на веру… Но всё же… первый толчок мысли был дан, пусть и путаной мысли и ложной — время расставит всё по местам, я всё же начал сам думать.
Далее после дурацких рассуждений об узурпации Сталиным власти, о том, что момент превращения его в деспота, удушившего советскую демократию (!) и всякую мысль, втиснувшего многообраз-ную жизнь человека в жёсткие формы и рамки, не был замечен своевременно в партии (!), и о том, что это ушло уже в прошлое, и ошибки, допущенные партией, исправляются, следует и нечто разумное: «Но возникает снова опасность. Иные благодушные люди (Благодушные?.. Ой ли? — В. П.) утверждают в печати, что с культом личности покончено, что последствия его ликвидированы… Говорить так — значит не понимать всей глубины происшедшего, не стремиться раз навсегда покончить со всем, что чуждо социализму».
…первая трещинка между официозом и моей собственной мыслью, как видите, пролегла, и хотя я ещё весь во власти этого официоза, но уже понимаю: избавление от того, что с нами случилось, будет долгим и трудным. Точно так же, как моё избавление от навязанных с детства стереотипов растянется на десятилетия.
…что же касается дневниковых моих рассуждений, то мне сейчас жутко и страшно прочитывать их. До какой же степени способен оболваниваться человек, вроде бы кажущийся себе иногда и неглупым, стремящийся критически мыслить, не принимать всё на веру, руководствуясь принципом: «Подвергай всё сомнению». Всё и подвергал, кроме, выходит, идеологии. Почему это стало возможным? Ответ сейчас очень прост. Изоляция. Люди творили не на пустом месте. «Я стоял на плечах гигантов», — изволил заметить гражданин Ньютон. Нас же отгораживали от всего, от любого проявления человеческой мысли, веками, тысячелетиями наработан-ной, что равносильно духовной кастрации.
Большевики нас духовно опустошили. Если тебя посещали сомнения — было опасно их высказать, совершенно невозможно проверить — все «чуждые» книги были запрещены и изъяты. Невозможно было ничему, кроме разрешённого, научиться, невозможно было найти могучих союзников — мыслителей прошлого и настоящего, которые подтолкнули бы работу собственной мысли, помогли бы подорвать устои колоссального здания, воздвигнутого на лжи… Столичным жителям было немного полегче, при желании можно было тайное что-то найти, хотя и риск был немалый… А в провинции — полный вакуум, пустота. И моя трагедия была в том, что я долго верил коммунистической пропаганде (со всё бóльшими и бóльшими поправками, разумеется), хотя и не любил её пафос и трескотню. Ну как можно было всерьёз воспринимать бахвальство Хрущёва: «Только социализм является стартовой площадкой для освоения космоса!»
…Плод должен был совсем сгнить, чтобы я убедился в несос-тоятельности навязанных мне с детства идей, во всеобъемлющей и циничнейшей лжи, опутавшей всю нашу систему. Утешаюсь лишь тем, что я это всё осознал, осознал всё же чуть прежде, чем плод, сгнивший, упал. А другие и после этого не осознали. Слабое утешение…
…Становление власти в Междуреченске летом закончилось. В первом этаже одного из новых домов временно разместился горком партии. Я, понимая, что всем правит партия, сразу же нанёс визит первому секретарю Турчину Николаю Давыдовичу. В этот период все первые лица города были доступны. Он доброжелательно побеседовал со мной о делах гидрокомплекса, и расстались мы почти дружески, хотя он был лет на десять старше меня. Он пригласил меня, если что, заходить, чем я и воспользовался несколько раз, навещая его в поисках помощи, а то и так просто. Но за пределы строительных тем разговоры наши не выходили.
…Механик мой, Санька Исаев, всё это время диспетчерствовал на шахте и к гидрокомплексу интереса не проявлял, посему и никаких отношений, даже формальных, с ним не установилось. Осенью он исчез так же внезапно, как и появился, и уже никогда больше пути наши не пересеклись. До меня не доходило и слухов о нём.
…а работы по гидрокомплексу уходили явственно в зиму. На отстойники завезли трансформаторы, от них протянули кабели к арматуре всех пяти секций и, пропуская большой силы ток, прогревали свежеуложенную и покрытую утеплителями бетонную массу. Разогретая током, она не смерзалась, парила сквозь стыки укрытия и вроде бы набирала необходимую прочность.
…Личная моя жизнь изменений не претерпела. После летней скоропалительной переписки в отношениях наших с Людмилой возникла некая пауза. Да ведь и отношений, собственно, не было никаких. Даже романом в письмах это не назовёшь. Я то в них выказывал свои чувства, она же отделывалась ничего не значащими писульками. Иногда бомбардировала: «Хочу тебя видеть», — но о чувствах своих никогда не писала, ну, разве порой «беспокоилась», ничего ли со мной не случилось? Потом умолкала. Как-то она мне заметила, что после ссор не хочет видеть меня, но, когда обида затянется, кончится, он сама скажет, приедет, напишет.
Ну, приехать она никогда не приехала, но записки после затяжного молчания приходили. Тогда я воспринимал всё как данность, что ж, она такова, вздорна, вспыльчива часто без меры, что обидно, но ничего не поделаешь… А сейчас я в сомнении. Быть может мы «ссорились», когда у неё намечался роман, возникало кем-то в Сталинске увлечение? Ведь резкого слова с моих губ не слетало, слишком памятен был новогодний урок в середине пятого курса. И вообще, о том, что мы «в ссоре» я, к изумлению своему, узнавал от кого-либо со стороны. Когда новый знакомый себя исчерпывал или попросту исчезал, «ссора» наша заканчивалась, ей становилось, по-видимому, одиноко, скучно, тоскливо, и тогда летели слова: «Хочу тебя видеть». Кто знает? Потёмки, потёмки чужая душа. Для неумного человека. Или для такого, кто «сам обманываться рад».
Я не помню к ней своих писем, лишь сохранившиеся черновые отрывочные наброски напоминают примерно их содержание, напоминают, что страдал я, простите за громкое слово, безумно, очень больно было мне без неё, без неё жизнь не мыслилась.
«… Опять бегут неумелые бестолковые строчки, тычутся слепыми котятами написанные слова… И кажется мне, что тупая непостижимо властная сила опутала меня, оплела, спеленала — и жутко, и страшно своей бесконечной покорности, своей беспомощной неподвижности, но нет и желания стряхнуть с себя тягостное это оцепенение… и плывут тяжёлые думы, еле-еле царапая душу.
…Да стало страшно. Страх этот и исцеляет меня, заставляя насильно работать с утра и до ночи. А потом и работа сама увлекает, оживляет меня…
Что же ты не пишешь, милая?..
…Дни проходят неразличимой вереницей, стёртые серые, словно дождливое осеннее небо. Ничто не потревожит их, не блеснёт зарницей надежда… не разбудит от всесильного сна мысль своим будоражащим криком: «Очнись!»
Нет, я всё-таки просыпаюсь, иду на работу, что-то делаю, много читаю, думаю, «философствую». Фейхтвангера сменяет Стефан Цвейг, за английским языком следует «Диалектика» Корнфорта и, конечно Горький, которого люблю за его мудрое знание жизни. Дни напол-няются содержанием, и, по-прежнему безликие, они уже не страшат своей нескончаемой бесконечностью. Мысли путаные, тревожные сплетаются в неожиданные узоры, уже далеко не бессмысленные, и, возникнув, переходят в новое качество, обдают сердце беспокойной волной ликующей радости: жизнь так интересна во всех своих проявлениях. Жизнь прекрасна и удивительна!
Что же ты не пишешь, милая?»
А вот ещё образец от тринадцатого декабря уходящего пятьдесят шестого.
«Сегодня у меня есть несколько свободных часов, и, как всегда, когда я свободен, я думаю о тебе. И, как всегда, мне горько и тяжело, но и радостно тоже: если бы прошлому суждено было бы возвратить-ся, я снова бы с готовностью вновь пережил его — со всеми мучитель-ными ночами, сжимавшими сердце моё страхом тоскливого одино-чества, с редкими минутами безмерного счастья, когда я видел и чувствовал тебя рядом со мной, — с его верой, надеждой и неве-рием ни во что, со всеми волнениями и терзаниями и пыткой, то есть с тем, что единственно и составляет жизнь человеческую. Ибо самое страшное не мучение, а бесстрастное безразличие — это ведь смерть…
Пожалуй, ты уже приучила меня к мысли: ты не моя, ты чужая, придёт день, и ты уйдёшь от меня навсегда, такая же высокомерно холодная, как (далее неразборчиво — В. П.), — только мне уже редко бывает страшно от этого. Но, сознаюсь, бывает. Душа обволакивается пустым равнодушием, и упругое тело словно бы становится дряблым и вялым, и к жизни уже неспособным. Страшно не столько тебя потерять, сколько утратить вкус к жизни.
…Среди ночи я
стою у чёрного окна,
прижав к холодному стеклу
свой лоб; а за спиной, дрожа,
холодный липкий Страх.
Страх одиночества.
…И шумные улицы города, и прелесть цветных витрин тёмными вечерами, и запах весны в зимнюю оттепель — всё для меня оживает лишь вместе с тобою.
Я слишком хорошо знаю тебя и не знаю совсем, но я люблю тебя, и для меня всё равно ты и сейчас остаёшься всё той же Девочкой в Белом Платье, и я невольно жду от тебя только хорошего, светлого, но… но отравленный ядом неверия мозг мой сбоит, и я понимаю, что ждать уже нельзя ничего, и все процессы тайной работы мириадов нервных узлов приводят к одним и тем же вопросам: зачем?.. к чему это всё?.. к чему писать письма, волноваться и волновать?.. «Зачем искать того, кто найден быть не хочет?» Это ведь когда ещё написано было. И это был окончательный приговор, не подлежащий обжалованию. А я то, глупец, поверил, что его можно обжаловать! Что же делать теперь? Ответ вроде бы прост. Надо просто сжать в кулак свою волю и решительно всё зачеркнуть, навсегда всё забыть. Но это просто сказать. Если бы сделать было так просто!.. Забыть, свернуться в клубочек, сжиматься сильнее, изгоняя все свои мысли, сжиматься туже, сильнее, сильнее, пока не стянешься в точку, не превратишься в ничто — и, может быть, лишь чудесный инстинкт сохранения жизни, отпущенный всякой живой твари, противится этому, заставляет до конца не сдаваться, бороться, цепляться за соломинку жизни, тянуться к живому, к человекам по-человечьи».
Да, на душе было скверно, нелегко, но спасало общение, среди друзей я держался раскованно, порой бесшабашно. Спасало меня и чтение, книги. Я покупал всё приличное, что появлялось в книжном магазине, открывшемся в доме напротив. А появляться после XX съезда стало многое, что было ранее, при Сталине, под запретом. Я впервые подписался на будущий год на газеты, и «Литературная газета» была среди них. Я выписал «толстые» журналы «Новый мир» и «Октябрь», и журнал «Иностранная литература», возобновивший вновь выход после более чем десятилетнего перерыва, и с нетерпением ожидал наступление Нового года, когда начну получать новинки современной и, как ни странно это звучит, прошлой литературы. С нетерпением я ожидал приобщения к жизни большой, к мировой и советской, и русской культуре.
Я купил радиолу, и музыка стала великим моим утешением. Включишь приёмник — польются мягкие звуки, усмиряющие бередящую душу тоску, обволакивающие меня, словно ватой, уводящие от мирка, что сейчас окружает меня. И запутавшись в густых ватных и пушистых волокнах, гаснут, тают крики души, и становится странно покойно. А музыка льётся, течёт плавно, тихо, светло.
Ах, если бы вместо этих пушистых ватных волокон на лицо моё легла прядь любимых шелковистых волос.

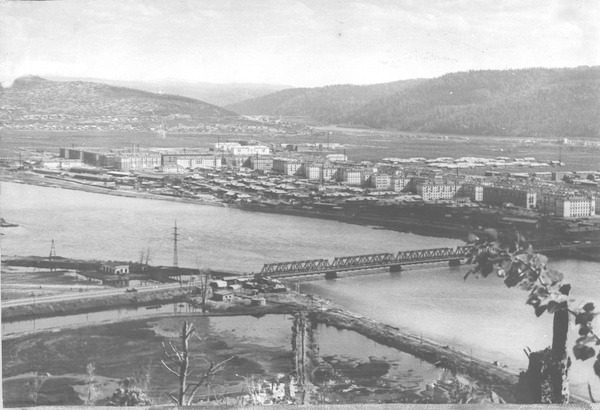
1957 год
…Где и как я встречал Новый год, я не помню. В шахте не мог — гидрокомплекс ещё не работал.
…Начало января в этом году ознаменовалось небывалым морозом. Столбик термометра сполз до минус пятидесяти восьми. Видеть этого я, конечно, не мог, так как таких термометров не было, да и ни у кого вообще не было наружных термометров. Об этом с метеостанции по радио сообщили. Разрезы, стройки остановились. Но шахта работала. Я зачем-то как раз в этот день в шахту ходил. К полудню вышел из штольни и ахнул: долину — всё междуречье — заволокло недвижимой сизой дымкой, и сквозь неё наливался кровью низкий диск солнца. Тишь стояла страшнейшая — ни одна молекула в воздухе не шевельнулась. Замерло всё. Не представляю, как попал я домой. Идти по такому морозу в брезентухе, хотя и надетой поверх лёгкой хлопчатобумажной спецовки, в каске и резиновых сапогах было нельзя. Очевидно, спустился до АБК по пыльным жарким транспортным галереям. Ну, а там у меня было добротное пальто на ватине с воротником из каракуля. Мне его сшили в маминой мастерской. Мастерица старалась мне угодить, примеряла несколько раз, но всё равно оно вышло у неё скособоченным, но однако же тёплым. Впрочем, к делу это совсем не относится. И в тёплом пальто, но в ботинках до дому бы я не добрался. Наверно людей автобусом или в крытой машине по домам развозили… Не помню.
Мороз держался дней пять. И в шахту на работу уже не ходили. Невозможно было выйти на улицу. То есть выйти-то можно, да дальше-то что? Воздух нельзя было вздохнуть даже через шерстяной шарф, намотанный на лицо — горло огнём обжигал. А выходить приходилось. Без еды-то скучно совсем оставаться. Вот и идёшь за продуктами в магазин, тот, что напротив. В подъезде воздуха в грудь наберёшь — и бегом через улицу, воздух на бегу выдыхая. Вскочишь внутрь магазина — жадно вздохнёшь и уже дальше дышишь нормально. Так же и назад возвращаешься. Благо дом рядом — метров сорок всего или чуточку больше.
…кроме мороза зима и весна до мая включительно — сплошной чистый лист. Пусто в памяти, пусто в бумагах. На работу, безусловно, ходил, и на отстойники, и на фабрику, и в насосную. Работы там кое-какие велись, так что не мог не ходить на работу… И ездил, много ездил. Ездил в Сталинск, конечно. К Людмиле? Зачем? Для чего? Никаких встреч не помню. Мрак полнейший в мозгу. А дорогу до Сталинска многократно проезженную в эту пору запомнил на удивление хорошо. Каждый раз — холодный автобус, в котором съёжившись, сжавшись сидим, медленно замерзая, и остановка возле сельмага после поворота дороги на запад, на Сталинск. Мороз-то в автобусе пробирал хорошо, в какую одежду не кутайся. Вот шофёр и делал здесь остановку. Пассажиры из автобуса высыпали потоптаться, попрыгать, размяться и, сбросившись, посылали кого-либо в магазин, он возвращался с бутылками водки, тут же на улице их откупоривали, разливали в стаканы и, опрокинув, почувствовав, как блаженное тепло в животе разливается, лезли снова в автобус.
В ту самую пору и нашла на меня напасть ненужная, вредная даже, и необъяснимая совершенно — я стал к водке испытывать отвращение, сбой какой-то случился в моём восприятии — водка стала казаться мне сладкой. Опрокину стакан «для сугрева», а во рту — словно мёдом намазали. А что может быть гаже, чем сладкая водка? Трудно придумать. Пропадаю и всё. Не могу пить, а надо… Если бы не морозы — пить совсем бы, наверное, перестал…
Но подоспело тепло, надобность в водке отпала, а к новой зиме изъян, возникший было во мне, не проявился. И опять хорошо пошла, милая, и с холода, и с голоду, и с устатку.
…В мае в Сталинске в институте встретил Славу Суранова. Он сказал, что получил квартиру в доме возле самого института, и меня к себе затащил, с этого момента завязалась у меня с ним переписка, мы даже книги, интересные нам, пересылали друг другу по почте.
…в конце мая меня вызвали в шахтный комитет профсоюза и неожиданно предложили бесплатную путёвку — кто-то в последний миг отказался — в санаторий «Черноморье» неподалёку от Туапсе. Санаторий, понятно, не высокого сорта, но дарёному коню… словом, я согласился.
Не возьму в толк, как об этом узнала Людмила — с прошлого лета я с ней не встречался, письма в этом году писать перестал… но она предложила приехать ко мне в санаторий к концу моего пребывания там, а потом со мною поехать в Алушту, куда я собирался к тёте заглянуть на недельку.
…жизнь как будто бы мне улыбнулась. И я покатил на юг в самом радужном настроении, то есть на самом деле я покатил не на юг, а на север, в Новосибирск. Имея на руках восемь тысяч рублей, я не собирался трястись в поезде до Москвы четверо суток даже в мягком купейном вагоне. Сев на вечерний поезд в Сталинске, я утром прибыл в негласную столицу Сибири и, проехав автобусом мост над ошеломляющей ширины рекой Обью, очутился в аэропорту Томилино перед низеньким зданием аэровокзала. Билет на ближайший рейс до Москвы я купил без труда. И через каких-нибудь полчаса я вышагивал с группой пассажиров по лётному полю к одиноко стоявшему на полосе самолёту Ил-12. Шёл к самолёту я с некоторою опаской, зная за собой грех высотобоязни, — а тут предстояло подняться над землёй на тысячу метров.
…по лесенке, приставленной к самолёту, мы влезли в овальный белый салон, в котором — посередине проход, а от него по обе стороны у круглых иллюминаторов — мягкие кресла в белых чехлах. Мест немного, кажется, восемнадцать. И заняты были не все. Авиация была не всем по карману. Хотя билет в оба конца стоил на десять процентов дешевле.
…самолёт побежал по бетонной дорожке — я прижался носом к стеклу, наблюдая, как сливаются в монотонную серую полосу камушки, впаянные в бетон. И по ней рядом с нами бежала тень самолёта, своими теневыми колёсами касаясь настоящих самолётных колёс. Взлёт случился легко и нисколько не страшно: я вдруг заметил, что тень отскочила от самолёта, и наши колёса повисли над полосой. Тут салон несколько вздыбился: самолёт набирал высоту, а аэродром со зданиями и вышкой начал отлетать в сторону и уменьшаться в размерах. Не прошло и минуты, как в иллюминаторы вползла ширь хвойных лесов. Деревья, поначалу видимые отдельно, превратились в один сплошной зелёный покров.
…страхи мои оказались напрасны — высота совершенно не чувствовалась — будто сидел в салоне автобуса на хорошей дороге, без тряски и толчков на ухабах. Но ухабы появились и здесь, да какие ещё!.. Пол вместе с креслом ушёл резко вниз, мои печень, селезёнка, желудок подпрыгнули, вызвав острое ощущение, передать которое я могу лишь коротеньким словом — ух!.. сам я тоже чуть было не взмыл, но меня удержали ремни, которые я забыл отстегнуть.
Через несколько часов лёта над лесами, прорезанными долинами рек, а то и просто реками безо всяких долин, с вкраплёнными в лесные массивы прогалинами и селеньями, самолёт сел на Омском аэродроме. Пассажиры вылезли из самолёта, кто просто ноги размять, а кто и перекусить в буфете маленького уютного зала аэропорта. Часа через два объявили посадку, и наш самолёт снова взлетел. Приземлились глубокой ночью в Свердловске, там самолёт в очередной раз дозаправился уже до самой Москвы. В иллюминаторах была ночь, темень, и в ней не было ничего кроме редких скоплений мерцающих россыпей огоньков на земле, и я задремал.
Чем я занимался утром в столице, теперь даже мне неизвестно. Надо думать, поехал на Курский вокзал за билетом на поезд до Туапсе, а потом на Выставку достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ), которая открылась в этом году вместо довоенной Сельскохозяйственной выставки.
Разнообразные павильоны, которые позже стали казаться мне чересчур вычурными, тогда очаровали меня своей необычностью. Ажурные строения в зелени тополей, елей, сосен, берёз словно вышли из сказки, и у меня невольно вырвалось: «Такие города построят при коммунизме!» Я обошёл все павильоны, но всё, что в них видел, не отличалось какой-либо новизной, всё это видел в киножурналах или на журнальных картинках. Что поразило, так это множество дешёвых столовых, закусочных и ресторанчиков, в которых я за день ухитрился три раза основательно пообедать. Готовили вкусно, и борщи, и супы, и солянки, и бефстроганов, и бифштексы, и чебуреки, и шашлыки. Превосходно было и пиво. Я впервые отведал немало сортов. В первый раз я взял «Жигулёвское», во второй — «Рижское». В третий — «Московское», и всякий раз оно доставляло мне удовольствие. Набредши на павильон «Пиво», я отведал в нём и «Двойное золотое», и густо-коричневый, почти чёрный ленинградский «Портер» со слегка сладковатым привкусом солода, и он мне очень понравился. Больше «Портера» я не встречал даже в самом Ленинграде.
…Был ещё зал дегустации всех вин Союза. Глаза разбегались от многоцветья праздничных этикеток на разнообразных бутылках, среди которых были и невиданные: высокие, удлинённые, пузатые и фигурные. Пробовать вина я не решился — слишком много и долго, и вряд ли к концу такой дегустации я не только вкус, цвет и букет одного вина от другого бы смог отличить, но и сам мог вообще отключиться. Задачу, поставленную ещё в институте, снова пришлось отложить. С наскока такое не делается…
…Пробыв день на выставке, я вечером сочинским поездом уже ехал на Кавказ, а ещё через ночь утром вылез из вагона на знакомой, но совершенно забытой мной станции Туапсе. Размышления мои, как добраться до неизвестного «Черноморья», прервал радиоголос: «Автобус до санатория „Черноморье“ находится…» Я быстро нашёл этот автобус, и вскоре катил по дороге вдоль моря в сторону Новороссийска. Дорога кружила, петляла в горах и по крутизне и частоте поворотов дала бы вперёд сто очков знаменитому Ялтинскому шоссе, тогда ещё не спрямлённому.
В санатории меня поселили в комнате на троих. Два соседа в ней уже жили, обоим за сорок, люди спокойные, не курили, не пили и не храпели — лучших соседей и не сыскать, хотя и ничего интересного в них тоже не оказалось, да и не нужны они мне были нисколько: целыми днями пропадал я у моря, плавал и загорал, не забывая три раза подкрепиться в столовой. Кормили в санатории не роскошно, но более или менее сносно. Так и шёл у меня день за днём. Я даже не удосужился съездить в Туапсе посмотреть город, побродить по его улочкам, в порту побывать. Раз только я прокатился на прогулочном глиссере от санатория до Сочи и обратно.
Волосы мои развевались от упругого ветра, корабельное радио с пролетавших мимо нас катеров и проходивших судов орало во всю мочь «Мишку» и «Бесаме мучо», они же доносились из санаториев на берегу, а я на корме ощущал себя лихим морским волком в студенческой тужурке без контрпогон, но со значком горного инженера на лацкане, накинутой небрежно на плечи.
…И снова наш санаторный галечный пляж. С первых же дней он мне не понравился — алуштинским не чета. С виду вроде бы чистый, он весь был усеян неприметными с виду чёрными комочками вязкого мазута, таившимися между округлых камней. И, упаси тебя бог, лечь без разбора — с тела грязное пятно не отмоешь, не соскоблишь. Да и в море на прозрачной зеленоватой воде на волнах качались эти маленькие комочки сгустившейся нефти, пролитой нефтеналивными судами в порту. В Туапсе загружали танкеры хадыженской, грозненской нефтью. А по части порядка и аккуратности и в Союзе, и в постсоветской России ведь всегда не того… не Финляндия. Землю, воду и воздух свои гадили, не задумываясь… Да и сейчас пакостим не меньше, хотя сейчас-то последствия намного сильнее дают знать о себе.
…Но выбирать было не из чего, приходилось с большой осторожностью находить местечко и очищать его от замеченной ваксы. И тянулись безмятежные дни в море и возле него в ожидании дней других, сулящих радость и счастье.

…а вот о жилье для любимой заблаговременно позаботиться не сообразил.
Срок моего пребывания в санатории истекал, когда я, наконец, получил телеграмму:
ВЫЕХАЛА МОСКВЫ ВСТРЕЧАЙ ТУАПСЕ (ТАКОГО-ТО)
ПОЕЗД (ТАКОЙ-ТО) ВАГОН (ТАКОЙ-ТО) ЦЕЛУЮ ЛЮДКА
…Утром до отхода автобуса я попытался подыскать жильё для Людмилы, но в этом деле за часы до отъезда не преуспел и перепоручил своим сотоварищам продолжить поиск жилья для Людмилы. Они клятвенно обещали, что сделают всё в лучшем виде и жильё для моей невесты найдут.
Успокоенный я уехал на автобусе в Туапсе, на базаре купил букет красных роз и в указанный час был на перроне.
Поезд прибыл минута в минуту, я тотчас же очутился у указанного вагона, и в тот же миг с подножки ко мне спрыгнула Людмила в лёгком платье юная, обольстительная с чемоданчиком в правой руке. Чемодан был брошен ею на землю, нежные руки обвились вокруг моей шеи, губы слились… и я задохнулся от счастья. Я притянул её крепко своими руками, и упругие груди её прижались к моей груди, и я ощутил всю их сладость. О, минута блаженства!
…приехав с Людмилой в санаторий в сумерках, я сожителей своих не застал. Мне сказали, что все обитатели корпуса на открытой площадке в летнем кинотеатре, где местная самодеятельность услаждает глаз и слух отдыхающих. На эту площадку мы и отправились. Скамейки сплошь были заполнены отдыхающими, и в этом скопище я с трудом отыскал две знакомые головы. К неописуемому моему огорчению, хуже — к ужасу моему, эти добрые дяди, позабыв обещание, и пальцем не шевельнули, чтобы крышу для моей возлюбленной подыскать. Пообещав за такую бессовестность выгнать их к чёртовой матери на ночь на улицу, если я ночлег для неё не найду, я усадил Люсю на свободное место, а сам направился к бедному домами посёлку при санатории. Я обходил домишки один за другим, барабаня пальцами в каждую дверь, но везде получал один и тот же ответ, что у них не то, что свободной комнаты, но и свободной кровати-то нет. И всё же мне повезло. Одна санитарка согласилась сдать на несколько дней комнатёнку. На вопрос о питании, она мне ответила, что она это может устроить. Если не в санаторной столовой, то в рабочей-то обязательно. Я рад был любой, зная, что в санаториях такого низкого уровня, разница в питании в столовых неощутима.
…я вернулся к театру. Концерт закончился, скамейки были пусты, никого на них не было, к моему удивлению и Людмилы не было тоже. Я начал поиск её в ближайших окрестностях. В щели под акустической раковиной пробивался электрический свет, я решил туда заглянуть и нашёл её в будке под раковиной, где она договорилась с местным культурником снять на ночь в будке топчан. Эта её предприимчивость мне не понравилась, но, разумеется, я Людмиле ничего не сказал, вежливо поблагодарив культработника за заботу. Я взял любимую за руку и увёл от него к хозяйке квартиры, которая обещала накормить её ужином.
Утром после завтрака я зашёл за Людмилой, но хозяйка сказала, что та позавтракала в рабочей столовой и ушла к морю на пляж. Это тоже меня огорчило — не дождалась меня. Но и сам виноват — не мог до завтрака к ней забежать.
…Санаторий располагался на маленьком плато между горами, круто обрывавшимся к морю. К нему были два спуска, один — слева, у самой горы — очень крутой, выводивший к камням обок пляжа, по второму — пологому, вдоль обрыва — спускались к пляжу, тянувшемуся направо широкой галечной полосой с капельками мазута, загустевшего и от солнца, и от морской солёной воды и выброшенного на берег штормами. На этом пляже я и нашёл Людмилу в компании молодых людей спортивного вида, то есть с превосходным телосложением, и сразу же заскучал, болезненно ощутив «теловычитание» своей неспортивной фигуры.
…среди этих ловких спортивных парней, ставших в круг и игравших волейбольным мячом, Людмила, очевидно, уже стала своей, ей пасовали, она недурно принимала мячи и удачно их отбивала какому-либо партнёру. Я постоял, посмотрел, как хорошо и ладно у них получалось: мяч всё время был в воздухе, ему не давали упасть. Его пасовали, резали, стремительно посылая к земле, но чьи-то сложенные ладони успевали вброситься между ним и землёй, и он свечой взмывал вверх, чтобы, падая, быть снова срезанным сильным ударом либо быть принятым мягко на ловкие пальцы.
…я втиснулся в круг, но сыгравшиеся молодцы меня словно и не заметили. Будто пустое место стояло. Будто нарочно меня обходили. Только раз резкий мяч полетел в мою сторону, я успел сложенные ладони подставить и отбить его на другую сторону круга. Больше никто мне мяча не подал, даже Людмила, к которой мячи летели ежесекундно, и она, надо снова сказать, очень умело с ними справлялась. Чуть постояв бесполезным столбом, я разозлился и ушёл загорать.
Спустя полчаса ко мне подсела Людмила.
— Что ж ты ушёл? — спросила она.
— А какой смысл без толку стоять, когда половина мячей идёт только к тебе.
— Ты ревнуешь?
— Горжусь. Ну какая мне радость оттого бы была, что тебя не заметили?!
Она прилегла рядом со мной на горячую гальку.
— Осторожно! — вскрикнул я, спохватившись. — Здесь мазута полно!
Предупреждение, разумеется, запоздало, но ей повезло, она не испачкалась. Раскинув руки и ноги, она лежала, подставив солнцу лицо с зажмуренными глазами.
Я встал. Вот она лежит предо мною почти обнажённая — на груди только узенький лиф и внизу только узкие трусики-плавки. Вот лежит предо мной её желанное тело, и невольно глаза мои бегут по нему, опускаются с шеи на плечи и с плеч, минуя подмышки с постри-женными волосками, на грудь, где под тугими круглыми колпачками скрыты дивные холмики и не скрыта меж ними соблазнительная ложбинка. Вот упругий девичий живот, и эти самые трусики, и бесстыдно, но и притягательно же, врозь раскинутые красивые ноги, и снова взгляд на живот и на треугольник под ним, прикрытый материей, из-под которой выглядывают курчавящиеся бессовестные завитки. Как же она вожделенна… и недоступна…
…мы поплавали в море, и пошли вместе обедать, теперь именно вместе в санаторную столовую — не составило труда договориться с официанткой: всегда кто-то уезжает досрочно, и всегда есть в запасе еда.
…вечером мы сидели с нею вдвоём на скамейке над обрывом у моря. Полная луна висела низко над нами, и широкая серебрящаяся, как чешуя трепещущей рыбы, дорога бежала от нас к ней по морю. Мы любовались луной, горами и морем, и этой лунной дорогой. Я обнял Людмилу и целовал упоённо, не осмеливаясь на большее.
…а зря. Через несколько лет дошло, наконец, до меня, что в любви нельзя пробавляться лишь вздохами, надо действовать, и как можно смелее. И ведь во всём всегда понимал, что лишь действием можно добиться чего-то. В работе действовал, например, и кое-чего добивался. А вот с женщинами любимыми ни на что не решался, боясь обидеть прикосновением, стыдясь сделать неловкое. Мне почему-то казалось, что если женщине я не совсем безразличен, если нравлюсь ей, если она в меня влюблена, то она даст мне как-то понять, что она будет не против действий моих, что она сама хочет, чтобы я зашёл далеко. Как же это было нелепо? Если я не решаюсь, почему же любимая должна быть смелее, решительнее меня? А тогда вот боялся её рассердить. Попытаться женщиной овладеть, не зная, не чувствуя, что она этого хочет — не мог. Поползновениями своими, которые — от правды никуда не уйдёшь — не всегда выглядят эстетично, боялся обидеть. Согласитесь, не очень красиво запускать руку в трусы, несравненно прекраснее, когда женщина сама сбросит одежды с себя и предстанет обнажённой, обворожительной.
…Наутро пора уезжать. Срок мой закончился. Мы с Люсей забрались в санаторный автобус. Место было лишь у меня, но понадеялись — пронесёт. Не пронесло. Нашёлся хозяин на место рядом со мною, где сидела Людмила — других свободных мест в автобусе не было. Я попросил разрешения везти Люсю у себя на коленях. Администраторша на уговоры не поддалась и решительно вытурила Людмилу, пообещав отправить её завтра следом за мной… Естественно, вслед за Люсей из автобуса вылез и я. Как я мог уехать бы без неё?
…мы разошлись по жилищам, переживая, как я полагал, о несостоявшемся отъезде. И напрасно. Во-первых, вечерний автобус привёз весть, что автобус, из которого нас безжалостно выгнали, перевернувшись на крутом повороте дороги, слетел под откос, так что нам следовало радоваться тому, что нас высадили. К счастью, деревья, на верхушки которых свалился автобус, спружинив, смягчили удар и не дали ему покатиться далее по откосу, так что трагедии не случилось: пассажиры отделались испугом и небольшими ушибами.
Во-вторых, Людмила и не думала по этому поводу унывать. После обеда она меня известила о том, что познакомилась с двумя прелестными парами, и эти пары пригласили нас на пикник. И когда это она всё успевала?
Пикник начался возле леса на окраине санатория за длиннющим деревянным сараем, отделяющим от него территорию здравницы, и скрывающим нас от нежелательных взоров. А взоры эти, как оказалось, были-таки, — любопытен, любознателен человек! И более чем любознателен…
За грубо сколоченным длинным столом на длинной доске, служившей скамейкой, лицом к сараю сидели обе прелестные пары. Две молодые женщины, лишь чуть нас постарше, меня нисколько не привлекли. Их спутники — два молодых человека — запомнились тем, что были поразговорчивей и побойчее меня. Мы сели на доску между обеими парами… На столе, застланном двумя развёрнутыми газетами, лежала закуска: колбаса, перья зелёного лука, сыр, хлеб, соль, свежие огурцы. Рядом с газетами стояла батарея больших винных бутылок и при них шесть гранёных стаканов.
…не успел я как следует всё рассмотреть, как стаканы наполнились красным вином и провозглашён был тост за знакомство, затем стаканы ещё много раз наполнялись… и некрепкое вроде вино, вкусом напоминавшее дешёвый портвейн, ударило в голову. Я стал весёлым и компанейским. Мы обняли друг друга за плечи и, раскачиваясь, горланили песни, шутили, смеялись, словом вели себя шумно, но ничего недостойного в действиях наших усмотреть было нельзя.
…и тут Людмиле захотелось плясать. Газеты с остатками пищи тотчас свернули, мгновенно очистили стол, Людмила, вскочив на скамью, а с неё на столешницу, прошлась по ней, стуча каблучками в таком стремительном темпе, что я со страхом подумал: либо проломятся доски столешницы, либо она сломает каблук, либо случится и то, и другое. К счастью, ничего не случилось. А Людмила выделывала коленца, отбивала чечётку, кружилась так, что платье взлетало вверх веером, оголяя до чёрта знает каких пределов её красивые стройные ноги. Платье не успевало за нею и уже не веером, а свившемся в вихре жгутом, мчалось вслед ей за её бешеным танцем. Возбуждённая «публика» ликовала, я по-гусарски неистово вместе со всеми выкрикивал короткое иноземное слово: «Виват!» — выражавшее высшую степень восторга.
…отплясав на столе залихватский свой танец, Людмила остановилась, и пять пар протянувшихся рук подхватили её и бережно опустили на землю… после чего вся братия провалилась куда-то, а мы с Людмилой очутились вдвоём на пустынном вечернем пляже, в левой части его у выдающейся в море горы, где в зелёной воде там и сям выступали редкие валуны с приросшими к ним водорослями, и волны, набегая на них, расчёсывали и полоскали их густые длинные коричневато-зелёные нити.
…голова кружилась при взгляде на бегущую воду, я был пьян и нетвёрд на ногах. Люсе тоже, видно, было не совсем хорошо, и она предложила освежиться, поплавать. Сбросив на камни одежды свои, мы поплыли в неширокие извилистые проходы меж глыбами, притопленными в воде, и выплыли в открытое, до горизонта свободное море.
…пьяному человеку и земля кажется неустойчивой, в воде неустойчивость эта проявляется с удвоенной силой, волна и держит, но и покачивает тебя, и кажется, что ты в невесомости, где верх непрерывно меняется с низом местами, и от этого мутится в голове, и к горлу подкатывает отвратительно неприятное. Препаршивое ощущение, должен вам доложить, и лезть, выпивши, в воду никому не советую.
…преодолевая усилием воли кружение головы и возвращая на место норовившие провернуться земные ориентиры, я плыл на боку; рядом плыла Людмила, опережая меня на полкорпуса, и мне стоило немалых усилий не отстать от неё.
Плыли мы долго. Вода нас освежила, я протрезвел ровно настолько, что понял, нам пора возвращаться. Стемнело, над морем всходила луна. Мы повернули обратно, и дальше… я плыл, вероятно, в бессознательном состоянии, в памяти полный провал. Но поскольку я жив до сих пор, надо полагать мы благополучно доплыли до берега, вышли на сушу, оделись, возможно, поцеловались, и, безусловно, я её сопроводил на ночлег и сам вернулся в свою пустую палату, в которой уже не было моих постояльцев. Они утром уехали.
…а вдруг? А вдруг это не я её проводил, а она меня довела до палаты? И не осталась. Это бы было позорно. Но, надеюсь, этого не случилось.
…Итак, наутро я проснулся в палате один, поскольку мои удачливые соседи укатили вчера. Тут я должен признаться, что невесёлая весть о происшествии с нашим автобусом, привезённая вечером, дошла до меня только утром, и, узнав о счастливом для нас стечении обстоятельств, я воскликнул, отнюдь не злорадно: «Есть Бог на земле!»
…Новый день начался… и начался он для меня в кабинете главного врача санатория, деликатного доброго старичка, который укоризненно выговаривал мне: «Ну как же вы, такой достойный молодой человек, могли себе позволить такое». Нечего и говорить, что я понял мгновенно, речь идёт о вчерашней попойке, и даже не столько он ней, сколько о вчерашней кафешантанной чечётке, о канкане на досках стола — и покраснел…
— Ну, бывают у нас, — продолжал мой мучитель, — разные бузотёры, но вам то это к чему? Ну, напишу я письмо на предприятие ваше, взыщут с вас стоимость вашей путёвки, неприятности будут… Не ожидал я от вас этого, не ожидал.
…Это было ужасно, но пол подо мной не провалился, хотя от стыда я готов был лететь и в саму преисподнюю. Я сидел, потупив глаза, красный, как нашкодивший школьник, и оправдываясь, лепетал, что вчера очень расстроился, когда меня с невестой выгнали из автобуса, и вот с горя выпил в случайной весёлой компании.
…покачав седой головой, главврач оставил дело моё без последствий.
А через час автобус, куда нас поместили, как и было обещано, кружил по дороге до Туапсе. А там поезд, колёсный перестук на рельсах между кромкой моря и горными склонами… и во второй половине дня мы въехали в жемчужину Советской Ривьеры, в незабвенный, многократно описанный писателями город с кратким названием Сочи. Впрочем, возможно, было наоборот: Ривьера была жемчужиной Сочи.
В те времена у меня была отличная память даже на единожды пройденный путь: я безошибочно выбирался из лабиринтов пройденных улиц в незнакомых мне станицах и городах. И сейчас абсолютно автоматически я прошёл путь от вокзала, проделанный три года назад, и вывел Людмилу к дому Хисматулиной. Темнело. Окна дома распахнуты настежь, двери открыты, двор сияет непривычно яркими огнями, и во дворе в этом свете суетится чрезвычайно много людей.
Я постучался в калитку и попросил подошедшую женщину позвать Марию Ивановну. Та вышла, и не успел я напомнить о нашем дальнем родстве, как она сама меня вспомнила и пригласила во двор. Там я объяснил ей, что в Сочи проездом с невестою в Крым, и спросил, нельзя ли остановиться нам у неё на один день до отплытия теплохода.
— Дом весь переполнен отдыхающими, к сожалению, — сказала Мария Ивановна, — но, если вас это устроит, я могу постелить вам во дворе.
Нас это устраивало вполне. Под чистым небом дышится легче, чем в душном доме в июньскую ночь.
— А пока, к столу, — указала она на длинный стол, застланный белой скатертью.
На столе, словно в калейдоскопе живописным узором расположились тарелки и блюда с рассыпчатой варёной картошкой, зелёными огурцами, перьями лука, красными помидорами, серыми ломтями хлеба, жёлтыми и фиолетовыми ягодами крупной черешни и ещё чем-то, чего я не вспомню. За столом сидели несколько человек, и неторопливо жевали.
Наскоро ополоснув руки и лицо водой из водопроводного крана, венчавшего отросток трубы, торчащий из-под земли во дворе, мы присели за стол и поужинали, после чего прошли вглубь двора в сад, где и прогуливались во мраке, ожидая пока разойдётся народ. Когда двор затих, Мария Ивановна позвала меня и указала на широкую кровать с белыми простынями на краю двора возле сада. В изголовье кровати лежали две большие подушки.
— Я постлала вам, можете ложиться спать, — сказала она.
Я смутился. Я был к этому не готов, не подумал о подобной возможности и теперь растерялся: как на это посмотрит Людмила. Я потерянно покраснел и выпалил торопливо, глупо и несуразно: «Мария Ивановна! Мы ещё не женаты». Мария Ивановна мгновенно меня поняла — сообразительной была женщиной!
— Хорошо, я постелю вам отдельно, только тебе придётся спать на раскладушке.
Я поблагодарил её и побрёл, вот теперь-то действительно потерянно, к Людмиле, стоявшей поодаль под деревьями сада. Подойдя к ней, я усмехнулся, и полагаю, что усмехнулся криво весьма — не до смеху мне было: «Знаешь, Мария Ивановна постлала нам одну постель на двоих…»
— Ну и что? — спокойно ответствовала Людмила.
А меня словно током ударило — вот глупец!
Мысли мои смешались: «Значит, она готова была лечь вместе со мной, а я, идиот, отказался! Надо было сначала ей это сказать!» Но свершённого не вернёшь, и я, сгорев от стыда принуждённо закончил: «Я сказал ей, что мы ещё не женаты, и она нам постлала раздельно». На это Людмила не проронила ни слова. Что подумала она в тот миг обо мне?.. Недоумок?..
А мысли неслись: «… сегодня она бы могла стать моею, сегодня случилось бы то, что снилось мне в институте ночами, а я свой шанс упустил…»
Это тогда я подумал, что свой шанс упустил. Два дня спустя я думал иначе. Вполне допускаю, что этого шанса она бы мне тогда не дала, даже лёжа рядом со мною, и ночь обернулась бы адом. С ума можно сойти…
…в саду на своей раскладушке всего в десятке шагов от постели любимой, я вслушивался в каждый шорох её, втайне надеясь: а вдруг она позовёт меня: «Вовчик!» И тогда я исправлю допущенную ошибку. Не позвала; ночь доносила её спокойное ровное дыхание…
Впрочем, досадуя на непростительную оплошность, я не переживал глубоко. Если шанс у меня действительно есть — то впереди неделя наедине у тёти Наташи.
…Утром, едва звёзды поблекли на небе, и вслед уходящей ночи стали ясно различаться предметы, я был на ногах. Надо было быстро слетать в порт, справиться о рейсах на Ялту. Кроме того, я задумал приготовить сюрприз к пробуждению моей милой.
Я прошёл осторожно мимо неё. Она крепко спала. Сползшая простыня оголила изгиб её шеи, пленительного плеча. Дыхания её не было слышно, но ритмично поднималась и опадала простыня на груди, и только поэтому можно было понять, что она дышит.
Лицо её со сна разогрелось, лёгкий румянец проступал на щеках, и была она так хороша, так чиста и свежа, будто ребёнок, и во мне поднялась и меня захлестнула волна нежности к женщине, которая столько лет мучит меня, но быть может, быть может, хоть чуточку любит.
В порту я узнал, что теплоход будет к вечеру. И будет это опять — царство ему небесное! — «Адмирал…". Мне положительно не везло. Я всё время мечтал о «России», а попадались всегда либо «Пётр Великий», либо этот «… Нахимов». Ходили в то время и малые теплоходы с заходом в Туапсе, Новороссийск, Керчь, Феодосию и Судак, но я ими пренебрегал.
…о местах и билетах можно было узнать, как всегда, по прибытии теплохода.
…В приморском парке возле морского вокзала я завернул в сторону мне знакомых магнолий, надеясь, что не все они отцвели. Но они таки отцвели, как бы мне не хотелось обратного, и я было совсем приуныл, как случайно заметил высоко-высоко наверху единственный белый огромный цветок, укрывшийся за глянцевыми жёсткими листьями дерева. Озираясь по сторонам, как вор, готовящийся прилюдно совершить карманную кражу, я изловчился, соседней веткой накренил нужную мне ветвь, перехватился и обломил её вместе с белым цветком. В этом цветке и заключался сюрприз, и я его спрятал от нескромных взоров в корзинку. Тут же я отправился на базар и купил спелой отборной черешни. Крупные ягоды её почти чёрным лаком сверкали на солнце.
Когда я вернулся домой, Людмила ещё не проснулась, лицо её было по-прежнему розоватым, согретым дыханием сна, и само дыхание её казалось мне тёплым, домашним, родным.
Я вымыл черешню под проточной водой и сложил её в блюдо, налил воды в высокую вазу, поданную догадливой Марией Ивановной, и поставил блюдо и вазу на табуретку у изголовья спящей красавицы. Сам же сел на скамейку напротив, ожидая её пробуждения и того, как воспримет она белоснежное чудо с одуряющим запахом в обрамлении глянцевых листьев.
…она открыла глаза. Равнодушно скользнула ими по цветку и черешне, приподнялась, разок нюхнула его: «Как сильно пахнет!» — и, крикнув мне: «Отвернись!» — начала одеваться. Это меня задело, и сильно задело. Я ждал хотя бы благодарного взгляда. Тогда бы я прочитал ей Лонгфелло:
Я пришёл к тебе с приветом
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало.
…стихи застряли у меня в горле: ей это совсем ни к чему.
…Черешня потом была всё-таки съедена, а роскошный цветок одиноко стоял, никому, как и я, не нужный на свете.
…До обеда мы пробыли на пляже, плавали, загорали, а когда уходили домой, Людмила подошла ко мне как-то растерянно и сказала: «У меня неприятность». Я смотрел на неё в ожидании продолжения.
— Знаешь, когда мы плавали в море, я оставила в сумочке те четыреста рублей, которые ты дал мне утром, — тут она замолчала и, помедлив немного, добавила, — теперь их там нет. На пляже их вытащили.
— Подумаешь, ерунда, — сказал я, успокаивая её, — стоит переживать.
— Ничего себе, ерунда, — удивилась она.
Теперь пришла очередь мне удивляться. Неужели эти четыреста рублей что-либо значили для неё? Впрочем, я судил по себе, на участке вентиляции, где работала Людмила, ставки были поменьше, и не было у неё томусинской надбавки.
А она всё сожалела и огорчалась. Эти огорчения я прервал:
— В парке я знаю чудеснейшее местечко, где можно превосходно перекусить, — и я повёл её к рыбному ресторану. Деньги у меня были с собой, а, между прочим, я тоже ведь плавал и деньги оставлял в тайном кармане в брюках на берегу, и немалые, по нескольку тысяч, но на пляже у меня и рубля не украли. За деньгами догляд всё-таки нужен. Плавать я плавал, но с вещей своих глаз не спускал. Да и можно ли деньги оставлять в дамской сумочке на берегу?..
…это ж приманка.
…Тихий маленький ресторанчик с незамысловатым названием «Рыбные блюда» укрылся в парке за теми магнолиями, где утром я промышлял. Да, ресторанчик был безыскусным, но готовили там искусно, и ещё как искусно готовили. Я его помнил по давним ещё временам. И не красной и чёрной икрой он меня привлекал, и не салатом из во рту тающих крабов, и не замечательной заливной осетриной. Вы бы попробовали там солянку рыбную сборную из двадцати видов наилучшейших рыб. Или стерлядку, неизвестно как приготовленную, но божественную на вкус, или ещё множество блюд, названий которых уже не припомню.
Я заказал к рыбе бутылку белого сухого вина и на правах завсегдатая предложил и закуску, и первое, и второе. Людмила с моим выбором согласилась. Мы пообедали и ушли.
…Во второй половине дня мы вошли в морвокзал. Теплоход был на месте, и свободные каюты в нём были. Я взял билеты во второй класс до Ялты, и мы сразу поднялись на борт корабля плыть к иным берегам.
Впервые я плыл в корабельной каюте, не палубным пассажиром, как прежде. На палубе днём-то тоже неплохо, особенно если шезлонгом расстараться удастся, но ночью… Ночами бывало весьма неуютно, — каким калачиком не свернёшься, как ни укроешься пиджачком или курточкой, а холод к утру проберёт до костей. И вскочишь перед восходом, и бегаешь по палубе, чтобы согреться, и никак не согреешься, и ждёшь — не дождёшься, когда выплывет солнце и брызнет первым тёплым лучом…
…Итак, мы по трапу поднялись на корабль, прошли по палубе до места спуска в трюмные помещения, спустились по красной ковровой дорожке, накрывающей лестницу с горящими медью поручнями, прижатой к ступеням такими же до блеска начищенными медными прутьями, в зал, из которого расходились по обоим бортам в обе стороны коридоры с такими же праздничными дорожками и зеркально отполированными панелями стен и дверьми цвета морёного дуба. В потолке перед дверьми матово светились упрятанные заподлицо круги плоских плафонов. И медные ручки дверей сияли ярко и радостно, как и перила на входе. Корабельный блеск для меня был всегда воплощением такого восторга, от которого недалеко и до радости, и до счастья. Эти плафоны, ручки красной меди, начищенные перила, отражавшиеся в зеркале тёмных панелей, красные дорожки с узорчатыми краями, даже медные цифры, указывающие номер каюты, кричали о покое, богатстве, достатке жизни красивой и безмятежной. И среди этого блеска я как будто и сам становился к этой жизни причастным.
Наша каюта на четырёх человек, оказалась большой и формой своей походила на букву «Г». Вся она тоже была отделана деревом, полированным деревом сверкали и боковины двухъярусных кроватей с раздёрнутыми шторами цвета кофе с небольшим добавлением молока. За ними белели постели на пружинных матрасах с чистым бельём. Одна такая кровать — у дверей, параллельная борту, другая — за ней, к борту торцом, рядом с иллюминатором, а под ним — столик, закреплённый консольно. Против неё — жёсткий диванчик, обтянутый коричневой кожей. Из круга иллюминатора лился свет ещё не угасшего дня, и было очень светло в этой части каюты, в отличие сумрака той, что у первой кровати.
Людмила сразу влезла на верхний ярус сумрачной первой части каюты, а я, пользуясь тем, что до отплытия ещё оставалось более часа, успел сбегать на рынок и принёс ей ещё черешни в большом бумажном кульке.
Я пытался угостить её этой черешней, но она вдруг сделалась неразговорчивой, от черешни категорически отказалась, и, решив, по всему, от меня отвязаться, со словами: «Я устала» — отвернулась к стенке каюты. Не знаю, что с ней приключилось, какая муха её укусила — всё до этого было нормально и на пляже, и после него, мы не ссорились, я не сказал ей ни слова плохого. Словом, ничего понять я не мог, и не понимаю сейчас, если не допустить, то она уже твёрдо решила со мною порвать.
Теперь-то я понимаю, что ей было скучно со мной. Я для неё слишком пресен, а ей подавай острые блюда, её влекла яркая богемная жизнь, где она бы блистала. — и это ей было по силам, — и где её бы восторженно принимали на руки. Не спонтанно же родился канкан на столе и безукоризненная чечётка. Мне это не было чуждо. Но для меня это был эпизод, отдых после работы, для неё в этом заключалась вся жизнь. Жизнь яркая, лёгкая и красивая.
…а тогда, бесспорно, мне надо бы тут характер свой проявить и резко выяснить отношения. Так же нельзя — ни с того, ни с сего, отворачиваться, надуваться…
Но этого я ей не сказал и, обескураженный её необъяснимым капризом, прошёл ко второй кровати, к иллюминатору, и занял нижнюю её часть, но не лёг, а уселся на диванчик и смотрел сквозь стекло на суету на причале.
Теплоход отчалил и, медленно пятясь, отошёл от пирса, разворачиваясь одновременно, и, набирая ход, вышел в море. В каюте никого не прибавилось, и это поселило во мне надежду: наконец-то мы остались с Людмилой наедине. Сердце моё забилось — вот он, миг долгожданный, — я встал, подошёл к кровати Людмилы. Она лежала под простынёй вверх лицом на уровне моей головы, глаза её были открыты, она не спала. Я запер изнутри дверь каюты на ключ, и пытался Людмилу разговорить, стоя у её изголовья. Она отвечала односложно и неохотно, всем видом давая понять, что мы в ссоре. Но отчего? Почему? Мы же с нею не ссорились. Я не решился её об этом прямо спросить. Интересно, о чём она думала, почему так себя повела… Годы спустя я попытаюсь её из любопытства спросить. Но она не захочет ответить. И это заставило думать о ней хуже, чем, быть может, она в самом деле была. Неужели она обыкновенная стерва?.. В это верить не хочется, но иное на ум не приходит.
Я всегда с ней был робок до глупости — это она и меня, и себя так поставила. Лишь один день был самим собою я с ней, в день, когда мне казалось, что я её разлюбил, и когда в ответ на мой поцелуй, она мне сказала, что любит меня. Быстро же она меня от самого себя отучила. Любовь моя к ней и её ко мне нелюбовь сковали меня. Но зачем, для чего она со мной так жестоко играла. Что она бессердечная — это я знал, но зачем же из человека все жилы выматывать и его же ещё потом обвинять. Безжалостный человек…
…да, так вот, вместо того, чтобы с нею решительно объясниться — сколько можно её выкрутасы терпеть! — я продолжал стоять у её головы и что-то ей говорить, не пытаясь даже узнать, какая кошка на сей раз проскочила меж нами. И тут она снова повторила свой прежний манёвр, недружелюбно, зло даже как-то проговорив, что очень устала и хочет спать, и снова отвернулась демонстративно.
Что было делать?.. Этого я не знал. Я всё ещё на что-то надеялся, и вместо того, чтобы расставить всё по местам, я вышел из каюты на палубу. Теплоход шёл вдоль кавказского побережья в небольшом отдалении от него, и я снова не мог не залюбоваться красотой предвечернего моря, горных хребтов, то зелёных, то голых, скалистых, спускавшихся к его синеве. Много раз я видел эту картину и никогда не мог наглядеться — столько радости жизни было в ликовании этих красок и форм в лучах летнего солнца. Я мог часами смотреть на бесконечную смену горных массивов в воздухе, дрожащем от июньского зноя, на сине-зелёную воду, обтекающую наш теплоход, на белую пену, взбиваемую винтами и широким клином расходящуюся за кормой. Всё навевало покой, и радость нисходила на душу, несмотря на любимой причинённую боль. И так хотелось этим с кем-либо, да ни с кем-либо, а с единственной поделиться, но поделиться было нельзя, и от этого становилось очень печально.
…было от чего загрустить.
…До самого Новороссийска я так у борта и простоял. Мы входили в порт, когда солнце давно ушло в море, и ночь плотно объяла всё небо и город, и амфитеатр огней бухты, улёгшийся огромной подковой, отгородил город от моря и сиял умноженным отраженьем в воде.
…в каюту я не спускался — с такой Людмилой видеться не хотелось, я не пригласил её поужинать в ресторан, да и сам, не поужинавши, улёгся глубокой ночью в постель.
…У новороссийского причала мы простояли всю ночь. Теплоходы по морю по ночам не ходили, сказывалась близость прошедшей войны: в море плавали беспризорные мины, срываемые штормами со своих якорей — и суда отстаивались в портах в тёмное время суток.
С восходом солнца «чёлн» наш отошёл от причала и, сразу удаляясь от кавказского берега в открытое море, взял курс на Ялту. Этот день совершенно выпал из памяти.
К концу его мы были в Ялте. В автобусе застала нас ночь, и в Алуште к тёте Наташе мы ввалились, подняв всех с постели. Этих всех было двое: тётя и бабушка. Ивана Павловича не было в доме, он был где-то на курсах.
Началась обычная в таких случаях суматоха. Нам собрали поу-жинать, согрели воды помыться с дороги. С Людмилой разговариваем, вроде, нормально.
На ночь тётя Наташа стелет постели в большой комнате. Людмиле — на кровати у стены, отделяющей кухню, мне — у капитальной, наружной стены.
Я ухожу, чтобы Людмила разделась. Сам снимаю одежду на кухне. Наконец, я вхожу. Лампочка в комнате не горит. В окна светит луна, и широкие полосы лунного света пролегли от них по полу до кровати Людмилы. Людмила стоит на коленях на кровати в ночной тонкой рубашке с оголёнными плечами, руками прикрывая грудь. Я делаю шаг к ней, кладу свои руки на её тёплые голые плечи и привлекаю к себе. Она резко отталкивает меня: «Ты с ума сошёл!»
Всё! Терпение кончилось! Я оскорблён и взбешён. Я не говорю ей ни слова, я поворачиваюсь, иду к своей стенке. Через минуту я засыпаю: нервы у меня ещё хоть куда.
Утром, не говоря Людмиле ни слова, не прощаясь, я объясняю удивлённой, но всё понимающей тёте и бабушке, что мне нужно срочно выехать на работу, и ухожу. В Симферополе беру билет на самолёт до Новосибирска через Москву. Рейс, назначенный в полдень, задерживается и переносится несколько раз. Наконец, самолёт улетает в Москву.
В Москву попадаю за день перед отправкой трофейных картин из Дрезденской галереи на родину, в ГДР. Остановившись у Самородовой Зины — она из Прокопьевска переметнулась в Москву и живёт у родителей, я отправляюсь на поиски музея изобразительных искусств имени Пушкина. Иду узкими улочками в центре столицы где-то повыше Кремля и краем глаза замечаю впереди какую-то несуразность. Я останавливаюсь, поднимаю глаза. Стена небольшого трёхэтажного дома, а точнее, полуметровый слой вековой штукатурки, как в замедленном кинофильме, отстаёт от кирпичной кладки стены и, неторопливо кренясь, застыв на мгновение в этом наклоне, вдруг сразу с грохотом рушится вниз, разбиваясь об асфальт тротуара за спиной миновавшей дом женщины. Она, словно ужаленная змеёй, оборачивается, подпрыгнув, и тонет в облаке взметнувшейся пыли.
…да, вот тебе и случайность с необходимостью — вот тебе и цена одного лишь мгновенья. Задержись женщина на мгновение — и лежать бы ей под грудою глыб с переломанными костями и расплющенной головой. Не заметь я едва уловимого начала движения, не прерви свой шаг остановкой — то же самое могло случиться со мной.
Отряхнув с чёрных брюк своих пыль, я выхожу прямо к музею. За чугунной оградой в глубине большой особняк постройки прошлого века. Перед оградой — несколько человек. От них узнаю, что завтра действительно последний день выставки трофейных картин. В музее проводят за день четыре двухчасовых сеанса, на сеанс продают билеты для двухсот человек. Запись в очередь — выше, на Гоголевском бульваре. Я поднимаюсь туда, подхожу к бюсту Гоголя. Там толпа. Да, пишут очередь. Записываюсь и я. Четыре тысячи какой-то по счёту… Это же никаких шансов попасть! За восемь часов в четыре сеанса пройдёт восемьсот человек. Даже если работу музея, допустим, продлят часа на четыре — это всё равно только тысяча двести… Грустно… Я околачиваюсь в толпе, где обсуждают эти самые шансы, и все во мнении сходятся, что в музей не попасть. Но люди подходят и продолжают записываться. Желание увидеть прославленных мастеров велико, выше здравого смысла, выше логики арифметики. Так велика надежда на чудо!
…в сквер заползают сумерки. До рассвета целая ночь. Скамеек на бульваре немного. И все они заняты. Не стоять же всю ночь на ногах! И мы договариваемся, что со списком в сквере останутся ночевать те несколько человек, кто устроился на скамейках. Утром в шесть часов сделаем перекличку. Опоздавших вычеркнем. Теплится всё же надежда, что кто-то не явится, хотя понимаю, что она иллюзорна. Кто-то, конечно, не явится, — но не три тысячи, верно?
Я уезжаю ночевать к Зине, а утром перед шестью появляюсь у Гоголя. А тут уже выстроилась колонна — и все четыре тысячи налицо. Начинается перекличка… Но что это? Такая же очередь выстроилась напротив, по ту сторону переулка, что вниз от бульвара, там ещё тысячи четыре стоят. Это те, кто впервые только утром пришёл, и они не хотят признавать вечернюю запись. У них своя перекличка.
Время подходит к семи, и, точно кто дал команду, хотя никакой команды и не было, обе очереди разом двинулись навстречу друг другу и, сойдясь на дороге против центра бульвара, враз повернули вниз в улочку, что выводит к музею. Каждая колонна по своей стороне. Но совместное движение длится недолго. Наша колонна слева, ближе к музею, на его стороне. Наши соперники, естественно, — на другой. Я плетусь за своими в самом хвосте, но не смешиваюсь со всеми, иду с краю по тротуару, скорее из любопытства, чем из надежды попасть в недоступный музей.
…тут из противоположных рядов выскакивает дюжина молодцов, и, заскочив перед нашей колонной, сцепившись локтями, преграждают ей путь, пропуская свою колонну вперёд. Но люди-то сзади идут, напирают, напор на враждебную цепь всё растёт, и та, не выдержав, разрывается. Наши, прорвав этот заслон, бегут четырёхтысячной массой, нагоняют и обгоняют колонну противника. Наши мóлодцы забегают вперёд и, схватив друг друга под локти, останавливают её.
В суматохе сражения можно проскочить, протолкаться к передним — кто теперь очередь соблюдёт?! Но я в толпу лезть не хочу, хотя мне и не приходит на ум мысль о Ходынке. Держась на полшага позади всех у решётки на тротуаре, я не бегу вместе со всеми, а медленно за бегущими следую — потому что какой смысл в этом беге? Точно так, как и мы, наши соседи, поднажав, сметают нашу преграду и бегут по улочке вниз, и их заслон преграждает нам на время дорогу. Потом мы их сметаем, и наша толпа, озверев, мчится вниз, не разбирая уже ничего. А за ней на асфальте — с ног сбитые женщины, трости, палки, сумочки, зонтики, раздавленные очки.
…страшное дело — бегущее стадо, толпа!
Слухи о беспорядке в переулке возле музея достигли милиции. Мы ещё лишь приближаемся к повороту ограды из переулка к входу в музей, как к нему подкатывают четыре грузовика битком набитые милицейскими в белой форме. Ссыпавшись с грузовиков, милиционеры врезаются в сбившуюся толпу, не разбирая ни правых, ни виноватых, отрезая людей, стоящих у решётки на тротуаре, от беснующихся на проезжей части дороги, оттесняя их к стенам противоположных домов. После чего быстро выстраивают ровную очередь из оставшихся у ограды.
Очередь установлена. К кассе идут счастливчики, что оказались на тротуаре, оберегаемые милицией от несчастливой оттеснённой толпы. Я среди первых на самом углу. Это так близко от кассы, что я могу попасть в две сотни на первый сеанс. Очередь движется к кассе, те, кто с билетами, пропущенные во дворик, скапливаются возле музейных дверей, ожидая открытия. Вот и я в двух шагах от кассы, ещё минута, другая — и я куплю заветный билет. Но тут окошко кассы захлопывается — проданы двести билетов. А впереди меня всего два человека… Стало быть, я был двести третьим. Вот досада — не бывает счастья без горчинки! Но два часа можно и подождать.
Через два часа сеанс закончен, первый поток посетителей изгоняют из залов, и вот я вступаю, скажем так, не очень против истины погрешив, под своды Дрезденской галереи.
…народ растекается влево и вправо по залам первого этажа. Кое-кто сразу устремляется по парадной лестнице вверх. Я по привычке поворачиваю сначала налево. Картин так много, что сразу понятно, за два часа можно только пробежаться по залам, мельком взглянув на полотна. Я бегу… и останавливаюсь. Боже! Какое чудо висит на стене! Какое лицо! «Святая Инесса» Риберы. Молодая девушка на коленях с длинными ниспадающими на грудь волосами, стыдливо прижимаемыми руками к открытой груди. Изумительное лицо её поднято кверху, и столько в нём чистой мольбы. Как можно такое передать на картине! Я стою минут десять и не могу отойти.
Но время уходит, и я, спохватываясь, бегу, скольжу глазами по великолепным полотнам. Замечаю знакомые мне по «Истории…» Грабаря. На секунду задерживаюсь перед ними. Вот «Шоколадница» Лиотара. Как я ещё в детстве восхищался выписанностью каждой складочки на её платье, на фартуке. В действительности всё ещё тоньше. Все детали прописаны поразительно. И притом всё так выпукло, так объёмно. Как же можно такого достичь?!

…я люблю живопись, но я не знаток, и на вкус безупречный не претендую. Но, безусловно, я понимаю, что Лиотар — не Рибера. Выписать состояние души человека — это всё же не складочки… Многие знаменитые картины оставляют меня равнодушным. Да, написано гениально. Я чувствую это, но меня ничто в них не трогает. Другие же — очень близки мне, и, может, мастера их не так искусны, как гении, но я задерживаюсь у этих холстов.
А время бежит, вот уже и час миновал, а ещё и второй этаж есть. Надо успеть хотя бы краем глаза взглянуть. Забегаю на минутку к «Инессе» полюбоваться её чудным лицом и поднимаюсь по парадной лестнице вверх. На площадке между двумя этажами толпа. Одиноко, отдельно от всего остального, возвышаясь над всеми, висит полотно в два человеческих роста. Знаменитая рафаэлевская «Мадонна с младенцем», называемая Сикстинской. Останавливаюсь. Смотрю. Картина великолепна. Но мне «Инесса» милее.
В спешке промелькнул второй час. Я обежал все залы и на все картины взглянул. Но разве так смотрят картины?!
…звенит звонок, нас выпроваживают из залов. Уходя, бросаю прощальный взгляд на «Инессу». Самое большое впечатление — от неё. А может быть от её красоты?
…В этот день успеваю побывать и в Кремле. Площади его в этот год впервые открыты для посещения после девятьсот восемнадцатого. Воочию убеждаюсь в огромности бесполезных Царь-пушки, Царь-колокола и в великолепной гармонии Кремлёвских соборов. Но в Кремлёвские палаты попасть не могу. Не могу даже узнать, где продаются билеты. У палат есть таблички с расписанием посещений, но кассы нет, и дежурные милиционеры на мои вопросы только пожимают плечами. Засекретили так, что никто и не знает, как побывать в Грановитой и Оружейной палатах, мне знакомых тоже по Грабарю. Так я эти палаты в натуре не посмотрел никогда.
…Остаётся последнее. Я покупаю букет и еду на Белорусский вокзал к любимому Горькому. Но, подойдя к памятнику в центре вокзальной площади, вдруг смущаюсь и не решаюсь положить к подножью памятника цветы.
…почему я стесняюсь своих побуждений?
…Через день я уже в Междуреченске. Всё случилось не так, как я думал. От радости при отъезде и следа не осталось. Разрыва с Людмилой вроде бы не было, но… собственно, это был конец затянувшейся любовной истории, столь мучительной для меня. И тут, как во всяком конце, следовало бы поставить окончательно точку. Я вроде бы её и поставил, но нечаянно поставил рядом другую и третью, и вышла не точка, а многоточие. В какой раз точно по Симонову:
Раз так стряслось, что женщина не любит,
Ты с дружбой лишь натерпишься стыда.
И счастлив тот, кто разом всё обрубит.
Уйдёт, чтоб не вернуться никогда.
Он так не смог, он слишком был влюблён,
Он не посмел рискнуть расстаться с нею…
Мой отъезд из Алушты Людмилу нисколечко не расстроил. Дни она проводила на пляже. Вечерами иногда гуляла по набережной с Натальей Дмитриевной и вернувшимся с курсов Иваном Павловичем. «Раз, — рассказывала тётя Наташа, — зашли мы в ресторан, сели за столик, разговариваем. Вижу: один молодой человек загляделся на Люсю, потом встал, подошёл к нашему столику и поцеловал её в губы. Я удивилась: „Люся, как можно?!“ „А что тут такого, — отвечала она, — почему бы ни доставить удовольствия человеку, если это ему нравится“». Вот так-то, — почему бы ни доставить удовольствия чужому незнакомому человеку! А «самому близкому», по её же словам, — накося, выкуси!..
Да вышло по Симонову. Разумеется, тогда я о Симонове не думал, а вот сейчас, изменив «он» на «я», могу написать:
Я так не смог, я слишком был влюблён,
Я не посмел рискнуть расстаться с нею.
Хотя в тот момент полагал, что посмел. Да разве знаешь себя до конца, хотя пора бы о себе кое-что и узнать. Началась какая-то тягомотина в письмах, но, к счастью, она тянулась недолго. Сама же Людмила мне помогла, написав после страстной моей переписки: «Вова, я тебя не люблю, но я не кукушка, я хочу иметь нормальную семью и выйду за тебя замуж». Но об этом ей бы следовало подумать в Алуште и писать так мне не стоило, если бы она действительно хотела выйти за меня замуж. Собственно, она за меня поставила точку. Ничего себе семейка, где жена мужа не любит. Нет, пожалуйста, извините. Зачем мне жена, которая не любит меня. Впрочем, вряд ли она за меня выйти замуж хотела. Просто настроение у неё вышло такое после… после чего, я, конечно, не знаю. Но всё это будет попозже, через несколько месяцев, а пока было другое. Наверное, в Сталинск я послал ей письмо весьма резкое, ведь мне было совсем непонятно, зачем она приезжала ко мне в Туапсе.
…на него она откликнулась быстро: «Твоё письмо было неожиданным. Ведь мы (sic! — В. П.), кажется, пришли к выводу: нам тесно вместе, наша поездка ещё убедительнее слов… Ты и сам знаешь, что я рада видеть тебя, но вместе мы как-то не можем быть; уж очень мы разные люди».
Письмо это задело меня. Что же это она за меня говорит: «Мы пришли к выводу». Я к этому выводу с ней вместе не приходил. Если ей тесно, пусть так и писала бы. Мне тесно не было. Для меня быть с нею всегда было радостью, счастьем… Но вместо этого естественного ответа я выплеснул равнодушному чёрствому человеку вопль боли своей: «Люся! Ты сама виновата в этом письме. Была обида, горечь и уязвлённая гордость. Из-за них любовь моя отступила, ушла вглубь, затаилась; притупилось ощущение потери настолько ужасной, что я до сих пор не могу осмыслить её и в это поверить… И можно ли привыкнуть к мысли не видеть тебя никогда. Да, да, я говорил и тебе, и себе — можно, не вдумываясь в то, о чём говорил. А оказалось, что лгал, не помышляя о лжи, эта ложь тогда казалась мне правдой. Говорить легче, чем пережить… Никогда… Я мог в это верить лишь видя, чувствуя тебя рядом; тогда это слово не казалось мне страшным, оно было просто лишь словом, красивым словом печальной покорности власти судьбы… но тебя нет и Меня некому сдерживать, и я не хочу этой власти, этой покорности… Я люблю тебя больше всего на свете, больше себя — и как дико рядом с этими фразами нелепо жуткое «никогда». Никогда не видеть тебя, не чувствовать рядом биения твоей мысли, не слышать милого голоса, не ощущать теплоты, запаха твоих рук, губ, волос… Никогда! Какое могильное слово! А я люблю жизнь, люблю обнажённый трепет её, её дыхание, люблю за то, что в ней существуешь ты, самая умная, самая нежная, самая красивая, самая близкая мне женщина на земле. И я не могу, не хочу верить, что счастье видеть тебя кончилось навсегда, что всё уже в прошлом… а, впрочем, что же делать?! Я всё понял, так, видимо, лучше. Я опущу это письмо, поднимусь по лестнице, вытащу из кармана ключ и открою дверь. Комната встретит меня теплом, которого мне так всегда не хватало, а приёмник зелёным глазком своего индикатора поманит меня. Тепло, охватив моё тело, смягчит боль в сердце, а триумфальный ликующий марш Родамеса вольёт бодрость в него… Я раскрою книгу на давно загнутой странице и в бесчисленный раз прочитаю слова, всегда придававшие твёрдость и стойкость… и звуки победного марша сольются с мощным лермонтовским аккордом:
Печали сердца своего
От всех людей укрой,
Быть жалким — вот удел того,
Кто ослабел душой.
Не выдай стоном тяжких мук,
Приняв судьбы удар.
Молчанье — самый верный друг,
А стойкость — высший дар.
Прощай. Володя».
Но как же ударило меня это её письмо!.. Я вышел на улицу. Было темно, тихо, пустынно. Я совершенно один, и никакой собаке не скажешь, что с тобой происходит, какую муку несёшь. Был бы волком — завыл бы от отчаянья и одиночества. Ни одной душе в мире я совершенно не нужен. Как же так жить? Я брёл по улице. Скрытая облаками луна временами просвечивала сквозь их набежавшую истончённую пелену, и тогда было видно, как они несутся мимо неё лихорадочно и тревожно, постоянно меняя свои очертания и неравномерную плотность свою. Изредка они таяли вовсе, и тогда ночная царица озаряла улицы и дома своим неземным беспокоящим светом, поселяя в душе тоску безысходную.
Я сделал по городу круг и вернулся к порогу. Задрал голову к небу и увидел в нём перемену. Облака успокоились. Они плыли медленно, величаво, и луна царила в просветах меж ними. Да, в небе установился покой, но не было покоя во мне, и, сжав зубы, я всё же по-волчьи завыл, хотя и беззвучно, мелодию тоскливую, однообразную, дикую.
…Нет, я вовсе не был таким одиноким. У меня были друзья. Я сдружился с Китуниными — Миша уже перевёз Юлю с мамой, он получил трёхкомнатную квартиру в доме напротив. Привечали меня и Тростенцовы. А через эти семьи я свёл знакомство с Астаховым Юрой, тоже строителем, выпускником нашего института, и его женой, Музой Смоленцевой.
Юрий Мефодьевич родился в городе Ленинграде в интеллигентной дворянской семье (ведущей род из донских казаков). Прошёл войну, на фронте познакомился с Музой Александровной, добровольцем записавшейся в 1942-м году в полк 150-й сибирской дивизии, формировавшийся в Кемерово.
По окончании института Юру назначили главным инженером завода домостроительных конструкций (ДСК), а Музу — заведующей горздравотделом. Эти очень милые люди пришлись мне по душе. Юра был молчалив, выглядел болезненно — высокий, сухой, сильно сутулившийся. Как человек он был порядочен и всегда был рад другому помочь. Муза же вообще представляла собой само обаяние. Она, как это ни странно, несмотря на разницу лет, сдружилась с моей мамой. Мама сблизилась и с Екатериной Константиновной Садовской. Так что дружили все мы домами, и все праздничные застолья у нас всегда были общими. Да и жили все рядом. Муза с Юрой — в нашем доме, только в другой ножке «П», нежели я.
…помню раз, прошедшей зимою вернулся я ночью из Сталинска от Людмилы удручённый как — одному богу известно, настроение — хоть топись. Открываю ключом дверь квартиры — темно. Мамы нет дома. Обзваниваю знакомых, узнаю, что мама у Музы. У той день рождения.
У меня нет подарка. Я же не знал. Но это меня не смущает. Какие подарки среди друзей! Друзья дороги без всяких подарков. И я иду к Музе. Там пир в самом разгаре. Все за длинным столом, лица красные, разгорячённые алкоголем. Моё появление встречают радостным криком, и тут же, ещё не раздевшемуся, у дверей подносят штрафной стакан водки. «Штрафной! Штрафной!» — хором скандируют за столом, и я залпом опрокидываю стакан. Это сейчас как раз то, что мне нужно. Я сбрасываю пальто и усаживаюсь за стол на освобождённое место. А там второй стакан наливают. Я залихватски опрокидываю и его в рот. Мне аплодируют, а Муза с восхищением замечает: «А ещё говорили, что Платонов не пьёт».
А мне весело, хорошо. Я танцую за полночь, кружу милых дам и ухожу по одной половице. Рвёт меня уже дома. Ложе моё опрокидывается. То дыбом встаёт, как норовистая лошадь, то начинает кружиться, как карусель, и я противного кружения этого остановить не могу.
Утром я болен, разбит, мутится голова. Сколько лет мне твердят, что утром надо опохмеляться, но я утром отвращения к водке не в состоянии преодолеть, сама мысль о ней меня выворачивает наизнанку. Видеть её, проклятую, не могу и мучительно страдаю весь день. Так до сих пор и не знаю — в самом ли деле с похмелья помогает она?
…Очень не люблю спешки и суеты. От неё случаются казусы. Рассказываю Музе о забавном случае, происшедшем со мной из-за спешки. Она хохочет. Потом говорит: «Это ещё что. Со мной вот что было на днях. Звонят из горздрава: комиссия — надо срочно приехать, машину за вами уже выслали. И тут же звонок в дверь: шофёр. А я ещё не одета. Торопливо натягиваю чулки, лихорадочно одеваюсь, в спешке накидываю на плечи шубу, выскакиваю на улицу, влезаю в машину, еду в горздравотдел… Вхожу в свой кабинет, где уже собрались сослуживцы, снимаю и вешаю шубу, оборачиваюсь и… вижу в глазах у всех изумление… Я в одной комбинации — второпях забыла платье надеть!.. Ну, понятно, хохочу вместе со всеми. Благо есть выход. Мне подают белый халат, я в него облачаюсь и принимаю комиссию. Поди теперь догадайся, есть на мне платье или нет!»
…Сразу после моего возвращения «из Туапсе», я был вызван в кабинет к Плешакову. Тот усадил меня напротив себя и стал подробно расспрашивать о санатории, о природе, об условиях быта, питании. Узнав, что я летел до Москвы и обратно на самолёте, спрашивает, сколько стоит билет до Москвы. Выведав, что билет стоит тысячу рублей, сказал: «Это дорого». На что я резонно заметил: «Зато в пути сэкономил неделю, — и не вполне резонно добавил: — и на еду в поезде тратиться не пришлось». С первым доводом он согласился, второй, усмехнувшись, парировал: «Есть-то и в сэкономленные дни надо». Я был посрамлён в легковесном суждении, хотя мог, конечно, сказать: «Я у тётки питался». Но согласитесь, это был бы смехотворный ответ.
…я начал влезать в дела гидрокомплекса, но через пару недель вновь оказался у Плешакова.
— Тут вот какая история, — начал он с ходу. — Надо чистить флотохвостохранилище — это ведь и тебе тоже нужно, твои «хвосты» тоже там будут. Но для погрузки угля надо выстроить эстакаду. Сумеешь её спроектировать? Время, я думаю, ты выкроить сможешь.
— Отчего же нет, — ответствовал я, польщённый таким предложение
— Месяца тебе хватит?
— Думаю, управлюсь быстрее.
— Ну, тогда приступай. Маркшейдерский отдел окажет тебе содействие, я об этом распоряжусь.
Теперь поясню: флотохвостохранилище — это шламовые отстойники, накопители тончайшей угольной пыли, принесённой водой с обогатительной фабрики после обогащения угля в воде. Вылившись из трубы с края отстойника, шламовая вода широко растекается по поверхности искусственного пруда площадью в два-три гектара, теряет практически всю свою скорость, и угольные пылинки оседают на дно. Вода осветляется и, переливаясь через стенки колодца с другой стороны хранилища, уходит на фабрику. Постепенно отстойник заполняется доверху угольным шламом, надо переключать воду в соседний отстойник, а заполненный — очищать.
…с задачей справился я за неделю. Ещё быстрее была построена эстакада, и уже в августе драглайн черпал шлам, высыпал его на громыхающий транспортёр, который, взобравшись на эстакаду, ссыпал его в бункер, откуда тот выгружался в кузова самосвалов, подъезжавших под бункер.
Проходя каждый день по мосту на работу, я не мог удержаться и поворачивал свою голову влево, смотрел на драглайн, на едущие машины с углём и втайне гордился собою. Это ведь реальное, пусть и скромное, воплощение моего умственно труда. Но вообще-то повода для хвастовства не было никакого, это сделал бы любой грамотный инженер.
…Уже первый по возвращении из отпуска обход строившихся объектов показал, что ритм работ решительно изменился. Везде копошились рабочие: и в пристройке для центрифуг на обогатительной фабрике, и рядом — на наших железобетонных отстойниках, и в насосной станции у реки, и в углесосной камере в шахте, и на трассах водоводов, пульповодов и шламопровода.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.