
Бесплатный фрагмент - Сибирь – любовь моя, неразделённая
Том I
Предисловие
Эта книга — воспоминания о жизни в СССР двадцатилетнего человека на переломе эпох: от сталинской тирании к оттепели авторитарного правления Никиты Хрущёва.
Молодой восторженный человек, с пелёнок одурманенный большевистской пропагандой, изливающейся на него непрерывно из радиорепродуктора, со страниц газет, журналов и книг, совершенно оторван от реалий обыденной жизни.
Обладая достаточными знаниями и неплохими способностями, он волей случая (из-за нелепой описки при поступлении в московский вуз) оказывается в Сибири, в Кемеровском горном институте за тысячи километров от родных ему мест.
Проходя обучение в институте, он сталкивается с неприглядной действительностью, с тем, чего, по его мнению, в социализме быть не должно, и впервые приходит в недоумение от расхождения между тем, что было ему внушено государственными печатью и радио (иных в СССР просто не было) и тем, что происходит на самом деле).
Влюбившись в сокурсницу, он, почитая женскую красоту как нечто возвышенное, неземное, трепетно к ней относясь, стесняется с девушкой объясниться, и попадает в глупые положения. Студентка, узнав, что он любит её, подаёт ему некоторую надежду, но вскоре отвергает его, повергая в страдания неразделённой любви, доводя его до отчаяния.
Но жизнь идёт. Год от года отлично сдаются экзамены, проходят лагерные военные сборы в Юрге и Красноярске, где он тоже сумел отличиться, любимая неожиданно признаётся, что любите его, и тут же обманывает возродившиеся надежды, снова обрекает его на мучения.
Наконец, вуз окончен, получено направление на шахту в городе Междуреченске. Тут всё ясно, но в отношениях с девушкой полная неопределённость. Работа на шахте и завершение производственной сибирской «карьеры» и отношений с любимой — во второй книге повествования: «Междуреченск».
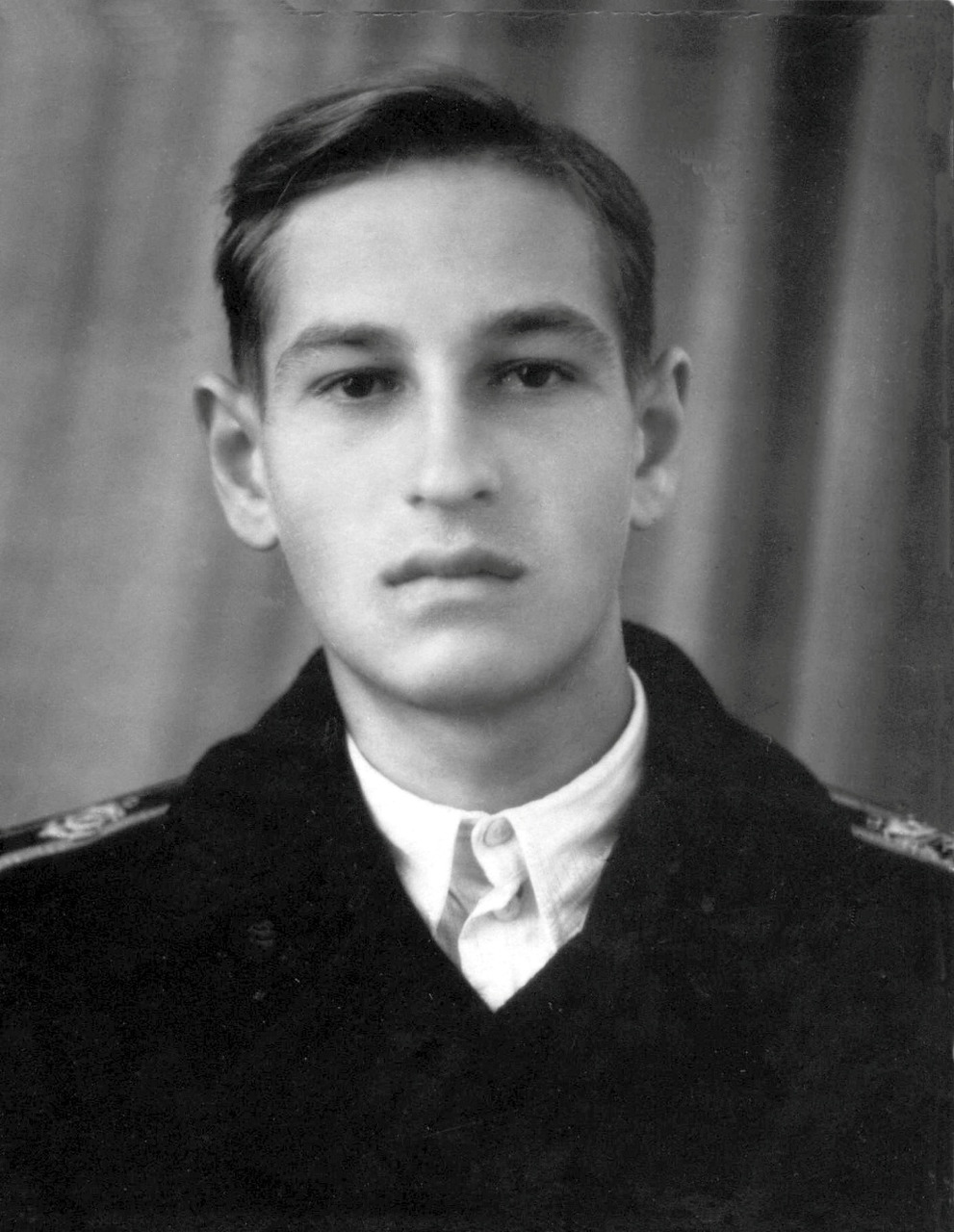
Рис. 1. Нет, я не Штирлиц — я другой.
1950 год
…Снег не стаял ни первого, ни второго, ни третьего января. Второго числа, сговорившись со своими одноклассниками Ростиком Козловым и Боровицким Ефимом, мы взяли лыжи в школьной кладовой (каким образом их в Крым занесло — объяснить невозможно!) и отправились кататься в Рабочий Уголок. Накатавшись там вволю по окрестным горам, мы к концу дня засобирались обратно, решив сократить путь и перевалить через гору между Уголком и Алуштой у дачи писателя Сергеева-Ценского. Поднимаясь лесенкой в гору и чертовски устав, я помянул, что здесь где-то должна жить Лена Полибина и, быть может, нам стоит к ней завернуть и немного передохнуть.
— Да, верно. Давай к ней заедем, — подхватили товарищи моё предложение.
…Дом Лены отыскался довольно легко, он стоял на горе на отшибе как раз чуть выше дачи писателя. Лена весьма удивилась неожиданному нашему появлению, но вида не подала, то есть вида не подала, что удивилась, зато сам вид её свидетельствовал, что ей это приятно. Она и её мама, Клара Михайловна, пригласили нас в дом, и мы, оставив лыжи во дворе, вошли в странную комнату, остеклённую от пола до потолка, как мне показалось, со всех четырёх сторон. Нет, вместо четвёртой, конечно, был коридор. Тут же на столе явились и чашечки с кофе, которого я, должно быть, до этого и не пробовал никогда, и что-то к нему.
…посидев немного с этими милыми женщинами и поболтав бог весть о чём, мы попрощались и скатились на лыжах в Алушту уже в сумерках.
…Зимние каникулы пролетели так быстро, как всегда пролетает беззаботное время. Начались рабочие будни. По вечерам я зачастил к соседу своему Кроку. Мы вместе с ним делали уроки по математике, ну, и болтали о школьных делах. Виталий мне открылся, что пишет стихи, и прочитал большое стихотворение о пограничниках, охраняющих рубежи… Складное стихотворение, но особого впечатления не произвело. А вот то, что у Крока есть такая способность, было узнать интересно. У меня такой способности не было.
…в один из вечеров нам пришла в голову мысль пошутить над своей одноклассницей Ханиной Верой, девушкой миловидной, но полной сверх всякой меры. Мы засели писать ей стихотворение, которое как-то само собой приобрело фривольный оттенок. Причём я весьма деятельно участвовал в сочинении, помогая застрявшему Кроку подыскать подходящую рифму, а то и целую строчку придумать. Стихотворение вышло длинное, на целую страницу, из него приведу лишь последние строчки:
Чтоб ты сама мене сказала:
Давай, мой миленький, ещё.
Я не случайно выделил здесь слово «мене». «Поэты» мы были настолько беспомощные, что не сообразили: это несуразное безграмотное «мене» при сохранении смысла и ритма легко заменить пристойным «бы мне». Это «мене» и позволило адресату заподозрить в авторстве Крока. В этом Вера призналась мне несколько лет спустя. Крок, оказывается, не вполне правильно говорил (а я этого и не замечал!), и это самое «мене» употреблял в своей речи. Я, разумеется, о своём участии в составлении опуса застенчиво промолчал.
…но доказательств нашего авторства не было никаких. Под стихотворением, переписанным нейтральным чертёжным почерком, красовалась собственноручная подпись Ефима Боровицкого. На него, естественно и обрушился удар разгневанной Веры Ханиной.
…Подпись Ефима скопировал я, хотя скопировать её было непросто: очень витиеватый был почерк. Но я дока по части подделывания подписей (упаси вас Боже подумать, что я это где-то использовал — просто так, из любви к искусству освоил я это занятие).
…на другой день, на перемене, улучив момент, когда в классе, то бишь в физкабинете, в котором размещался наш класс, не было никого, мы сунули своё сочинение в Верин раскрытый портфель между страницами учебника.
В тот ли день или в один из ближайших, записка и обнаружилась. Войдя в класс, я увидел возле Вериной парты всех наших девчонок и с ними Ефима, багровое лицо которого выражало крайнюю степень растерянности, недоумения и негодования. Шло возмущённое обсуждение нашего «лирико-эротического» послания. В гаме множества девичьих голосов выделился голос Ефима, повторившего несколько раз: «Подпись моя, но письма я не писал, не подписывал».
…что-то в ту зиму мы зло шутили над Боровицким, хотя я к нему не только зла, но и малейшей недоброжелательности не испытывал, он был моим хорошим товарищем. Видно, энергии нашей нужен был выход, и он находился в далеко неблаговидных поступках, в глупых небезобидных дурачествах. А может, меня подбивал Крок?.. Во всём он выступает активным началом. Я начала эти охотно поддерживаю и участвую в них, но инициатор-то он.
…однажды, узнав, что Ефим по какой-то причине задержится в школе до позднего вечера, мы с Виталием помчались домой. Он натянул на себя кожух, вывернутый наизнанку, мехом наружу, и такую же лохматую шапку нахлобучил на голову. Я тоже облик свой как-то преобразил, и, прихватив с собой игрушечный браунинг, который ни формой, ни величиной не отличался от настоящего, притаился с Кроком в неосвещённом глухом переулке возле каменной лестницы, зажатой в узком проходе меж стен. Лестница крутыми ступеньками спускалась сверху от улицы с магазинами, церковью, поликлиникой и милицией вниз к речке Улу-Узень возле городской бани. Здесь Ефим кратчайшим путём ходил из дому в школу и из школы домой.
Ночь была ветреной, сырой, нехорошей. Мы иззяблись, топчась на месте в ожидании Фимы. Наконец, в слабом свете верхнего уличного фонаря замаячила высокая фигура Ефима. Когда он поравнялся с площадкой, где мы поджидали его, прижавшись к стене, мы выскользнули к нему словно тени на ногах полусогнутых, чтобы себя ростом не выдать, загородив спуск Ефиму.
— Сколько времени? — спросили мы изменёнными сиплыми голосами (Ефим был единственным в классе, у кого были ручные часы).
Ефим подтянул рукав кожаного пальто:
— Тут темно, рассмотреть невозможно, — сказал он. Голос его был напряжён.
— Снимай часы, мы рассмотрим, — проблеяли мы и для острастки направили на него наган.
— Да, что вы, ребята, — заговорил Ефим, и в голосе его был уже настоящий испуг.
…Послышались шаги человека, спускавшегося сверху по лестнице, — мы быстро юркнули в темноту узкого извилистого переулка. Разумеется, мы не собирались грабить Ефима, хотели просто дурака повалять, но не продумали, как будем выпутываться из этой истории. Что бы мы делали, если бы он отдал нам часы? Непредусмотренные шаги легко всё разрешили… Надо сказать, что Фима не крикнул и на помощь себе не позвал. Впрочем, помощь могла не прийти: возможно, топала какая-либо девчушка.
…нас Ефим не узнал. Наутро в классе мы с Кроком с интересом ожидали его рассказа о ночном нападении, но он не сказал об этом ни слова. Само собой, благоразумно промолчали и мы.
…С приходом третьей четверти на меня обрушилась напасть — я стал заикаться. Причём очень сильно, как прежде никогда не бывало. В разговорах с товарищами всё было нормально, но стоило выйти к доске отвечать, как я начинал безбожно б-б-бекать и м-м-мекать. С чего это вдруг? До сих пор не пойму, уроки я знал, отвечать не боялся. Семь потов сходило с меня, пока я, н-н-наконец, договаривал фразу. Учителя слушали меня терпеливо, иногда останавливали: «Достаточно», и ставили очередную пятёрку. Но какой это был стыд для меня заикой стоять перед классом, и какая же мука! Промучился я этак месяца два, а к началу весны заикание само собою незаметно пропало, — будто и не было ничего, оставшись кошмарным воспоминанием.
Весной мне стали сниться сны об отце. Будто он приходит домой невредимый, в сером бумажном костюме, высокий, худой, но живой, а мы-то думали, что он умер. Несказанная радость охватывает меня. Вот он, мой папа, стоит рядом со мной, я могу дотронуться до него, и он такой добрый, хороший. Кто же уверил нас, что он умер? Просто он был далеко-далеко, откуда и письма не доходили.
Этот сон повторялся через неделю, и каждую неделю я был счастлив во сне оттого, что папа мой жив, жив, жив — так, очевидно, мне его не хватало.
И вдруг мне приснился сон очень странный, цветной, но впервые в жизни не радостный, как это было с цветными эротическими снами, а зловещий. Будто мы с мамой и тётей Любой ночью в нашем деревянном доме на хуторе на Кубани. Мама и тётя укладывают штабелями в комнате красное мясо, нарезанное аккуратно ровнёхонькими квадратными пластами, какими бывает нарезан дёрн для газона или свиное сало с бледно-коричневой кожицей.
Я со стороны наблюдаю за их спокойной работой: комната до полвины заполнена жуткими кровоточащими кусками, а они всё носят и носят с улицы новые и новые пачки, деловито ровняя их на полках. Никто не произносит ни слова, но мне почему-то известно, что алое мясо — не что иное, как человечина. Во мне застыл ужас, тошнота, рвота подступают к самому горлу…
Я просыпаюсь, сердце колотится так, словно хочет вырваться из груди. И сразу осознаю — это ведь сон, только сон и не больше, и я не на хуторе, а в Алуште. К чему бы это? А, вроде, и ни к чему. Но, возможно, это было предвестье болезни, которая в мае и началась, а перед этим — ни с того, ни с сего — заикание. Говорят же: во сне видеть мясо — к беде. Впрочем, в вещие сны я не верю.
…Ещё с началом зимы я стал часто бывать в интернате, где жили мои одноклассники из окрестных сёл Тремпольц, Лисицын и Турчин. Против школы через дорогу был двор, огороженный каменной стенкой и покоем построенными длинными смыкавшимися домами. Слева — часть в полтора этажа, в ней внизу находились подсобки, а вверху — за открытой верандой — школьный клуб или, иначе, актовый зал. Прямо — в один этаж — интернат. Что было справа — не помню. Может, и не было ничего, а была глухая стена алуштинской церкви или глухая ограда.
За сплошной застеклённой верандой интерната сквозь стекло угадывалось членение дома на комнатки с дверьми и окошечками. В них жили ученики старших классов. Наши жили втроём в такой комнатке. Были они весьма мне любопытны, достаточно начитанны, и, придя к ним, я сразу втягивался в обсуждение «философских» вопросов. Об искривлении пространства, как это и что? И сразу решал для себя: «Нужно заняться изучением геометрии Лобачевского» — и действительно изучал. Часто спорили мы о таких категориях, как случайность, необходимость, приходя к единому мнению лишь на простейших примерах. Кирпич ни с того, ни с сего на голову с крыши не упадёт, но с полуразрушенной крыши он упадёт обязательно рано иль поздно, ему некуда деться, ему просто необходимо будет упасть, когда последняя подпорка истлеет. Так что падение кирпича есть необходимость в данных условиях. А вот то, что вы в этот момент подставили под него свою голову, есть случайность чистейшей воды. Если не верить, конечно, в предопределённость божественную, но тогда всю философию с логикой вместе надо выбросить к чёртовой матери… Я в Бога интуитивно не верю, бытие Божие (как, впрочем, и небытие) доказать невозможно. Но даже если принять существование Первичного Разума, то, по-моему, смехотворно надеяться, что он будет движения каждой букашки предопределять. И коль скоро такие букашки Вселенной, как люди, творят неописуемые безобразия и бесчинства, то придётся признать, что очень плохо Творец управляется с делами своими. Скорее уж он самые общие законы движения установит, а движение каждой песчинки само выльется из столкновения миллиардов причин. Тогда, безусловно, всё на свете предопределено, и то, что мы называем необходимостью, есть не более, как знание безусловных причин, вызвавших действие, а случайность — полное незнание всех их из-за их несчётной бесчисленности. И вот тут философия с логикой и психологией (она ведь тоже логика — поведенческая) к месту в познании нашего мира точно так, как кинетическая теория газов, позволяющая судить о процессах в больших их объёмах, не касаясь движения каждой отдельной молекулы (и даже не зная о ней).
Иногда в разговорах своих мы переходили на литературные темы, дух творчества был нам не чужд, двое из нас (я в это число не вхожу) хорошо рисовали, и как-то так вышло, что мы сами выпустили стенную газету с юморесками на собратьев по классу и с карикатурами на них и себя. Дух спайки, товарищества у нас был высок, выделяться никто не хотел, и мы подписали свой номер общим для всех псевдонимом Трелистурплат, псевдонимом, надо сказать, очень прозрачным. Его мигом расшифровали, не прилагая усилий.
Математик наш, Елизавета Андреевна Новосельцева — в тот год она стала классным руководителем, — начинание наше одобрила и на классном собрании предложила избрать редколлегию, куда всех нас и избрали. Вероятно, для нашего возраста и состояния газета была интересной, потому что ученики с нетерпением дожидались каждого понедельника, когда мы поутру рано вывешивали свежий номер газеты, толпились возле него, похохатывая. А между этими и школьными делами и приготовлением домашних заданий, которые я выполнял с увлечением — решал не только заданное к уроку, но всё подряд, без единого пропуска, одну главу задачника за другой и по алгебре, и по тригонометрии, и по стереометрии, и по физике, химии, астрономии, — я начал самостоятельно изучать геометрию Лобачевского, понимая ход рассуждений и не понимая нисколечко сути, то есть, не понимая тогда, для чего нужна геометрия Лобачевского.
Ни тогда, ни сейчас, когда я кое-что знаю о пространствах и Римана, и Лобачевского, я не мог, не могу согласиться с утверждением, что параллельные линии где-то пересекаются. Они не могут пересекаться по самому определению своему, иначе они, скажем так, не совсем параллельны, как меридианы Земли. Пятый постулат для меня по-прежнему аксиома. Если, разумеется, говорят о действительно идеальной плоскости, а не об искривлённой поверхности в искривлённом пространстве, где евклидово определение параллельности попросту невозможно. Там должна быть своя геометрия. И нельзя говорить, что Евклид был не прав потому, что в реальном пространстве не существует абсолютно плоской поверхности. Математика — вещь сугубо абстрактная и поэтому именно логикой чистого разума создала поистине изумительный аппарат для познания. Практическое применение этого аппарата в каждом случае требует внесения необходимых поправок в зависимости от условий, в которых рассматривается изучаемый нами реальный объект. Только и всего.
…пока я разбирался со своим Лобачевским, Лёня Тремпольц безнадёжно влюбился в стройненькую худенькую и вертлявую Гризу. Он крутился возле неё, где только мог: в школе, на улице, дома. Гриза снисходительно принимала знаки внимания, но была с ним холодна, а порой и пренебрежительна. Мы все переживали за Лёню: и надо же было ему влюбиться, чёрт знает в кого! Ну, не было в ней решительно ничего, ни обаяния, ни красоты, ни ума. Но от факта не уйти никуда: Лёня пал жертвой неразделённой любви.
…бедняга.
…я, свободный от любовных переживаний, всё в новых и новых занятиях проявлял деятельную сторону своей натуры. В школе у нас сохранились великолепнейшие физический и химический кабинеты, где приборы и препараты накапливались с царских времён. С ними мы могли проводить любые эксперименты, упоминавшиеся в учебниках и не упоминавшиеся в них. Нас поражала самоотверженность старых учителей, сумевших сберечь это богатство и в революцию, и при гитлеровском нашествии. Ничего подобного у людей, которых я встречал в жизни, в школах не было. А наглядный опыт так помогает человеческому, мыслительному развитию!
Все опыты в классе мне удавались отлично, и химичка, Клавдия Алексеевна Полякова, предложила мне провести в школьном клубе «Вечер чудес», а, если он будет удачен, то и ряд таких вечеров. Не ограничиваясь одной только химией, я и физику подключил. И «чудеса» начались:
…на сцене, на столе, накрытом праздничным красным сатином, стоят два тонких прозрачных стакана, наполовину заполненные «чистой» водой. Я из тьмы сцены подхожу к освещённому столику (зал в полутьме), беру в руки стаканы и объявляю:
— Я знаю магические слова, заклинания, которые превращают воду в вино.
Я бормочу под нос загадочные слова, развожу в стороны руки, описываю стаканами замысловатые дуги, круги и «восьмёрки», и переливаю «водичку» из одного стакана в другой. И, о чудо! В стакане искрится вино, прозрачное на просвет, неподражаемо красное с примесью янтаря. Я приподнимаю стакан к электрической лампочке, свисающей с потолка над столом, чтобы все могли оценить и прозрачность вина, и его божественный цвет. Для достоверности пригубив стакан (в малых дозах раствор безопасен), я с восхищением восклицаю:
— Как вкусно! А какой цвет, аромат! — и, заговорщицки подмигнув сидящим в зале ученикам, понизив голос, доверительно добавляю: — Я непременно с удовольствием выпил бы весь этот стакан перед вами, но, — выдержав паузу, — в зале учителя, — тут я притворно вздыхаю, — а школьникам пить запрещается. — И состроив гримасу страдания, я выплёскиваю «вино» в ведро, стоящее под столом, и ополаскиваю стакан водой из графина: улики нельзя оставлять.
Ученики в зале, внизу, дружно мне хлопают, а учителя довольно посмеиваются.
Следуют дальнейшие чудеса — успех грандиозный, и вечера продолжаются.
…чистый лист ватмана я разворачиваю перед залом и прошу убедиться, что на нём нет ничего, но «по желанию моему огонь напишет на нём, что угодно». Тут я чиркаю спичку о борт коробка и язычком жёлтого пламени тычу в еле заметную точечку на листе. Она вспыхивает золотистой искоркой, и искорка эта, превратившись в красный кружочек, витиевато бежит по листу, оставляя чёрный след обожжённой бумаги, слагающийся в обращение:
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
ПРОЩАЯСЬ С ВАМИ ДО СЛЕДУЮЩЕЙ ЗИМЫ, Я ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАЧАЛОМ ВЕСНЫ
И ЖЕЛАЮ ВСЕМ ВАМ ОТЛИЧНЫХ ОТМЕТОК!
ДЕД МОРОЗ
Пожелание Деда Мороза встречается аплодисментами. Ученики средних классов, ещё не знают премудростей, которым обучены мы. А хитрого здесь нет ничего. Текст был мною написан заранее прозрачным насыщенным раствором селитры без отрыва плакатного пера от бумаги; естественно, связи меж буквами я делал ребром пера, чтобы они не были очень заметны. Вода высохла, селитра осталась, и огонёк побежал по её тоненькой плёночке, кислородом своим поддерживавшей горение бумаги до конца последнего слова.
Я вообще способен на многое. Могу без пороха или пружины выстрелить шариком вверх из игрушечной пушки-зенитки. Я приглашаю всех убедиться, что ствол пуст внутри, затем опускаю в него стальной шарик, и… он по команде летит вверх к потолку. Его вытолкнуло магнитное поле, когда я незаметно ногой под столом нажал кнопку, замкнувшую электрический ток. На «ствол» замаскировано по спирали намотана проволока — он просто-напросто электромагнит.
…Я показываю небольшой виток медного провода, концы которого припаяны к лампочке от карманного фонарика. «Как видите, — говорю я, — никакого источника электропитания лампочки нет, тем не менее, я зажгу эту лампочку». Я прошу погасить свет надо мной, делаю сложные «пасы» и проношу виток над столом. Лампочка вспыхивает, хотя источника тока нет. Но под столом у меня — укрытый скатертью мощный излучатель электромагнитных волн, и, когда виток их пересекает, в нём наводится ток, достаточный, чтобы накалить волосок моей лампочки.
И… новое чудо.
— При каком напряжении электрический ток может убить человека? — спрашиваю я у притихшего зала.
— Двести двадцать вольт, — слышатся голоса.
— Верно, — соглашаюсь я с ними, — а вот я заколдован, и никакой ток меня не берёт. — Я ставлю на стол закрытый прибор (катушку Румкорфа) с торчащими из него электродами-остриями и продолжаю. — Этот прибор вырабатывает ток напряжением два миллиона вольт, проверьте, пожалуйста… — А теперь я поднесу пальцы свои к электродам, и этот ток пройдёт сквозь меня и ничего мне не сделает.
Гаснет свет. Зал замирает. Я приближаю руку к катушке Румкорфа, и из её острия сыплются к пальцам моим снопы длинных изломанных молний. «Видите», — говорю. В самом деле, я не чувствую ничего, сила тока в разрядах чрезвычайно мала, мощность тока ничтожна. Эти разряды хотя и эффектны, но от них никакого вреда.
…Слава богу, в математике, физике, химии — тишина (о кибернетике мы пока и слыхом не слыхивали), зато в биологии — бой не на жизнь, а на смерть с буржуазными вейсманистами-морганистами. «Учение» Лысенко-Мичурина кажется нашим неокрепшим и неискушённым умам правильным и логичным, мы с юным азартом крушим бастионы буржуазной биологической науки (и невдомёк нам, что наука, если это наука, может быть только наукой без всяких эпитетов), высмеиваем идеалистическое учение о наследственном веществе, так гены в учебниках называли (материалисты, «горе-философы», не могли мы понять, что большего материализма, чем гены, придумать нельзя, но в верхах-то нашего безбожного государства какие должны были быть идиоты?!).
Совпало с этой борьбой и клеймение безымянных безродных космополитов и низкопоклонников перед Западом. Эти последние меня мало трогали, и всё же и в отношении их я был настроен воинственно. На уроках литературы мы задалбливаем постановление ЦК партии (сорок восьмого года), доклад Жданова, где Зощенко — злобный клеветник на нашу действительность, а Ахматова — великая блудница. Ни того, ни другой мы не знаем, но раз партия говорит…
Нет, к этой травле я совсем равнодушен, слишком всё это далеко от забот моих, моей жизни. Впрочем, в сорок восьмом году, когда доклад Жданова напечатали, и я его прочитал, а в нём рассказ Зощенко «Приключения обезьяны» был упомянут, во мне взыграло ретивое, и я на перемене помчался в городскую библиотеку. Там, по счастью, «крамольную» литературу ещё не изъяли — приказ, видимо, запоздал, — и я в читальном зале этот рассказ прочитал, не найдя в нём ни очернительства, ни даже насмешки. Речь, помнится, шла об обезьяне, удравшей из цирка (или из зоопарка, быть может). На воле встретился ей овощной магазин, где продавали морковку, и поскольку она была голодна, то решила чуточку подкормиться. Очередь была так велика, что к дверям магазина ей было никак не пробиться, и тогда обезьяна, вскочив на головы людям, зажатым в толпе, по ним и добралась быстренько до прилавка. Скучный рассказ, не смешной, но в рассказе всё правда. Очереди были везде (и, похоже, всегда). А ирония писателя, если она и была, вполне объяснима, очереди эти не радовали никого, даже меня, со времён войны в них не стоявшего. Неприятия Зощенко не возникло.
То ли в том же докладе, то ли где-то ещё, стихотворные строчки пародии на «Евгения Онегина», приписываемые чуть ли не той же Ахматовой (на деле написанные Хазиным Александром), привели меня в настоящий восторг.
Собственно, это и не пародия даже, а смещение героя из девятнадцатого в бурный двадцатый век:
В трамвай садится наш Евгений,
О, бедный, милый человек! —
Не знал таких передвижений
Его непросвещённый век.
Судьба Евгения хранила,
Ему лишь ногу отдавило,
И только раз, толкнув в живот,
Ему сказали: «Идиот!»
Он, вспомнив древние порядки,
Решил дуэлью кончить спор.
Полез в карман, но кто-то спёр
Уже давно его перчатки.
За неименьем таковых
Смолчал Онегин и притих.
И ещё строчки запомнились, не знаю, из того же постановления или другого:
Бразды пушистые взрывая,
Бежит студент быстрей трамвая,
А на пальто его давно
В Европу прорвано окно.
…Весь первый квартал был отголоском празднования семидесятилетия Сталина. Конечно, Сталина мы — я то уж точно — боготворили, и всё-таки странно было ежедневно прочитывать в «Правде» из месяца в месяц по две (четыре нынешних) страницы перечислений названий заводов, училищ, строительных управлений, правительств, колхозов, королей, институтов, компартий, консерваторий, министерств, совхозов, президентов, горсоветов, учреждений, академий, фабрик, МТС, организаций, шахт, флотов, обкомов, горкомов, райкомов, театров, трестов, училищ, парламентов, флотилий, рудников, облисполкомов, леспромхозов, комбинатов, военных округов, школ, кораблей, приславших поздравления к юбилею вождя… Кому это нужно? Тем не менее, я пробегал глазами по строчкам: «Кто там поздравил ещё?»
…На уроках современной истории мы штудировали брошюру Сталина «О Великой Отечественной войне» — сборник его речей и докладов, все их я слушал, читал во время войны. С тех пор и запомнил характерный акцент его речи. Не только запомнил, но мог с точностью и воспроизвести. И вот теперь на перемене, став перед классом у учительского стола, сталинским голосом я начинал:
— Товарищи! Братья и сестры! Рабочие и колхозники! Красноармейцы и краснофлотцы! Командиры и политработники! К вам обращаюсь я, друзья мои.
Одноклассники в восторге бурно мне аплодировали. Это было весьма приятно, всегда приятно быть объектом дружеского внимания, но вот что внимание может быть иного рода совсем, мне не приходило и в голову. Хорошо, что в классе у нас все были людьми с неплохими человеческими наклонностями, ну, валяли иногда дурака, ну, допускали выходки необдуманные — с кем этого не бывает, но в целом мы были порядочными людьми и уж никак не доносчиками. Правда, могли и случайно проговориться — у Козлова Ростика, например, отец был завуч, историк, парторг. Но, видно не проговорились, а может быть, и проговорились, да никто значения не придал… Могли бы мне приписать, что я пародирую Сталина, хотя, видит бог, я этого в уме не держал. А если бы придали значение? Тогда бы строчки эти написаны не были.
…такие были тогда времена.
…С наступлением тепла на переменах все выбегали во двор и, став вкруговую, начинали играть в волейбол. Мне игра очень нравилась, но играл я из рук вон как плохо. Если взять мяч и передать его удачно партнёру я ещё мог, то резать над сеткой мячи, забивать «гол» противнику я не умел совершенно. Это меня угнетало, тем более что все ребята из класса играли неплохо, а Ростик Козлов просто великолепно. Из девчонок отлично играла Лена Полибина. Была она очень гибкой и ловкой в игре — загляденье просто. Характер у неё был замечательный, лёгкий, добрый, весёлый. И лицо у неё было приятным и привлекательным, хотя красавицей она не была. И, любуясь игрой её, гибкостью тела, блеском глаз на разгорячённом лице, я стал всё чаще и чаще засматриваться на неё. Она нравилась мне всё больше и больше.
…и тут я увлёкся неожиданно фотографией. В физкабинете был фотографический аппарат, допотопный, громоздкий. Я выпросил его на время у физика, Василия Леонидовича Шерстобитова, в магазине купил фото-пластины, и, имея смутные представления о времени выдержки и никаких о глубине резкости изображения, я начал снимать своих одноклассников. Как ни странно, скажу, забегая вперёд, у меня получились удачные снимки. Но сейчас мне предстояло после съёмок проявить пластинки с эмульсией, и, если что вышло на них, напечатать на фотобумаге. Всё, что нужно для этого я купил в магазине, но нужна была ещё затемнённая комната. При том положении с жильём, что было тогда, никто не мог мне её предоставить.
Выход из положения сам собой напросился. Я обратился к Василию Леонидовичу: «Нельзя ли мне ночью заняться фотографией в классе, в физкабинете?» Василий Леонидович всегда отличал меня, возможно, даже любил, и вот, ни слова не говоря, он достал связку ключей от кабинета и всех шкафов в нём и отдал её мне.
Вася Турчин вызвался помогать мне в этом деле, и с наступлением темноты мы прокрались с ним в школу, отпёрли класс — в нём на окнах были даже сверху опускающиеся шторы из плотной чёрной бумаги, и шторы эти мы опустили, отградившись от внешнего мира.
В физкабинете было всё, что нам нужно: и красный фонарь, и кюветы для фоторастворов, и рамка для прижатия пластины к бумаге при контактной печати. Мы развели химикаты в воде и, проявив пластины при свете красного фонаря, убедились, что на негативах всё хорошо получилось. Вся эта церемония заняла порядочно времени, и, оставив пластины сушиться и убрав всё за собой, мы ночью выскользнули из школы. Пробравшись тихо домой и поспав часа три, я ранёхонько до занятий прибежал в школу и забрал пластинки с высохшей эмульсией.
Несколько следующих ночей мы провели с Турчиным за печатанием. Печатали фотографии с негативов, положенных на фотобумагу и прижатых к ней стеклом рамки. На несколько секунд включали лампочку для засветки, после чего проявляли бумагу. И так снимок за снимком. Фотографии неожиданно получились хорошими, резкими, проработанными в деталях.
Напечатав контактным способом снимки для всех, мы в последнюю ночь решили один из них увеличить. Никакого увеличителя не было и в помине, посему мы попробовали приспособить для этой цели проектор, пластинки наши к нему подходили. Серьёзной загвоздкой было лишь то, что проектор, стоя на столе, давал изображение лишь на вертикальном экране. Подвесить его над столом мы не могли, приходилось выкручиваться по-другому. Заложив негатив свой в проектор и, двигая тот по столу, мы подогнали размер изображения на стене под четверной лист фотобумаги (двенадцать на восемнадцать), с наивозможнейшей точностью установили резкость картинки и отметили точками её уголки. При свете красного фонаря прижали стеклом в намеченном месте лист фотобумаги, на миг включили лампу нашего аппарата и торопливо начали проявлять. Снимок вышел нерезким. И как мы ни бились — лучшего нам не удалось получить. Разрешение камеры, (число точек на сантиметр) было, видимо, невысоким.

Рис. 2. Больше половины нашего 10-го класса
На вышеприведённом снимке: Ефим Боровицкий, Василий Лисицын, Ростислав Козлов, Виталий Крок, Владимир Платонов, Гриза, Елена Полибина. Василий Турчин по ту сторону фотокамеры.
На этом тогда и закончилось моё увлечение фотографией, впрочем, с некоторыми последствиями. На другой день после последнего ночного занятия, выбежав из класса на перемену, я увидел своего дядю Ваню, выходящего из учительской. Ничто на свете не могло поразить меня больше. Чего это его туда занесло? Оказалось — справку навёл, где это я пропадаю ночами? Чем занимаюсь? Хотя всё это я с самого начала объяснил тёте Наташе — не поверила… Не иначе, как по её наущению дядя Ваня явился в учительскую… Вот дела-а, вышел я из доверия совершенно.
…а я вскоре загорелся новой идеей. Что если к репродуктору подвести ток через повышающий напряжение трансформатор. Будет ли он громче орать? Задача была в том, где взять трансформатор. Ответ опять-таки сам собою нашёлся: в физкабинете. Но попросить его на время у нашего физика я постеснялся, или быть может заранее решил, что домой он не даст. Оправдав доверие Шерстобитова ночью, днём я его обманул, не выдержав соблазна в борьбе с собственной совестью. Я трансформатор из физкабинета украл. Украл, понимая, что всю жизнь буду себя упрекать и стыдиться такого поступка. Желание нетерпеливое, срочное прорвало границу нравственного закона, и я его преступил.
…На последней перемене, когда все выбежали из класса во двор, и я остался один, я открыл дверцу шкафа, набитого трансформаторами на любой вкус и цвет. Мелкие — я отринул с порога, полагая, что нет нужной мощности в них, чтобы заставить орать репродуктор. Крупные — были весьма велики для портфеля, который я в этот день, готовясь к деянию, гроссбухами не загрузил. Всё же один трансформатор мне удалось в него втиснуть — при этом бока его раздулись чрезмерно, после чего, как ни в чём не бывало, я уселся за парту в ожиданье звонка.
…после уроков, выждав немного, пока все разойдутся, чтобы никто не заметил мой растолстевший портфель, я унёс его из физкабинета домой. Там я вытащил репродуктор из комнаты на веранду, подключил его к трансформатору проводами, а тот включил в радиосеть. Репродуктор взвыл, оглушая всю улицу рёвом, превзошедшим все мои ожидания. Превзошедшим настолько, что я тут же выдернул провода, не на шутку перепугавшись, что всполошу жителей окрестных домов и раскрою себя. Нестерпимое любопытство было удовлетворено, трансформатор был мне больше не нужен.
Теперь предстояло вернуть украденный трансформатор. Кажется очевидным, это можно сделать тем же способом, каким уносил. Но волненье моё, беспокойство почему-то были гораздо сильнее сейчас. Прав, тысячу раз прав Михаил Афанасьевич Булгаков: «Украсть не трудно. На место положить — вот в чём штука». Перед открытием школы всегда перед ней толпились ученики. А необычно раздутый портфель привлёк бы внимание непременно. Так и не помню, проделал ли путь назад мой трансформатор, или я струсил и его не отнёс, побоявшись попасться. И это очень смущает меня. Очень не хочется чувствовать себя вором. И не важно, что не было в этот раз ключей у меня, и что шкаф был не заперт, и что трансформатор тот был не нужен никому совершенно, и что, если он и не вернулся на место, то его всё равно никогда никто не хватился, и, что учителя моего давно нет на свете, а вот совесть всё гложет меня, и хочется верить, что я всё же как-то отнёс его в школу.
…С приходом тепла нами всерьёз озаботился военкомат, мы становились допризывниками. Сначала прошли медкомиссию. Боже, какой это стыд голенькими предстать перед женщинами-врачами, сидевшими за столом. Но это ещё полбеды. Женщины пожилые, их взгляд можно стерпеть. А вот ужас весь где: — у стенки, подпирая её, стоят молоденькие медсёстры из знакомых семей. И они смотрят на нас, не стесняясь. Мы, смущаясь, краснея поворачиваемся к женщинам боком, прикрывая ладонями низ живота, но безжалостные врачи заставляют руки убрать, смотрят, щупают место, которое мы от них закрываем. Дальше — большее унижение: молоденькая врачиха, приказав согнуться и руками ягодицы растянуть, заглядывает туда, куда никому заглядывать ни к чему. И не сделаешь ничего, и не спрячешься, как когда-то от укола, в какой-нибудь школьной кладовке.
…все мы были признаны годными к строевой.
Раз в две недели после признания этого нас стали вызывать в военкомат и водить на учения за город. Чаще всего это была стрельба из боевой винтовки. Стреляли из положения: лёжа с упора. В ста метрах от нашей позиции насыпан был вал, мишени расставляли вплотную к нему. И тут взял я реванш за все свои физкультурные неудачи. Оказалось — стреляю я лучше всех. Все пули мои ложились кучно, две трети и больше — в десятку, ну, а треть — в девятку возле неё…
…однажды вместо винтовок в поле привезли мотоцикл и начали обучать нас вождению. Тех, кто умел на велосипеде кататься. Как ни странно, трое из наших ребят не умели. Я умел и оказался в числе счастливой четвёрки. После краткого объяснения, где «газ», где сцепление, где тормоза, начали ездить.
Когда очередь дошла до меня, я, взявшись руками за руль, где на рукоятках — «газ», сцепление и тормоз ручной, резким толчком ноги по торчащему рычагу завёл мотоцикл, вскочил в седло, дал полный газ и выжал рычаг сцепления. Мотоцикл рванул с места с такой неожиданной прытью, что я не успел довернуть руль и вместо ровной дороги помчался по вспаханному полю с большущими глыбами закаменевшей земли. Мотоцикл перескакивал через них, я взлетал от толчков над седлом, рискуя при приземлении в него не попасть. От перепуга во мне мгновенно сработали все системы защиты. Вмиг сбросил газ, зажал ручки сцепления, ручного тормоза и выбросил вперёд свои длинные ноги, тотчас упёршиеся в две глыбы земли. Мотоцикл встал, как вкопанный, точно на стенку наткнулся. Ко мне, смеясь, подбежали соклассники и военрук: «А мы думали, что тебе вот-вот конец. Ну и реакция у тебя! Моментальная. Только ногами вот зря рисковал, есть ножной тормоз для этого». Да, в горячке бешеной скачки я про главный тормоз забыл. Я хотел повторить попытку, чтобы лихо промчаться по гладкой дороге (какой же русский не любит быстрой езды!), но мне больше мотоцикл не доверили.
Эти совместные походы в военкомат необычайно сблизили нас, ребят, мы уже не делились на группки, чувствуя себя частью большой единой семьи. Возвращаясь с нашего «полигона» домой затемно, мы шли по проезжей части шоссе, обнявшись за плечи, шеренгой и пели, и пели:
Летят перелётные птицы в осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны, а я остаюся с тобой,
А я остаюся с тобою, родная на веки страна,
Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна.
Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду,
Но, если ты скажешь мне слово, я снова всё это пройду.
Надежды свои и желанья связал я навеки с тобой,
С твоею суровой и ясной, с твоею завидной судьбой.
Впереди была прекрасная жизнь в прекрасной стране…
…В начале мая единокровная сестра моя Шура, бывшая замужем за лейтенантом-строителем Константином Ивановичем Муравицким и жившая в Ялте, пригласила меня к себе в гости. В ближайшую субботу я собрался и поехал к ним… Вид Ялты меня удивил. С суши ограждена она была сплошной скалистой стеной высоченного плоскогорья (Крымская Яйла), сузившего её горизонт до предела. Она словно бы задыхалась от нехватки пространства и по живописности проигрывала Алуште. Не было этих гор, что в Алуште, лесов на горах, не было великолепных скалистых вершин — Демерджи, Чатыр-Дага и Роман-Коша, не было перевалов, долин между горами.
Словом, Ялта мне не понравилась.
Шура с Костей жили за окраиной Ялты, в селе Ущельном, близ закрывавшей полнеба стены плоскогорья. У них была одна комнатка над землёй, вход в неё шёл по крутой деревянной лестнице с вытертыми ступеньками, а под ней была ниша в пол-этажа. Вместе с молодыми жила и мать Шуры, Горбанёва Татьяна Ивановна, первая жена моего отца, бросившая его за то, что не захотел променять хлебопашество на высокий заработок забойщика в угольной шахте. Я необходимый ей паспорт.
…в Ялте я пробыл до вечера воскресенья и уехал, не помня ничего, кроме автобуса и дороги.
Весна шла с любовным томлением, воздух будто сгустился над нашими головам, горяча их, туманил, пьянил. После уроков ребята и девочки из нашего класса стали собираться у Веры Ханиной в её комнатке, которую ей в Алуште снимала мама её — главврач санатория «Утёс», что у самого моря ниже села Малый Маяк по дороге в Гурзуф и на Ялту. Шли туманные разговоры, бог знает о чём, с недомолвками, с недосказанностями. Все млели от близости тел, сгоравших от страстных желаний. Не хватало лишь искры, чтобы вспыхнул пожар. Но искра не проскочила.
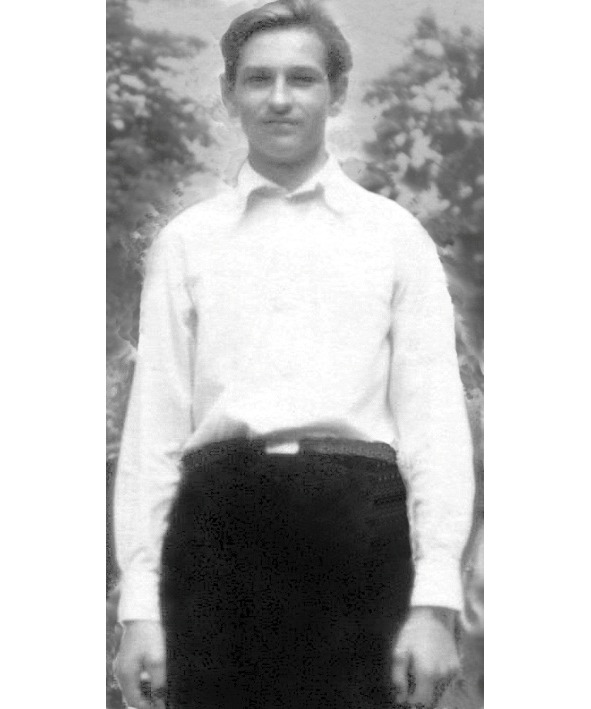
…кто-то свёл всю нашу компанию с двумя сёстрами, девицами-еврейками. Неизвестно откуда они появились в Алуште с собственной комнатой, чем занимались. Обе они были весьма миловидны, но мне не понравились. Обе были похожи одна на другую, и звали их тоже похоже: Динэрой — старшую, и младшую — Эрой. У Эры с Динэрой так же сгущалась вокруг нас атмосфера страстных намёков, недоговорённостей, любовной истомы, неутолённых желаний. Но и эти «собрания» закончились без результата, ничем.
…Я и сам не заметил, как начал по вечерам провожать домой Лену Полибину. Жила она далеко, дальше всех, выше всех. После заезда к ней на лыжах зимой я, пожалуй, и стал на Лену заглядываться, старался быть всё время возле неё, «невзначай» касаться руки её и плеча, это так было приятно.
Объяснения у нас с ней не было никакого, один раз увязался её проводить, и так повелось. Мы поднимались мимо санатория метростроевцев, сворачивали с асфальта на узкую боковую тропинку, взбиравшуюся на гору, слева оставляя тёмную кипарисовую аллею, заслонявшую свет санатория и фонарей, так что тьма под ногами становилась почти абсолютной. Шуршат только угловатые камни, осыпаясь из-под наших подошв, да в траве на склоне горы оглушительно лязгают своими ножницами цикады, почему-то их раньше я их никогда не слыхал, а тут вдруг услышал.
Оттого, может быть, что не знал, о чём надо с ней говорить — мне и без слов хорошо и приятно, — я почти всю дорогу молчал от стеснения. Иногда мы шли молча, иногда Лена что-то рассказывала. Моё молчание поначалу не угнетало меня, но когда я начинал понимать, что оно неприлично затягивалось, я начинал разговор. Но, глупец, не о ней говорил, не расспрашивал, не о чувствах, которые испытывал к ней, хотя бы намёком, а о школьных делах и товарищах…
В иные ночи нам дорогу подсвечивала луна. Тогда было совсем романтично: впереди стройная девушка с русыми волосами в белом платье легко идёт в гору, а вокруг всё переливается светом и серебрится. Но порой при луне становилось тревожно, когда тучи несутся, бегут, и луна торопливо мелькает в разрывах…
У дверей дома Лена приглашала меня зайти, я заходил. Клара Михайловна, подвижная, быстрая, с поразительной для её возраста белизной гладкой кожи лица, оживлённой будто природным румянцем, перехватывала меня, вела к рукомойнику, где я с мылом мыл руки, и усаживала за стол в той самой стеклянной комнате, служившей и прихожей, и гостиной одновременно. Угощали меня сладким кофе с молоком и бутербродами с листочками солёного свиного сала. Необычное сочетание это вначале сильно меня удивило, но я вовремя вспомнил: «Папа любил мёд с солёными огурцами», и попробовал угощение. Оно оказалось приемлемым. Поклонником кофе в сочетании с салом я не стал, но пил и ел с удовольствием, тем большим, что пил, ел у девушки, нравившейся мне всё сильнее. Попав на свет, в комнату, я становился окончательно молчаливым, большей частью женщины разговаривали между собой. Странным образом повторялась знакомая мне с раннего детства картина: я молчу и сижу, любуясь милым лицом.
…из мимолётных своих разговоров с ними я всё же узнал, что до Германской войны четырнадцатого года первый муж Клары Михайловны, инженер Красовский, спроектировал постройку железной дороги от Симферополя через Алушту до Ялты через тоннели, которые предстояло пробить в Крымских горах. Тогда он и купил этот участок земли на пригорке, где собирался построить большой и красивый дом для семьи, но успел возвести только времянку, которая волей судьбы (а, скорее, волей «товарища» Ленина и стечением обстоятельств) стала его жене постоянным жильём. Октябрьский переворот похоронил и проект железной дороги. О судьбе инженера Красовского не говорили. «Умер», — было сказано глухо. Где? Как? При каких обстоятельствах?
…Несмотря на свою любознательность и чрезвычайное любопытство, я никогда не пытался узнать больше того, что люди мне о себе говорили. Я очень боялся бестактным или нежелательным для человека расспросом поставить его в неловкое положение, заставив замолкнуть или начать лгать, изворачиваться. Наивный, я полагал, что если человек хочет и может, то он сам всё и расскажет без наводящих вопросов. От этого ошибочного воззрения я многое потерял. Часто ведь и сам человек хочет с кем-либо чем-то глубоким в нём поделиться, сам ждёт, чтобы его расспросили, надо только тонко, умно и осторожно подвести его к этому, располагая к себе. Я этого не понимал.
…Лена Полибина родилась от второго мужа Клары Михайловны. Кто он? Где? Куда подевался? Тоже умер? Ничего об этом не говорили.
…я сидел в обществе этих двух женщин, при взгляде на одну из которых у меня замирало сердце, и мне не хотелось уходить от них никуда. Проходил час, второй… К концу третьего часа положение становилось совсем нестерпимым. Мочевой пузырь разрывался от боли, но не мог же я сказать, что мне надо выйти и помочиться. Вот плоды дурацкого воспитания; воспитывать-то меня было некому, некогда — безотцовщина, и мама в постоянных трудах, чтобы добыть пропитание. Я бы сгорел от стыда, если бы у женщины справился, где у них туалет. А если эта женщина нравится очень?! Вот и приходилось прощаться.
Возвращался домой я далеко за полночь. Дверь на веранду запиралась на ключ, но что стоило мне обернуться вокруг столбика под крышей: веранда была ведь открытой, не застеклённой. С веранды я на цыпочках проходил в свою комнату (кухню), раздевался бесшумно впотьмах, и, не разбудив никого, валился к себе на кровать, засыпая мгновенно. Тётя Наташа терзалась в догадках, когда же я прихожу, и, наконец, придумала способ, как меня вывести на чистую воду. В одну из ночей, пробираясь к кровати, я налетел на стул посреди комнаты, где он никогда не стоял. Стул с грохотом опрокинулся, переполошив всю квартиру. В тётиной комнате загорелся свет, я был пойман с поличным. Тётя прочитала нотацию, что, впрочем, не помешало мне и дальше проделывать то же, только с большею осторожностью.
А в голове песенки, строчки из кинофильма «Весна»:
Приходит время,
Люди голову теряют,
Снеговые горы тают,
Называется — весна!
И:
Текут ручьи.
Поют скворцы.
И каждый день
Приносит счастье…
И каждый день —
Счастливый день.
Весна идёт, весне — дорогу!
Так и прошла вся весна. Я не решался на действие, даже на поцелуй. Лена ни словом, ни жестом не поощряла и не отталкивала меня, и я застыл в состоянии радостной ровной спокойной влюблённости, довольный тем, что мои робкие ухаживания (а о том, что ежедневные провожания не могли быть ничем, кроме ухаживания, не догадаться было нельзя) принимаются. Лена была старше меня года на два, но у неё не было никого: на заезжих курортников наши девушки не «клевали», а все Ленины сверстники разъехались кто куда. Впрочем, и в девятом классе у неё не было никого.
…Со мной стали происходить странные вещи. Обычное дело — выпьешь стакан газировки на набережной и закусишь его пирожком. И, вдруг, сильная тошнота, рвота, резь, боль в желудке и слабость, так что идти невозможно. Забьёшься в какой-нибудь уголок потаённый, благо их тогда было в Алуште немало, и свалишься на скамейку. Смотришь, через час-полтора — всё прошло, и снова я на ногах. За весну случилось такое со мной раза три. Но приступы были так кратковременны и проходили так без всяких последствий, что я значения им не придал никакого, даже тёте о них не сказал. Так и не знаю, что это было.
…А ведь это был, пожалуй, тоже сигнал!
За неделю, за две до начала экзаменов у меня вдруг от дичайшей боли раскололась вся голова. Отчего? Почему?.. Все давалось мне очень легко и, как видели выше, я не особо занятиями себя утруждал, не уставал никогда. Я делал, порой, больше, чем нужно, но это получалось так быстро, без всякого напряжения, что об утомлении смешно говорить…
Боль была настолько сильна, всеобъёмна, всепоглощающа, что, видимо, рассказав о ней тёте Наташе, я вынужден был пойти в поликлинику. Там сразу направили меня к «ухо-горло-носу» — слова «отоларинголог» в ходу тогда не было. Женщина-врач без всяких исследований, без рентгена поставила мгновенно диагноз: гайморит. Поставив, походя, этот диагноз, врачиха выписала капельки в нос — протаргол, который я тут же купил и начал закапывать. Через несколько дней боль утихла, но осталось в голове нечто неосязаемое, но мешающее, несвежесть какая-то, зачумлённость. Я старался на это внимания не обращать, но оно во мне оставалось.
Это теперь я понимаю, что жизнь моя сломалась в те дни. Не будь их — всё было бы по-другому.
…О моих головных болях узнали каким-то образом в школе, может быть, я уроки последние пропустил, получив освобождение у врача. Учителя ко мне проявили внимание, участие приняли, иные — своеобразное очень. Клавдия Алексеевна, например, предложила перенести госэкзамены мне на осень. Очень был бы я ей благодарен за это! Военкомат сразу бы руку на меня наложил, что равносильно бы было самому её на себя наложить. Иронично рассыпавшись словами признательности за заботу, я решительно её предложение отклонил и сказал, что буду сдавать вместе со всеми.
…Будучи с любимой крайне стеснительным, в школе я умел быть находчивым, метким, та же Клавдия Алексеевна не раз говорила: «Ну и язва же ты, Платонов».
…Накануне экзаменов тётя и дядя повели меня в магазинчик, покупать мне костюм. Семьсот рублей на него мама оставила тёте в свой приезд в прошлом году. Костюм был хорош, шерстяной (шевиот ли, бостон — в этом мало я разбираюсь), цвета тёмно-стального и сидел, как ни странно, на мне хорошо (долговязая нескладная фигура моя подходила редко к чему) и стоил семьсот рублей ровно. Я радовался ему — красно-коричневые штаны и к ним такая же куртка, в которые я был обряжен, мне порядочно поднадоели (подозреваю, что то была пижама для офицеров не высокого ранга из дома отдыха Академии бронетанковых войск, где работала тётя), — однако радость моя была преждевременной. Одобрив костюм, тётя Наташа почему-то его не купила. Я был сильно обижен, но унынию предавался недолго, не судьба, значит, мне в красивом костюме пощеголять.
…а пощеголять так хотелось.
Помню, как-то я выпросил китель с погонами у заехавшего к нам Муравицкого Константина и помчался в нём в школу покрасо-
ваться. Ну, и зря, — одноклассники и учителя, сделав вид, что никто ничего необычного не заметил, «дурачок», — подумали, верно.
…После этого случая я старался вести себя посолиднее, сдержанно, не выражать никогда удивления и вообще чувств никаких, равнодушно цедить в разговоре слова (но не с Леной Полибиной), изображать из себя человека, в жизни повидавшего многое. Очень дорого мне обходились до этого непосредственность, живость и эмоциональность моя.
…Между тем дела в школе складывались для меня неприятно. Директор школы, ещё осенью позапрошлого года предлагавший мне возглавить ученический комитет, после моего отказа на меня озлобился, и теперь его неприязнь сыграла не на руку мне. В первых двух четвертях я схватил три четвёрки, во втором полугодии я положенье исправил, по всем предметам получал только пять и надеялся, что последние две четвертные пятёрки по трём дисциплинам перевесят две прежних четвёрки, и я получу по ним за год пять. Увы, четвёрки мне не повысили, хотя и могли, и я полагаю, что настоял на этом директор. Поскольку на медаль я вроде не выходил — хотя госэкзамен мог это поправить, — то меня и не срезали ни на чём, даже на письменной литературе, несмотря на враждебное директорское ко мне отношение. Впрочем, оно проявилась в другом. Все экзамены я сдал отлично, в том числе сочинение и немецкий, но годовые четвёрки мне опять не повысили, и они пошли в аттестат. А я без медали остался.
…до конца срока подачи заявления в институт оставалось чуть больше месяца, но я никак не мог определиться, куда мне поступать. Меня влекла физика, математика, манило синее море. Я перебирал «мореходку», Ленинградский кораблестроительный институт, Московский университет, но по невежеству своему ни на чём остановиться не мог.
От университета меня отвратило чьё-то внушение о том, что оттуда направляют в школы работать учителем. А учителем я быть не хотел. «Мореходка»? Но не стану же сразу я капитаном, а иным быть — неинтересно… Корабли строить? Дело рутинное, а мне хотелось что-то новое узнавать, открывать. Дядя Ваня предлагал поступать в Симферополь, в торговый или винодельческий техникум, но это я отвергал. Виноделие и торговля обещали сытую жизнь, но разве в этом смысл жизни? Да, и техникум — для меня оскорбительно мало. Я способен на большее. Только где, как способности свои проявить? Я не знал, и никто не мог мне посоветовать.
Вот, что значит среда…
…не вспомню, что такое случилось, что стряслось, что я срочно, не дожидаясь выпускного вечера, получил документы и из Ялты морем выехал на Кубань. Накануне я встретился только с Леной на набережной и получил фотографию, которую у неё попросил.
Перед отъездом тётя Наташа подарила мне вместо костюма демисезонное пальто чёрного цвета, с рукавами покроя дотоле мне неизвестного — реглан. По-всему, тоже из дома отдыха. Сей «подарок» восторга не вызвал, но я безропотно принял его.
…в шесть часов следующего утра палубным пассажиром теплохода «Адмирал Нахимов», так трагически погибшего спустя сорок лет, я отчалил из Ялты на Черноморское побережье Кавказа, на Туапсе. Впервые я плыл морем на большом корабле (раньше только на катерах доводилось). Но что-то смазало мои впечатления. Без сомнения, этим что-то явилась тревога, возникшая в полдень на корабле из репродуктора корабельного радио. Напряжённо-торжественный голос диктора возвещал:
— Вчера утром… войска Южной Кореи… напали на территорию Корейской Народно-Демократической Республики. Силами армии КНДР нападение отбито. Войска КНДР, перейдя демаркационную линию, преодолевая ожесточённое сопротивление противника, стремительно продвигаются на юг Корейского полуострова…
Конечно, я не могу дословно по памяти восстановить передачу, но отлично помню, что на корабле воцарилась зловещая тишина: «Неужели снова война?» Все мы знали, что у нас с КНДР договор, Южная же Корея — за Соединённые Штаты. И во что это может вылиться, не представляли…
Перипетий международных событий после войны были мне в чертах общих известны. Но всё это было вне моей жизни, было фоном далёким, не касавшимся вроде бы нас, а тут вдруг так касаемо близко: «Война!» Оттого и нет других впечатлений ни от моря, ни от «Нахимова», ни от Туапсе, ни от встречи с мамой в станице Костромской…
Там я встретился с другом детства, Жорой Каракулиным, разговор наш происходил в темноте возле штакетника у выхода из подросшего парка, насаженного стараниями мамы. Мы стояли под деревьями, чуть освещённые лампочкой над входом в церковь. В парке и вокруг нас было много и парней молодых, и девушек, и это как-то связывается у меня со свадьбой Жорика и молоденькой школьной учительницы.
Он тут же в парке подвёл меня к ней — тоненькое миловидное создание. Мы познакомились, но её окружили и увлекли в сторону подружки. Рядом промелькнула сестра его, Катя.
Тут Жорик и предложил мне обратить внимание на неё: «Ты посмотри, какие у неё плечи, — говорил он, — и подкладок не надо». В самом деле, у милой Кати от постоянной физической работы плечи были развиты, и весьма, только Жорик отстал, подкладки под плечи в женских платьях и блузках, популярные в первые послевоенные годы, вышли из моды. И, по правде сказать, они женщин не украшали. Это была дань войне, когда многие женщины носили погоны.
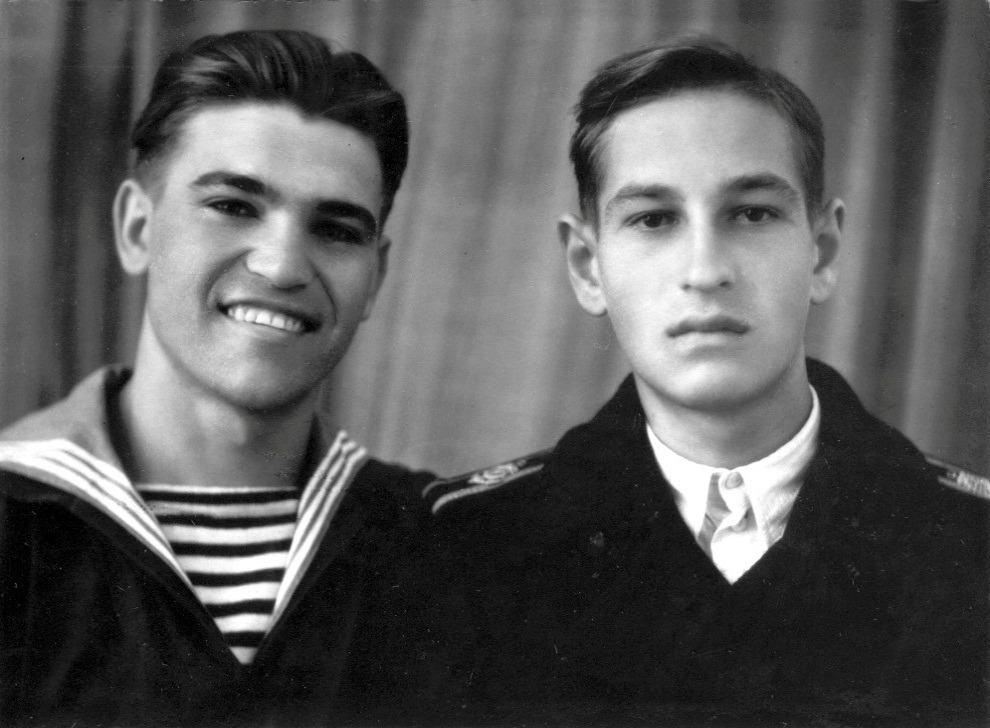
Рис. 3. Георгий Каракулин и я
…к жизни очнулся я в комнате старого приятеля, Генки Мишучкина. За столом сидели двое ребят и две девушки: Дударева и… Женя Васильева, в которую был когда-то безумно влюблён, проявившая живейший ко мне интерес. Женя окончила первый курс Краснодарского пединститута и приехала домой на каникулы. Была она очень милой, приятной и обаятельной, и ямочки на щеках её были по-прежнему хороши, но любовного чувства к ней не возникло, не прервалось дыхание при виде её, и пути наши, пересёкшись, сразу и разошлись. Я был независим, ровен, спокоен и деланно равнодушен, как человек, повидавший в жизни немало. Когда все ушли, и мы с Геной остались вдвоём, он сказал мне:
— Брось ты эту манеру, Володька! Будь самим собой. Лучше, когда чувства и мысли отражаются в голосе и в лице.
Как ни странно, но я его послушался сразу. Расхохотавшись, я стал рассказывать ему что-то голосом своим, не искусственным.
— Ну, вот и хорошо, — резюмировал он, дослушав рассказ.
Но не всё было так хорошо. Я, по-прежнему, не знал, куда же податься. Генка увлекал меня радиотехникой и увлёк таки её перспективами. Мы оба послали свои заявления в Москву, в Энергетический институт имени товарища Маленкова, на радиофакультет.
…Из месяца, что провёл я в Костромской, помню только, что мама была очень огорчена тем, что тётя Наташа костюм мне не купила, да что очень сильно запаздывали газеты, по которым следил я за корейской войной… Реляции шли оттуда победные, это наполняло сердце моё ликованием: «Мы побеждаем!» Вот уже и вся Южная Корея в течение нескольких дней в руках Ким Ир Сена. У американского ставленника Ли Сын Мана только порт Пусан на самой оконечности полуострова. Ещё маленькое усилие, и его вышвырнут в море, и вся Корея станет социалистической страной.
…да, гладко было на бумаге.
…случилось немыслимое, невероятное для всех тех, кто не знал о диких провалах сталинской дипломатии (я только год спустя, сопоставив все действия и шаги наших правителей, пришёл только в этом одном частном случае к такому вот выводу, но, понятно, помалкивал). В Совете Безопасности ООН накануне конфликта США, Англия, Франция провалили (применив вето) советское предложение об изгнании из ООН чанкайшистского представителя, о замене его представителем КНР. Тогда, в знак протеста (нашли перед кем протестовать!), представитель СССР в этом Совете покинул заседание и вылетел в Москву (по указанию Сталина, ясно, без него никто б не посмел). И вот, с началом Корейской войны, собрался Совет Безопасности и при единогласии членов его (место советского представителя пустовало, некому против было голосовать) объявил Северную Корею агрессором и принял решение о посылке туда войск ООН для отражения нападения. И эти войска спешно начали формироваться.
…Разумеется, мы тут же стали вопить, что решение неправомочно, но ответ получили очень резонный: кто виноват, что вас не было на заседании?! Вы добровольно в заседании не участвовали, право вето своё не использовали, все присутствовавшие были «за»… Разумеется, мы тут же вернулись в ООН, в пустой след руками махать.
…пока танковые дивизии КНДР катили стремительно к южной оконечности полуострова, спешно создавались силы ООН, в основном из американских военных соединений при символическом участии ряда стран (батальон, полк, бригада) из американского блока. Высадив внезапно с моря десант севернее Сеула, американцы вмиг перерезали полуостров, главные силы КНДР были отрезаны и обречены. Но внезапным удар была не для всех, не для всех, но об этом чуть ниже.
…Получив вызовы из института, мы очутились в Москве, в Лефортово, в МЭИ в первый день жаркого августа.
Комната в общежитии — четырёхэтажном здании постройки тридцатых годов с ленточными окнами вдоль этажей — была совсем небольшой. В ней — две двухъярусные кровати, между ними узкий проход к окну от дверей и небольшой стол со стульями у окна. Мне досталось место внизу, слева от входа, Генке — справа. Надо мной поместился славный малый, Женька Феськов, а над Генкой какая-то бесцветная личность, следа не оставившая.
…узнав в институте расписание экзаменов и номера групп куда, мы попали, а попали мы все в разные группы, мы начали с утра до ночи набивать головы знаниями из учебников, прерываясь, когда надо было перекусить. Где перекусывали — я не помню, но иногда варили на кухне картошку. Кто-то из нас оказался запасливым и приехал с кастрюлей средних размеров, и кастрюля та оказалась подспорьем бесценным в наших бесхитростных развлечениях после занятий по вечерам, когда начинались хождения «в гости». Мы подвешивали кастрюлю с водой над дверным косяком, привязав к одной ручке её бечёвку, другой конец этой бечёвки закреплялся на ручке двери. Дверь, как и положено, открывалась внутрь комнаты. Когда её стремительно открывали, а её именно так всегда открывали — стремглав, так как молоденькие девушки, парни не умели ходить — они мчались, бежали, летели, врывались, — так вот, когда дверь рывком открывали, бечёвка, потянув вниз ручку кастрюли, враз опрокидывала её, обрушив три литра холодной воды на влетевшую горячую голову. Ошарашенный и подмоченный посетитель валил с хохоту на кровати всю нашу четвёрку. Забаву эту быстро в других комнатах переняли, так что и нам пришлось пострадать от собственной выдумки, посему мы к соседям входили теперь осторожно, после стука дверь рукой приоткрыв, пережидали пока выплеснется сверху на пол вода.
…пример, называется, подали.
…Одурев от чтения, днём мы давали себе передых, запуская с третьего этажа из окна своей комнаты бумажные самолётики. Описав плавно дугу, самолётик красиво снижался, скользил по зелёной лужайке двора и в траве застревал. Увлечение это стало повальным. Отовсюду и с нашего, и с вышележащего этажа, кружа, летели во двор самолёты, превращая его во двор зимний и белый. Так длилось два дня. На третий, пустив очередной свой самолёт, я заметил, как из-за угла вышла группка мужчин. Я мигом спрятался за стеклом, наблюдая за ними. Мужчины, задрав головы вверх, равнодушно смотрели на облака и на летящие из окон самолёты. Постояв минут пять, полюбовавшись на небо, они молча, спокойно ушли. А спустя полчаса, под надзором этих самых мужчин, строители самолётов, коих мужчины те за запуском засекли, были выведены во двор, и, к восторгу нашему беспредельному, заставили их граблями, мётлами очищать двор, лужайку от самолётного мусора. Ах, как весело было смотреть на попавшихся простаков, на их работу, на прощание с ними надсмотрщиков. Им ни много, ни мало пообещали не допустить их к экзаменам, если ещё хоть один летательный аппарат покусится на девственную чистоту дворового газона.
…самолёты перестали летать.
…Первым экзаменом во всех группах был экзамен по русской литературе. В большой светлой комнате нас рассадили по двое за столами, а на доске написали три темы, каждый волен одну из них выбрать по вкусу себе. Первые две касались, кажется, Горького и Салтыкова-Щедрина. Третья тема — свободная. Смысл её — мы за мир во всём мире.
Прочитав названия первых двух тем, я понял, что путного не напишу. Оставалась свободная тема. Я взялся за неё, и вдохновение меня понесло. Вступление я начал с того, что нам наша победа и мир достались дорогой ценой. Причём как-то ловко ввернул совершенно ненужную, на мой нынешний взгляд, цитату из выступления Молотова: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Обосновав разрушениями войны и лишениями, перенесёнными советским народом, особую надобность мира для нас, для улучшения жизни людей, для выполнения планов, которые на это направлены: строительство гидроэлектрических станций на Волге, великий сталинский план преобразования природы в Европейской части Союза и всё остальное, я с искренним восторгом писал, что все эти планы советский народ осуществляет по замыслам великого Сталина и под его руководством, недаром стройки эти в народе зовут сталинскими стройками коммунизма. Для всего этого нам нужен мир, и советское правительство прилагает неимоверные усилия для сохранения мира. И я перечислил все многочисленные предложения и действия правительства СССР, направленные на сохранение мира.
Конечно, я сейчас не могу так широко и свободно, слогом отнюдь не избитым эту тему развить. Но тогда меня, говорю, понесло.
Проверив текст и знаки препинания в нём, я сдал сочинение, не ожидая, впрочем, ничего хорошего от него.
По заведённой традиции день после экзамена освобождал меня от забот, я был совершенно свободен и мог делать всё, что хотел. И я на трамвае поехал хотя бы пока из окна посмотреть на Москву, иногда вылезая из вагона там, где что-то заинтересовало меня. Трамвай кружил по незнакомым мне улицам, где были одноэтажные деревянные домики с поленовскими двориками, травой, крыжовником, яблонями, липами, тополями — этими остатками старой купеческой Москвы, невообразимыми в столице социалистической Родины. Но и она появилась огромным многоэтажьем домов, трамвай выкатился на площадь, где был ЦК комсомола, и в этом было что-то значительное для меня. Вроде знака на будущее. Я вышел на площадь, но ничего особенного в высоком здании не нашёл. Вечерело. Окна в домах вспыхнули ярким электрическим светом, осветившим сумрачный сквер, и это было красиво, но за этими стёклами текла жизнь для меня совершенно чужая, и ей до меня не было дела… Возвращаясь, я соскочил на ходу с подножки вагона на повороте, где трамвай замедлял ход близ сада имени Баумана. В небольшом, но с густыми деревьями парке на помосте, играл духовой оркестр, и трубы нарядно поблёскивали золотистой латунью. На танцплощадке кружились пары под звуки томной мелодии. Всё было так мне знакомо и недоступно, и приступ грусти, тоже давно мне знакомой, охватил меня, стало жалко себя, своей незадавшейся юности без девичьей ласки, любви.
Добравшись до вечернего общежития, я увидел свалку возле красного уголка. В дверях толпились абитуриенты, которых не мог вместить переполненный зал. А там, как сказали, чудо невиданное — телевизионный экран. Мне тоже захотелось взглянуть на него, и я с превеликим трудом втиснулся в зал. Там, на столе стоял большой ящик, втрое больше ящиков из-под папирос или водки, а в нём малюсенький смехотворно экран, чуть больше папиросной коробки «Казбека».
Перед экраном, чуть-чуть увеличивая его, была укреплена на кронштейнах пузатая линза, и вот её-то размеры меня поразили, никогда подобной не видел. В увеличенном линзой экране мелькали серые изображения, как в чёрно-белом кино, потом крупным планом появилась некрасивая дикторша, стала о чём-то вещать. Всё это не показалось мне занимательным, и я выбрался из душного зала.
Пора было спать, завтра надо готовиться к следующему экзамену — письменной математике. Не надо думать, однако, что в дни подготовки я из общежития не вылезал. Бывало, обалдев от занятий, выскочишь на часок, проедешь несколько остановок, соскочишь на повороте, где трамвай замедляет ход, тормозя, и пешком прогуляешься, зайдя по пути в магазин купить что-то поесть. Это вот помню, а о столовой следа в памяти нет, хотя в институте она должна была быть. При Сталине было много столовых, да и при Хрущёве ещё, это при Брежневе они стали таять, как снег, превращаясь в непомерно дорогие с невкусной едой рестораны. Но тогда, занятый мыслями об экзаменах, при полном равнодушии к съедаемым блюдам, я столовую не запомнил, зато помню солнечный день, скамейку у входа в сад Баумана, я уминаю свежую булочку и запиваю её газированной сладкой водой из бутылки. И тут меня вдруг замутило, затошнило, как весною в Алуште. Я вырвал в рядом стоявшую урну и свалился обессиленный на скамейку. Вид мой, вид, как я думаю, позеленевшего после рвоты лица привлекал внимание женщин, проходящих мимо меня, они подходили ко мне, участливо спрашивали, не вызвать ли скорую помощь, но я отказывался: «Спасибо, не надо, мне нужно только отлежаться немного». Часа через два я поднялся вновь полный сил и зашагал в институт. Это был последний приступ неизвестной болезни, нежданно-негаданно неизвестно откуда и почему свалившейся на меня.
…через день в институте вывесили отметки за сочинение. Против своей фамилии я увидел пятёрку. Это было неплохое начало, и нечего говорить, как на душе у меня отлегло. Генка получил за сочинение двойку, для него в МЭИ всё было кончено, в то время как я был полон надежд — самое трудное миновало. Математика для меня чепуха.
…Гена до конца экзаменов жил в общежитии, работу искал, строил планы, как год перебиться.
Феськов получил по литературе четвёрку, у него тоже были высокие шансы.
…экзамен по математике. В прежней аудитории нас по-прежнему рассадили по двое за столами. С доски сдёрнули покрывало, и перед нами предстали два варианта примеров, задач. Их было пять, этих примеров, и они были неприлично для вуза легки. Я решил их мгновенно, всё так хорошо упростилось, что я, не проверив, сдал работу задолго до срока. Должен сказать, что не всем даже лёгкость такая была по плечу. Всё время сзади высовывалась голова и, заглянув в мой листок, тут же скрывалась, чтобы через минуту появиться опять. Списывал некто.
…Да, всё было так просто, я сдал лист свой первым, не удосужившись проверить его, позабыв старую истину: «Поспешишь — людей насмешишь». Вышел гордый собой и довольный, как-никак два экзамена с пятёрками позади.
…заноза тревоги возникла лишь к вечеру, когда я, вернувшись с шатания по Москве, узнал, что в группе Феськова были такие же варианты, и ему достался такой же, как мне. Четыре ответа у нас с ним сошлись, в пятом обнаружилось расхождение. Я стал лихорадочно вспоминать выражение, а затем начал преобразования с ним. И тут обнаружил описку. Дикую. Нелепее не придумать. Вместо lg100 = 2 я написал единицу. Ребёнок знает, что только десять, помноженное на десять, даст сто в результате, а десять, взятое один только раз, так десяткою и останется. Как могло это со мною случиться? До сих пор не пойму. Ко всему, выражение так легко упростилось, что и тени сомнения возникнуть не могло у меня. Простой результат усыпил мою бдительность, и я в этот час на собственном опыте убедился, чем потеря бдительности грозит. Да, настроение моё резко упало, хотя я понимал, что двойки не будет, и втайне надеялся на четвёрку (из пяти четыре решил правильно ведь, да и в пятом не ошибка — описка). К тому ж и на устном экзамене можно улучшить своё положение. Ещё три пятёрки у меня впереди: математика устная, физика и немецкий. Блажен, кто верует.
…Ну, а теперь вернёмся к тем счастливым часам, что провёл я после легчайшего в мире экзамена. Я поехал в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.
Там, на лодочной станции возле большого пруда, сдав паспорт в залог и уплатив тридцать копеек, я взял лодку на час. Бросив вёсла и уключины в лодку, я отомкнул цепь от столбика пристани и, держа её в правой руке, ступил левой ногой на скамью лодки между носом её и кормой. От толчка лодка сдвинулась, отошла от причала, а я завис широко над водой с расставленными ногами в положении неустойчивом, в равновесии, так сказать, динамическом. Одна нога в лодке у борта, вторая — на крае настила причала. Стоило мне любой ногой шевельнуть, как лодка, качнувшись, выказывала угрожающее стремленье отринуть от берега. Тогда бы ноги мои, левая ль, или правая, или обе совместно, соскользнули б с опор, и я рухнул бы вниз. Оттолкнуться от пристани и рывком броситься в лодку я не мог, не успел бы мгновенно сместить в лодку центр тяжести тела — весьма далеко — и оказался б в воде. И от лодки я не мог оттолкнуться, чтобы вспрыгнуть на пристань, так как борт от малейшего шевеления норовил рвануть от меня, и я снова бы шлёпнулся в пруд неминуемо — вот что значит отсутствие в воде должного трения!
Трудно представить отчаянность моего положения, я ведь, вдобавок, боялся не только воды, но и паденья меж лодкою и причалом, мог бы, я думал, и голову, ударившись, проломить. Мысль моя работала лихорадочно, я искал выхода, но его невозможно было найти. Не было ни одного человека в округе, не было никого, кого можно было бы на помощь позвать, кому мог протянуть бы я руку или кто лодку бы к берегу подтянул.
Цепь носовая всё время была в руке у меня. Я сам попробовал было за неё потянуть, и нос ко мне повернулся, но корма-то, корма… Лодка крутилась, и её корма, и злополучный борт с моею ногою стремились удрать от меня. Я уж и так почти на «шпагате» держался. Правда, от цепи и польза была. Цепь, если её не дёргать, не беспокоить, не давала своевольничать лодке, но сколько я мог так продержаться? Рухну, в конце концов, в пруд ко всеобщему веселию публики, которая, будьте покойны, уж тут непременно появится.
…так я тосковал, над водою распятый, но всё ещё не сдавался. Едва заметным шевелением пальцев в ботинке, молекулярным движеньем ноги, покоившейся на доске за бортом, я старался подвинуть борт этот к берегу. Увы, бесполезно! Только чудо могло спасти меня от падения. Только оно! И чудо свершилось таки. Вдруг в напряжённых ногах я почувствовал едва заметное облегчение, и я понял, что лодка послушалась и на один-то, пожалуй, всего миллиметр приблизилась к пристани. Но это был золотой миллиметр. Он решил всё. Не дыша, осторожно подтягивал я одеревеневшую ногу и лодку с нею, конечно. Вот просвет меж ногами уже невелик, я решаюсь и, резко склонив тело к настилу, вырываю ногу из западни. От толчка лодка мгновенно отшвыривается чёрт знает куда, но ноги там моей уже нет, обе ноги мои на опоре незыблемой. У-ух!.. Вздох облегчения.
Теперь подлая лодка в моей полной власти, я подтягиваю нос её цепью к себе, с носа влезаю в неё, перебираюсь на середину и плюхаюсь на поперечную доску сиденья. Остаётся вставить в дырки уклю-
чины, вложить вёсла в них, взмахнуть вёслами, пронеся их назад низенько над водой, и, погрузив их легко в воду без всплеска, напрячь бицепсы для гребка. Лодка неслась, и наслаждению моему не было никакого предела. Ведь скольжение сродни полёту, и я летел над водой, посылая лодку сильными гребками вперёд, на ходу разворачивал её круто на месте резким разводом вёсел в противные стороны или останавливал сходу, табаня, и снова мчался без устали. Есть наслажденье в труде. В труде, доставляющем удовольствие. Укрощённая лодка чутко отзывалась на все посылы мои, выполняя всё, что хотел.
Всласть накатавшись и, наконец, изрядно устав, я отправился к себе в общежитие, где столкнулся с уже описанной неожиданной неприятностью.
Следующие дни прошли в подготовке к устному экзамену по математике.
На экзамен пошёл я в числе первой пятёрки, вытянул билет, взял со стола чистый лист бумаги с круглой гербовой печатью в углу, сел у окна за столик готовиться. Ответы на вопросы билета я знал превосходно, задачи решил быстро и первым вызвался отвечать. Но, вопреки ожиданию, экзаменатор, молодой ещё человек, спрашивать меня по билету не стал и даже мельком не взглянул на решённые мною задачи, а стал листать экзаменационную ведомость. (Тогда я этому значения не придал, а сейчас полагаю, что это была непорядочность — составлялось предвзятое мнение). Найдя там то, что искал, он сокрушённо вздохнул:
— Письменный экзамен вы сдали неважно. С таким баллом у нас трудно пройти. А вот сочинение, смотрите, вы написали отлично. Это такая редкость. Вам бы, наверное, лучше было в гуманитарный вуз поступать.
Я робко заметил, что по математике я занимался лучше, чем по литературе. (Как я был неразвит в общении! Ну к чему эта фраза? Чем она могла мне помочь? Лучше попытался бы рассказать об ошибке — по ведомости её не узнать! — убедить, что это описка, нелепая, дикая, тогда, может быть, он отнёсся ко мне снисходительнее, ведь оценку по письменной работе можно было опротестовать. Этого тогда я не знал).
— Ну, что ж. Я дам вам пример. Если вы решите его, тогда может выйти в среднем хороший балл по результатам двух экзаменов.
Он написал на листе довольно громоздкое выражение с секансами и косекансами и предложил мне его упростить, но не отпустил меня от себя, что, конечно, мешало сосредоточиться. Я терпеть не могу, когда кто-то смотрит на то, что пишу, нервничаю, начинаю спешить, торопиться.
Написанное экзаменатором выражение нисколько не испугало меня: нечто подобное мы в школе решали, к тому ж и все формулы тригонометрии я знал на зубок. Я смело приступил к преобразованиям. Однако дело сразу же не заладилось, выражение изменялось, но не упрощалось нисколько. Видно, я сразу не сделал нужной замены. Надо бы было бросить его и начать всё сначала, но под нетерпеливым взглядом экзаменатора я не мог на это решиться и продолжал бессмысленные замены, не дающие результата, уже холодея от мысли, что время проходит, а я всё не могу решить не бог весть какой трудный пример.
Наконец, мой мучитель сказал: «Достаточно», — и поставил в экзаменационную ведомость тройку.
Нечего и говорить, как я был огорчён и расстроен. Если я не был убит, то лишь от надежды, что пятёрками от следующих экзаменов я наберу проходной бал. (Как же я заблуждался! Раненым не подают руку помощи, их добивают).
После экзамена я поехал побродить по улице Горького. Затерявшись в толпе, я спустился по ней вниз к Охотному ряду. Здесь на углу по правую руку был уютненький магазинчик под вывеской «Московские сухари», и сухарики в нём были отменны. В очень чистом небольшом помещении тонко пахло сладостью и ванилью, а на полках вдоль стен в лоточках лежали вкусные сухари десятков сортов. Я до того перепробовал их немало (не первый раз заходил в магазин) и остановился окончательно на ванильных. Я купил большой кулёк сухарей, и вновь побрёл по улице Горького, теперь уже вверх, разгрызая сладкие рассыпчатые сухарики…
…В общежитии мы жили по-прежнему вчетвером. Генка не спешил покидать первопрестольную, где-то пропадал целыми днями, всё ещё пробовал устроиться на работу, но не находил ничего. Настроение у обоих было подавленное. Денег не было, и мы упражнялись в открытии честных способов добывания их.
Кто-то всерьёз рассказал: в медицинских вузах не хватает скелетов для обучения и для опытов, так как родные предпочитают хоронить покойников целиком, не отдавая на растерзанье анатомам. Ввиду этой нехватки мединституты заключают договоры с живыми обладателями скелетов, дабы заполучить эти скелеты после смерти их обладателей. Причём сразу платят наличными сто рублей.
Мы кинулись по Москве искать учреждения, где можно было заложить свой посмертный скелет, но таковых не нашли.
…Из Алушты мне переслали адрес тётки Лены Полибиной в Ташкенте, у которой была сейчас Лена (она поступала в тамошний мединститут), и я стал посылать ей (Лене, не тётке) после каждого экзамена длинные (на многих листах) письма, описывая наше житьё-бытьё, пересыпая написанное грустным, печальным юмором… Да, я писал ей грустные, но забавные письма. Её тётушке мои письма так нравились, что она их читала знакомым… И куда всё ушло?
…Наступил экзамен по физике. Я взял билет, подготовился — ничего там трудного не было, решил все задачи и пошёл отвечать. К ответам по билету претензий не было никаких. Начались дополнительные вопросы. Один, второй, третий, …, десятый. Я безукоризненно ответил на все.
— Довольно, — сказал экзаменатор и поставил четвёрку в экзаменационный листок.
Это было несправедливо. Я понял, что из-за тройки по математике меня бессовестно режут. Сейчас бы я спросил: «Почему?», а тогда несмелый, неопытный, молча проглотил эту подлость.
Да, с теперешним опытом я бы действовал по-иному. После письменного экзамена по математике пошёл бы в приёмную комиссию и доказал бы, что у меня не ошибка, а описка, могу заново сегодня же с любой группой экзамен сдавать. В крайнем случае, дошёл бы до директора и министерства. Точно так же после экзамена по физике, указав на предвзятость преподавателя, потребовал бы экзамена перед комиссией. Но, увы, ничего этого я тогда не знал, не умел.
…с двойками отсеивалось очень много абитуриентов, и я ещё мечтал пройти в институт.
…И вот, последний экзамен. По немецкому языку.
Билет попался лёгкий совсем, вопросы по грамматике и текст — биография Бетховена, которую я знал наизусть. Отвечал я отлично, точно рассказал о правилах по грамматике, безупречно перевёл текст и бойко пересказал содержание. Я был в ударе, мгновенно отвечал на вопросы, не получил ни одного замечания, ни одной поправки. И, тем не менее, «немка» поставила мне четвёрку. Было больно и горько от такой нечестности взрослых людей.
Через два дня в институте был вывешен список прошедших по конкурсу. Меня в списке не было. Проходной балл на наш факультет составил 19,5. Мне недостало полбалла. Если бы физик и «немка» или кто-либо один из них оказались порядочными людьми, то я бы поступил в институт непременно. Сделали они своё злое, чёрное дело.
Я был в полной растерянности. Генка Мишучкин закончил бесполезные поиски и укатил в Ригу к тётке, зовя с собой и меня, но мне в Риге было нечего делать.
В приёмной комиссии, где толпились бедняги, получавшие назад свои документы, ко мне подошёл представитель Ивановского энергетического института: у них недобор, и меня сразу зачислят студентом. Но в Иваново ехать мне не хотелось: у меня была тройка, и до сессии я оставался совсем без стипендии. Ради Москвы можно было решиться на четырёхмесячное без денег житьё, но в Иваново… И я отказался. Словом, повёл себя как последний дурак, как безмозглое существо, а не мыслящий человек. Кто ждал меня в других вузах Москвы?… А без них меня ждала радостно армия.
Без денег бы и в Москве, разумеется, не прожил, как и в Иваново — ну что там, на разгрузке вагонов, заработать я мог?! Значит, надеялся на мамину помощь, да и тётки, если бы попросил, думаю, рублей по пятьдесят согласились бы выкраивать до января. Но в Иваново был бы студентом, учился, а, закончив с отличием первый курс, преспокойно мог бы перевестись и в Москву?.. Да и в Иваново мог доучиться, если б понравилось.
Вот в таком положении я по глупости своей оказался. О возвращении домой не могло быть и речи — я сгорал от стыда. Год надо было как-то прокантоваться. Несчастливцы, вроде меня, но в большинстве гораздо слабее меня, кинулись группами и в одиночку по институтам Москвы: может где недобор? Я метался со всеми. Побывал в Темирязевке и в институтах Стали, Цветных металлов и золота, и в Гидромелиоративном, и где-то ещё. Не было нигде недобора.
…Делать всё же что-то надо было немедленно. От кого-то из сотоварищей по несчастью я узнал, что есть приём в лесной техникум на станции Правда, по Северной дороге в двадцати километрах от Москвы..
…в солнечный день первого, кажется, сентября я приехал на станцию. Почерневшие срубы бревенчатых двухэтажных домов и одноэтажного, но обширного техникума не показались мне мрачными в золотистых лучах тёплого осеннего солнца. Сдав документы, я был сразу зачислен учащимся третьего курса техникума, куда никогда не стремился и где не собирался долго задерживаться. Лишь бы зиму как-нибудь перебиться. Но и это было делом нелёгким: стипендия — всего сто рублей. Не хватит на хлеб и на молоко. Будущее ничего хорошего не сулило, кроме, авось, не пропаду как-нибудь. Мысль, согласитесь, не ободряющая… Вот результат того, что первому порыву поддался. Иваново тебе не хорош! Сидел бы сейчас там, как у бога за пазухой. Взвесить все последствия поступка своего не сумел.
…да, стипендия была всего сто рублей, но об этом как-то не думалось. Начались занятия в техникуме, унылые, скучные. Пошли дожди, такие же скучные и унылые, как и занятия, — серые, грязные, глинистые. Всё помрачнело и наводило тоску беспросветную: и просторные классы с безликими серыми тенями вместо преподавателей и учащихся, с которыми не было ничего общего у меня, и большая комната в общежитии, где нас было восемь или двенадцать. Ребята все были крепкие, плотные, все физически гораздо сильнее меня, и чувствовали себя они здесь спокойно, уверенно. А я впервые остро ощутил свою худобу, нескладность и слабосилие, хотя никто меня не обидел ни словом, но никто и не замечал. Они жили отдельной от меня привычной для них жизнью. И ни одного лица я не запомнил.
…в голове моей по-прежнему висела невидимая завеса перед глазами или за ними, отделяя то ли меня, мозг мой, от внешнего мира, то ли мир от меня неприятным досадливым отчуждением. Поликлиника оказалась с техникумом по соседству, и я решил проверить, действительно ли у меня воспаление этих самых придаточных полостей или пазух. Меня всё-таки беспокоило это последствие перенесённого в мае в Алуште приступа дикой головной боли. Сейчас боли не было никакой, но вот эта преграда… Она не мешала мне общаться с людьми, не отразилась ни на моих способностях, ни на трудоспособности вообще. Но от неё было как-то нехорошо, точно всё вне меня происходило в аквариуме за незаметным, но постоянно присутствующим стеклом. Это было даже немного мучительно, и я пошёл к врачу на приём.
Врач — пожилая участливая женщина — внимательно выслушала рассказ о перенесённой болезни, о том, какой и как был поставлен диагноз, о моём теперешнем самочувствии и направила меня на рентген. Снимок показал, что придатки мои чистые совершенно, никакого воспаления нет. Но от этого мне легче не стало.
…я ещё кое-как тянул на оставшиеся денежки, сократив питание до хлеба и молока, но они, проклятые, всё-таки таяли. Не лучшее положение было и у других. Более предприимчивые ребята искали способ подзаработать, я же и искать не умел, не представлял, как это делать, то есть я знал, как устраиваться на работу, но ведь здесь надо было найти работу на день или час.
В одну из суббот после занятий один из наших парней, самый высокий, плечистый, войдя в комнату, сказал, обращаясь ко всем: «Леспромхозу нужны люди на ошкуровку брёвен. Расплачивается в тот же день. Кто пойдёт завтра со мной?» Вызвались все.
В воскресенье с утра мы отправились к железной дороге, где лежали штабеля неошкуренных брёвен. День выдался ясный, но по-
сле прошедших накануне дождей было сыро, на чёрной грунтовой дороге там и сям лежали плоские озёрца маленьких лужиц, в них весело отражались блики всходившего солнца. Солнечный блеск и ожидание заработка повысили настроение, и уже всё в окру́ге не казалось таким беспросветно безрадостным.
…нам дали скребки — остро заточенные лезвия, слегка выгнутые дугой, с деревянными ручками по краям, обращёнными в сторону острия. Работа оказалась нехитрой: сев у края на неошкуренный ствол задом к его восьмиметровому продолжению, заводишь скребок под кору с торца и, отъезжая назад по бревну, тянешь рывками ленту коры, отделяя её от скользкой, клейко сверкающей древесины свежей сосны. Солнце вызолачивает оголённый ствол, густой запах смолы одуряет, и растёт в сердце неуёмная радость и от воздуха, солнцем пронизанного, и от лёгкого напряжения этой приятной работы. Поворачивая бревно, играючи сгоняешь ленту за лентой и, очистив его от коры, переходишь к другому.
…Да, работа не трудная, но к концу дня я сильно устал: ну-ка руками туда-сюда, туда-сюда, хотя и легко, хотя лезвие будто само и скользит, а всё ж целый день…
…заплатили нам до смешного мало, не помню уже, хватило ли на обед.
…Назавтра начались снова дожди, подавляя своей безысходностью. С вымытых крыш вода лилась по отмытому дереву стен на дощатые мостки возле дома, стояла лужами на земле, текла по кюветам возле дороги, сеялась завесою и спереди, и с боков, и сзади, и в окнах комнаты стекала снаружи косыми полосами по стеклу.
…в такой вот безрадостный день, войдя в свою комнату, я увидел четвёрку жильцов собравшихся между кроватями. Один из них, Рынденков, взволнованно говорил:
— По радио передавали, в Кемерово открывается горный институт, документы принимают в Московском горном.
Я прислушался. Полезная всё-таки вещь радио!
— Стипендию там дают даже с тройками, — продолжал говоривший.
Последнее обстоятельство и решило мою судьбу. На другой день я уже был в МГИ. Да, всё было именно так, как рассказывал Рынденков. Работала приёмная комиссия, принимала документы и, если отметки не были слишком посредственными, сразу зачисляла в студенты. Занятия в Кемерово должны были начаться первого ноября.
Всё это было весьма хорошо, хотя я и понятия не имел, где это Кемерово, но возникала задача, как извлечь документы из технику-
ма. И ещё я очень боялся, что потребуют возврата стипендии, сто рублей мы только что получили, и я начал их тратить. К счастью всё обошлось. Документы мне мирно вернули, с неудовольствием, правда. О деньгах и не заикнулись.
В МГИ я несколько растерялся. О горном деле не знал ничего, а там было три факультета: горный, горной электромеханики и шахтостроительный. Для меня всё это звучало равно бессмысленно. Так куда же подать заявление?
…кто-то сказал, что у горняков зарплата выше, чем у механиков, и механики подчиняются горнякам. И я решил идти в горняки (и этим сузил поле возможной работы).
Я написал заявление с просьбой принять меня на горный факультет, сдал аттестат и экзаменационную справку МЭИ, и тут же получил ответную справку о том, что я зачислен студентом первого курса горного факультета Кемеровского горного института и должен прибыть в институт к началу занятий 1-го ноября 1950 года.
Если б вы знали, какая гора у меня спала с плеч: я буду учиться на инженера и стипендию больше трёхсот рублей получать… и угроза армии миновала. Впрочем, и в техникуме не было этой угрозы…
…вот пример роли случая в жизни. Войди я в комнату двумя минутами позже, я бы ничего не узнал, и, бог знает, куда бы моя судьба повернулась. Так-то вот, рядом, в Иваново, в энергетический институт не поехал, а теперь…
После месяца тоскливого отчаяния на станции Правда я бы теперь с радостью в любой институт и к чёрту на кулички помчался.
…а где это Кемерово, я и в самом деле не знал. Представлял, где-то далеко на востоке, в Сибири, но того, что это главный город Кузбасса, что вообще он в Кузбассе, понятия не имел — вот тебе и отличник по экономической географии.
…Итак, дела мои в Москве завершились, хотя и не лучшим образом, но и не так уж плачевно. Столица меня отвергла, но студентом я всё-таки стал. Осталась одна забота, повидаться с Боровицким Ефимом. Из переписки с Алуштой я знал, что он с Лёней Тремпольцем поступил в Московский технологический институт пищевой промышленности, снимал с ним в Москве комнатушку. И адрес его мне прислали.
Поздно — начинали вползать в город синие сумерки — я отправился на поиски своих одноклассников. Миновала вся каменная Москва, пошли обветшалые одноэтажные деревянные домики, кривые узкие улочки с белыми пятнами свежевыпавшего снега — такого, что растает к утру, а местами уже и растаял. В закоулке, тускло освещённом редкими фонарями, на покосившихся деревянных столбах, я нашёл нужный мне дом. Дом был по облику деревенским, приземистым, с маленькими окнами и на них наружными ставнями, которые были прикрыты. Сквозь щели в них пробивался электрический свет, стало быть, кого-то я в доме застану. Комната, где жили ребята, оказалась малюсенькой, запечной какой-то, и мне кажется, я не погрешу против истины, если скажу, что они спали на одной кровати валетом. А, может быть, и не спали, может, две кровати стояли — не помню.
Я рассказал Ефиму и Лёне о том, как сложились дела и о том, что завтра уезжаю на три недели к матери на Кубань. Ефим тут же сказал, что мои проводы надо отметить, и мы сговорились завтра встретиться вечером у кафе «Мороженое» на улице Горького.
Вечером следующего дня мы встретились в назначенном месте. Я с Лёней были в куценьких пиджачках, Ефим в своём длинном — до пят — пальто из кожи. Между прочим, такие пальто завезли в сорок третьем, сорок четвёртом годах из Америки вместе с «Фордами» и «Студебеккерами» как спецодежду шофёров. Такая роскошь, разумеется, до наших армейских шофёров дойти не могла. В неё приоделось начальство среднего ранга, а где даже и высшего, да и низшего иногда. Это в сорок пятом году приводило к конфузу, когда стали часты встречи с союзниками. Американцы весьма удивлялись: «Почему среди вас так много шофёров?» Вот примерно такое пальто было и у Ефима — плевать нам на то, что думает о нас заграница! — да и то, в нищей голодной стране кожаное пальто — это сокровище… А о мнении заграницы кто внутри страны знал?
Прогулявшись по улице, яркой, нарядной, вверх, вниз, мы вошли в одно из лучших, нет, в единственное в своём роде в Москве кафе. Там подавали только мороженое, но зато десятков сортов, ну и, естественно, газировку в бутылках к нему и некреплёные вина.
…мы вошли в кафе, но сначала была гардеробная в сиянии бра и блеске лакированных морёного дуба панелей, ограждения и перил. Мы тронулись в зал, но швейцар, в синем мундире с жёлтыми лампасами, обшлагами и галунами, остановил Ефима и предложил сдать пальто в гардероб. Гардеробщик, одетый в такую же кичливую униформу (генерал услужливых войск!), принял у Ефима пальто, вышел из-за барьера, почистил костюм щёткой и спрыснул одеколоном. Пока он совершал эти действия, и Ефим получал номерок, мы с Лёней неспешно прошли гардеробную и вошли в ослепительный зал высоты преогромной, где на длинных подвесках с потолка свисали большие люстры, брызжу-
щие снопами света, изломанного в их хрустале. В простенках окон лучились хрустальные бра с золотым окаймлением, на крахмальных скатертях столиков стояли в высоких искрящихся вазах свежие розы и переливался огнями хрусталь вазочек и фужеров. Публика в зале выглядела нарядно: мужчины — в дорогих костюмах при галстуках, женщины — в длинных платьях разных цветов, кое-где с décolleté.
…Мы нашли незанятый стол, сели, тут же к нам подсел и Ефим. Официантки с подносами сновали меж столиками, а мы, в ожидании, когда к нам подойдут, озирали великолепие, невиданное дотоле. На улицу зал выходил пятью окнами, размахом чуть ли не в три этажа, и сверху по каждому из них от потолка и до пола спускался тюль и, по сторонам, перевязанные внизу шёлковые белые шторы. Напротив, над залом протянулись широкие антресоли с мраморной балюстрадой. За нею виделись мужские и женские головы.
Оглядывая зал, мы и не заметили, как появилась официантка в белом фартучке и с маленьким белым блокнотом в руке, и очнулись от её вопроса:
— Что желаете заказать? — после чего, быстро летая карандашом над страничкой, принялась записывать наш заказ.
Мы заказали по четыре порции мороженого «ассорти» и по бутылке «крем-соды» на брата.
…мы ахнули, когда всё это нам принесли. Двенадцать вазочек, и в каждой — по восемь крупных шариков белого, кремового, розового (с клубникой), шоколадного, лимонного и бледно-кофейного цвета, и к ним четыре откупоренные бутылки ситро, вспененного исходившими со дна пузырьками. Мы принялись ложечками разрушать цветные пирамидки из шариков, запивая мороженое сладким колючим ситро. Просидели мы около часа, ведя никчемный, пустой разговор — всё важное сказано было вчера. Управившись с лакомством, мы поднялись и пошли к выходу. Мы с Лёней вышли на улицу, Фима отправился за пальто.
Мы медленно двигались по улице вверх в ожидании, пока Ефим нас догонит. Ушли мы порядочно, а Ефима всё не было. Мы остановились, обернувшись, смотрели в толпу. Ефима не было в ней. Наконец, он появился, красный, запыхавшийся, и без пальто. Сбивчиво, торопясь, он сказал, что его перехватила в гардеробе официантка. Оказывается, мы ушли, с нею не расплатившись. Машинально встали, ушли…
За пальто с Ефима потребовали расплаты. Ну, буквально, не за пальто, а за то, что мы съели.
— Ну и заплатил бы. Что бы мы тебе не отдали? — сказал я. На это Фима ответил, что у него не хватило денег за всё заплатить, и он
вынужден был гнаться за нами. Но не будем гадать, хватило бы или нет — дело прошлое. Вполне могло и хватить, деньги-то у студента всегда при себе, а цены в те времена в ресторанах, кафе были сносными, чуть дороже столовских, даже вина и водка были в них без всяких наценок. Лишь Хрущёв после краха своей пятилетки их ввёл, но в терпимых пределах. Это Лёня Безбрежнев сделали хорошие рестораны для простых людей недоступными.
…но вполне могло не хватить. Кто считал?!
Мы порылись в карманах и выложили свои доли Ефиму. Он побежал в кафе, расплатился и вернулся обратно в пальто. Тут, некстати, стал накрапывать дождь, мы нырнули в метро «Маяковская» и там распрощались. Они поехали к себе на квартиру, я покатил на Курский вокзал.
…была глубокая ночь. Поезд увозил меня на Кубань.
Этот приезд в Костромскую не запомнился совершенно, и вот я уже в окне лабинского поезда, отправляющегося в Курганную. На перроне мама, такая жалкая, щупленькая, такая родная, что горло сжимается судорогой. Будто я, уезжая, теряю её навсегда. Всю дорогу до самой Курганной этот камень на сердце, эта тоска… В Курганной и далее станционные, поездные заботы тоску эту заслонили собой, а в голове моей начала разрастаться тревога о будущем.
…В Москве я оказался в гулкой толчее Казанского вокзала. Зал был высок и огромен, но заполнен людьми до отказа, как говорится — битком. К кассам пришлось пробираться через толпу. Протиснувшись, я отыскал глазами окошечко, где продавали билеты на моё направление, и встал в хвост довольно длинной очереди к нему. В очереди, в отличие от очередей к другим кассам, в основном стояли молодые люди моего возраста. Из отрывочных слов, различаемых в шуме и гаме вокзала, я мог догадаться, что эти люди студенты нового института, набранные в Москве и едущие, как и я, в Кемерово, но постеснялся об этом спросить.
…у меня плохая моментальная память на лица. Я редко сразу запоминаю людей, виденных мною мельком или тех, с кем недолго общался. Если лица эти, само собой разумеется, не чересчур выдающиеся. Я совершенно не помню, с кем стоял в очереди, с кем четверо суток в вагоне тащился до Кемерово. Но на вокзале два лица мгновенно впечатались в память мою. Первое — невысокого крепыша с кожей пористой, грубой и носом необъятных размеров. Затрудняюсь сравнить его с чьим-нибудь носом. У Гоголя был выдающийся нос, но к концу утончавшийся; этот же был непомерно массивен. Второе лицо было миловидным округлым лицом девушки-коротышки. Оно
бы могло показаться даже красивым, если бы не было чересчур велико. Носителя феноменального носа, как позже узнаю, звали Львовичем Изей. Девушку — Галиной Шпитоновой.
…Через четверо суток на исходе месяца октября в двенадцатом часу ночи поезд прибыл на станцию Кемерово. Я и соседи мои беспокоились, как найти в темноте институт, где скоротать остаток ночи, если вокзал небольшой.
Вокзал, и вправду, оказался маленьким очень, таким, как в Курганной, но все тревоги наши рассеялись, едва мы вышли из поезда на слабоосвещённый перрон. По радио объявили, где собраться студентам горного института, прибывшим этим поездом из Москвы. Мы — человек сто, если не больше — собрались в указанном месте. Там нас построили по четыре в колонну, объяснив, что идти далеко, после чего посланцы из института повели нас по городу. Городская часть путешествия довольно скоро закончилась, и мы очутились на пристани у широкой и быстрой реки, в чёрной воде которой метались береговые огни. Это была Томь. Через несколько минут подошёл небольшой теплоходик, мы погрузились, он отчалил, забирая вдоль берега влево против течения.
Пройдя таким образом сколько ему было нужно, теплоход отвернул к противоположному берегу и поплыл в крест течению. Река быстро сносила его, но снесла ровно настолько, что он точно причалил к пристани на том берегу.
На берегу нас снова выстроили колонной и вывели на грунтовую разъезженную колеями дорогу, поднимающуюся в лес извивами по лощине. Лес начинался сразу же на склонах её, сосновый, высокий, густой: тьма стояла непроницаемая. Лишь иногда сквозь кроны с чёрного неба просвечивала звезда; а наш странный отряд, потерявший форму всякого строя, брёл по этой разбитой дороге вытянутой толпой, представлявшейся, видимо, фантастической стороннему наблюдателю. Одетые кто во что, в пиджаках и пальто, в плащах и шинелях, с кепками на головах, платками, шапочками и шляпами, с чемоданами, баулами, рюкзаками, свёртками, узлами и сумками мы походили скорее на беженцев или на жителей, угоняемых в гитлеровскую неволю, чем на передовой отряд молодёжи — студенчество. Но это я так считал. Официально авангардом был комсомол.
…путь через лес был долгим и утомительным, но это всегда так: путь, проходимый впервые, кажется длиннее, чем он есть в самом деле, после он становится заметно короче.
…в конце концов, лес всё-таки кончился, колонна выползла из него, миновала несколько белевших по левую руку типовых двухэтажных домов (справа не было ничего) и вышла к двум зданиям на отшибе, стоявшим друг против друга через дорогу. За ними проглядывала уже совершенная пустота, и в эту пустоту уходила дорога. Между объявленными зданиями нас на минуту остановили, сказали, где что.
…Слева сиял всеми окнами покоем построенный корпус четырёхэтажного институтского общежития, справа был сам институт: трёхэтажное неосвещённое здание. Оно также стояло покоем, но фасад его смотрел в тёмное поле, и входа там не было. Одно крыло его обращено было к дороге и к общежитию. Вход в здание был со двора в этом самом крыле сразу за его торцом, туда нас и повели. У распахнутых двустворчатых дверей слабо светилось одно окно, зато ярко освещена была вся длинная лента сплошного стекла в переплётах на втором этаже здания между двумя его крыльями.
…Всё было организовано чётко, хотя шёл уже, пожалуй, третий час ночи. В вестибюле нас рассортировали по факультетам. По широкой парадной лестнице мы поднялись оттуда на второй этаж, где в разных комнатах заседали комиссии во главе с деканами факультетов.
…Вызывали к деканам по очереди, по алфавиту. Когда выкликнули мою фамилию, я со своим чемоданом вошёл в большую комнату, поперёк которой стоял обширнейший стол, обтянутый зелёным сукном. На столе лежали кипы папок, вороха бумаг, за ними лица слева и справа. Посреди, за свободной частью стола, восседал декан горного факультета Западинский Арнольд Петрович, средних лет плотный мужчина с лицом суровым, изрезанным морщинами.
Я подошёл к нему, поздоровался. Он уже смотрел моё личное дело. Держа мой экзаменационный лист и просмотрев в нём отметки, он поднял на меня глаза и твёрдо сказал, сделав ударение на «вы»: «Вы будете у нас учиться». После этого мне вручили пропуск в общежитие с указанием комнаты, где я должен был поселиться, предупредив, что эту ночь придётся переночевать на кровати с голой сеткой, матрасы, подушки, одеяла и постельное бельё выдадут завтра.
…мне досталась большая комната на третьем этаже в правой части фасадной стороны дома. В комнате, справа и слева от дверей, у боковых стен стояло по две кровати с тумбочками между ними. Пятая кровать притулилась под окном у радиатора отопления. В центре комнаты — квадратный стол и пять стульев.
Жить можно.
Поскольку в комнате не было никого, и все кровати были свободны, я, оценив обстановку, выбрал себе кровать в левом дальнем
углу: и от дверей подальше, и не под окном, засунул под неё чемодан и, выключив свет, не раздеваясь, а, только скинув ботинки, прямо в пальто завалился на жёсткую сетку кровати. Сон пришёл без задержки.
…Утро разбудило светом и голосами. Комендант общежития выдавал матрасы и подушки, вернее, их разноцветные полосатые оболочки, и, указывая в поле на стоявшие там копны сена, направлял всех студентов набивать этим сеном полученное добро, дабы превратить его уже в настоящие матрасы с подушками.
…день был нежарким, но солнечным, ясным, и с сеном возиться было сплошным удовольствием. Вместе с другими ребятами я подошёл к копне и, выдёргивая из неё охапки сена, стал засовывать их в свой наматрасник. Ни у кого из нас не было опыта изготовления сенников, и поначалу мы набили их очень туго, так что они округлились. На таком матрасе не улежать — мигом скатишься на пол. Надо часть сена вытаскивать. Надо-то надо, но сколько? Мало вытащишь — будешь с кровати сползать, много — сетка будет на рёбра давить. В общем, вытащил сена я на глазок, на авось, полежал: земной тверди вроде не чувствую и с матраса не скатываюсь, не сползаю — и стал набирать сено в подушку.
…возвращение предстало красочной картинкой: по полю, сходясь к общежитию, ползли десятки разноцветных вялых полосатых колбас — аэростатов воздушного заграждения.
Ох же и намучались мы с сенниками своими в тот год! Сено сбивалось комками, сваливалось то на одну сторону, то на другую, приходилось матрасы ежедневно взбивать, чтобы выровнять их хоть немного. Но надолго ли?!
…К концу этого дня моя комната полностью заселилась. Вместе со мной в ней стало пять человек, четверо горняков — все из разных групп — и один шахтостроитель. Двое из горняков, Морозкин и Стародумов, были старше нас, остальных. Местные, они окончили горный техникум и сколько-то успели поработать на шахте. Из моих сверстников горняком был высокий слегка заикающийся Толик Попов, второй, Виктор Федотов, — учился на шахтостроительном факультете. Как-либо доверительно я ни с кем из этих ребят не сошёлся. Отношения были ровные, дружелюбные, но не более. А после зимних каникул мне ни разу не пришлось заговорить с кем-либо из этой четвёрки или встретится где-либо, кроме как в коридоре общежития, института или на лекциях. Поселение пока шло хаотически, по прибытию. В следующем году в комнату селили студентов из одной группы.
«Старички» наши держались особняком, свысока поглядывая на нас, «салажат», но отнюдь не враждебно.
…В институтской библиотеке нам выдали учебники по всем предметам, упомянутым в расписании, и первые занятия начались. Мне они запомнились серостью, сумеречностью, тускло накалёнными нитями лампочек в нашей столовой, испускавшими мерзкий свет грязно-жёлтого цвета. Вся эта сумрачность подавляла меня, чувствовалась противная пустая завеса перед глазами. Мне было худо, иногда казалось, что эти странные ощущения могут довести до потери рассудка. И эта возникшая боязнь ненормальности больше всего угнетала меня. Днём это как-то не замечалось, но вечером в меркнущем освещении институтской столовой, подобном гнусному свету, что был неотъемлемой частью провинциальных вокзалов, послевоенных пассажирских общих вагонов и общественных советских уборных, мне становилось нехорошо. Но всё проходило в нашей комнате, убого обставленной, но залитой светом двухсотваттной лампочки. Состояние это продержалось около месяца и само собою рассеялось, но уже никогда в жизни я по утрам не просыпался бодрым и свежим, как до злополучного дня мая этого года, ошеломившем меня головной болью почти нестерпимой.
Из безрадостного хаоса первого месяца стали медленно проступать люди, занятия. Сначала прорисовались уроки аналитической геометрии. Лекций по этой дисциплине не было, в группах занятия проводил невысокий, крепко сбитый старичок Виноградов. Объяснял он на редкость бездарно, косноязычно, невнятно, но я следил по учебнику и всё понимал. Только скучно это было до зевоты. Мука сплошная…
Что-то странное происходило у меня с начертательной геометрией. Худощавый высокий подтянутый мужчина лет сорока, Евстифеев Анатолий Владимирович, в лекционном зале чертил цветными мелками на чёрной доске красивые чертежи, говорил о следах пересечения линий и плоскостей, но я ничегошеньки из слов его не воспринимал. Вероятно, я пропустил что-то мимо ушей в начале занятий, и всё остальное, логически связанное с предыдущим, представлялось мне несусветной абракадаброй.
…но тут повезло. Меня выручил случай.
Я простудился, температура подскочила до тридцати девяти, и в институтском медпункте мне дали справку, освободив на неделю от посещения занятий. Я болел, лёжа в постели, глотал выписанные лекарства и от нечего делать листал учебник Гордона по начертательной геометрии. Идя от страницы к странице, разбирая все чертежи и внимательно вчитываясь во все объяснения, я, к удивлению, обнаружил, что ничего сложного, а тем более непонятного, в начертательной геометрии нет. Придя после болезни на лекцию, я сразу вошёл в курс объясняемого, следил без труда за мыслью преподавателя и радовался тому, что всё на лету понимаю. Но многие из студентов продолжали, как недавно я сам, тупо смотреть на доску и считать «начерталку» невероятно трудным предметом, просто боялись её.
Изменилось и положение на занятиях по аналитической геометрии. Престарелого отца заменил его сын, приглашённый из Томского политехнического института профессор Виноградов Юрий Петрович. Отличный знаток своей дисциплины, он вёл занятия с таким блеском, что воодушевлял и меня, и я с большим удовольствием переводил язык чертежей теорем на язык алгебраических формул.
…всё же по форме своей самыми интересными были лекции Евстифеева по начертательной геометрии. Прервав объяснения, он рассказывал смешные истории, случавшиеся с ним в лыжных походах или во время охоты зимой на медведя. Дав отдохнуть нашим мозгам, он продолжал лекцию, потом снова прерывал её какой-нибудь занимательной байкой или анекдотом. Запас их у него был потрясающий. Вообще, был он остроумен необычайно и, большей частью повёрнутый к залу спиной, когда чертил на доске сложные чертежи, он ухитрялся зорко следить за всем тем, что происходило в большом лекционном зале. Реакция его была моментальной, резко сорвавшись со сцены, он стремительно шагал по проходу между рядами. Враз остановившись у нужного ряда, он совал под пюпитр, над которым низко склонились две головы, поглощённые чтением до полного отключения от действительности, свою руку и вытаскивал из рук ошеломлённых читательниц «Блеск и нищету куртизанок» Оноре де Бальзáка. Быстро среагировав на комизм положения, он тут же бросал насмешливую едкую реплику, и весь зал валился от хохота. Очень наблюдателен был Евстифеев, вмиг подмечал забавную ситуацию в зале и делал блестящий выпад, всегда попадавший в цель, обескураживая виновников положения и вызывая всеобщий восторг остальных… Быть на его лекциях было для меня, и не только, сплошным удовольствием, но, к великому моему сожалению, задыхаясь от смеха, я не додумался до того, чтобы тут же и записать все его рассказы и реплики, замечания и уколы. А теперь вот по прошествии лет в памяти ничего, кроме названия книги знаменитого француза-писателя.
Начав разбираться в пройденном материале, я стал высовываться на практических занятиях по начерталке, которые вела не пожилая ещё, но и не первой свежести аспирантка с кафедры Евстифеева, Исакова Тамара Васильевна. Я задавал массу вопросов, докапываясь до сути многих задач, которые она излагала нечётко, чем, к моему изумлению, (об этом я позже узнал) произвёл на неё впечатление непроходимого болвана, законченного тупицы, ученика крайне отсталого, хотя мои безукоризненно выполненные эпюры вынуждена была оценивать отличной оценкой.
…огромное наслаждение доставляли мне прекрасные лекции по химии профессора Стендера. Невозможно было не восхищаться обширностью знаний его, ясностью логики изложения, его лекторским талантом, великолепным владением языком. Тут, пожалуй, впервые поразился я дивной красоте русского языка в устной речи даже в изложении такого прозаического материала, как химия.
…Директор института, доктор технических наук, вскоре ставший профессором, Горбачёв Тимофей Фёдорович, вёл по группам ознакомительный курс горного дела, где практически составлялось у нас первое представление о шахте, горных выработках и работах и происходило приобщение нас к профессиональной терминологии.
…В нашей группе, номер четыре, мы уже знали друг друга в лицо, хотя знакомства за пределами аудитории не поддерживались ещё: жили все в разных комнатах. Было нас в группе человек, как мне кажется, двадцать, одни только ребята. Девушек вообще было мало на курсе, не больше дюжины, вроде. Это из трёхсот человек на всех факультетах.
Недели через четыре после начала занятий незаметно в нашей группе появилась девица, то есть, поначалу, она никакого впечатления не произвела. Так, мелькает время от времени существо женского пола… Садилась она позади, с кем-то из ребят разговаривала, но для меня её не было.
…после лекций я шёл в столовую, ту самую, с противным светом. Приземистое здание её стояло как раз напротив торца крыла института; в проход между ними мы и входили первой ночью во двор, только столовую я тогда не приметил. Из столовой, перебежав только улицу, я попадал в общежитие, где и проводил в комнате всё своё время, никуда не ходил, читал книги или, если было задание, чертил красивые красочные чертежи. Кстати, нехитрой науке пользоваться рейсфедером, тушью меня научили в первый же день. Чёрную тушь готовили сами, растирая твёрдую её палочку о дно блюдца с водой. Цветная тушь во флаконах появилась в продаже неделей позже. Черчение для меня стало очень приятным занятием, и я отдавался ему с большим прилежанием, когда за него принимался. Вопрос только в том, как заставить себя взяться за дело? Однако же брался. И ещё я играл в шахматы с товарищами по комнате.
Из «взрослых» студентов тот, что лежал у окна рядом с моею кроватью (Морозкин), был шахматистом незаурядным, имел первый разряд. Его обыграть мне ни разу не удалось. Он решительными неожиданными ходами вскоре после начала партии легко разделывался с каждым из нас. С другими жильцами был я на равных: иногда выигрывал, иногда проигрывал. Счёт был примерно ничейный. Играли мы в тот семестр с увлечением и подолгу, после такого уже не бывало. Перворазрядник подсказал мне, что для хорошей игры надо почитывать и теорию, и я этим советом тут же воспользовался. Найдя в библиотеке книжицу об обучении шахматам и прочитав не более двух десятков листов, правда, внимательно и с разбором примеров, я вдруг обнаружил, что начинаю партию, не думая, просто автоматически и легко приобретаю преимущество над своими товарищами.
…потом почему-то я изучение теории прекратил; возможно, лень одолела.
Как видите, интересы мои за пределы нашей комнаты не выходили. Товарищи по группе меня не занимали нисколько, никто внимания моего не привлёк, я с ними общался лишь на занятиях. Во внешнем мире захватывала меня только международная обстановка, а она становилась нерадостной. После блестящего броска танковых дивизий КНДР на юг полуострова, о чём я ранее написал, силы ООН, высадившись у Сеула, мощным ударом перерезали полуостров и (оставив барахтающиеся в тылу кимирсеновские дивизии, где их, расчленив, не торопясь, добивали) повернули на север, захватили Пхеньян и к декабрю вышли к границам СССР и Китая, овладев всей Кореей. Это была катастрофа…
Как узнал я позднее, Сталин знал о подготовке американской эскадры с десантом и созвал совещание военных и конструкторов советских ракет. У нас уже было пятьдесят мощных точно наводящихся ракет, способных уничтожить всю эскадру на подходе к Корее, и Сталин решил это сделать. Но тут прозвучал предостерегающий голос, разнести-то их мы разнесём, но ведь американцы тотчас нанесут самолётами ядерный ответный удар по Москве, а мы не сможем уничтожить их на подлёте. От заманчивой мысли проучить зарвавшихся янки пришлось отказаться…
…Итак, вся жизнь моя протекала внутри нашей комнаты, из неё я выбирался лишь в институт, столовую, баню и ещё в длинный деревянный сарай во дворе общежития, разделённый на две неравные части: мужскую, на двадцать очков, и женскую — в ней очки я не считал. Туалетов и в общежитии было достаточно, но до самого конца пятилетнего обучения там нам были доступны лишь писсуары и умывальники, двери кабинок — крест-накрест забиты. Но к чему развивать эту тему? Разве так занимательно наблюдать, кто из студенток резво так побежал к временному строению?!
И, тем не менее, из комнаты не выходя, я впервые столкнулся лицом к лицу с девушкой, учившейся в одной группе со мной. Я знал — не был я так уж несведущ, — что зовут её Людмила Володина, что она местная, кемеровчанка, что она поступила в Московский горный институт, но месяца через два-три перевелась к нам, ближе к дому. Вероятно, она была деятельной особой, вдруг оказалась в числе активисток, хотя комсомольской организации у нас ещё не было, общественная жизнь текла за кулисами, в глубокой от меня тайне.
…в один из обыденных вечеров, когда мы всей комнатой сгрудились над очередной шахматной партией, в нашу дверь постучали, и в ответ на наш рык: «Войдите!» — в комнату вошла группа мальчишек во главе с ней, Людмилой Володиной. В руках у всех были разграфлённые бланки, и был у них всех вид людей ответственных, деловых.
— Мы подписная комиссия, — сказала юная дева, и тут она показалась мне прехорошенькой. — Надо подписаться на заём до конца года, — продолжала она.
Мы предложили ей стул — все остальные стояли. Она села как раз напротив меня.
— Ну, Платонов, на сколько же ты подпишешься? — обратилась она ко мне первому.
На этот вопрос отвечать я не был готов. Не знал, не думал, что надо подписываться. Я смутился и растерялся от неожиданности вопроса. Я знал, of curse, что в начале каждого года людей подписывают на заём в размере месячного оклада. Но это делалось в январе, и впереди двенадцать месяцев не очень заметных вычетов из зарплаты. Но мы то всего два месяца на учёбе! Надо бы посчитать, но заниматься расчётами перед красивой девушкой неудобно, да и меркантильным казаться мне не хотелось. Назвать слишком малую сумму нельзя, но и перехватить тоже опасно: на что-то надо и жить. Стипендия у меня — триста восемьдесят пять рублей. Я лихорадочно соображал, на сколько же можно уменьшить её, не соображая ничего ровно и от неожиданного вопроса, и от страха за жизнь, и оттого, что пауза слишком затягивается и я выгляжу дураком перед девушкой, которая вдруг мне очень понравилась. Я краснел, я бледнел…
…Выручил меня наш разрядник:
— Рублей на семьдесят, наверное, надо…
— Подписывайте на семьдесят! — решительно сказал я, испытав огромное облегчение, и впервые поднял глаза на подписчицу. «Да она и в самом деле очень хорошенькая», — подумал я, и странная мысль неожиданно вырисовалась в мозгу: «Я Володя, она Володина. Чья? Во-ло-ди-на. Не моя ли?» Не с этого ли всё началось, хотя тогда и подозрения не возникло: мало ли на свете красивых, хорошеньких?! Вот Шпитонова в своём роде тоже хорошенькая. Но что из того?
…заполнив строчку в ведомости и дав мне расписаться, Володина больше внимания на меня не обращала и, подписав остальных жильцов, со всей компанией удалилась.
…Снег выпал первого ноября, и сразу же установились морозы. Празднования Октябрьской годовщины не помню, но вскоре после неё, когда зима предстала во всей снежной красе, опушив белым снегом поля и деревья, случай снова свёл нас с Володиной и даже оставил наедине. Было всё весьма прозаически. На предыдущем занятии по физкультуре в спортзале, где я, как обычно, увиливал от упражнений на «перекладине» (так турник велено было именовать), на «коне» и на брусьях из-за своей неловкости боясь показаться смешным, преподаватель предупредил нас, чтобы на следующий урок мы пришли в лыжных костюмах: заниматься будем на лыжах на улице. Проблемы с костюмами не было: у многих лыжный костюм был повседневной одеждой.
…получив в зале лыжи с мягким креплением (на ремешках) и выбрав по размеру ботинки, мы тут же переобулись и, неся лыжи с палками на плече, вышли во двор. За двором лежала равнина чуть покатая вправо к углу тёмного леса, которым мы шли в ночь приезда. Снег сиял, золотился искрами от края поля до края, мороз окрасил румянцем сразу же щёки, было празднично на душе и от величия красоты, раскинутой перед нами, и от предстоящего наслаждения скольженьем на лыжах.
Физкультурный преподаватель выстроил всю нашу группу шеренгой фронтом к упомянутому углу, скомандовал: «Лыжи на-деть!» — и, после того как мы справились с ремешками: — «Смир-р-на!» — и — «Марш!»
Все рванулись вперёд, распавшийся строй, удаляясь, стекался в клин. Первые выходили уже на накатанную лыжню, я же, скользя, остался на месте. У меня-то, завзятого лыжника из Архангельска, и тени сомнения не было, что помчусь вместе с другими, но лыжи почему-то меня не послушались. На укатанном снегу двора одновременно с лыжей, выдвинутой вперёд, вторая лыжа — настолько же ровно — соскальзывала назад. Попытки вернуть удравшую лыж
у кончались тем, что передняя возвращалась в исходное положение. Так я и елозил на месте.
Я попробовал сильнее упираться лыжными палками, но и это не помогло. « Что же случилось? Да ведь уже в этом году я ходил в Алуште на лыжах!» — размышлял я и тут вдруг заметил, что так же смешно, как и я, дёргается на месте ещё одна незадачливая фигурка. Это была Людмила.
…переступая в её сторону, я подобрался к ней и, смеясь, но и с долей досады, рассказал, что когда-то сам жил в Архангельске и неплохо бегал на лыжах, но за шесть лет пребыванья на юге, получается, разучился.
Пока мы, пыхтя, с трудом отвоёвывали у ускользающего пространства сантиметры и метры, я продолжал: «В войну, зимой сорок первого, привезли к нам в Архангельск красноармейцев-южан, одели их в маскхалаты, поставили на белые лыжи и командуют: „Марш!“ А они, как и мы, с места съехать не могут. Как коровы на льду! Вот уж мы, пацаны, насмехались над ними — чего тут уметь?! Никогда и подумать не мог, что сам в такое дурацкое положение попаду». Потом, обернувшись к моему невольному товарищу по несчастью, спросил: «Ну, меня юг, допустим, подвёл, разучился. Но ведь ты здесь живёшь?!» Не помню, что она мне на это ответила, и ответила ли вообще. И тут я сообразил: «Никогда не видел девочек я на лыжах в Архангельске или в Энсо. Видно, не женский это вид спорта».
…постепенно наши судорожные усилия стали давать результаты, мы начали медленно продвигаться вслед, нет, уже навстречу нашей команде, которая возвращалась обратно. О реакции товарищей на скоростной бег нас с Володиной я умолчу. Не думайте, что реакции не было.
…Этот случай, когда мы вроде бы познакомились ближе, ничего между нами не изменил. Мы стали здороваться, столкнувшись нос к носу, и проходили друг другу чужие.
Я жил своей обособленной жизнью, неосведомлённый о том, что делается вокруг. А вокруг развивались события. Начиналась война. Война с горным техникумом.
До нашего появления техникум был в нашем здании, вернее, разумеется, было б — в своём. Мы отняли здание у него. И новое общежитие также было выстроено для техникума. Но теперь под техникум и его общежития приспособили несколько двухэтажных домов Стандартного городка, или, проще, Стандарта, точно таких же, что виделись мне, когда мы в первую ночь вышли из леса. Только дома эти находились чуть дальше и в другой стороне, перед посёлком со странным названьем Герард, у дороги от института в центр нашего (Рудничного) района города Кемерово.
За это техникумовцы зло на нас затаили и по ночам начали нападать на студентов, ходивших этой дорогой. А её многие уже проторили, ибо вела она и в пединститут, и далее, в медицинский. А зачем туда ходят студенты, известно… Не все такие домоседы, как я. Есть и более энергичные.
Конечно, нападения эти даром не проходили… Влетает избитый студент в общежитие — и, враз, шум, гвалт и вопли по коридорам. Хлопают двери, срываются с вешалок шапки, пальто, и до сотни мóлодцев с истошным криком: «Наших бьют!» мчится на помощь (а если она запоздала — в отмщение!) в сторону Стандартного городка. Там тоже, естественно, не дремали, и там приходила подмога, и начиналось побоище. Возвращались наши вояки с синяками, кровоподтёками на лице, с расквашенными носами, но довольные: «Загнали врага в его логово»; иногда же — злые, расстроенные: пришлось удирать.
…к нам никто не врывался, мы люди спокойные, тихие, а наши опытные, наделённые недюжинной силой товарищи в драки советовали не ввязываться: «Зачем вам это нужно?»… В самом деле, зачем? Мы и не ввязывались…
Но, пожалуй, месяца два, по крайней мере, еженедельно клич «Наших бьют!» поднимал на ноги общежитие.
Слухи о ночных происшествиях дошли до директора… и мир был восстановлен (не без помощи милиции, думаю). В следующем году нападений и драк уже не было.
…раз в неделю в институте показывали кино в актовом зале (он же и лекционный). Одного из студентов ставили у дверей (вторые были заперты изнутри), он продавал выданные ему билеты ценой в один рубль и пропускал в зал.
В канун Нового года дежурить выпало мне. К делу отнёсся я добросовестно, безбилетников в зал не пускал. Вдруг появилась Володина с Юлей Садовской, девушкой из пятой группы, с которой жила в одной комнате. Обе девицы так подружились, что всегда на лекциях рядом садились, и вместе разгуливали по коридору в перерывах меж лекциями.
…и вот обе, вывернувшись с площадки от лестницы, идут к дверям на проход, будто билеты брать им не нужно, будто меня вовсе и нет у косячка с пачкой билетов.
— Стоп! — говорю я, выбрасывая руку вперёд и загораживая дорогу. — Ваши билеты?!
— Какие билеты? — притворно недоумевает Людмила.
— Билеты в кино, — отрезаю я ей, помахивая пачкой синих узких длинных листочков. — Без билетов не пущу, — говорю я им твёрдо.
Обе фыркают, поворачиваются и уходят, как ни в чём не бывало. Свет гаснет, сеанс начинается, и я закрываю дверь. Но я не уверен, что Володиной и Садовской нет в зале. Эти проныры могли пробраться и через дверь за кулисами, хотя та и должна быть заперта. Но это меня уже не волнует. Свой долг я исполнил… Болван!
Ну, а в ночь наступления Нового года, мы, салаги, оставшись втроём в своей комнате — «старички» разъехались по домам, — открываем бутылку водки (впервые в жизни пробую её вкус), банку рыбных консервов и банку баклажанной икры, режем хлеб, разливаем водку в стаканы и с последним скачком часовой стрелки к двенадцати и ударом «курантов» (репродуктор включён у нас постоянно) залпом опрокидываем стаканы с отвратительным горьким напитком: «С Новым, тысяча девятьсот пятьдесят первым годом, товарищи!»

Рис. 4. 1950 год. Кемеровский горный институт
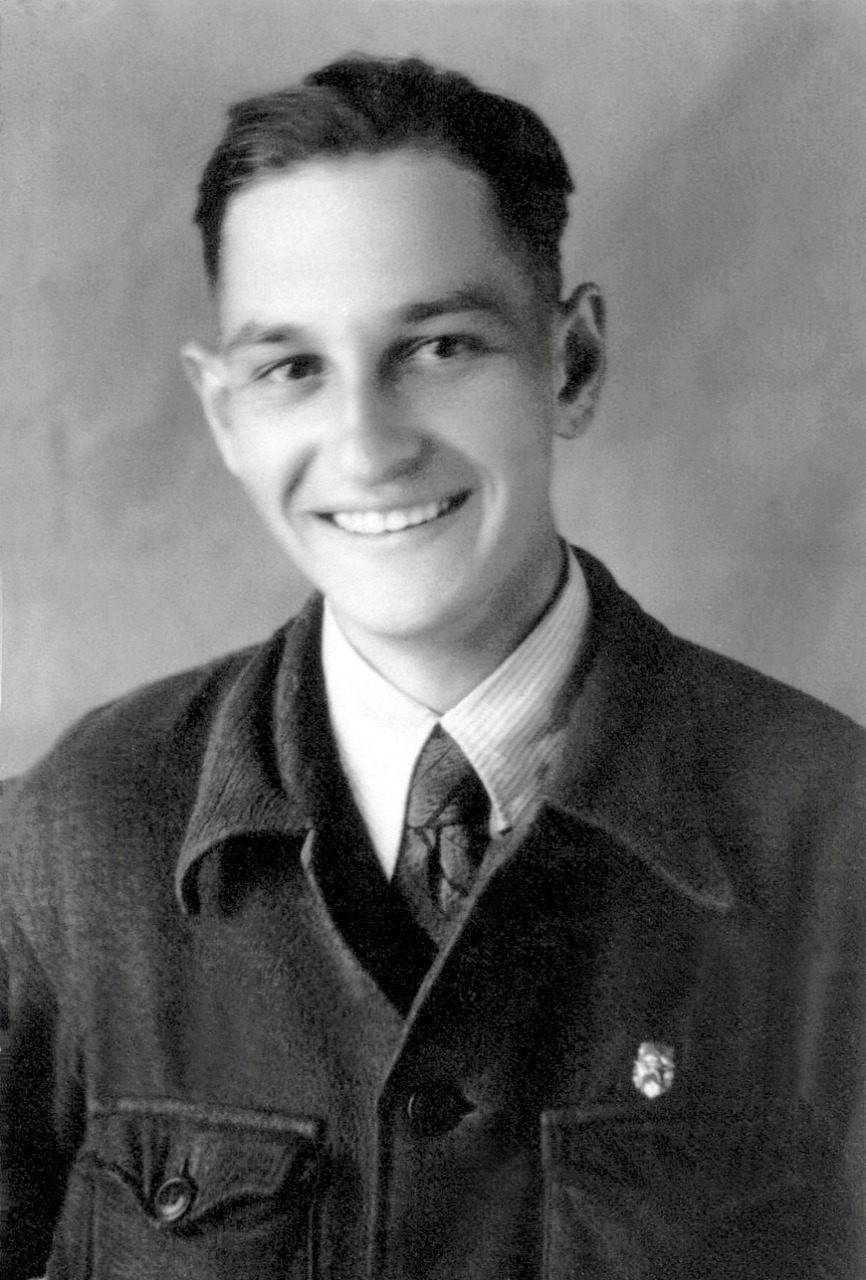
Рис. 5. Первокурсник
1951 год
Закусив, мы отправились в зал. Он почти свободен от кресел. Ряды их сдвинули вплотную к задней стене, составили в три этажа. Посреди зала — ёлка под потолок. Льётся музыка из репродукторов, в вальсе кружатся пары. Много девушек из пединститута. Гаснет свет, горят ёлочные огни.
…по стенам мечутся тени.
Мы становимся у стены: никто из нас танцевать не умеет. Грустно, мне так хочется танцевать, а тут ещё душещипательная мелодия танго:
В этот вечер в танцах карнавала
я руки твоей коснулся вдруг,
и внезапно искра пробежала
в пальцах наших встретившихся рук.
Где потом мы были, я не знаю,
только помню, где-то в тишине
ласково шепнувшими губами
на прощанье ты сказала мне:
Если хочешь — приди,
если хочешь — найди,
этот день не пройдёт без следа.
Если ж нету любви, ты меня не зови —
всё равно не найдёшь никогда.
Я проторчал в зале до трёх часов, захлёстываемый волнами тоски о желанной любви, которой не было у меня. Лена Полибина на письма мои из Кемерово не ответила, и память о ней незаметно из моего сердца ушла.
…объявили:
— Белый танец. Дамы приглашают кавалеров.
Мне так захотелось, чтобы какая-нибудь девушка ко мне подошла и пригласила на танец. Почему бы и нет? Я — об этом мне всю жизнь говорят — миловиден, даже красив, высок ростом, только очень худой, вес после голода в годы войны не набрал, хотя не страдаю от отсутствия аппетита. Вот что плохо — бедно одет. Чёрные брюки, вельветовая курточка с «молнией».
Не выйдет ли как в непритязательной песенке:
Хороша я, хороша,
Да бедно я одета.
Никто замуж не берёт
Девушку за это.
И всё же: А почему бы и нет?
Скорее всего, мне пришлось бы отказаться за неумением, но всё равно бы было приятно, что кто-то на меня глаз положил, я кому-то понравился. А вдруг она предложила бы: «Давайте попробуем, я вас поучу, быть может, получится…»
…никто не выбрал меня. Да, вид у меня затрапезный: брюки выглаженные, но не новые и курточка простенькая. Вот когда я пожалел о костюме. «По одёжке встречают, а провожают по уму», — пословица говорит. Но встречают-то всё-таки по одёжке, а без встречи, как ум свой покажешь?
…Наконец мне печаль моя до чёртиков надоела, и я ушёл спать. Шёл первый день второй половины столетия. Утро его омрачилось трагедией.
…юный студент по фамилии Строков не сумел правильно по части спиртного свои возможности оценить и впал в беспамятство, а, попросту говоря, «отключился» прямо в зале. Товарищи по проживанию в комнате подхватили его, оттащили в общежитие, бросили на кровать и вернулись на танцы. Придя в комнату на рассвете, они нашли его мёртвым: уткнувшись в подушку, он задохнулся в собственной рвоте. И невозможно его сотоварищей в беспечности обвинить. Кто б мог подумать?! Только после этого случая все осознали, что ни в коем случае пьяного в стельку бросать на кровать, да ещё на подушку, нельзя. Надо на полу оставлять. Ничто не будет препятствовать вылиться блевотине изо рта.
…Ну, тут же дали знать декану, директору, и утром телеграмма ушла родителям Строкова.
Второе января началось траурным маршем, а к обеду чёрная лента студентов потянулась за красным гробом и убитыми горем родителями в сторону кладбища. Я смотрел на процессию из окна. Чёрный изгиб длинной ленты на белом снегу выглядел мрачно, нехорошо. Я на похороны не пошёл. Не любил тогда я покойников. Это не значит, что я теперь их люблю, отношусь к ним спокойно и безразлично: труп, он и есть труп, а не человек, и чувств никаких я к нему не испытываю и не понимаю людей, жалеющих умерших. Жалеть нужно живых, а мертвецу всё равно, ему на всё наплевать, в том числе и на горе наше, страдания. Больно смотреть на родных, на близких покойного, вот им каково?! … Строков умер, а пятого января началась экзаменационная сессия. Ловко он от неё увернулся.
Экзаменов было много, едва ли не семь. Студенты трусили почему-то, боялись идти в самом начале — шпаргалки, наверно, труднее передавать, — посему мне всегда удавалось в первую пятёрку попасть. Дались мне первые экзамены в институте необычайно легко, но не все мне запомнились.
…войдя первым в аудиторию, где экзамен по аналитической геометрии принимал Виноградов, я взял билет, назвал номер, сел за стол, быстро набросал на бумаге решения и, на вопрос: «Кто готов отвечать?» — вызвался: «Я!»
Я сел к Виноградову. Помниться, он сидел за столом спиною к окну, свет падал мне в глаза, и мне трудно было рассматривать выражение лица его, что при ответе немаловажно. Впрочем, я был абсолютно уверен; ответил на вопросы билета, показал решение задач и собирался увидеть, как профессор мне ставит пятёрку в зачётку, как он неожиданно задал мне новый вопрос, причём один из самых простейших: «Напишите уравнение прямой, походящей через две точки».
И тут в голове у меня что-то заклинило. Я этого уравнения вспомнить не мог. Холодея, я почувствовал приближение московской истории, и тогда меня бросило в жар. Но московской ошибки не повторил.
— Простите, — поколебавшись секунду, сказал я, — уравнение вылетело из головы. Но я могу его вывести.
— Выводите, — сказал Виноградов.
Я вмиг набросал на листочке чертёж, штрихами снёс координаты на оси и написал уравнение. Виноградов на всё это смотрел и, когда я закончил, ни слова не говоря, взял зачётку и вывел в ней чётко: «Отлично», и расписался.
Оценил: не зубрю, понимаю.
Экзамен по химии я сдавал профессору Стендеру. Мне попался билет с трудным первым вопросом о сплавах олова с медью. На сплавах многие студенты из других групп погорели, путаясь в сложности происходящих процессов. Я сделал чертёж со всеми линиями фазовых переходов и чётко и точно изложил суть превращений при разных температурах и концентрациях обоих металлов. По лицу Стендера я увидел, что он был в восторге, и, не спрашивая ответы на остальные вопросы билета, он записал в зачётке «Отлично!»
С минералогией мне пришлось повозиться перед экзаменом. Все процессы я знал, но вот все минералы по признакам (ну, там твёрдость — черта, цвет, излом) определить я с уверенностью не мог. И вот те минералы, что представляли мне трудность, я запомнил по форме их — ведь все куски были различны. И «определил» безошибочно на экзамене предложенные мне образцы.
…но самым оригинальным был экзамен по начертательной геометрии. Экзамена этого многие очень боялись. В группах, что сдавали начерталку до нас, до половины студентов с двойками выходили. Немудрено, что перед экзаменом кой у кого поджилки тряслись.
Когда я вошёл в кабинет Евстифеева, он потребовал сразу зачётку и внимательно её рассмотрел. Затем, вероятно, отчеством моим несколько необычным заинтересовавшись, стал зачётку с ведомостью сличать.
— А в ведомости написано: Платонов Владимир Степанович, — сказал он.
— Там ошибка, — сказал ему я. — Правильно должно быть Стефанович.
— Так кто же вы? — глядя в упор на меня, спросил Евстифеев. — Платонов Владимир Стефанович или Платонов Владимир Степанович?
— Платонов Владимир Стефанович, — отвечал я.
— А паспорт у вас есть? — поинтересовался неожиданно Евстифеев.
— Есть.
— Покажите.
— Он в общежитии.
— Ну, так принесите его скорее, — воскликнул мой недоверчивый экзаменатор, хотя я уже понимал, что он, как обычно, дурачится.
— Сейчас, — ответствовал я, вышел из кабинета и побежал в общежитие. Через две минуты с паспортом в руках и сильно запыхавшись, я влетел в кабинет:
— Можно?
— Да, да, заходите.
…обстановка тем временем в кабинете переменилась. За экзаменационным столом сидела не наша девица (очевидно, пересдавала), краснела, на вопросы отвечала сбивчиво, путано и умолкала на полуслове. Евстифеев укоризненно качал головой… Наконец ему вся эта канитель надоела:
— Вот что, милая, — сказал он, — возьмите вот этот графин, — он глазами указал на пустой графин на столике в стороне, — пойдите, наберите в него в туалете воды и полейте цветочки, — взгляд его устремился на горшки с цветами на подоконниках.
Девица встала, взяла графин и вышла из кабинета.
Я предъявил Евстифееву паспорт, он его изучил, сделал исправление в ведомости и сказал:
— Берите билет.
Я взял билет, пошёл к столикам, впритык стоявшим к стене, так что сбоку и со спины ты виден экзаменатору — тут уж на колени книжку или шпаргалку не выложишь! — и сел готовиться отвечать, рисуя чертёжики на листках, ибо без чертежей начерталка не была б начерталкой. Подготовился я моментально и тут же вызвался отвечать: девица с наполненным водою графином ещё только что вошла в кабинет. Евстифеев смотрел, как она поливает цветы, не обращая на меня никакого внимания, хотя я уже сидел перед ним.
— Ну, а теперь идите сюда, — сказал он юной представительнице прекрасного пола, закончившей поливку цветов и поставившей опустевший графин на прежнее место.
Придвинув её зачётку к себе и вписывая в неё своим каллиграфическим почерком отметку «Удовлетворительно», он заметил:
— Вот вам за хорошую работу.
Девица взяла зачётку и вышла.
А я восхитился…
Тогда Евстифеев обратил свой взгляд на меня. Я начал: «Билет номер…», — но он меня перебил:
— Давайте ваши бумаги! — и вынул у меня из руки пачку исчерченных мною листов. Просмотрев их, он молча пододвинул мою зачётку к себе и вписал в неё уже становящееся привычным «Отлично».
— Идите, — сказал он мне, вручая зачётку. Я вышел. Меня обступила толпа ещё не сдававших ребят нашей группы и толпа уже сдавших болельщиков: «Как?» — «Отлично».
…когда студенты сообщили Тамаре Исаковой, преподавательнице, проводившей с нами практические занятия, что Платонов сдал Евстифееву начерталку отлично, её чуть удар не хватил: «Не может этого быть!» Мне о её реакции рассказали, и мне сделалось неприятно и одновременно смешно: я был о ней лучшего мнения.
Остальные экзамены я тоже сдал превосходно, и нежданно-негаданно стал круглым отличником, которых на триста студентов оказалось всего лишь одиннадцать. Из горняков им стал ещё только Саша Романов, остальные были механики и шахтостроители.
Моральная удовлетворённость получила и материальное подкрепление. Я стал получать повышенную стипендию, что составило четыреста восемьдесят рублей против прежних трёхсот восьмидесяти пяти. Но я не заметил, чтобы от этого как-то сильно моё благополучие изменилось.
…Впереди были каникулы, и предстояло подумать, как и где их провести. Но вопрос этот за всех нас решил Тимофей Фёдорович Горбачёв. Вызвав всех к себе в кабинет, он сказал, что премирует первых отличников КГИ недельной поездкой в Новосибирск в оперный и другие театры.
…В сопровождении преподавателя, которому Горбачёв поручил заботы о нас, я и ещё шесть студентов выехали в командировку в Новосибирск. Поезд за ночь довёз нас до цели. Выйдя из поезда, мы обошли весь огромный голубо-белых тонов новосибирский вокзал, достроенный в годы войны. Слава о нём от Урала гремела к востоку до Тихого океана. В Европе — так европейскую часть Союза из Сибири мы называли, — правда, об этом было ничего неизвестно…
Залы ожидания были светлы, высоки — в них до стеклянного переплёта крыши поместилось бы не менее двух этажей обыкновенного дома. Обок этих зал поднимались наверх лестницы, ведущие в бельэтаж в крыльях этого здания. Там помещались комнаты отдыха, кинозал, ресторан. Поражало обилие лепнины и необычные цвета для вокзала, как было сказано — белое с голубым.
…От вокзала трамваем мы поехали к центру города. И тут город меня поразил. Долго ехали мы мимо маленьких домиков, черневших старыми срубами на белом снегу, мимо заборов между домами, где из штакетника, а где из набитых на слеги всплошную досок. Это обилие частных домов меня удивило. Всё же это не Кемерово — Новосибирск. Население его подбиралось к миллиону, а вот по части многоэтажных кирпичных домов он, по мнению моему, уступал двухсот восьмидесятитысячной столице Кузбасса. Каменный центр оказался совсем небольшим. Вокруг площади группировались все крупные здания: госучреждения, универмаг, драмтеатр, институт по проектированию шахт… На неё же поодаль выходил грандиозный — тоже гордость почти всей Сибири — театр оперы и балета с куполом размеров невиданных. Кстати, тоже достроенный в сорок четвёртом году.
…нас поместили на первом этаже четырёхэтажного дома, с Гипрошахтом, кажется, рядом. Там вдоль длинного коридора были комнаты для приезжающих в институт.
…Первый день занял осмотр центра города. Со второго вечера началось чудо, сказка. Опера и балет.
…колоссальный амфитеатр перекрыт был куполом без единой поддерживающей колонны. Ряды кресел, снова же белых с голубым окаймлением и позолотой, крутыми уступами от самого купола спускались вниз, охватывая зал почти по полному кругу, чуть срезанному впереди лишь красным бархатом тяжёлого занавеса, скрывавшего сцену. Уступы были так высоки, что ноги сидящих в верхнем ряду упирались бы в спины людей нижнего ряда, если бы не барьер выше голов их, тоже белый и голубым бархатом крытый. Отовсюду было видно, слышно отлично.
Мы сидели на лучших местах в центре зала как раз против сцены и обозревали ошеломивший меня необычностью, размерами и великолепием зал. Сцена была задёрнута бархатом, но под ней нам сверху хорошо видна была оркестровая яма, плечи и головы музыкантов, раструбы жёлтым золотом зеркально сияющих труб, лебединые шеи грифов виолончелей и скрипок и взмывающие смычки. Головы музыкантов время от времени склонялись друг к другу, будто переговаривались о чём-то; из ямы неслись обрывочные, нестройные звуки, извлекаемые смычками.
…И разом всё стихло. Стала меркнуть бронзовая многоярусная люстра, спускающаяся в зал из чаши купола, сверкающая бесчисленным хрусталём на многочисленных её разветвлённых отростках; потускнели у основания купола бра. Зал утонул в полной тьме, и только горел и мерцал красный бархат, подсвеченный софитами сверху и изнутри. Полились в таинственной красноватой темноте и наполнили зал звуки дивной глинковской увертюры к его опере «Руслан и Людмила». Звуки плавно захлёстывали меня, строя в лад с ожиданьем чего-то прекрасного.
…и вот звук иссяк, полотнища занавеса поползли в стороны, и зал разразился аплодисментами. Я тотчас сообразил, что хлопают декорациям, то есть художнику, сотворившему перед нами диво древнего Киева.
…и всё внешнее тут же исчезло, музыка, пение вошли внутрь меня, как я вошёл в действие сказки, и я в них растворился.
…волшебство кончилось, я очнулся, когда занавес сомкнулся и отградил сказку от зала.
…стояла долгая тишина, напряжённая тишина в тёмном замершем зале, на котором лежал загадочный отблеск красноватого бархата.
…И разом тишина взорвалась, разрядилась бурей нескончаемых аплодисментов.
Я до этого в опере не был, и теперь музыка, зрелище, голоса произвели на меня впечатление потрясающее.
На другой день мы смотрели балет советского композитора Глиэра «Красный мак». Балет мне, в общем, понравился, музыка была хороша, но глинковской уступала, танцы тоже мне приглянулись, но осталось лёгкое ощущение чего-то ненастоящего в нём, хотя, прямо скажем, сюжет был куда натуральней, чем в либретто «Руслана». Словом, в восхищение он меня не привёл, как вчерашняя опера или в будущем «Лебединое озеро», «Раймонда» и подобные им.
А в тот же самый день (тому свидетельство дата на фотографии) в далёком незнакомом Ворошиловграде (Луганске) другая отличница, милая девочка Леночка Липовецкая (моя будущая жена) играла (демонстрируя свои достижения!) этому самому композитору, приехавшему на гастроли и приглашённому на встречу с учащимися в музыкальную школу.

Рис. 6. Морис Рейнгольдович Глиер и Леночка Липовецкая
По возвращении в Кемерово мы застали опустевшее общежитие, две трети студентов разъехались по домам, не уехали лишь «европейцы», кто жил вдали на западе, за Уралом. И дороговато ехать для студенческого кармана и половина каникул уйдёт на проезд. Ни в институте, ни в целом в стране важных событий за наше отсутствие не произошло, лишь регулярно шли сводки с корейской войны. После того, как великий вождь Ким Ир Сен драпанул из Южной Кореи, и силы ООН вышли к границам СССР и Китая, «дружественный» китайский народ бросил на них миллион «добровольцев». СССР выступил с грозными заявлениями, но войск своих не послал, а направил через Китай самолёты и лётчиков, хотя всё это категорически отрицалось. Наших лётчиков «рядили» корейцами, давали им «корейские» имена. И «корейские» лётчики отличились в боях, сбив немало самолётов ООН, американских то бишь. Об одном из таких лётчиков, Ли Си Цыне (Лисицыне) весть докатилась до нас. С его лёгкой руки мы и наших товарищей, с подходящими для этого дела фамилиями, причисляли к великому братству корейских пилотов, называя фамилии их по слогам. Так студент третьей группы Горлушин не именовался иначе как Гор Лу Шин.
«Добровольцы» зимой, зарываясь в снегу, подползали, выжидали, замерзая, часами, и враз, в едином броске впрыгивали во вражеские окопы, сметая всё на пути, наводя ужас на американских солдат и их английских союзников. В несколько недель отшвырнули китайцы силы ООН до тридцать восьмой параллели, до исходных, как говорят, рубежей, по пути взяв Пхеньян, разумеется, но от соблазна не удержались и в порыве захватили Сеул. Там, однако, закрепиться надолго им не удалось. Дней через пять американцы их вышибли кулаком и гнали, опять же, до той, тридцать восьмой, параллели, где и стали, восстановив статус-кво. Там война заморозилась, но не закончилась, шли нескончаемые бои. Бой на месте, как бег. Дальше тридцать восьмой параллели американцы наступать почему-то не захотели, и китайцы, со своей стороны, перестали усердствовать. Видно, поняли те и другие, что ни одна сторона на уступки ни за что не пойдёт. Тем не менее, сводки шли непрестанно об ожесточённых боях на очумевшей, заколдованной параллели. Это было так постоянно, что по странной ассоциации навело кого-то на мысль прозвать наш временный сарай-туалет (ничего нет более постоянного, чем времянка, — советская мудрость гласит) тридцать восьмой параллелью. Бежит, бывало, знакомый студент вниз по лестнице в общежитии, спросишь его, куда он торопится, и получаешь в ответ: «На тридцать восьмую».
…В январе в переполненном актовом зале шла подписка на заём нового года. На трибуну поднимались преподаватели, профессора и называли числа для меня сногсшибательные: шесть, восемь, десять тысяч рублей. Всех превзошёл Горбачёв — восемнадцать тысяч сказал. Число это просто меня ужаснуло, неужели столько он получает за месяц?! Даже если предположить, что от своих больших денег он подписался на двухмесячную зарплату, всё равно она была чёрт знает как впечатляюща. И предположить я не мог, что в Советском Союзе люди могут так зарабатывать. Две тысячи — три казались мне пределом мечтаний.
Секретарь, сидевший в президиуме за столом, записывал в ведомость эти суммы.
…Где подписывали нас на наши рубли, я не помню. Ну, зачем им была наша мелочь? А для нас сорок лишних рублей (у меня теперь пятьдесят) были подспорьем существенным. Не следует забывать, что из стипендии вычитали и подоходный налог (тринадцать процентов), так что жили мы очень скудно. Хорошо хоть на время ученья освобождали студентов от налога на бездетность (шесть процентов ещё, и всё с полной суммы стипендии). Денег едва хватало на пропитание в нашей столовке, где еда была отвратительной и не насыщала совсем. Перед едой ели хлеб, намазывая горчицей. В животе в первый год у меня постоянно урчало, иногда до неприличия громко в самый неподходящий момент (когда, например, я к девушкам приходил). Кишечник мой долго не мог приноровиться к общепитовской пище.
…но ко всему приспосабливается человек.
Так же бедно, как я, жило и большинство приезжих студентов, за исключением дюжины человек — отцы их, полковники, присылали им по пятьсот рублей в месяц. Местным было полегче. На воскресенье они разъезжались по домам и привозили оттуда масло, картошку, капусту солёную и по мешку молока, замёрзшего в форме тарелок. Мешки с молоком вывешивали за форточку на мороз, и каждый день оттуда «тарелочки» доставали. С нами они ничем не поделились ни разу. А мне так хотелось попробовать мёрзлого молока, оно мне было в диковинку. Но до просьбы не опустился ни я, ни другие товарищи.
…В этом году проходили выборы в союзный или российский Верховный Совет и меня назначили агитатором.
Закрепили за мной двухэтажный дом в Стандартном городке. Было в том доме два подъезда и, как минимум, восемь квартир. В задачу мою входило беседовать с их обитателями и агитировать за кандидата блока коммунистов и беспартийных. Принял я поручение без всякой охоты, но за дело взялся всерьёз. Я был робок, застенчив в общении с людьми незнакомыми — ну о чём я с ними мог говорить? Да и стыдно как-то входить в чужие квартиры, отвлекать людей от отдыха или от занятий по дому. Но я себя всё же переломил — ну, не ударят меня, что я теряю? А ровнёхоньки ничего.
…я обошёл все квартиры, составил список жильцов, договорился в какой день недели и где будем мы собираться для проводимых мною бесед. Осложненье возникло вначале лишь с «где». Люди — рабочие с шахты «Центральная» — жили тесно в маленьких двухкомнатных квартирках без всяких удобств, к тому же и проходных. Но мне подсказали, что в одной из квартир живёт разведённая молодица с отцом, у них в горнице просторнее. Туда и будут в означенный день и условленный час приходить все со своими стульями.
Я спросил у хозяев квартиры. Они были не против того, чтобы у них собирались.
…Подготовившись и страшно волнуясь, я пришёл на беседу о внешней и внутренней политике правительства СССР. Я опасался, что никто не придёт, однако почти все жильцы были в сборе, а другие вскорости подошли, тихо подсаживаясь к нашему кругу. Слушали внимательно, а когда я закончил свой короткий рассказ, начались вопросы ко мне. Быстро, как это почти что всегда и бывает, от вопросов сторонних перешли к близким, своим, бытовым. Жаловались, что действующий депутат (председатель городского совета) не выполнил ни одного своего обещания, и настаивали, чтобы он выступил перед ними с отчётом. Говорили о том, что вóвремя не завозят уголь для отопления (да и еду готовили на плите, что топилась углём, и воду грели на ней же), что двор дома стал проходным, и прохожие ломают кусты и деревья, что неплохо бы было огородить его штакетником, тогда бы насаждения сохранялись, и можно было бы цветы разводить. Словом, высказывались самые незамысловатые пожелания неприхотливых людей, и не выполнить их было бы стыдно.
…и я со всем пылом принялся за их выполнение.
Первым делом я записал обо всех предложениях в книгу, лежавшую в агитпункте. Нас уверили, что обо всём записанном в ней незамедлительно докладывается властям, и те принимают надлежащие меры. Я и записал все пожелания и стал ждать результатов, известив своих подопечных.
…Но дни шли за днями, но ничего не менялось. Я не мог даже дознаться никак, кто за выполнение предложений избирателей отвечает или хотя бы за ответы на них.
И тогда я, робея до ужаса, но, настроив себя смотреть на поступки свои как бы со стороны, будто действует кто-то другой, а я любопытствую, что из этого выйдет, пошёл по начальственным кабинетам, волнение тщательно скрыв, говорил ровно, спокойно, как с равными равный. Но в одних кабинетах, меня выслушав и что-то пообещав, обещаний своих не держали, до других не допустили совсем. В кабинет председателя горсовета я не попал.
Разозлившись, я отослал письмо в ЦК ВКП (б), письмо гневное, резкое, где с возмущеньем писал об отказе депутата отчитаться перед избирателями, чем он грубо попрал статью (номер я указал) Конституции. Указал я и на нарушения ещё ряда статей Основного Закона Союза…
…Новым кандидатом в депутаты Верховного Совета по нашему избирательному округу выдвинули нашего директора, Горбачёва Тимофея Фёдоровича. Воспользовавшись этим, я решил обратиться к нему. Секретарши в приёмной не оказалось, и я, постучав в дверь кабинета, чуть её приоткрыл. Увидев в щель, что в кабинете, кроме директора, нет никого, я открыл дверь пошире и спросил: «Можно?»
«Заходите», — раздался голос директора. Я вошёл. Тимофей Фёдорович пригласил меня сесть за приставной столик и спросил, что меня к нему привело. Я сказал, что пришёл к нему как агитатор, который не может дать ответ избирателям на их вопросы. Не касаясь отчёта прежнего депутата, я передал просьбу завезти жителям уголь и оградить штакетником двор дома. Тимофей Фёдорович дружелюбно посмотрел на меня и сказал, что постарается помочь своему агитатору. Я поблагодарил его, и на этом наша беседа закончилась.
…через неделю моим жильцам завезли уголь, а вскоре во дворе я увидел груду заострённых столбов и штабель плетей набитого на поперечные слеги штакетника. Оставалось только дождаться тепла, чтобы в оттаявшей земле вырыть ямы, и, поставив столбы, прибить к ним готовые плети. Это могли сделать и сами жильцы. Нечего и говорить, как возрос авторитет мой в глазах моих избирателей, они были довольны, и собрания наши проходили успешно.
Неожиданно перед самыми выборами кто-то из вожаков комсомольского комитета поймал меня в коридоре и предупредил, что меня вызывают в горком партии, чтобы завтра в шестнадцать часов я прибыл в кабинет третьего секретаря горкома. Я даже опешил: «Я? В горком партии?» «Да». «Но зачем?» «Не знаю. Позвонили, тебя вызывают». Я ломал себе голову: «Зачем я нужен горкому, и кто там мог обо мне что-либо знать?» — но так ни до чего не додумался.
На следующий день в назначенный час я был в горкоме партии в указанном кабинете. Не могу сказать, чтобы стены обители власти привели меня в трепет, но смутное беспокойство я испытал. Мужчина в комнате, куда я вошёл, объяснил, что он пригласил меня в связи с моим письмом в ЦК партии.
— Ах, вон оно что! — подумал я, и сердце моё учащённо забилось: «Что же они скажут мне? — А подспудно: — Что же они теперь со мной сделают?»
Мужчина продолжил:
— Нам поручено ответить на вопросы, поставленные в вашем письме. То, о чём вы пишите, действительно имело место. Товарищ, он назвал фамилию председателя горсовета, не отчитался перед избирателями, но он очень занятой человек, он не мог выкроить время для встречи…
«Но ведь он нарушил закон, Конституцию!» — я возмутился в душе, но вслух возмущение высказать побоялся. А позднее, гораздо позднее сообразил, что никакой меры ответственности за нарушения Конституция не предусматривала. В таком же духе вёлся и весь остальной разговор, на всё находились причины. Говорил он со мной вежливо, но твёрдо парировал все мои возражения тем, что бывают чрезвычайные обстоятельства, особые случаи, и я постепенно сникал под напором неубедительных доводов.
Наконец, ему, видимо, надоело меня убеждать, и он, придвинув ко мне бланк с отпечатанным текстом и, ткнув пальцем в строчку внизу: С данными мне разъяснениями (дальше было пустое место), сказал: «Вот здесь напишите „согласен“ или… „не согласен“ и распишитесь».
Мне очень хотелось написать: «Не согласен, — но я смалодушничал, струсил, вывел: — согласен», — расписался и вышел, до предела презирая себя. Но ведь кому охота навлекать на себя неприятности, если победить нет надежды.
Закончилась предвыборная кампания, настал день выборов в Верховный Совет. Я в кабинке для тайного голосования пишу на обратной стороне бюллетеня восторженные слова благодарности товарищу Сталину, партии и правительству за то, что могу выбирать высший орган государственной власти и прочую чепуху, которой до отказа забита тогда была доверчивая моя голова… В людях я видел только хорошие стороны, плохие старался не замечать, считая их отклоненьем от нормы. Хорошо, что хватило ума не подписать это глупое излияние чувств. Разумеется, опус мой можно было использовать для пропаганды: вот как советский студент оценивает нашу систему, какой взрыв благодарных эмоций вызывает она у него! Но, скорее всего, могло быть иначе. В избирательной комиссии люди с опытом жизни, которых я очень ценил и добрым их ко мне отношением дорожил, несомненно, подумали бы: «Ну, какой же Платонов, в сущности, идиот», и я навсегда лишился бы их уважения. Уважения, которого они от меня не скрывали.
Идиотский порыв мой, без сомнения, был спровоцирован тем, что о подобных надписях на бюллетенях с восторгом писали газеты, вещало радио. Ну как же было мне, с пелёнок воспитанным изливавшейся из них пропагандой — иных источников получения сведений не было: родители, взрослые, понимавшие, что происходит в стране, запуганные террором, пребывавшие в страхе ареста за каждое правдивое слово, никогда не говорили о власти, о нашем общественном строе, — как же было мне не восхищаться вождём, создателем самого справедливого строя, обеспечившего людям все права и свободы. И в самом деле, Конституция у нас была хороша!
В ней все провозглашённые права
Наполнены глубоким содержаньем
Зовут на подвиги, на труд и на дерзанье
Нас Конституции чеканные слова.
…В общежитии я впервые узнал, что значит быт. Себя, оказалось, надо обслуживать. Когда вороты моих светлых рубашек потеряли первозданную свежесть и чистоту, я понял, что их надо стирать. Мама всю жизнь оберегала меня от этих забот, но я видел, как она это делает: тёрла пальцами в мыльной воде замоченное бельё, полоскала, выкручивала.
…я так и сделал. Купив большой кусок серого мыла, выпросил тазик у хозяйственных девушек, согрел на кухне воды и энергично принялся за стирку. Я тёр на согнутых пальцах намыленные рубашки, но скоро почувствовал нестерпимую боль: костяшки пальцев были растёрты до крови. Рубашки я достирал, но кожа фаланг долго не заживала.
Позже мне подсказали, что тереть бельё надо не пальцами, а кулаками, меж подушечек у основанья ладоней. Я попробовал, с непривычки это показалось мне неудобным, зато ссадин на моих пальцах больше не появлялось.
…носки стирали все очен-но редко, пока они не начинали в ботинках скользить и липкими становились настолько, что, будучи подброшены к потолку, там прилипали. «Дозрели», — смеялись мы и принимались за стирку. Всё потому, что запаса не было, кроме второй пары носков. И покупка новых носков превращалась в событие.
…баня.
…Раз в неделю, по воскресеньям — и день этот почти пять лет оставался священным для всех нас — мы шли мыться в баню, она была в десяти минутах спокойной ходьбы. Там нам открылось, что при бане есть прачечная. Причём за стирку кальсон, маек, трусов и рубашек брали недорого, копеек по десять-двадцать за штуку. Это было приемлемо, экономило время и силы и позволяло сохранять «элегантность» при этих походах. Однажды сдав грязное бельё в стирку, ты уже не таскаешься в баню со свёртками. В наступившее воскресенье получаешь в прачечной свежевыстиранное выглаженное бельё, а, помывшись, сдаёшь туда с себя снятое грязное. Это в социализме мне до крайности нравилось. Три шкуры не драли. Тридцать шкур драли в другом. Взять хоть заём. Это для красного словца я сказал, зачем им наши гроши. Из грошей ста миллионов полунищих работников и складывался огромный заём, тысячи рублей высокооплачиваемого руководства в нём были маленькой каплей.
Но вернёмся назад, то есть к бане. Она была самой обыкновенной со знакомыми деревянными шкафчиками в раздевалке, со скамьями и тазиками в самой бане, в тазики набирали холодную воду и кипяток из двух медных кранов.
Была и парная. Мы парились в ней, залезая на самый верхний полóк, где от жара дышать невозможно, и волосы на голове начинают потрескивать, от чего спасались холодной водой, обливая раскалённое тело из тазиков.
…но зато как хорошо было выйти чистым из бани, ощущая свежесть отглаженного белья, как хорошо погасить в теле жар кружкой холодного жигулёвского пива…
…идёшь после бани, раскрасневшийся, по морозцу с товарищами, и так радостно и легко, будто с грязью и горести свои в бане оставил.
…в четвёртом семестре появились новые дисциплины: математический анализ, физика, что-то ещё; навсегда канула в лету, блистая, начертательная геометрия, её заменило скучное машиностроительное черчение. Продолжилось обучение иностранному языку. С самого начала нам предложили на выбор два языка: английский или немецкий. Побаиваясь, что немецкий меня заставят продолжать, опираясь на школьные знания, кои были шатки весьма, я выбрал английский: в школе точно его почти никто не учил, и начнём его мы с самого начала. Немецкий с французским я достаточно «знал».
Всё вышло, как я полагал. Английский начали с азов, и проблем у меня с ним не было — сплошь пятёрки и знания систематические, а не эклектика, как в тех двух языках.
…после зимних каникул в институте начали создавать систему управления комсомольцами, другими общественными организациями. Комитет комсомола мы избрали на общем комсомольском собрании. Секретарём его стал Юрий Корницкий, студент-электромеханик. Он был старше нас и, как выяснилось потом, успел поработать секретарём в Моршанском горкоме комсомола в Тамбовской области.
Невысокого роста, стройный, подтянутый, не красавец, но с лицом, внушавшим симпатию, он был по призванию вожаком. Вокруг него всё кипело, крутилось. Ко всему у него и голос был певческий — это тоже многое значило.
Отчётно-выборное собрание тянется обычно уныло и скучно. И хотя отчётной части у нас быть не могло — некому и не за что было отчитываться, но доклад небольшой всё же был, и с критикой выступали. Далее началось выдвижение кандидатур, обсуждение, отводы, самоотводы, голосование за включение в список, печатанье бюллетеней, голосование за включённых, подсчёт голосов, ожидание результатов, утверждение их, — скуки, однако же, не было. В каждый очередной перерыв Юра поднимался на сцену (и аккордеонист вместе с ним) и предлагал: «Давайте споём!» Его бурно поддерживали и пели всем залом песни прошедшей войны, революции и гражданской войны, и лирические, и о любви, и всё это так здорово было, рождало чувство единой семьи. Это было сильное чувство — стоять друг к другу плечом, ощущать мощь коллектива и себя, как часть этой мощи, с единомышленниками, друзьями…
Если бы так было в жизни!
…вскоре нас всех чохом приняли в профсоюз горнорабочих. И там начали создавать управленцев.
…На факультетском собрании комсомола какой-то студент при выдвижении кандидатур выкрикнул мою фамилию, и, хотя я пытался кандидатуру свою отвести, меня избрали членом бюро факультета. Не скрою, мне это польстило. Но на состоявшемся тут же заседании бюро я был расстроен: мне поручили сектор учёта, безделье, никому ненужную чепуху — кого и что я был должен на факультете учитывать? Я предпочёл бы сектор учебный, там я знал, что надо делать, как помогать отстающим студентам. Но спорить и добывать себе «пост» мне было неловко. А поскольку я активности не проявлял, то мне и сунули для отвода глаз ерунду.
…делать мне было решительно нечего. На учёт не становился никто, а если бы и становился, то в комитете. Комитет собирал и членские взносы. Он же «вылавливал» неплательщиков взносов, бывали такие.
Бюро наше после распределения обязанностей не собралось ни разу, никто никаких поручений мне не давал, ничего и не требовал. Я даже забыл, кто в нём секретарь. И, натурально, ничего и не делал, отчего гордость моя к весне потускнела и сникла. Бездельником себя ощущать тяжело.
…в группе тоже избрали своих «вожаков». Старостой — татарина Шамсеева, комсоргом — Людмилу Володину, профоргом — хроменького Савоськина, еле сдавшего сессию, но общительного, умевшего быстро сойтись с кем ему было нужно. И ещё избрали физоргом маленького подвижного Дергачёва, все «должности» эти, кроме старосты, и в особенности последняя, были просто для смеху, для того, чтобы было с кого-то за что-то спросить. Но, вообще говоря, если бы тот Дергачёв почитал бы журналы по физкультуре и самбо, нашёл способ наращивать мышцы, увеличивать силу и мне хотя бы, о том рассказал — от него бы польза была и немалая. Но никто ничего не делал, понимали, что это всё для проформы, как в бирюльки игра, и за безделье не спросят.
Вал шумной общественной деятельности поднялся, прокатился, затих. Всё стало на место, как у всех, как всегда.
…Практически в институте что-то заметное делала лишь редколлегия комсомольской сатирической газеты «Ёж». Газета приобрела популярность. При появлении свежего номера возле неё сразу собиралась толпа — не протиснуться — студентов и преподавателей между ними.
…организация коммунистов мириться с таким положением не могла — у неё своей газеты-то не было. Спешно была избрана редколлегия из коммунистов, но от этого выходить газета не стала. Рутинной работой заниматься никто не хотел, материалов не было никаких, писать было некому, да и не о чем. Тогда партком решил в помощь привлечь комсомольцев, стал нажимать на комсоргов, чтобы те в своих группах для институтской газеты корреспондентов назначили: сведения для неё собирать, писать в газету заметки о происшествиях в группах.
…наш треугольник (староста, комсорг и профорг) ревностно принялся выполнять поручение, но нисколько в этом не преуспел. Собкором газеты никто быть не хотел, все, как чёрт ладана, боялись этого назначения.
…меня наши лидеры обходили сначала, у меня обязанность-то была — как-никак член бюро факультета, — но затем и ко мне подкатились. Я подумал и — для них неожиданно — согласился (многое я тогда всерьёз принимал).
…Сам не знаю, как и с какого месяца для самого себя незаметно я всё чаще стал заглядываться на Володину. Она нравилась мне непосредственностью, решительностью, умением сходиться с людьми, словом, тем, чего мне так не хватало. К тому ж шла весна, а она была так юна, так мила и такой была прехорошенькой! Я хотел с ней ближе сойтись, быть с нею накоротке, как другие ребята, но это мне не удавалось никак. Я боялся, я стеснялся, я не знал, чем её бы привлечь, как разрушить её ко мне полное равнодушие.
Все ребята из группы держались с ней запросто и беспечно. Я же с нею не мог так говорить, и она со мною держалась официально: чем-то я в глазах её не походил на других. Впрочем, все друг на друга мы не походим, но я чем-то уж особенно от других, видимо, отличался и не в пользу свою.
…но ничего с собой я поделать не мог. Меня сильней и сильней к ней тянуло, хотелось видеть её ежечасно, любоваться её свежим нежным лицом. Я стал придумывать поводы, один неуклюжей другого, чтобы в её комнату заглянуть.
Первый раз я зашёл в воскресенье часов в десять или начале одиннадцатого, слишком рано по их понятиям, видно; все они вылёживались в постелях. В комнате стоял дух неприятный, тяжёлый, ну, чуть полегче трупного запаха. Это меня поразило, это так не вязалось с чистотою их лиц, лёгким румянцем, тронувшим их после сна. Белые плечи, перетянутые бретельками, высунувшись из-под одеял, так и веяли свежестью. Красота эта могла только благоухать. И вдруг «…и смертный душный плоти запах».
…В этом несоответствии внешнего вида и физиологии было нечто оскорбительное для человека.
…я понял, что не ко времени и быстро ретировался.
После я заходил всегда вовремя, когда комната была проветрена, прибрана, и тонко пахло пудрой, духами. Кроме Людмилы жила там Юля Садовская, я о ней уже говорил, и Наденька Ставер, воздушное прямо создание. Лицо её было бы очень красиво, если бы не печать уныния, постоянно на нём пребывавшая. Глаза её всегда были тоскливо грустны, отчего лицо её часто казалось плаксивым, будто Наденьку очень обидели. Это умаляло её привлекательность.

Рис. 7. Людмила Володина
…мои посещения не отличались разнообразием: зайду что-то спросить или что-нибудь попросить — мне ответят или дадут, и делать здесь больше мне нечего, пора уходить, и я ухожу, раздосадованный собою, унося в сердце горечь.
…Однажды я тактику свою решил изменить. Я попытался пересказать исторический анекдот, вычитанный в романе, но не подумал, что для динамичного двадцатого века он не годился. Мне бы просто зайти к девушкам и прочитать смешной этот отрывок, а я решил сам его пересказать.
…зайдя вечером к ним и застав всех троих, после обычных — вопрос и ответ, я спросил: «Хотите, я расскажу анекдот?» «Хотим», — встрепенулись они и изобразили внимание.
И я пересказал анекдот длинно скучно. Ещё не закончив его, я видел, что провалился. Ни смешка, ни улыбки, лица вытянулись в недоумении, будто на идиота смотрели. А я не знал, куда себя подевать и как из их комнаты побыстрее убраться. «Болван, бестолочь, олух», — вихрем проносилось у меня в голове, и конца определениям не предвиделось. А тут ещё в моём животе заурчало, да громко так, с переливами.
Почему я не провалился под пол?! Не помню, как я сбежал, ведь для бегства предлог тоже выдумать нужно, а, поди, в таком состоянии, выдумай!
…больше я в их комнату не заглядывал.
…Дела в нашей группе шли ни шатко, ни валко. Прошедшую сессию группа сдала весьма плохо. Много двоек — «хвостов», но хвостисты от них не торопятся избавляться. На практических занятиях многие выказывают полнейшее незнание элементарных вещей. Разумеется, были малоспособные, слабые, но угадывались и такие, у которых был в прошлом пробел, ликвидируй его — зашагает студент в ногу со всеми, станет хорошо заниматься. Но до этого дела не было никому, прежде всего, им самим, но и сектор учебный ими не занимался. У меня был опыт вхождения в колею, но навязываться я не мог, не любил и, к тому же, стеснялся. Если бы мне поручили, вменили в обязанность, я бы тогда осмелел: долг есть долг, и его я привык выполнять, несмотря ни на что, и застенчивость тут не могла проявиться.
…В первых числах апреля секретарь партбюро даёт мне поручение как собкору газеты написать заметку о делах в нашей группе. Неприятное поручение. О снижении цен с первого марта я бы с удовольствием написал. Но о группе…
…я пишу, и не получается у меня ничего: размазня какая-то кислая. Рву написанное на клочки, через день сажусь снова. И опять ничего не выходит: лишь расхожие клише и казёнщина. Не могу заметочку написать.
…и тут странная вещь со мной происходит. Нахожу себя не в большой нашей комнате, а в маленькой на своём этаже, но в крыле как раз над Люськой Володиной. Может, нас после сессии расселили по группам? А я этого не заметил?.. Вечер… Сумерки… Посреди комнаты я за столом спиною к окну и лицом к входной двери, соответственно. Мне темно, но света не зажигаю. Передо мною листки, авторучкой исчирканные, но путного в них нет ничего, нет ни строчки, одни загогулины и лепящиеся друг к другу квадраты и треугольники, сплетающиеся в бессмысленный бесконечный узор, моей рукой начертанный машинально. Я ищу, с какой фразы начать мне заметку, я измучен, но ничто не приходит на ум. Я досадую, вскакиваю, нервно хожу, сумерки меня угнетают, но и света я не хочу. Сажусь снова за стол — лезут одни газетные штампы: трескотня и корявость. Я так писать не могу — это было бы для меня унизительно. Это было бы признанием своей полной несостоятельности.
…открывается дверь. Входит Коленька Николаев. Низенький, приятный на вид, похож на грека с копной жёстких чёрных, как смоль, непокорных волос. Коля середнячок, но необыкновенно умён и необыкновенно проницателен. С таянием снега мы с ним сблизились, вместе бродили по весеннему логу, говорили о многом, спорили, философствовали.
Коля спрашивает: «Как дела?» — имея в виду мою писанину. Я жалуюсь, что ни слова из меня не идёт. Коля достаёт из кармана начатую пачку папирос «Беломор», спички, кладёт их на стол. «Покури», — говорит и уходит. Я вытряхиваю одну папиросу из надорванной пачки и закуриваю, затягиваясь. Раньше, дурачась, я закуривал иногда, но никогда дым в лёгкие не впускал. Теперь же курю я по-настоящему. Но от этого ничего не меняется. В голове, по-прежнему, пустота. Я выкуриваю вторую папиросу, третью,…, шестую. Мне противно, меня уже мутит, но голова проясняется. Я сажусь и начинаю писать. Мысль течёт и легко отливается в безупречные предложения, накрепко стройной логикой связанные. Рассказав всё о группе человеческим языком, я пытаюсь найти исток слабостей наших и то, что, по-моему, помогло бы избавиться от недостатков. Достаётся и нашей «блистательной тройке», не занимающейся ровно ничем даже от случая к случаю. Не щажу я ни Шамсеева, ни Володину, ни Савоськина. Я не помню написанного, но, по отзывам, оно было живо, эмоционально и по существу. Главное, не казённо. Перечитанная наутро, заметка самому мне понравилась, удалась, одним словом. Понравилась она и редколлегии, её тут же поместили в газету. И хотя в написании мне очень помог никотин, я понял, что курить больше не буду. Работать надо без внешних подстёгиваний.
…после заметки нашу руководящую троицу слегка пожурили на заседании комсомольского комитета, и она на меня сильно обиделась. Я лишь плечами пожал: «Я не напрашивался. Сами уговорили». Крыть было нечем.
…мы часто не предвидим последствий своих действий.
Впрочем, и после заметки и небольшой нахлобучки героям её не изменилось ничто. Я то не понимал в те времена, что общественная работа давно превратилась в фикцию, что никого не интересует ничто, кроме формальных отчётов, «галочек» о каких-то делах. По ним и оценивали работников: столько таких вот мероприятий они провели (не интересуясь, были ли они проведены в самом деле и дали ли какой-либо результат), столько-то было совершено культпоходов, столько-то спортивных соревнований проведено, столько-то выпущено стенгазет… Думаю, что я не пересаливаю со зла. Так оно было. Хотя изредка бывало и иначе.
Проходил месяц март, «рассупонилось» солнышко, зеленели в поле озимые, и почки лопались на деревьях, являя миру не развернувшиеся ещё густо-зелёные клейкие листочки свои. Я иду мимо неприглядного голого Стандартного городка и вдруг останавливаюсь. «Мой» дом в зелени весь. Двор обсажен черёмухой и штакетником обнесён. За кустами взрыхлённая земля разбита на клумбы и грядки, из которых торчат поникшие стебельки недавно высаженных цветов. Ничего, они ещё отойдут.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.