
Бесплатный фрагмент - Шпага генерала Раевского
Исторические рассказы для детей

ОТ АВТОРА
Иногда в жизни человека может происходить так много событий, что она становится похожей на выдуманную историю. Тогда реальность выглядит интереснее самых невероятных фантазий или героических приключений.
То, о чем рассказано в этой книге, в большинстве своем, происходило на самом деле. Иногда автору даже не надо было придумывать слова героев — они цитируются почти буквально. Необычные обстоятельства случились почти двести лет назад, в начале XIX столетия. Однако в ту пору и говорили, и писали немного по-другому. Потому и автор не стал осовременивать речь главных персонажей — пусть остаётся таковой, какой она бытовала в эпоху поэта Александра Пушкина и Отечественной войны 1812 года.
Именно в те времена два брата, юноши — 11 и 16 лет от роду — совершили в разгар опасной баталии подвиг, отмеченный затем потомками, а нынче — немного подзабытый, вызывающий споры, отмеченный как историческая легенда, хотя доказуемый как правдивый факт. Хроника тех ярких событий и легла в основу этой книги.
Быть может, читатель, которого увлекут рассказы о реликвии семьи Раевских — одной из самых известных фамилий в российской творческой и военной среде, воодушевится поисками исчезнувших из поля зрения историков двух золотых шпаг с надписью «За храбрость», которые стали поводом для написания этого исторического повествования. Следует заметить, что генерал Н. Н. Раевский получил их в разное время за разные заслуги. Отыскать их следы — дело всякого увлеченного историей пытливого человека.
Что ж, удачи!
ВОР ТИМКА
— Вот оказия, не иначе, как нечистый повадился.
Дядька Ефим держал в руке обглоданную кость от окорока.
— Который день в погребе пропажа.
Лицо у дядьки Ефима, обычно всегда спокойное и невозмутимое, выражало негодование. Глаза вытаращены, брови выгнулись дугой. Борода всклокочена, не расчесанные волосы взлохмачены, да еще эта кость в руке. Ну, домовой, да и только.
— Попадешься мне, разбойник…
Николенька с Петрушкой за животы схватились. Покатились со смеху.
— Вы бы, барин, шли обедать. Не пристало тут по двору с шалопаями водиться, — сердито процедил дядька Ефим и загремел ключами, закрывая тяжелую дверь. Потрогал рукой железное ушко, подергал на всякий случай чугунный замок. Все было крепко, прочно.
— Тьфу, наваждение, — махнул рукой.
Из-за усадьбы донесся крик няни:
— Никола-ай! К обеду жду-ут!
Николенька хлопнул Петрушу по плечу и пустился к дому.
— Ну, где вы пропадаете, голубчик?! Все сидят уж за столом, а вас не докликаться. Маменька мне опять выговаривала.
Маша тащила Николая за руку. Хватка у нее крепкая, аж кисть затекла. Коса толстенная, колыхается волной при каждом шаге.
Машу определили к господским детям недавно, после того, как померла няня Елизавета Антиповна, ее матушка. Хотели было взять новую няню. Но дети уж привыкли к прежней. А у дворовой прислуги Маши — и сноровка, и покладистость — как у родительницы. Да голос тот же — певучий, грудной. И те же глаза — добрые и красивые… Решили оставить Машу, хотя ей едва минуло шестнадцать лет…
— Вот что скажу, барин. Нет нужды вам с дворовыми бегать. Петрушка и Кирюшка вам не чета.
— А матушка мне позволяет.
— Опять же, скажу. Мосье Тильон наказывал, что нельзя, что сие дело молодому дворянину непристойно,
— А матушка говорит, когда мне скучно: «Поди во двор, сыщи Петрушу да Кирюшу и поиграй с ними».
— Знаю, что говорит, но мосье…
— А матушка…
— Вот несносный. Играй хоть с Сидоркой-конюхом. Но ведь ежели кому первому попадет, так мне.
— Ну и пусть попадет…
Николенька вырвал руку из Машиной ладони и побежал в залу. У двери остановился, оглянулся и показал ей язык.
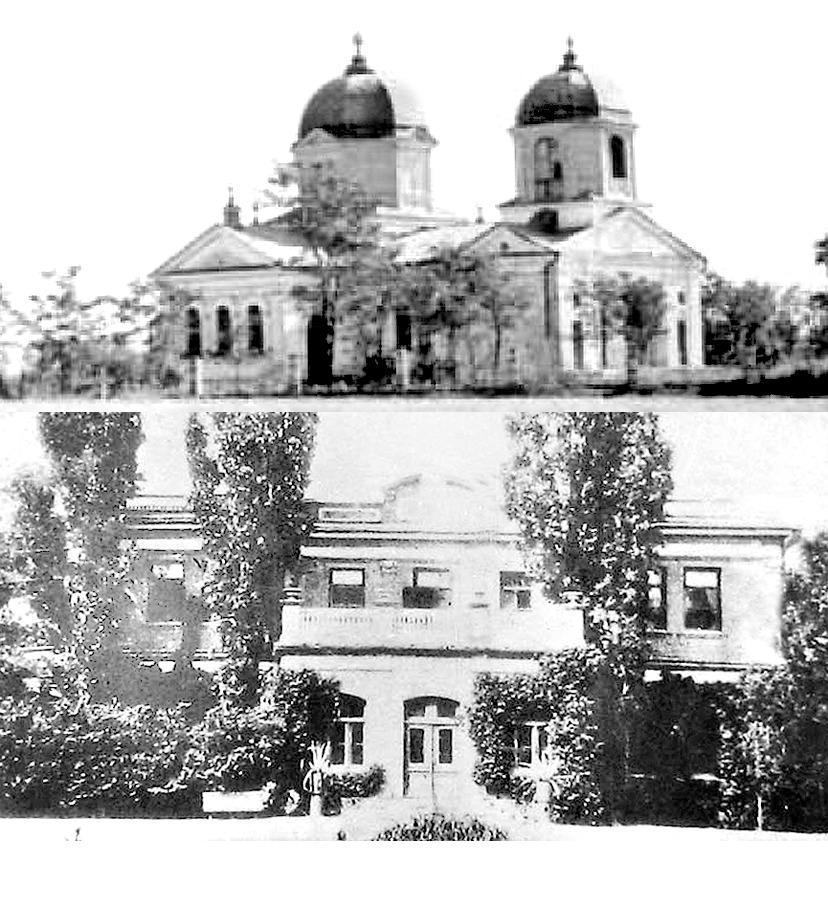
За обедом все ели молча. Разговаривать разрешалось лишь взрослым, да и то — в исключительных случаях. Николай сидел по правую сторону от матушки, вслед за братом — Александром. Напротив чинно восседали сестры — Леночка, Софья и Маша. Катенькино место пустовало. Она опять мучилась кашлем и теперь лежала в спальне. Пустовал стул и во главе стола. Папенькин. Впрочем, с этим все свыклись. Наезжал он редко. Раньше предуведомлял об этом за месяц письмом, которое он обычно отправлял с места какого-нибудь сражения, а потому шло оно долго и поспевало обычно перед самым его приездом.
Нынче за обедом молчание нарушила матушка Софья Алексеевна.
— Сегодня опять кто-то в погреб залезал. И странно весьма. Ефим говорит ничего не тронуто, а окорока все обкусаны, вроде зверек какой появился.
При этих словах Николенька замер, набрав полный рот супу.
— Не знаю, что и думать. Может, замок сменить…
Матушка обращалась к своей сестре — Екатерине Алексеевне. Та, как обычно, безмолвствовала. За обедом — редко проронит хоть слово. Да и вообще держит себя надменно, любит напоминать при случае, что приходится внучкой самому Михаиле Васильевичу Ломоносову, не в пример сестре — спокойной, сдержанной и общительной.
Последние слова матушки заставили Николеньку забыть про обед. Он положил ложу на салфетку и приготовился ждать, чем же кончится разговор. Но продолжения не последовало. Старшие перешли на обсуждение какой-то новости, пришедшей с фронта из Австрии. Мелькали странные слова и названия: Гутштадт, Фридланд, Тильзит…
Николеньке было из-за чего волноваться. Не далее, как три дня назад, поведали ему верные друзья Петруша да Кирюша свою тайну. Играя на дворе, нашли они ключ. Долго проверяли все хозяйские замки. Подошел ключ к большому висячему замку от двери в погреб. Когда они открыли ее, навстречу пахнуло холодом и вкусным запахом копченостей. Уже вторую неделю к столу не давали мяса. Постились, соблюдая традицию. А тут — окорока, колбасы — чего только нет. Раздобыли свечу, зажгли. Открылись им такие яства, что не удержаться. Для кухаркиных детей — ох, какой соблазн! Съели сколько смогли. Дверь опять затворили и замок повесили. Никто и не заметил. Лишь теперь, вот, дядька Ефим тревогу забил.
Николенька обед доедать не стал. Тарелку с постным салатом отодвинул.
После обеда матушка по обыкновению отдыхала. Николенька вышел на двор, а Петруша с Кирюшей уже тут как тут.
Петруша, захлебываясь от возбуждения, стал рассказывать.
— Дядька Ефим давеча заглядывал на кухню. Когда наши дворовые за стол-то сели, он туда же. Да не ест, а все по сторонам глазами зыркает.
— А ты чего?
— А я сижу себе на сундуке. Он мне и кричит: «Чего сидишь? Ложка не кошка — рот не оцарапает. Иди обедать».
— Не хочу, — говорю.
— Как не хочу. Из разговоров щи не сваришь, — и тащит меня к столу.
— Ешь!
А мне ломоть в горло не лезет. Сыт уж, в погребе от сколько съели.
— Ой-ли, да где же это тебя так угощали, что от обеда отказываешься? — все твердит дядька Ефим.
— Тут я подскочил и наутек. Едва дух перевел. Кирюху увидал и сразу сюда.
— Да-а, видно догадался он. Нехорошо все это получилось.
— Дядька Ефим ремнем пороть станет, ежели узнает.
— Не-ет. Он добрый. Да и матушка ему не позволит, — сказал Николенька. — Но надо вас выручать.
Николенька присел на корточки, стал рассматривать камешки на дороге.
— Вот что, придумал. Надо подозрение отвлечь. Где у вас ключ запрятан? Пошли.
В старом липовом парке был овраг, спускавшийся к реке. Одна липа склонилась к земле, так, что скребла своими ветвями землю, будто громадными крючковатыми ручищами. У корней дерева была расщелина, там, в глубине, устроили ребята тайник. Ключ взяли. Вернулись на двор. Осмотрелись. Никого. Забрались в погреб. Вынули кость от окорока. И погреб закрыли.
Неподалеку жил дворовый пес — Тимка. Вечно голодный, он бродил целыми днями среди усадебных построек, а по ночам лаял звонче всех легавых на псарне. Матушка все сердилась — спать ребятам не дает. Хотели свести в лес или пристрелить. Но пожалели.
В Тимкину будку и кинули друзья мясистую кость. У пса даже глаза заслезились. Не ожидал он такого щедрого подарка, схватил кость в зубы и смотрит на своих благодетелей.
— Да ешь, ешь же ты поскорее…
А он положил кость на землю, и все стоит не шелохнувшись, словно удивляется. Наконец, облизав ее и зажав между лап, стал грызть…
Наутро следующего дня, к завтраку, в столовую пожаловал сам мосье Тильон. За ним вышагивал дядька Ефим. В правой руке он тащил за шкирку бедного Тимку. Тот иногда жалобно подскуливал, и как-то виновато, с недоумением поглядывал на своего экзекутора.
— Попался, тать. Вот кто наши припасы таскал. Кости-то раскидал вокруг конуры.
— Что прикажете делать с этим воришкой? — спросил у Софьи Алексеевны мосье Тильон.
— Вот уж и не знаю что, но надо наказать.
— Утопите его в пруду? Камень на шею и буль-буль-буль? — произнес с едва заметной улыбкой и удивлением мосье Тильон, и смешно изобразил тонущего Тимку.
— Пусть посидит взаперти денек-другой. И кроме воды ничего ему не давать, — вступился дядька Ефим.
— Ладно. Пускай посидит в чулане. Но ежели будет лаять да скулить, пусть пеняет на себя.
Тимка благодарными глазами посмотрел на барыню и на дядьку Ефима, как будто понимал язык людей.
Через минуту процессия, сопровождающая пойманного «злодея», отправилась исполнять приговор.

Николенька сидел после завтрака на ступенях парадного входа и плакал, Ему очень жаль было Тимку. Ведь он, конечно же, будет скулить и лаять, а потом его, вдруг, могут утопить в пруду. Но пес же ни в чем не виноват. А выдавать друзей тоже нельзя. Как быть?
Он пошел по двору в парк. Хотелось поговорить с товарищами. Но Петрушки и Кирюшки нигде не было. Наверное, ушли в поле, или еще по какой хозяйственной надобности.
Николенька вернулся в дом, спустился вниз по лестнице к чулану.
— Тимка, Тимка, ты тут? — позвал он пса.
За дверью тихонько заскулил Тимка и стал царапать об нее когтями.
— Не бойся, Тимка, я тебя в обиду не дам. Ты только сиди тихо, не шуми. Потерпи уж маленечко.
Тимка, видно, понял и затих. Николенька вздохнул, постоял еще немного и медленно пошел наверх. Ему, вдруг, очень захотелось кому-нибудь обо всем рассказать, с кем-нибудь посоветоваться. Единственно с кем было можно, так это со старшим братом — Александром. Он был поверенным во многих Николенькиных тайнах. Да, нужно все ему рассказать.
Николенька поднялся на второй этаж, подошел к комнате брата. За дверью слышались голоса, мосье Тильон говорил что-то по-французски. Диктовал. Значит, там урок. Сейчас входить нельзя. Мосье Тильон очень строгий и сердитый. Как только наняли его гувернером, так стал он заводить свои порядки. Говорить с ним можно только по-французски, читать в свободное время только французские книги.
Вечерами, втайне от матушки, он любил рассказывать о Наполеоне Бонапарте, который будто покорил всю Европу, и равного правителя нет, и не было во всю мировую историю. На столе у мосье Тильона стояла гравюра, на которой был изображен этот человек. Орлиный нос, направленный в одну точку взгляд, чуть наклоненная вперед голова, прилизанные волосы — все выражало в нем какую-то надменность и, как говаривали взрослые — хладность мысли.
Мосье Тильон гордился этим портретом. А няня Елизавета Антиповна прежде замечала ему в ответ, что у Наполеона роковой взгляд. Будто ожидает его несчастье в жизни, и славе его придет конец. Брат Александр поддерживал няню, а мосье Тильон страшно гневался и переставал рассказывать.
— Батюшка нам говорил, что только великий Суворов никогда сражений не проигрывал, — заключал Александр. — Он бы мог одолеть Бонапарта. Да вот нет Суворова.
После этих слов мосье Тильон угрюмо бормотал что-то себе под нос, уходил в свою комнату, закрывался, и, выпив рюмку рома, засыпал до самого завтрака.
Теперь урок закончился. Слышно было, как мосье Тильон что-то выговаривал брату. Затем раздались звуки шагов. Мосье Тильон вышел из комнаты, даже не взглянув на Николеньку.
— Саша, можно к тебе? — спросил он сквозь приоткрытую дверь.
— Заходи, заходи.
Брат складывал тетради, вытер измазанные в чернилах гусиные перья, затем собрал чернильный прибор.
— Садись, чего стоишь.
Николенька любил сидеть у брата. В комнате было много интересных предметов, но в большей мере — книг. «Наука побеждать» Суворова, с дарственной надписью папеньки, «Юности честное зерцало», которую иногда читали вслух. Особенно любопытно было просматривать «Краткое понятие о всех науках для употребления юношеству», где неизвестный автор задавал какой-нибудь вопрос и сам себе на него отвечал. Все, что интересовало и Сашу, и Николая, было собрано в этой книге. Тут можно было найти сведения о литературе, истории, о музыке и по военному делу.
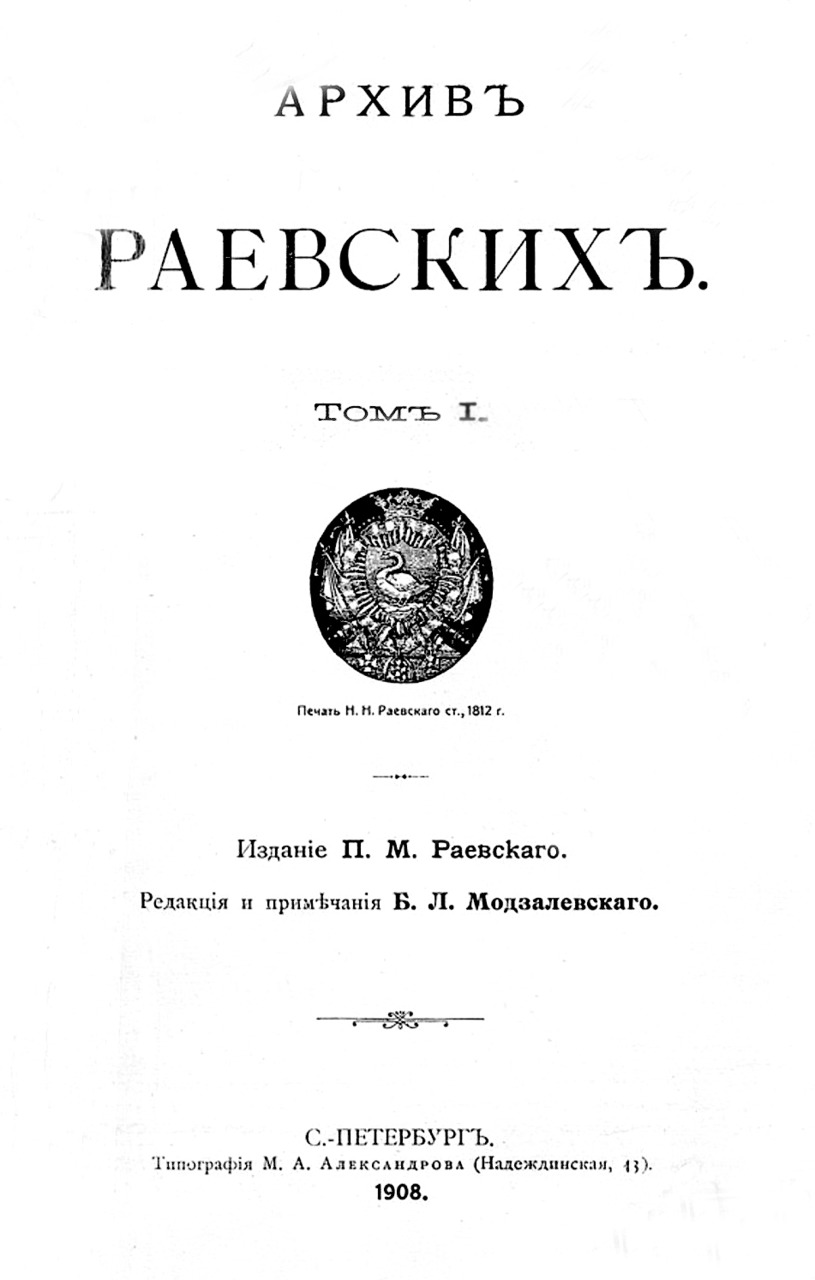
Николенька уже давно усвоил, что в их семье все — по отцовской линии — были военными. И прадед, и дед, и папенька. Для своих сыновей Николай Николаевич Раевский иной участи и не желал. Традиция переходила по наследству, как и имя Николай. Куда ни глянь в родословную — во всех коленах Николаи Николаевичи…
— Случилось чего? Почему нос насупил?
— Случилось.
— Одной беде не миновать — двум сразу не бывать. Рассказывай.
Николенька почесал затылок, посмотрел на брата. Ему — можно. Все равно, кроме него никто не поможет. И рассказал все, как на духу.
— Выходит, виноватые гуляют, а безвинный взаперти сидит.
— Саша, только ты не думай, что Петруша с Кирюшкой все нарочно подстроили. Они и не знают еще, что Тимку в чулане заперли. А их ведь тоже жаль.
— Знаешь ли, папенька часто говорил: «Сам погибай, но товарища выручай». Поди-ка к ним и подумайте вместе, как вам Тимку из плена вызволить.
— Если они признаются, их сильно накажут. Но что если… — Николенька радостно вскинул голову. — Придумал! Пусть накажут, но накажут всех, а значит, никому обидно не станет, да и не будут больно наказывать.
— Почему же?
— Вестимо, почему.
Николенька поспешил прочь из комнаты. В зале нашел он матушку, сидящую за чтением табель-календаря.
— Что ты, голубчик? — опросила Софья Алексеевна.
— Маменька, я хочу вам сказать…
— Что? Что сказать?
— Я хочу вам сказать… — Николенька замешкался на мгновение, но затем твердо выговорил. — Хочу сказать, что пес Тимка не виноват совсем в краже из погреба.
— Как же, не виноват! Кому же еще, как не ему колбасами лакомиться?
— Маменька, это я виноват. Вернее… я не один был. Но виноват только я.
— Да как же ты, дорогуша, в погреб-то пробрался?
И Николенька рассказал все, как было, только главный заводилой вывел себя, а Петрушу и Кирюшу, будто, он сам уговорил идти с ним.
Конечно, маменька рассердилась. Тимку тотчас выпустили. Николеньку наказали. Три дня сидел он под домашним арестом, никуда не выходил из комнаты, сладкого ему не давали. Но Петрушу и Кирюшу не тронули. Только их мать отругала на кухне, да дядька Ефим потаскал за уши, и то, не больно.
Александр, узнав о происшедшем, ничего не сказал. Но когда через три дня арест был снят, за обедом он пододвинул Николеньке свою порцию фруктового желе.
— На вот, — прошептал он, — Молодец, горжусь.
Николенька ничего не ответил. Он был очень рад похвале брата.
УРОК ГРАММАТИКИ
Вскоре, мосье Тильон стал давать специальные уроки и Николеньке. Послеобеденное время полагалось проводить, изучая науки. Мосье Тильон заходил в Николенькину комнату, раскладывал на диване подушки, ложился на спину и, заложив руки за голову, говорил:
— Ну-с, сегодня у нас урок французской грамматики. Открываем книгу на странице тридцать четвертой и читаем…
Убедившись, что Николенька взял книгу и начал ее листать, мосье Тильон закрывал глаза и через минуту мирно храпел. Засыпал он надолго и крепко — пушкой не разбудишь.
Вот тут было Николеньке простору. Он по обыкновению откладывал книгу, открывал окно и выпрыгивал наружу. Пока спит гувернер, можно заняться своими делами. Какими? Ну хоть, к примеру, пойти за ограду в поле, где конюх Сидорка пасет табун лошадей.
— А-а, идешь. Опять будешь нынче просить поездить на вороном? — спросит Сидорка, пощелкивая арапником.
— Буду…
— Так давай скоренько, пока никто не видит.
Николенька вскакивал на вороного жеребчика и носился по поляне, пока Сидорка не кричал ему:
— Хватит, хватит? А то заругают…
Николенька спрыгивал с лошади, доставал две конфекты. Одну протягивал Сидорке, другую — на ладони — подносил к лошадиной морде. Жеребчик брал конфекту осторожно, мокрыми губами обмусоливал пальцы и обдавал руку теплым дыханием…
А можно было пойти в сад и там найти сторожку. На лавочке у сторожки всегда сидел дремучий старик — Ипатий. Никто и не знал столько ему лет. Но он все продолжал нести свою сторожевую службу.
— Нельзя нам в отставку. Как же — вся жизнь при ружье… — говаривал Ипатий.
— Вот послушай-ка, — начинал он свои рассказы, которые Николенька уже слышал много раз. — Вот послушай, барин, как воевал я с турками. Ух-х и дела были. Идем это мы, значит, на приступ ихней крепости Измаил. Впереди — отвесная стена и ров глубокий под нею. Позади — наши напирают. Лезем мы, значит, на стену. Руки в кровь раздираем. Турок нас сверху картечью обжигает. Падают по обе стороны дружки-солдаты вниз, а наверху — смерть верная, не иначе. А мы кричим «ура-а» что есть силы, и крик энтот нас будто сам на стену подымает. И ворвались мы таки в крепость. Смяли супостата…
Тут глаза Ипатия загорались, он покрепче надвигал на лоб старую форменную фуражку, повторял все сначала. Рассказ завершался обычно одним и тем же.

— Вот в энтот самый момент он меня как раз и ударил… в энто самое плечо. Тут я упал и более ничего не помню…
Ипатий замолкал после этого надолго. А некоторое время спустя, вдруг, предлагал снова.
— А хошь я еще скажу про турецкую войну?
Хотел Николенька или не хотел, Ипатий начинал вновь, и опять заканчивал историей, как его «ударили в энто самое плечо»…
Но с Ипатием было интересно. Слушая его можно было сидеть часами, грызть яблоки или покусывать зубами стебелек травы. Вот и сейчас Николенька, выпрыгнув из окна, пустился в сад.
Ипатий сидел, как и прежде, на лавке у забора.
— Кого принесло? Подойди ближе, не видать, — прищурился старик.
— Это я, дедушка, Николай.
— А-а, Николай. Ну, садись, время не теряй…
Ипатий подвинулся. Но Николенька на лавку садиться не стал, а опустился на траву напротив старика.
— А что, дедушка, вправду говорят, что ты прежде с папенькой служил?
— Бывало. Служивал…
— Давно?
— Ох, давно, милый. Еще при светлейшем князе Потемкине. Чудное было время, и князь чудной был.
— Расскажи, деда.
— Да что рассказывать… Память слаба стала. Хуже нету… А Потемкин любил твово батюшку. Сам его в полковники произвел, сам ему и наставления давал.
— Какие наставления?
— А вот, пример, говорит он ему: «Слышь-ка, братец, трус ты или не трус?» — «Думаю, нет», — отвечает твой отец, — «А даже ежели не трус, то укрепляй свою смелость частым обхождением с неприятелем». Во как!
— И что?
— Что-что, укрепляли… На нашу долю хватило. Воевал твой отец под началом у Кутузова, знаемо, хорошего енерала. В другую войну даже наградили его шпагой, эфес золотой, а на ней нацарапано — «За храбрость». Сам чистил клинок. Помню…
Дед, вдруг, закрыл глаза, как будто заснул, и чуть ли не захрапел.
— А еще расскажи, дедушка Ипатий…
— Далее рассказывать — мало интересного. Времена другие и люди другие. Хлебнули и мы горя.
— Как же?
— На Кавказе воевали. Там как раз братец твой Александр на свет и народился, дай ему Бог здоровья. А при императоре, при Павле, всех прежних командиров стали менять на других. Тот, кто пороху не нюхал да выслужиться хотел, тот и стал командовать. И отца твоего исключили со службы. Отправились мы домой, будто ничего с нами прежде и не было. Так и сидели на домашних харчах. А я вот с тех пор с энтой самой лавки и не слазил. Стар стал, к службе не годен. Уж и помирать скоро…
— Не-е, дедушка, ты не помрешь.
— Да ну, — усмехнулся Ипатий. — Как это?
— Нельзя без приказа-то. Ведь батюшка в отъезде, приказать некому.
— Ну, насмешил. Смерти не прикажешь… — Ипатий улыбнулся беззубым ртом. — Тебя, чай, уж ищут. Снова Маше, няне твоей, попадет.
— Я мигом назад. Прощай, дедушка…
Николенька вскочил, и, что есть сил, побежал обратно. Окно было отворено, он влез на подоконник и спрыгнул на пол. Мосье Тильон заворочался на диване, открыл один глаз.
— Внимательней, внимательней надо читать. И поменьше стоять да в окна глазеть.
— Там кто-то приехал…
Действительно, по дороге к усадьбе подъезжала коляска. Вот она остановилась, из нее вышел офицер. Он что-то сказал кучеру и стал подниматься по ступенькам к парадному входу.
— Где? Кто приехал? — Мосье Тильон подскочил и принялся складывать подушки. — Урок на сегодня закончен.
Николенька быстренько собрал перья и книжки, и, не спрашивая разрешения, вприпрыжку побежал в залу.

Матушка за столом читала бумагу. Рядом сидел приехавший важный офицер.
— Ты должна ответить ему, что это никак невозможно. Что за блажь такая! — сердито говорила Екатерина Алексеевна.
— Не знаю, дорогая, как поступить. Но раз просит Николай Николаевич, отказать не могу…
— Да неужто прямо так вдруг и сорвешься? Бросишь все дела, поедешь невесть куда? Хорошо еще, хоть времена мирные наступили. Но сама знаешь, что говорят. Вон Бонапарт у самой российской границы стоит. А что, если и у нас война будет? Что тогда?
— Не знаю, не знаю. Но ехать надо.
В залу вошел Александр. Он не слышал разговора и потому спросил:
— Кто приехал, матушка?
— Да вот, Саша, папенька письмо прислал. Просит приехать к нему в войска, привезти вас с Николенькой. Тебе, Александр, в полк, а Николеньку пора, говорит, приобщать к службе.
— Да куда же ехать? Ты глянь, у Александра отпуск, а уж Николенька… — не унималась сестра.
— Что же вы решили, маменька? — перебил ее Александр.
Софья Алексеевна важно оглядела всех присутствующих. Рука с письмом опустилась на стол. Тихо, почти шепотом, она ответила:
— Ехать…
В БОЮ ПОД САЛТАНОВКОЙ
Весной 1812 года в братья Раевские выехали к западной границе России.
На самом деле, двинулись целым обозом. Матушка решила сопроводить их некоторое время. Так и ехали, впереди, в старенькой, потрепанной карете, матушка с сыновьями. Следом — на повозке с багажом и провиантом — дядька Ефим, назначенный присматривать за Николенькой.
Тракты длинные, от одного селенья до другого добираться долго, оттого и взяли с собой всяческую поклажу.
Карета висит на мягких рессорах, и когда, особенно под гору, она разгоняется, то качается во все стороны и подпрыгивает, словно мячик. Колеса у кареты громадные, поворачиваются медленно и слегка поскрипывают.
На козлах сидит Сидорка. Когда настает длительная стоянка, он не спеша выпрягает свою двойку. Лошади чистокровной вятской породы подобраны одна к другой, так, что и не отличишь. Пышные гривы и черные хвосты их свисают чуть ли не до самой земли. Сидорка очень гордился своей упряжью. «Вятки» определены были для прохождения службы вместе с Николенькой и Александром.
После ночевки собирались в дорогу быстро. Сидорка уже сидит готовый, держа поводья. Лошади, отдохнув, грызут удила в возбуждении, перебирают ногами, но карета стоит на месте как вкопанная. Сидорка сдерживает их окриком.
Наконец все рассаживаются по местам.
— Ну, давай, пошел! — командует Сидорка, взмахивая поводьями.
Лошади срываются с места.
— Погодь же ты, окаянный! — кричит что есть мочи дядька Ефим. Ему никак не догнать на своей старой кляче сидоркиных пристяжных…
Две недели колесили по пыльным дорогам. Доехали до места лишь к середине июня. Остановились в одном из полков. Матушку расквартировали.
— А дети будут жить как все воины — в палатках, — сказал Николай Николаевич при встрече. — Пусть и Николай привыкает к походной жизни.
Софья Алексеевна только всплеснула руками. И теплые матрасы, и пуховые одеяла, которые по ее настоянию вез дядька Ефим — все напрасно. Николай Николаевич приказал сыновьям спать и питаться — вместе с остальными офицерами.
— Какой же, голубчик, из Николеньки солдат, ежели ему только одиннадцать годков как стукнуло? — умоляюще глядя на мужа, вздыхала матушка.
— Ничего, пусть обвыкаются. Позднее легче будет службу нести. Будет при Орловском полку, зачислен как подпрапорщик.
Александр успокаивал ее, расхваливал полевую кашу, приготовленную на костре, убеждал в полезности для здоровья естественной пищи. Софья Алексеевна терпеливо выслушивала «наставления», давая понять сыну, что считает его вполне взрослым. Вскоре она успокоилась совсем и стала собираться домой, в имение…
Служба шла своим чередом. Пусть хоть жизнь стала не такая легкая, как прежде, дома, но все же она казалась спокойной и упорядоченной…
Никто и не предполагал, что 23 июня, обедая в Вильковишском лесу за роскошно накрытым столом со своими генералами, французский император Наполеон Бонапарт продиктовал писарю приказ: строить мосты через реку Неман и переправляться на восточную сторону. На противоположном берегу реки начиналась Россия. То было начало войны…
Однажды утром Николенька проснулся раньше обычного. Разбудил его какой-то шум. Он привстал с походной кровати, высунулся из палатки. По плацу ходили гренадеры и о чем-то громко и возбужденно разговаривали.
— С ним гвардия в мильон человек и орудий без числа… Ведут армию маршалы Мюрат и Даву, что под Прейсиш-Эйлау бывали…
Из обрывков разговоров Николенька понял, что происходит нечто важное и значительное. Он вернулся в палатку, нагнулся над Сашиной постелью, но, к удивлению своему, заметил, что она пуста. Одеяло свернуто жгутом, будто лежит кто. Видно, ушел спозаранку.

Николенька быстро надел мундир, специально сшитый для него. Мундир был маленького размера, но в точности такой, как у гусарского офицера, разве что без эполет. Застегиваясь, он припомнил, как еще няня Маша пришивала к нему пуговицы, что-то мурлыча себе под нос и закидывая за спину спадающую косу…
Он выбежал вон и помчался к штабной палатке. И поспел как раз вовремя. Все офицеры были в сборе.
Генерал Раевский зачитывал приказ командующего 2-й западной армией генерала Багратиона. Еще никогда Николенька не видел таким своего батюшку. Обычно это был подтянутый, широкоплечий человек с удивительно волевым, решительным лицом, глазами, горящими каким-то внутренним огнем. Он был энергичен в поступках и короток в речи. То были естественные качества и навыки, выработанные за долгие годы походной жизни. Но нынче, когда зачитывал он приказ, заметно было его особенное волнение.
Оказывается, Наполеон двинул свою 400-тысячную армию на восток. Предложения о перемирии были отвергнуты. Война стала неизбежной. Корпус снимается тотчас же и вместе со всей армией отступает на город Новогрудок.
Через минуту совещание было закончено. Офицеры, получив приказания, стали расходиться. Неожиданно рядом возник Александр.
— Николя, — сказал он быстро, взяв брата за руку, — генерал приказал нам с тобой идти в полк.
У них было условлено — в присутствии посторонних звать батюшку только по званию — генералом. Братья тотчас поспешили выполнить приказ.
К вечеру семья Раевских собралась в генеральской палатке.
— Я думаю, вам надо срочно ехать обратно, — обратился к жене Николай Николаевич. Нам теперь предстоят ратные дела.
— Да как же это, сударь, одной ехать?
— Сыновья на службе, будут со мной.
— Да, матушка, — звонко выкрикнул Николенька, — мы остаемся с папенькой.
— Ты-то, ты-то погляди на себя. Худющий-то какой, еще вчера поди, под стол пешком ходил, а уже воевать с французами!
— Служба, маменька, — заключил Александр.
— Да что же это, как же… Николай Николаевич!
Генерал молчал, глядя куда-то вниз. Софья Алексеевна провела рукой по щеке, осмотрелась вокруг, будто что-то нечаянно уронила.
— Ну, Бог с вами, вы дети своего отца, — вдруг произнесла она удрученно и расплакалась.
Дети бросились утешать ее…
Наутро карета с матушкой и поклажей выехала обратно. А к полудню двинулся с места генерал Раевский с войском.

Наступили тяжелые дни. Русские отступали. Сил у Наполеона было значительно больше. Да к тому же все российские войска были разделены на две армии. Для того, чтобы дать французам генеральное сражение, армиям нужно было соединиться. Труднее всего было князю Багратиону. Никак не мог он пробиться к 1-й армии Барклая-де-Толли. Мешала ему это сделать армия маршала Даву — одного из лучших французских полководцев, любимца Наполеона. Даву спешил вклиниться между русскими армиями, разъединить их, чтобы затем войска Бонапарта разбили их поодиночке.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
