
Бесплатный фрагмент - Семейные истории
Воспоминания. Очерки
ВОСПОМИНАНИЯ
Юрий Полуполтинных
Детство
Сколько себя помню, мне всегда было радостно возвращаться в Читу. Зима, мороз и солнце — лучшие воспоминания детства. Правда, снега всегда было маловато. Сопки, окружающие город, стеной стояли на пути снежных тучек, и поэтому они обходили Читу стороной. Зато на пути морозов препятствий не было никаких — вот они и доходили до 45 градусов. Возвращение в Читу всегда было для меня праздником, душа рвалась домой, и встреча с родным городом и родителями, вызывала почти собачий визг, заставляя сжиматься сердце. Уже на трапе самолёта, вдыхая полной грудью забайкальский воздух, ощущаю себя дома. А в такси город разворачивает передо мной в приветственном подарке, как некий прекрасный фильм — всю свою суровую красоту. Всматриваюсь в зеленоватые волны забайкальских сопок и в проплывающие мимо низкие редкие тополя, серые, кое-где даже чёрные, дома. Я люблю этот город с его голубым высоким небом, прямыми, врезающимися в сопки, улицами, с его простором и здоровым духом людей, уверенных в себе и своих силах.
Бродя по городу, я чувствую себя как в собственном дворе. Узнаю каждый домик, каждую тропинку. Радуюсь новым, ещё не знакомым мне, домам, горжусь их новейшим архитектурным решениям. Спустя сорок лет, я снова пришёл на площадь им. В. И. Ленина, посмотреть парад войск Сибирского военного округа, в честь Победы 9 мая. В голове, как и много лет назад, звучит музыка знакомой и родной с детства песни: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля»… Мы, ребята, шагая в колоне демонстрантов, радостно пели, своими детскими голосами, эту первомайскую песню и верили в наше светлое будущее.
Последние события ушедшего тысячелетия рассеяли моё коммунистическое чувство и привели к глубокой вере, но первомайская песня ещё и сегодня звучит в моих ушах, напевая её, я радуюсь жизни. И сегодня я среди тех, кому дорога не материальная, а духовная жизнь. Многие так и не поняли, что произошло в стране. Молодым нравится свобода, а старшее поколение жалеет коммунистические времена, хотя многие не состояли в партии коммунистов как, например, мои родители. Из всех моих многочисленных родственников в партии состояли только я, моя жена и двоюродная сестра Мария, и то только потому, что служили в органах МВД СССР. Коммунистом же был один единственный человек — мой дядя по линии мамы Пётр Спиридонович Манаев, он стал членом коммунистической партии в 1941 году и гордо пронёс это звание до конца своей жизни.
Он, как и другие коммунисты, которые с гордостью носили это звание, не думали что партия, которой они отдали свои жизни, незаконно управляла страной, игнорируя власть народа, не считаясь с Советами.
В 1977 году партия, наконец, поняла, что Генеральный секретарь КПСС не может быть главой государства — и поэтому его не признаёт мировое сообщество. Они срочно вводят в Конституцию СССР главу шестую — о руководящей и направляющей роли партии — и избирают Брежнева Председателем Верховного Совета СССР.
В настоящее время коммунисты, которые стали демократами, привели в соответствие все институты власти, но, как и прежде страной управляют незаконно бывшие коммунисты, которые стали ОЛИГАРХАМИ — это такие же монстры, как и во времена Сталина. Разница только в том, что сталинским монстрам принадлежала безраздельно вся страна вместе с её народом, а «новые русские» лично владеют её природными богатствами: нефтью, газом, золотом и лесом. Сейчас они хотят владеть и землёй, чтобы она стала товаром.
Шагая по улицам родного города, я вспоминал, какими мы были в те счастливые годы нашей жизни. Каждый выход в город был для нас праздником, мы объедались мороженым, на каждом углу пили газировку с двойным сиропом, смотрели кино, в парке катались на карусели и качелях и, довольные, возвращались домой, наперебой делясь впечатлениями. Жизнь нам казалась сказкой.
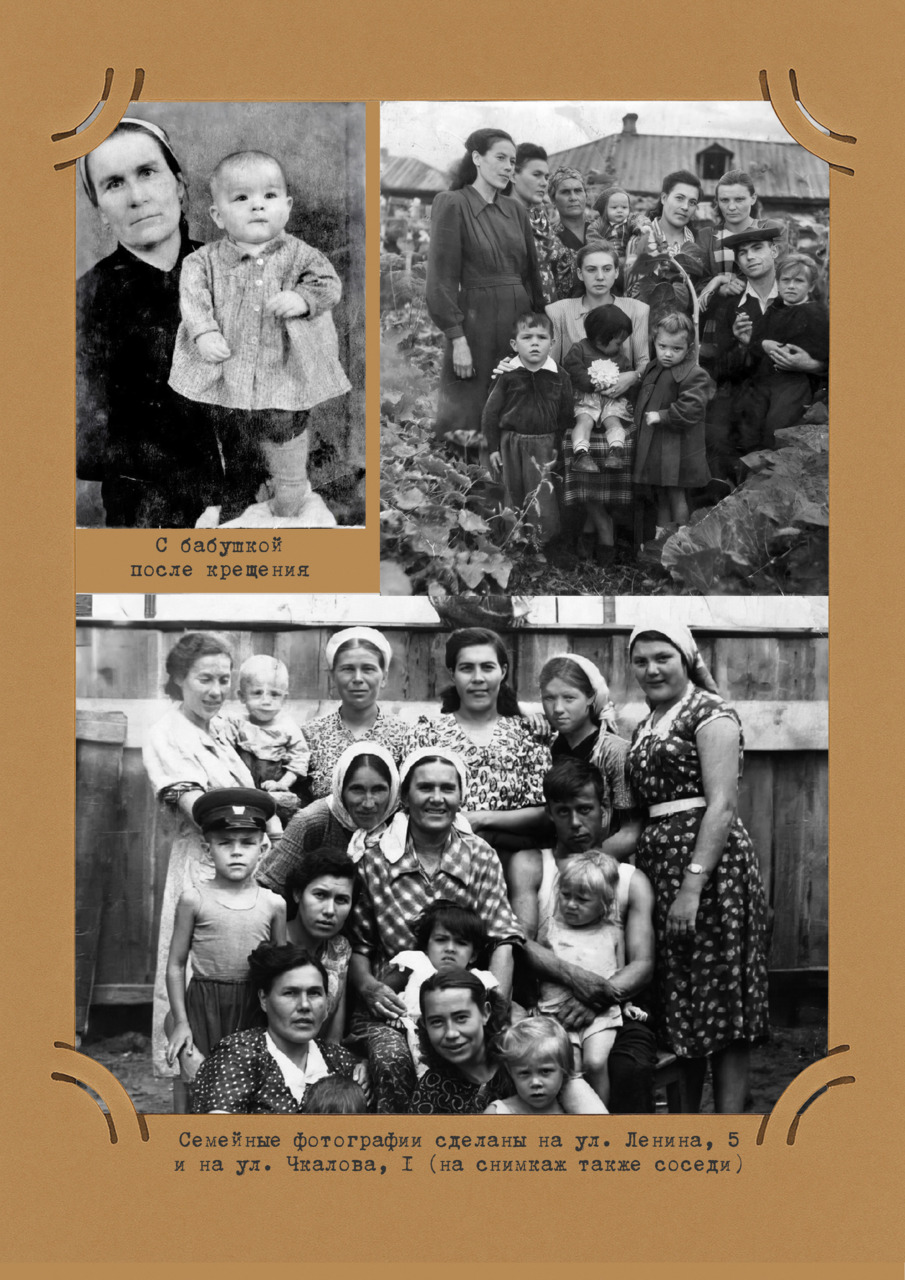
Мой отец служил во внутренних войсках МВД, поэтому они с мамой, забрав младшую мою сестру Таню, жили сначала в посёлке Шара-Горохон, там дислоцировалась ИТК-2, а я оставался жить у бабушки в городе. Учился в школе №1, с первого по четвёртый класс. Нашей учительницей была уже не молодая женщина, звали её Анастасия Федоровна. За все мои шалости она вызывала в школу бабушку и отчитывала меня при ней, но бабушка никогда меня не ругала и родителям не жаловалась. На каникулы отец забирал меня к себе, где я отлично проводил время, а когда надо было уезжать, то я давал волю чувствам, убегал, меня ловили, силой запихивали в машину и увозили в Читу. Да и, действительно, уезжать от родителей и из такого красивого посёлка, приютившегося у подножья высокой сопки, заросшей сосной, спрятавшегося в тайге у маленькой речушки без названия, было, конечно, жаль. Там у моих родителей гостили почти все родственники. Помню, моя тётя Галя привезла туда своего внука Андрея. Он был ещё маленький и очень слабенький, совсем не держал головку и не ходил. Она сажала его в цинковый бачок, который ставила на берегу речушки, подступающей прямо к огороду, и он сидел, дышал свежим воздухом, веточкой отгоняя уток и кур, норовивших его клюнуть. Андрей тогда сразу поправился на парном молоке и яйцах, уезжая в Читу, он уже бегал и весело смеялся.
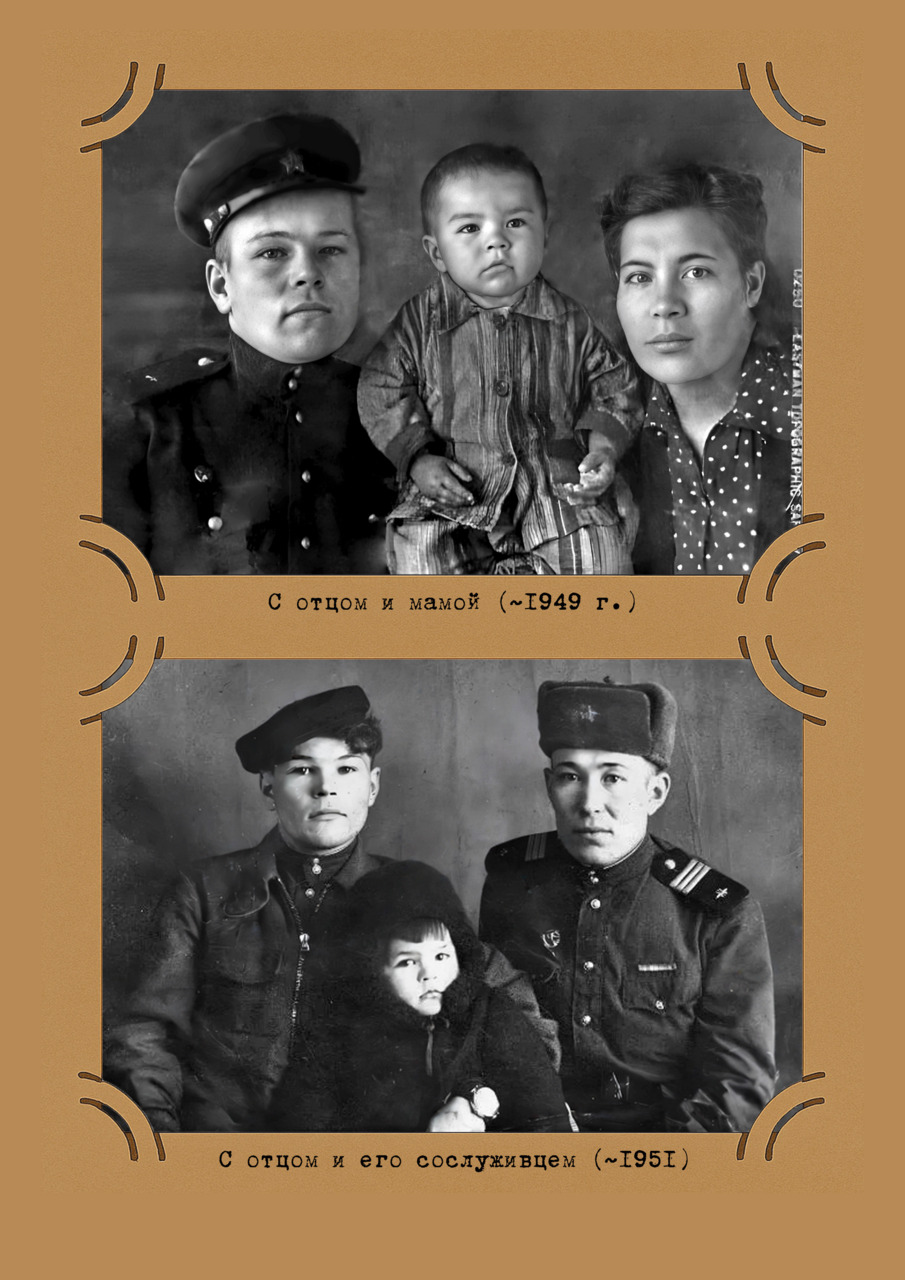
Я же много времени проводил у отца в роте. Занимался с солдатами на полосе препятствий, играл в волейбол и, конечно, бывал на стрельбах. Отец учил меня стрелять. Однажды, он сказал своему другу Собирову, что я уже хорошо научился стрелять. Собиров был большой шутник, он предложил отцу вместо мишени использовать свою фуражку, чтобы я попал в ромбик. Он поставил фуражку вместо мишени, будучи уверенным, что я не попаду в цель, это было понятно по его иронической интонации, и я решил отомстить ему. Тщательно прицелился, но не в ромбик, а в козырёк, в самую его середину, и выстрелил. Когда Собиров возвращался с фуражкой от мишеней, мы с отцом увидели его улыбающееся лицо. Папа подумал, что я промазал, а Собиров как всегда шутил:
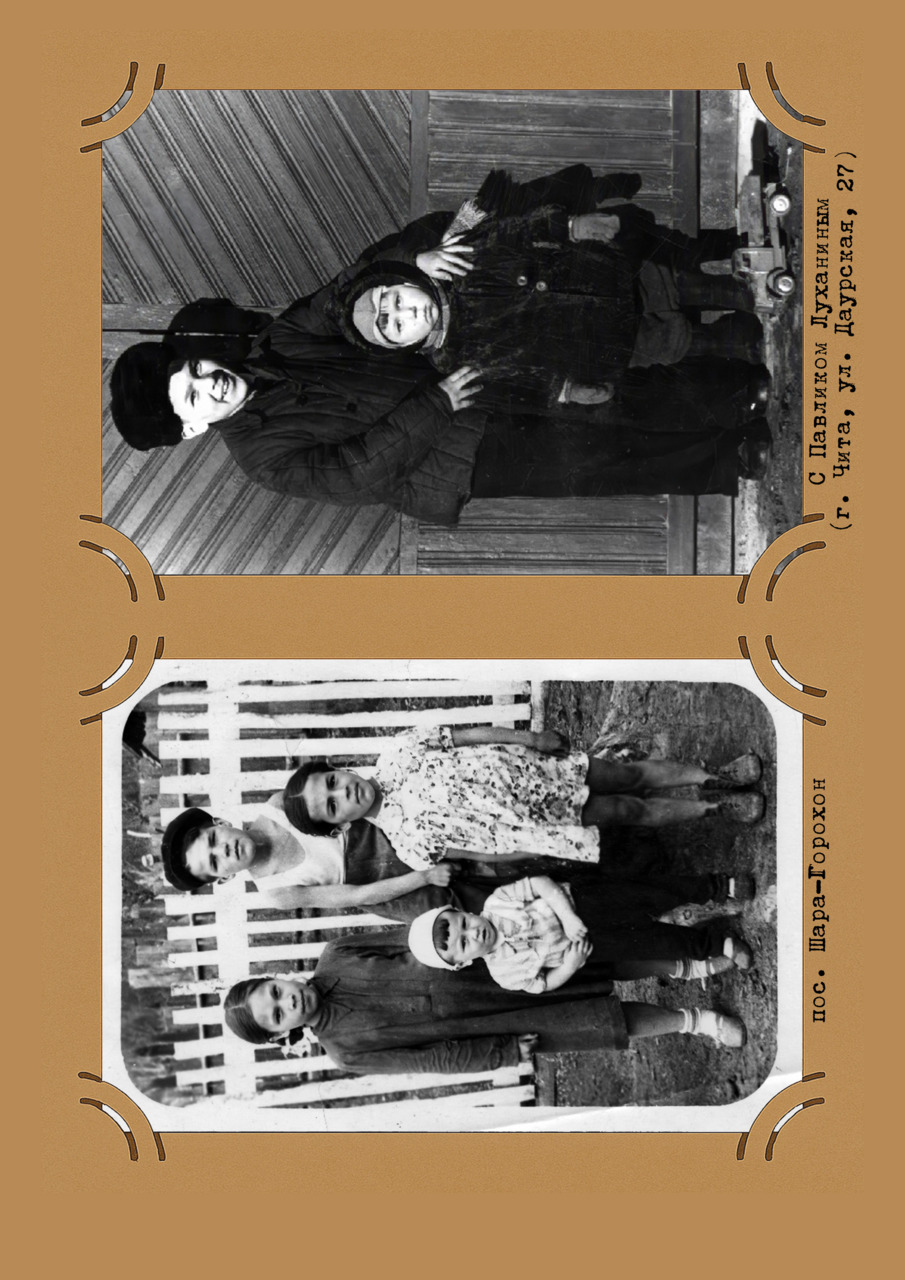
— Плохо, что теперь солнце глаза слепит через дырку в козырьке, я то хотел, чтобы ты мне, Юрка, для вентиляции головы дырку сделал.
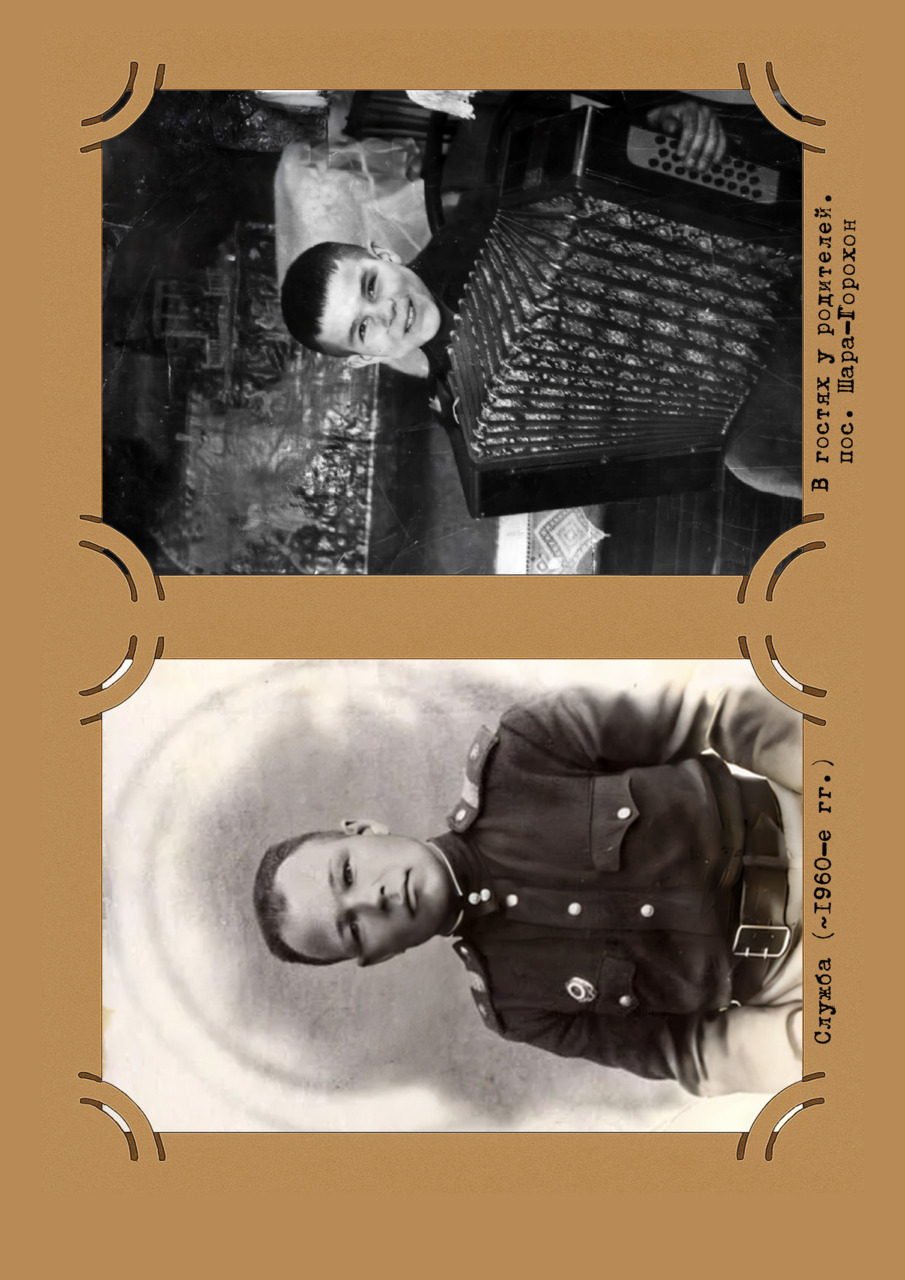
А сейчас сделаю небольшое отступление из стихотворения «Сын артиллериста».
Прошло ещё два три года, и в стороны развело Полуполтинных и Собирова военное ремесло. Отец служил, в Падь-Сахе, а Собиров в Шара-Горохоне. Однажды он сидел над книгой под зелёной настольной лампой, вошёл молодой лейтенант, косая сажень в плечах. «Здравия желаю, товарищ майор». «А ну, повернись к свету, — Юрка? «Так точно, товарищ майор»… Мы послужили только два месяца, меня перевели служить в другое место. Я помню всех друзей отца. Назову ещё некоторых: В. Глухов, Алфёров (он потом сидел в тюрьме, и я разговаривал с ним там), Фирсов, Лях, Клиничев. Я с ними потом служил, и они мне много интересного рассказывали про отца.
Падь-Саха. Там дислоцировалась ИТК-3, а до этого какая-то стрелковая дивизия МО СССР. Посёлок городского типа, построенный военными во время войны, в приаргунских степях недалеко от Даурии, был хорошо спланированным и подходил для колонии. Отец занимал должность заместителя командира батальона по службе контролёров. Дом, в котором жила наша семья, состоящий из шести комнат, пока не отремонтировали административные здания, служил штабом. Напротив стоял такой же большой дом, в котором жила семья начальника колонии Шаврина. У него было две дочери, они всегда приходили к нам в дом играть с моей сестрой. Спустя несколько лет с одной из них я служил в ИТК-11, и она была подругой моей жены Ларисы. Как-то раз, катаясь на лыжах, я провалился в глубокий окоп, на дне которого нашёл заржавевший пистолет «ТТ». Подержав его в керосине, я привёл его в боевое состояние, но и, конечно, решил показать находку родителям. Вечером, когда родители ужинали, я вошёл в кухню и направил пистолет на отца, он поднял руки вверх и спокойно попросил опустить оружие. Встал, подошёл ко мне и попросил передать пистолет ему, который я потом никогда уже не видел. Был случай, когда я стащил автомат Калашникова. Отец с друзьями вернулись с охоты, автоматы оставили в прихожей, прикрыв их куртками, а сами выпивали на кухне. Я нашёл их, а один утащил на улицу показать ребятам, отец хватился пропажи сразу, и вместе с Глуховым нашли нас на дивизионных воротах. Я помню, как папа снизу кричал: «Только не бросай автомат на землю и не бойся, я тебя не накажу». Глухов поднялся к нам на ворота, забрал автомат и сказал, чтобы мы сразу не спускались. Нотацию мне отец прочитал хорошую, и в наказание отправил меня к бабушке в Читу.
На летние каникулы я приехал в Падь-Саху. И вот — судьба, она всегда расставляет всё на свои места: здесь я впервые переступил порог зоны. Мне было всего 12 лет, отец повёл меня к парикмахеру, а проводить меня к нему поручил весёлому осуждённому. «Ты, Сурин, за него головой отвечаешь», — как-то спокойно сказал ему отец и пошёл по своим делам. Я запомнил это на всю жизнь, потому что мне до сих пор снится и проходная, и эти серые бараки, и множество глаз, смотрящих на меня как на диковину.
Сотрудников колонии, находившихся на КПП в тот день, я тоже хорошо запомнил. Начальник оперативной части Ю. Г. Иванов, дежурные контролёры Фирсов и Ласточкин, ДПНК Сумароков и многие другие, с которыми через 13 лет пришлось вместе служить в Новоорловске.
Через год в колонии был допущен побег, который за одни сутки был ликвидирован. Во время ликвидации побега, было допущено нарушение социалистической законности, за что отец был уволен из армии, а через четыре года был восстановлен и в звании, и в должности. В это время, наша семья жила в посёлке Молодёжном Приаргунского района Читинской области. Посёлок этот, отец сам же и строил в 1955 году, во время освоения целинных и залежных земель по призыву партии. О нём был написан большой очерк, который вошёл в сборник «Октябрьский марш», изданный Восточно-Сибирским книжным издательством в 1977 году. Этот посёлок Молодёжный стал местом рождения моего брата Александра, так что этот этап жизненного пути был вовсе не случаен. Мы похоронили там нашу маленькую сестрёнку. Она умерла в девятимесячном возрасте, и судьба подарила нам брата, который стал продолжателем дела отца.
Когда отца восстановили в МВД, он уже постоянно проходил службу в войсковой части №6578, дислоцировавшейся в городе Чите.
Первая любовь
Погружаясь в воспоминания, я всё больше и больше убеждаюсь в том, что судьбу мы не выбираем — нас уверенно ведут по жизни по хорошо разработанному сценарию.
Мистика? Нет, это не мистика. Это судьба. Судьба, предначертанная Богом.
Чита. Март. 1972 год. Мороз ещё крепкий, хотя уже весна. Я зашёл к бабушке погреться. На кухне тепло, пахнет свежезаваренным чаем, от этого очень уютно, не хочется выходить на улицу.
— Ой, внучек, а молочка-то нет. Какой же чай без молока. Сбегай быстренько в «Восточный», купи бутылочку молока, пока чай настаивается, — скороговоркой сказала она, как бы извиняясь.
— Конечно, бабуся, сейчас я мигом сбегаю.
На ходу застёгивая пальто, побежал к магазину и на крыльце столкнулся с двоюродным братом Валеркой.
— Ты куда бежишь, Юрка, — каким-то хриплым голосом спросил он.
— Я от бабушки. Просила молока купить к чаю…
— А ты куда? — уже, выходя из магазина, спросил я его.
— В поликлинику. Подрался, голову пробили.
Валерка рассказал мне о ночном приключении и, уже у бабушки, в коридоре, стянув шапку, показал под волосами рану, которая кровоточила. Бабушке, конечно, он сказал, что упал в котельной. Чай пить не стали — Валерка попросил меня пойти с ним.
— Идите вместе. Вдруг Валере станет плохо — так ты, Юра, поможешь ему дойти до поликлиники.
В этой поликлинике, «на Гагарина», я не бывал никогда — потому что у меня, как у сотрудника УВД, а раньше — как у члена семьи военнослужащего, была своя ведомственная поликлиника. Войдя в здание, я вдруг почувствовал какое-то внутреннее оцепенение, как будто переступил невидимую черту.
Стоя у регистратуры рядом с братом, я как бы растворился в прошлом времени — совсем забыл, зачем я здесь. Из оцепенения меня вывел голос:
— А вам, молодой человек, к какому врачу?
— К зубному, — сказал я.
— Фамилия ваша? — вежливо спросила девушка.
— Луханин. Павел Владимирович, — уточнил я каким-то не своим голосом.
Карточку моего другого двоюродного брата, Павла, она нашла быстро и убежала по коридору.
— Ты что? Зачем? — испуганно спросил меня Валерка.
— Да ладно, покажу зуб. Всё равно тебя ждать. Да и вообще, мне давно надо зуб дёргать. Бабушка звонила Яну Генриховичу — он в нашей поликлинике работает. Он же бабушкин друг, ты знаешь?
— Вот и иди к Яну, — настаивал Валерка, чего-то опасаясь.
— Хорошо. Иди к хирургу. Если быстро выйдешь, то уйдём отсюда вместе.
Прошло минут пятнадцать, и я вдруг услышал:
— Луханин, заходите к доктору.
Я вошёл в кабинет спокойно, улыбаясь. Одно из кресел было свободным, и я уверенно направился к нему.
— Нет, садитесь вот в это кресло, молодой человек, — сказала беленькая, симпатичная врач.
— Какой зуб будем лечить? — машинально задала она вопрос.
— Восьмёрка нижняя, слева, — повторил я слова Яна Генриховича.
Когда он осматривал мой рот, я знал, что эту восьмёрку нужно удалять, и тянул время — боялся, не шёл к нему на приём.
Врач осмотрела мои зубы, поморщилась и сказала:
— Седьмой, шестой и шестой справа надо лечить, а эту восьмёрку надо удалять, но зуб очень сложный, я не могу. Приходите завтра, вот за тем креслом работает врач Прохорова, она вам удалит этот сложный зуб. Хорошо, молодой человек?
Когда я вышел из кабинета стоматолога, Валерка меня уже ждал.
— Ну что? — спросил он, облегчённо вздыхая.
— Завтра сказали прийти к Прохоровой — она удаляет хорошо.
— Вот и хорошо, вместе пойдём. Мне тоже надо на перевязку.
Мы вышли на улицу. Ярко светило солнце. Снег сверкал как множество бриллиантов, рассыпанных на снегу. Душа моя радовалась солнцу, этому необычному дню и ждала перемен.
Утром следующего дня я у бабушки ждал Валерку, почему-то нервничал. Прохорова принимала во вторую смену. Надо было идти к двум часам, и чтобы зайти первым, нужно было прийти пораньше. Время шло, а Валерки всё не было.
Наконец он прибежал.
— Пойдём, меня папка только на один час отпустил, — задыхаясь, выпалил он. — За драку ругал, что поддался. Короче, я побежал, процедурная до часу!
Я вышел ровно в час и, не спеша, направился в поликлинику. Мысль в голове всё время одна: зачем? Зачем? Можно не ходить. Зуб пока не болит, потом пойду к Яну. А ноги идут и идут, кто-то невидимый подталкивает меня.
Незаметно подошёл к поликлинике. Вошёл. Сдал пальто в гардероб, постоял ещё у окна, обдумывая — надо или не надо заходить в кабинет врача. Решаю — надо! И уверенно направляюсь к кабинету №15, возле него два человека.
— Кто к Прохоровой? — спросил я сдавленным голосом.
— Мы к Ведуновой, а к Прохоровой вы будете первым, — ответила мне одна из женщин.
Я стал ждать, постоянно глядя на часы. И вдруг сердце ёкнуло и как бы сжалось. По коридору стремительно шла девушка в светлой фетровой шляпке с козырьком, одной рукой придерживая голубую лёгкую косынку. Сердце моё стучало так громко, что совпадало ударами со стуком её каблуков.
Я весь подался вперёд — ей навстречу. Взгляды наши встретились, и между нами сверкнула как бы молния, пронзившая наши сердца. Когда она вошла в кабинет, пробежал лёгкий ветерок, коснувшись меня едва уловимым запахом духов и свежести. Я в напряжении ждал, когда снова почувствую этот запах, когда снова взгляну в глубину этих тёмных глаз — и утону в них навсегда.
Как выстрел, хлопнула дверь. Вышла врач, которая вчера осматривала меня — её смена закончилась, она спешила домой.
— Луханин, заходите. Лариса Павловна вас ждёт, — улыбнувшись, сказала она и добавила: — Не волнуйтесь, всё будет хорошо.
Когда я вошёл в кабинет, от волнения не мог говорить — язык прилип к нёбу, руки вспотели, меня била лёгкая дрожь. Это волнение было не от страха перед зубной болью — это было совсем другое чувство, которого я раньше никогда не испытывал.
Сидя в кресле, кроме её глаз я не видел никого. Моё сознание было в какой-то прострации. Когда она ко мне прикасалась, по телу пробегала волна дрожи. Её руки тоже были холодными, но я не чувствовал, что она делала — я видел только её глаза.
Странно, я даже не чувствовал боли. Для меня в этот момент ничего не существовало: я был дух, я был вселенная. Я никогда не испытывал такого чувства.
Это была любовь. Любовь, которая коснулась меня в первый раз и опьянила моё сознание. Меня не стало прежнего — в этом стоматологическом кресле родился совсем другой человек.
Лариса Павловна просила меня прийти через неделю — пока не заживёт ранка на месте удалённого зуба. Сказала ещё, что будем лечить все зубы.
Я ликовал. Ждал следующей встречи как свидания, считал дни — а они тянулись мучительно медленно…
В поликлинику я ходил как на свидания. Уже знал её подруг, и, сидя в кресле, рассказывал им разные истории о криминальном мире — о том, что знал не понаслышке, не из газет. Всё подбирал момент, чтобы наконец сказать, что я не Павел и что фамилия моя вовсе не Луханин.
Случай представился в конце апреля. Мы готовились к первомайской демонстрации, получили новую парадную форму — и я решил пойти к ней в парадном мундире.
Все, конечно, удивились моему торжественному виду — да ещё с букетом сирени. Пришлось рассказать им всё, а в заключение я предложил отметить завершение лечения в ресторане.
— Мы согласны, — сказала Лариса, глядя на Лидию Николаевну.
— Нет, я не могу… — пыталась отказаться Машукова.
— Идёт, идёт! — сделала заключение Лариса.
День выдался солнечным и тёплым, весна чувствовалась всё отчётливее.
Я подъехал к поликлинике на такси, забрав их прямо из кабинета, и повёз в ресторан «Забайкалье». Выбрав столик у витрины, откуда открывался вид на площадь им. Ленина, осмотрелся. У противоположной стены сидела шумная компания кавказцев, а слева — трое парней, которых я буквально несколько дней назад освобождал из СИЗО. Они дружески поздоровались:
— Привет, начальник! А ты, молоток — сразу двух подцепил!
Делать заказ я не умел, поэтому коротко сказал официанту:
— Шампанское, коньяк и закуску на твой выбор.
— На какую сумму рассчитываем? — уточнил официант, поняв, что пояснений не будет.
— Неси — расплатимся, — резко отпарировал я.
Пожав плечами, официант ушёл и через несколько минут заставил стол закусками — как я ему и сказал, по своему выбору.
В ресторанах я, конечно, бывал, но в обществе врачей — никогда, и поэтому чувствовал себя скованно. Затем мы проводили Лидию Николаевну и ещё долго гуляли по улицам. Город изменился вместе со мной — всё было наполнено поэзией, и в моих мыслях постоянно возникали поэтические строки.
Наконец мы остановились напротив её дома, зашли в ветхие ворота какого-то двора, и, затаив дыхание, Лариса сказала, что ей пора домой. Я неловко обнял её и впился губами в её губы. Она ждала этого — рот её был горячим, я чувствовал учащённое дыхание.
Поцелуй был долгим и страстным. Мы как бы прислушивались к своим чувствам, оценивая происходящее.
События стали развиваться стремительно. Лариса рассказала мне, что в тот вечер у дома её ждал муж. Он видел нас и требовал объяснений. Она сказала ему, что между ними уже давно нет ничего общего, что она давно приняла решение расстаться с ним — просто ждала случая.
И вот я решил как можно быстрее расставить все точки. Для себя я уже давно всё понял: это — любовь. Без Ларисы я уже не представлял себя. Необходим был серьёзный разговор — и я его готовил.
День выдался солнечным. Настроение — отличное, хотелось увидеть Ларису. Прохоров теперь часто бывал у неё в кабинете, ждал её и провожал домой. Необходимо было быть осторожным.
Я взял такси и поехал в поликлинику. Остановив машину у входа, попросил водителя подождать девушку, а сам пошёл к телефонной будке, которая стояла напротив окна регистратуры. Набрав номер, я попросил пригласить Прохорову.
Когда в трубке раздался знакомый голос, я сказал:
— Привет, Лора! Видишь такси под окном? Это для тебя. Отпросись и выходи — нам надо поговорить. Возражений не принимаю. Видишь меня в будке телефона-автомата? — помахав ей рукой, я повесил трубку.
Спустя пару минут Лариса вышла и села в такси. Машина тронулась, а за углом остановилась. Когда я сел на заднее сиденье, Лариса, рассмеявшись, сказала:
— Ну ты и конспиратор! Действуешь по всем правилам уголовного жанра. Его не было в кабинете, он меня вечером встречает. Мог бы спокойно прийти и поговорить.
Машина остановилась возле особняка, окружённого забором — с большими тёсовыми воротами и высокой калиткой с тюремным глазком. Этот особняк когда-то принадлежал командующему пограничным округом, затем его передали войсковой части, и в нём жил заместитель командира полка по тылу. Теперь вот в нём жила наша семья.
За домом был большой сад и баня — главная достопримечательность. Я взял Ларису за руку и увлёк за собой: показал комнаты брата, сестры, родителей, и через большой зал провёл её в свою комнату. Устроившись в уютных креслах, я слушал её неторопливый рассказ о родителях, живущих в Краснодаре, и о её взаимоотношениях в семье.
Проговорив до вечера, я пошёл её провожать. Долго бродили по ночному городу и, остановившись у её дома, Лариса сказала:
— Прохорова нет дома. Он с Андреем у матери в Нерчинске. Приедут завтра.
Она держала мою руку, как бы приглашая зайти. Соблюдая осторожность, Лариса шла впереди — чтобы случайно не встретить соседей. Стараясь не стучать каблуками, мы поднялись на четвёртый этаж, в её квартиру.
Мы целовались до рассвета. Часы показывали пять — пора было уходить… Я шёл по ещё спящему городу, обдумывая своё поведение. Возможно, надо было быть настойчивее и поступить иначе — ведь она замужняя женщина…
Нет, — сказал я себе, — всё правильно.
Так я пришёл домой — и, счастливый, завалился спать.
А через два дня меня разбудил настойчивый звонок. Открыв ворота, я увидел красный «Москвич». За рулём сидел подполковник в лётной форме. На заднем сиденье лежали вещи, а на них — сидел мальчик.
Обернувшись, я заметил Ларису: она стояла за створкой ворот.
— Я забрала Андрея из садика, чтобы Прохоров не украл его. Пока, если можно, поживём у вас, а через неделю мы улетаем в Краснодар, к маме, — выпалила Лариса всё сразу, не дав мне и слова вставить.
— Хорошо, — наконец сказал я первые слова. — Давай заносить вещи в дом, а Андрей пусть играет во дворе, осваивается.
Мы занесли в мою комнату нехитрый скарб: телевизор «Горизонт», ковёр, узкие дорожки зелёного цвета. Мама в это время молча готовила завтрак, и, когда мы закончили раскладывать вещи, пригласила пить чай — так в Забайкалье называют и завтрак, и обед, и ужин.
За столом Лариса рассказала, что совсем ушла от мужа — он ударил её, и щека была немного припухшей.
— Нет сил больше терпеть издевательства. Улечу к родителям, в Краснодар. Оставлю Андрея, а сама прилечу в Читу — буду оформлять развод, — говорила она быстро, чтобы мы с мамой задавали меньше вопросов. — Только теперь я почувствовала, как устала, как разбита… Я — как выжатый лимон.
Я побледнел. В её глазах появилось то же выражение, которое поразило меня при нашей первой встрече. Я протянул руку и взял её ладонь. Крепко сжал её.
— Я не хочу, чтобы у тебя был такой вид, — сказал я. — Мне это слишком больно. Я хочу, чтобы ты была счастлива — и буду стараться делать всё для этого.
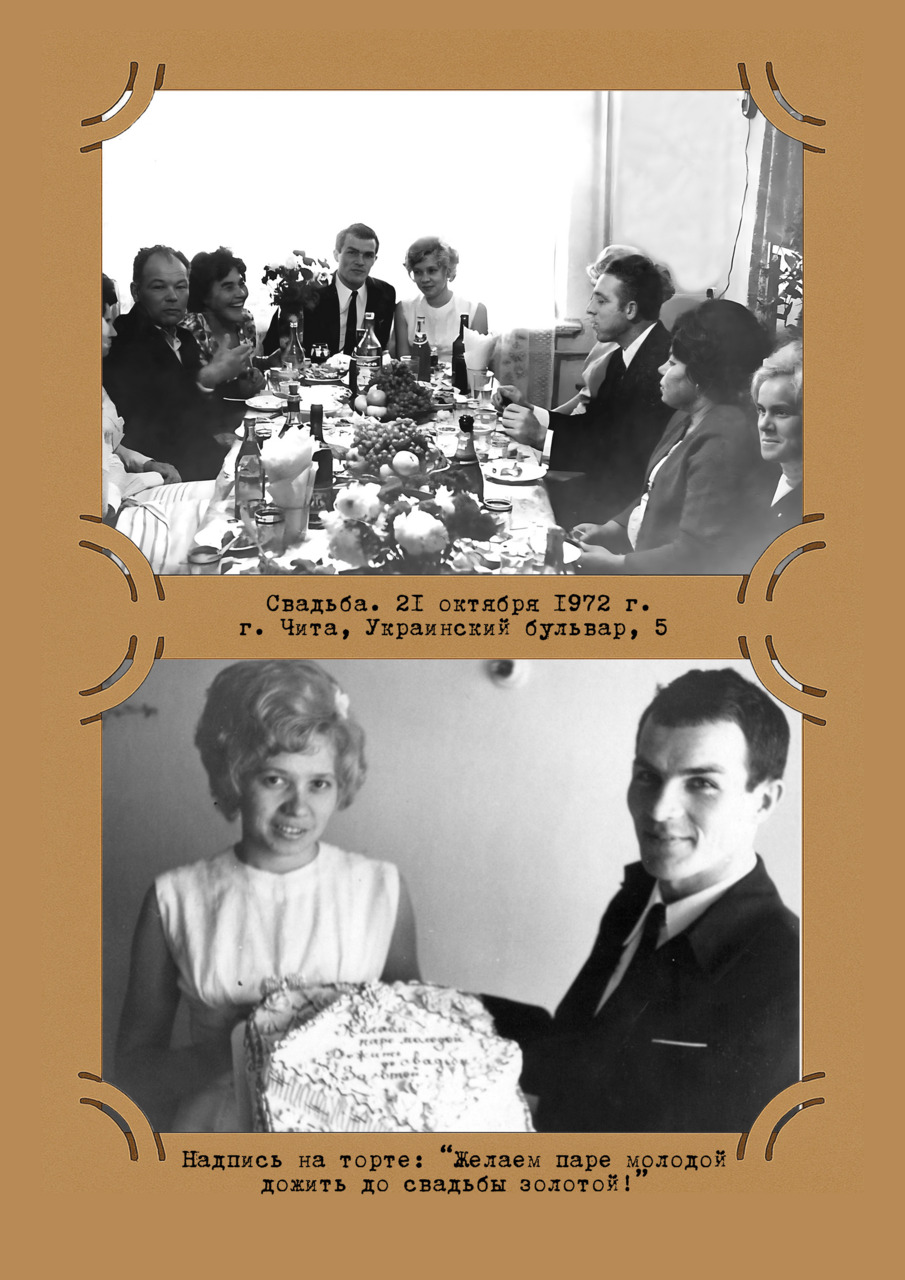
— Я на всё согласна. Я ни разу, ни на миг не пожалела, что встретила тебя и полюбила. Мы пока будем жить вместе. Спать на твоей кровати будем вдвоём, а Андрей — в кресле. Оно же раскладывается, — утвердительно сказала Лариса, чтобы ни у мамы, ни у меня не возникло вопросов по этому поводу.
Андрей беззаботно играл в саду. Для него эта свобода была настолько необычной, что он ни разу не промолвил ничего, что могло бы помешать нашему нелёгкому разговору.
Вечером, когда собралась вся семья, мы выпивали — за нашу помолвку и за знакомство…
Так пролетела неделя нашей совместной жизни. Я провожал её с сыном в аэропорт на два дня позже запланированного — Лариса поменяла дату вылета, чтобы Прохоров не смог помешать.
Оставшись один, я потерял покой. Всё моё сознание было обращено к ней. Я страдал, ничего не ел, запирался в своей комнате и читал стихи:
О, неужели, милая моя,
И у тебя болит и ноет сердце,
И ту же боль ты чувствуешь, что я —
Боль, от которой никуда не деться…
Её фотографии были расставлены повсюду. Я смотрел на это любимое лицо днём и ночью, думая о ней:
И, как ты, я гляжу на книги,
На картину, где брезжит Крым…
И слова твои вдруг возникли —
Адресованные другим.
Ты — далёкая, в неизвестном.
И понять ты ещё не смогла:
Эта комната мне дороже —
Потому что ты в ней была…
Ждать пришлось невыносимо долго. И вот — долгожданный день наступил. Я встречал её в аэропорту с букетом алых роз. Очень волновался, но, увидев её улыбающейся, понял: всё хорошо — она прилетела ко мне…
Мы жили в доме родителей и по заданию отца искали обмен нашего дома на благоустроенную квартиру, потому что обслуживание огромного дома стало для всех обременительным занятием. Отец привозил с полка солдат — для сбора ягод и фруктов, и всю собранную продукцию отправлял в полковую столовую.
Наконец обмен был осуществлён. Мы с Ларисой нашли хорошую четырёхкомнатную квартиру в микрорайоне Сосновый Бор, и в начале сентября переехали. Квартира устраивала всех — для нас с Ларисой была выделена отдельная комната.
21 октября 1972 года в этой квартире мы сыграли нашу свадьбу…
Пакет особой важности
Я работал в областном отделе фельдъегерской связи в должности офицера особых поручений. Работа была интересной и довольно престижной. Нас, кроме формы, хорошо одевали. Потому что мы постоянно ходили в штатском, а я почти ежедневно бывал в зданиях КГБ, обкома партии, управления Забайкальской железной дороги и штаба ЗабВО.
Однажды мне пришлось доставлять пакет особой важности — серии «К», который лично получает первое лицо. Меня долго инструктировал начальник ООФС о фиксировании времени по каждой операции получения и передачи документа, начиная с борта самолёта рейса 112 Москва — Владивосток. Во время дозаправки самолёта я, в сопровождении двух человек, вошёл в салон, предъявил документы фельдъегерю, летящему этим рейсом во Владивосток, получил от него пакет, завизировав время, сбежал к машине, ожидавшей меня у трапа. «Волга» рванула с места и помчалась в сторону города. Уже в городе водитель коротко бросил:
— Куда?
— На дачу командующего ЗабВО, — тоже коротко ответил я.
Машина, визжа сиреной и тормозами, подкатила к воротам дачи и остановилась в пяти шагах от калитки, спрятанной в стене. Нажав кнопку звонка, я увидел, как калитка сразу открылась, и я, с двумя охранниками, оказался в маленьком тамбуре.
— Офицер особых поручений Полуполтинных, с пакетом особой важности — лично командующему, — отрапортовал я адъютанту командующего.
— А я не могу принять? — спросил он меня.
— Нет, серия «К» вручается лично первому лицу, — немного волнуясь, ответил я майору. — Доложите, пожалуйста, командующему, что время вручения пакета ограничено рамками протокола, — вежливо напомнил я, помня наставления начальника. Через минуту послышался знакомый мне звук электрического замка, и майор разрешил мне пройти одному, без сопровождения. Я оказался ещё в одном тамбуре.
— Оружие есть? — спросил майор.
Я, откинув борт пиджака, показал ему рукоятку «Макарова».
— Сдайте! — резко приказал он.
Поставив пистолет на предохранитель, я передал его лейтенанту, сидевшему у пульта связи.
Мы шли по длинному коридору, мягко ступая по ковровой дорожке, и остановились перед дверью из красного дерева. Войдя в кабинет, я увидел огромный стол, который занимал почти всё пространство. Свободными оставались лишь два участка: у окна, где помещалось одно большое кресло, и у двери, где можно было только стоять по стойке «смирно».
Я поставил чемоданчик на стол и стал набирать код замка. Оставалось только нажать кнопку, чтобы он открылся. Ждал. Я не заметил, когда в этом пространстве у окна появилась огромная фигура командующего. Он застёгивал форменную рубашку с погонами генерала армии.
— Здравия желаю, товарищ командующий! Вам правительственный пакет. Щёлкнул замок, я извлёк пакет красного цвета и протянул его генералу. Но так как стол был длинным, пришлось подтолкнуть его в сторону командующего. Он поймал пакет, прижав рукой к столу. А я за пакетом протянул ему реестр — но это был стандартный лист, и он не «летел», как пакет. Мне пришлось почти лечь на стол, и вытянутой рукой я доставал до середины. Генерал нагнулся, протянул руку и едва достал реестр.
Этот кабинет явно не предназначался для подачи рапортов.
— Что я должен написать? — спросил генерал армии, рассматривая реестр.
— Получил, лично, в 11:55, дата и подпись, — пояснил я генералу. И он крупно, на двух строчках, написал — и ещё на двух расписался: Белик.
Он встал и протянул мне реестр, нагнувшись над столом. Теперь мне пришлось ложиться на стол, чтобы забрать листок.
— Печать поставит адъютант, — коротко бросил Белик, через очки рассматривая пакет.
— Есть! — по-военному ответил я и, повернувшись кругом, вышел из этого странного кабинета.
Печати на даче командующего не оказалось. Мне пришлось, включив сирену, нестись в штаб округа, чтобы в положенное время сдать реестр в специальную часть областного отдела фельдъегерской связи.
Работа мне нравилась. Я был горд, что именно мне поручали вручать документы особой важности — первым лицам области, ездить на чёрной «Волге» в сопровождении охранников. Мне нравилось летать на самолётах, ездить в почтовых вагонах — в специально оборудованных купе. Я любил приходить домой, где меня ждала любимая жена. Театрально снимал кобуру с пистолетом, небрежно бросал её под подушку и страстно целовал жену, вдыхая её волнующий запах.
Город, где зимой цветут розы
Всё было хорошо, но у Ларисы с мамой не складывались взаимоотношения, и мы решили уехать в Краснодар, где у родителей Ларисы жил Андрей. Это был самый весомый аргумент в пользу нашего решения.
Чита провожала нас холодной, морозной погодой, хотя была уже середина марта. Настроение моих родителей тоже соответствовало погоде. Мама плакала. Отец молчал и, обняв на прощание, сказал:
— Если будет трудно — возвращайтесь домой. Я помогу, если потребуется.
Москва встретила нас тоже зябкой погодой. Снег был мокрым и серым. За окном автобуса, который стремительно нёсся в аэропорт Внуково, мелькали подмосковные высокие деревья, а в лесу снег лежал глубоким белым покрывалом. Я молчал, думая о том, почему оставил родной город, родителей, работу… и зачем еду в незнакомый. В памяти всплывали строчки стихов: «Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь…» А почему Русь покинул? Мы же в России, а не за границей будем жить…
Внуково. Объявили наш рейс — 3349. Самолёт — Ил-18. Ту-104 в Краснодар не летают: взлётно-посадочная полоса короткая.
В самолёте — тоже молчим. Разговаривать невозможно из-за шума двигателей. Лариса дремлет, а я смотрю в иллюминатор на проплывающие внизу облака. В динамиках слышен свист и голос стюардессы:
— Наш самолёт произвёл посадку в аэропорту города Краснодар. Температура воздуха в городе — плюс 15 градусов.
— Вот это да! Плюс 15! В Чите было 20 градусов мороза, в Москве — два градуса, а здесь — 15 тепла, — произношу я первые слова после двухчасового полёта.
Выйдя на трап, ещё больше удивляюсь: воздух — как в теплице, пахнет землёй. Мы в меховых шапках, Лариса — в зимнем пальто. Жара. У нас много вещей.
С аэропорта в душном автобусе ехали до железнодорожного вокзала. Кругом — машины, люди, троллейбусы. Через мост, проходящий над железнодорожными путями, выходим по Лунному переулку на улицу Карла Либкнехта.
Поднявшись на пятый этаж, Лариса дрожащей от усталости рукой нажала кнопку звонка. Дверь открыла женщина. Она широко улыбалась и приговаривала: — Андрюша, внучек, где ты? Мама приехала! Куда ты спрятался? А мы вас ждали вечером. Папа скоро придёт.
Говорила она скороговоркой, почти не делая пауз, не давая нам проронить ни слова.
Но мне всё же показалось, будто эта ещё незнакомая женщина посмотрела на меня с удивлением. А впрочем, пожалуй, и нет — попадая в чужой дом, ситуацию всегда оцениваешь по-разному.
Андрей, прижавшись к матери, почему-то плакал. Наверное, от радости.
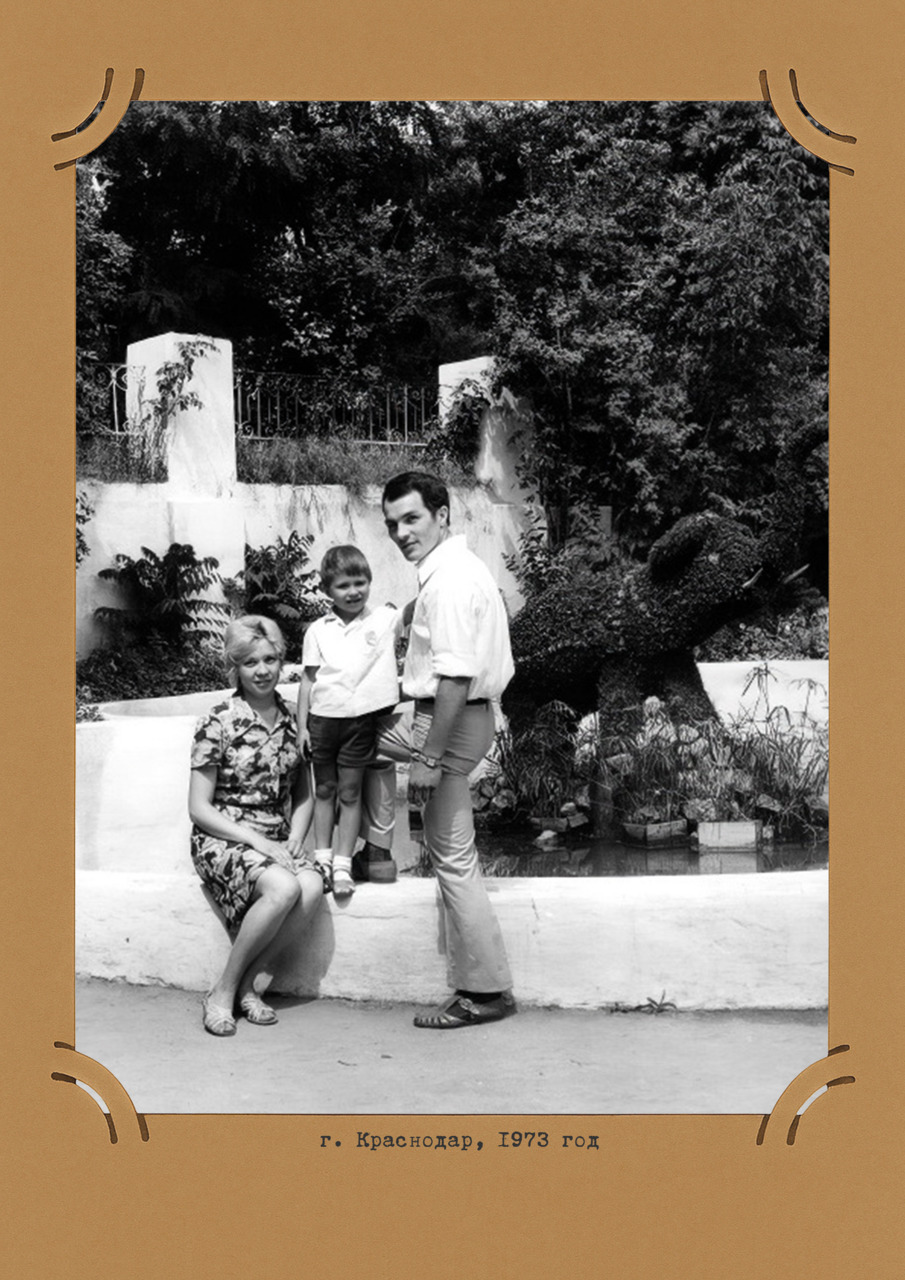
Вечером, когда собралась вся немногочисленная семья, мы сидели за большим праздничным столом, который был накрыт, должен признаться, с большим вкусом. Однако же в этом доме я мог наблюдать тот же самый образ жизни и те же самые мысли, те же манеры, те же традиции, что и у нас. Родители Ларисы — и отец, и мать — старались показать, что они рады нашему приезду, хотя в глубине души переживали за нас.
Начался краснодарский период нашей жизни. Андрей с радостью принял весть, что мы остаёмся в Краснодаре. Лариса занималась обстановкой квартиры — она действовала поспешно, чтобы скорее распрощаться с прошлой жизнью и почувствовать себя дома. Она вернулась к родным корням. Ей нужна была эта поддержка. Вторым её прибежищем стал Краснодар. У неё появилось желание бродить по городу, и вскоре эти прогулки стали потребностью.
Мы искали работу не только в городе, но и в станицах. Отправляясь в неближний путь, мы не знали, кто и где сможет нас приютить.
Я же был разочарован — мне не нравился город. Он больше подходил к станице. Южный город жил своей жизнью. Большинство обитателей неказистых домиков торговали прямо у калиток, выставив в ведрах сирень, цветы, фрукты и даже банки с консервированными овощами. Они на фоне облупившихся фасадов выглядели, будто из пятидесятых годов.
Ларисе посчастливилось устроиться на временную работу в стоматологическую поликлинику, а я — на ХБК кладовщиком-грузчиком. Здесь я столкнулся с предприимчивостью кубанцев: они умели извлекать выгоду из ничего. Например, легко шли навстречу просьбам водителей по недогрузу фур на одну треть, оставляя им свободное место. Водители же использовали это пространство под загрузку овощей и фруктов для перевозки их на продажу в другие города страны. За это водители платили грузчикам и кладовщику хорошие деньги.
Побег в Читу
Я хорошо понимал, что грузчики здесь как бы ни при чём, а вот мне предстояло при отчётах занижать объём фур, оставляя свой личный след на бумаге. Транспортные площади не соответствовали отправленному товару, и в конце месяца выплывала цифра затоваривания складских помещений. Отдел сбыта заказывал дополнительные машины, а это увеличивало транспортные расходы. Я подал заявление об уходе, ничего не сказав жене. Купил билет на самолёт за 15 дней до вылета и отрабатывал две недели по закону на ХБК.
Рассказал жене всё, когда получил расчёт. Разговор был трудным. Получалось, что я бросаю семью и сбегаю от трудностей. Но переубедить меня уже было невозможно. Я принял решение, вынашивая его долгих пять месяцев. Главным моим аргументом была фраза: «Здесь живут одни дельцы, и мне, простаку, здесь делать нечего». Я с полной уверенностью заявил, что сразу получу работу и квартиру, и через месяц заберу Ларису с Андреем к себе. Мне, конечно, никто не верил. Павел Михайлович осуждающе смотрел на меня. Его доводы не действовали. Тёща громко причитала, ругая дочь, что связалась со мной…
Всю ночь не спали, а утром, в гробовой тишине, попрощавшись, я уехал в аэропорт. Моё сознание переключилось на предстоящую встречу с родителями. Одобрения моего поступка я не ждал, а вот поддержку и понимание знал, что получу. Настроившись на получение удовольствия от полёта и от скорой встречи с родным городом, увлёкся красотой земли, простиравшейся под крылом самолёта…
Проспал почти весь полёт. И когда самолёт подрулил к аэровокзалу, я снова почувствовал этот восторг радости — душа рвалась домой.
И вот, судьба… Я снова повторяю эту фразу, потому что утром следующего дня, около дома, встретил полковника Палкина. Он служил с отцом и хорошо меня знал с детских лет. Он знал, что я в Краснодаре, поэтому удивился, увидев меня. Спросил, что случилось, почему я в Чите? И я рассказал ему, что не мог там найти работу и что жена работает на временной работе.
— Поедем в УВД, у меня есть предложение, надо кое-что согласовать. Согласен?
— Согласен, Дмитрий Ильич! — уверенно заявил я, радуясь неожиданной встрече.
В управлении меня долго расспрашивали о Краснодаре. Все были удивлены, что в УИТУ нет вакансий. Мне же предложили на выбор несколько должностей в системе исправительно-трудовых учреждений, но мне ещё нужна была квартира, поэтому я согласился поехать с Палкиным в Новоорловск.
— Когда поедем? — спросил я Дмитрия Ильича.
— Да вот сейчас и поедем. Я передаю колонию майору Иванову Юрию Григорьевичу. Ты, Юра, его знаешь. Он в Падь-Сахе с твоим отцом служил. Так что встретишься со многими. И подружка твоя Людмила, дочь полковника Шаврина, тоже в колонии работает. Сейчас заедем к отцу в полк. Он нас покормит, и — в путь. К вечеру будем в Орловке.
Палкин был в хорошем настроении. Они с отцом хорошо выпили, и Дмитрий Ильич всю дорогу шутил, рассказывал анекдоты…
Когда проехали окружной центр Агинское, наш ГАЗ-69 запылил по гравийной дороге, которая проходила вдоль небольшой речушки. Переехав мост, шофёр свернул с гравийки в сторону леса, и машина запетляла по лесной дороге. Запахло таёжными ароматами. Когда-то в детстве я много раз с отцом ездил по таким дорогам, поэтому с нетерпением ждал встречи с таёжным посёлком, но неожиданно в распадке двух сопок увидел несколько пятиэтажек, озарённых заходящим солнцем. Дома сверкали на солнце множеством окон. Сопка, освещённая солнцем, вся пестрела цветами — их было такое множество: красных, жёлтых, синих и белых, и разбросаны они были по зелёному фону в таком живописном беспорядке, что сопка казалась нарядной, словно кто-то нарисовал живые узоры.
— Красота, — невольно вырвалось у меня после долгого молчания.
— Это ещё не всё. Тормозни-ка у источника, водички испить, — приказал полковник солдатику.
Машина остановилась, и Палкин тяжело вышел, разминая затёкшие ноги, направился к источнику. Он, опираясь на деревянный сруб, зачерпнул кружку прозрачной воды и подал её мне.
— Пей, Юра, и благодари Бога, что я тебя сюда привёз. Вижу, тебе здесь понравится.
Я начал пить холодную, искрящуюся воду, наслаждаясь её вкусом. Вода была сильно газированной и отдавалась содой.
— Рядом с нашим домом есть ещё один минеральный источник — тот после похмелья хорош. Идёшь утром на работу, голова болит, кружку минеральной воды выпьешь — и боль как рукой снимет, — рассказывал мне Дмитрий Ильич о достопримечательностях Новоорловска.
Мне очень понравилось в этом строящемся городе. Здесь было много интересного. Во-первых, строилась обогатительная фабрика по добыче тантала — третья в мире. Одна в Китае, вторая в Эстонии и третья, российская, в посёлке Орловский, которая добывала тантал в малом количестве. Политическая и экономическая обстановка складывались так, что в стране не стало электрических лампочек и других нагревательных приборов. Партия и правительство решили строить фабрику на месте залегания руды.
Размеры строительства поражали. Достаточно сказать, что с верхней точки обозревался весь Агинский национальный округ, а по ступенчатой кровле разъезжали «Белазы» как по проспекту — можно без труда представить себе масштабы строительства.
Конечно, хотелось быстрее сообщить жене, что я получил назначение и квартиру — двухкомнатную на третьем этаже, которую мне сразу показали. Пока шло оформление на службу в органы внутренних дел, я жил у родителей, ожидая Ларису с Андреем и подписания приказа.
Стояла сухая, жаркая погода. Полтора месяца не было дождей. В воздухе висела пыль, и от неё голубое небо выглядело серым. Лариса с Андреем прилетела накануне своего дня рождения, и для неё новое место жительства было дорогим подарком.
Правда, два месяца мы жили в штабе. Старший лейтенант Капанин ждал приказа о переводе на другое место службы и не освобождал квартиру, а потом ещё был ремонт. Обставили квартиру мебелью, присланной из Краснодара — по тем временам шикарной. Ларису назначили начальником медико-санитарной части, а меня — начальником отряда, вместо Капанина.
Мне нравился мой кабинет, обставленный пышной растительностью, за которой любовно ухаживал мой завхоз. Я засиживался в кабинете до позднего вечера для индивидуального знакомства с осуждёнными моего отряда. А по утрам, отправив осуждённых на объект работы, изучал личные дела, одно из которых меня заинтересовало.
Это был бывший «вор в законе», осуждённый Сурин. Нельзя сказать, что «воры в законе» держали зоны, как в пятидесятых годах — им дали хороший урок, физически уничтожив «паханов», хотя эта акция была незаконной, зато эффективной. До конца семидесятых зонами управляла администрация, а не авторитеты.
Его личное дело украшала красная полоса, проведённая по диагонали. Это означало склонность к побегу. Хотя сила и власть были у администрации, с ними как бы сотрудничали, и через них узнавали многие секреты.
Придя в кабинет, я вызвал к себе завхоза и приказал пригласить на беседу осуждённого Сурина.
— Извините, гражданин начальник, можно я вам дам совет? — запинаясь, сказал мне завхоз.
— Пожалуйста, — одобрил я.
— Вам к нему лучше подойти самому, для вашей же пользы, — загадочно убеждал меня завхоз.
Я не стал возражать и на следующий день, обходя помещения отряда, зашёл в небольшую чистую секцию, примыкавшую к моему кабинету. В дальнем углу на кровати лежал человек, на подоконниках стояли горшки с цветущей геранью. Когда я приблизился, он встал, поздоровался, с любопытством меня рассматривая.
— Помню, помню. Как же, похож на отца. Я же его давно знаю. Толковый начальник, его на зонах уважают. И тебя… извините, Вас вот таким помню. — Он показал рукой, держа её чуть выше метра от пола. — Присядьте вот на эту кровать, на ней никто не спит, — он кинул на кровать светлый коврик, приглашая к беседе.
Осторожно присев, я задал ему вопрос, чуть поперхнувшись:
— Вы, Сурин, почему не на работе? Это нарушение режима. Вы же знаете, что отказчиков от работы строго наказывают.
— Я, гражданин начальник, когда холодно, на объект не выхожу, — он сделал ударение на слово «объект», показывая мне, что не на работу, потому что он никогда не работал и работать не будет, а на объект выходит ради разнообразия и прогулки — и только в хорошую погоду. — Но у меня есть освобождение, ваша жена дала.
Он лукаво посмотрел на меня, ничуть не смущаясь; на его лице играла, знакомая мне с детства, лукавая улыбка.
Я помнил многое: и парикмахера Шапиро, и самого Сурина, и закройщика в швейной мастерской, который шил для меня габардиновый костюм к школе. Я помнил свои стрижки и запах дорогого одеколона, который они тщательно прятали и, явно выдавая себя, не жалели для меня, мальчишки, этого маленького мирка с воли. Они были благодарны моему отцу, потому что он один доверял меня зэкам. До него и после никто больше этого не делал.
— Вы, гражданин начальник, не волнуйтесь, в нашем отряде всё будет на мази, и теперь ни один лишний волосок не упадёт с вашей головы, если вы, как отец, будете справедливы. Мы все будем вам помогать, — весело улыбаясь и показывая ряд золотых зубов, заключил он нашу короткую беседу.
23 февраля 1974 года на торжественном собрании, посвящённом Дню Советской Армии и Военно-морского флота, был зачитан приказ министра внутренних дел СССР о присвоении мне звания «младший лейтенант внутренней службы». А вечером, по неписанному закону, все офицеры подразделения ЯГ-14/11 собрались в нашей квартире, чтобы обмыть первую офицерскую звёздочку, которую опустили в мой хрустальный бокал.
Итак, я стал офицером. Форму очень любил и носил её с гордостью — она шла мне, я казался выше ростом, подтянутым, строгим. За мои деловые качества меня уважали и даже любили.
Моим другом стал замполит Иванов Владимир Кириллович — он, уходя в отпуск, всегда оставлял меня за себя. Меня даже прозвали «замзама», а вместе нас называли Кирилл и Мефодий.
В один из выходных дней в нашей квартире раздался резкий, продолжительный звонок в дверь. Я подумал: «тревога», и сразу открыл. На площадке стоял офицер в полевой форме, рукава мундира были закатаны по локоть, кобура с пистолетом сдвинута к пряжке ремня. За его спиной стоял ещё один офицер с погонами капитана и автоматом на плече. Сразу, поняв, что это Прохоров, я захлопнул дверь.
— Лариса, там за дверью Прохоров, что делать? — шёпотом спросил я взволнованную жену. — Выйди, поговори с ним спокойно, от него можно ожидать всё что угодно, — сказала Лариса, вытирая полотенцем руки.
Накинув военную рубашку с погонами, я вышел на площадку.
— Где Лариса? — спросил с вызовом Прохоров и, не ожидая ответа, без какого-либо вступления начал говорить:
— Я по поводу алиментов. Вы собираетесь или нет усыновлять моего сына? Думаете, я буду платить алименты? Не выйдет! Где Андрей?
Стараясь быть спокойным, я объяснил ему, что мальчишку сейчас лучше не травмировать: он уже привык, называет меня папой, не знает, что у него другой отец. Здесь, в садике, он на нашей фамилии, а когда пойдёт в школу — объясним, что у него другая фамилия. Алименты идут на его книжку. Когда вырастет, распорядится ими сам.
Напряжение нарастало с каждой минутой. Дверь подъезда хлопнула, и я услышал тяжёлые шаги — на площадку третьего этажа, тяжело дыша, поднимался старший лейтенант Туранов. Его огромная, внушительная фигура застыла за спиной Прохорова.
— Какие проблемы? Вы что-то хотели узнать, товарищи офицеры?
— Всё, уже поговорили, — доложил я.
— Юра, иди домой, Лариса переживает, а я сам провожу ваших гостей, — отрывисто приказал Туранов и почти запихнул меня в квартиру.
Лариса рассказала мне, что, увидев в глазок пистолет, очень испугалась и позвонила Туранову.
В июле нам дали отпуск, и мы, взяв с собой Андрея, полетели в Краснодар. Появившись перед родителями Ларисы в парадном мундире с золотыми погонами, я, конечно, их изумил. Ещё год назад им это казалось детским лепетом. Я вспоминал грустные глаза моего тестя, которые сейчас светились радостным блеском. Он был искренне рад за нас обоих, расспрашивал про службу, наши бытовые условия, удивлялся, что у нас есть газ, горячая вода, отопление. В качестве подарка он отправил нас на свою базу в Кабардинку.
Отдохнув три недели и вернувшись в Краснодар, мы с Ларисой бродили по городу, пили холодное вино, любовались парком Горького с его жёлтыми песчаными дорожками и почти дикими зарослями. Я отдыхал душой, удовлетворённый своими достижениями.
И вот мы летим домой. В иллюминаторе я увидел Яблоновый хребет и за ним вскоре — родной город, освещённый первыми лучами восходящего солнца. Улицы города пестрели уже жёлтыми деревьями, кое-где курчавились сизые дымки. На зеркальной глади Кенона отражались прибрежные кусты и проплывающие над озером белые, как вата, облака. Из моей груди вырвался визг. Я всегда, приезжая или прилетая в Читу, испытываю эту собачью радость, потому что здесь мой дом. Это моя малая Родина.
Рождение дочери
Прошло два с лишним года. Мы жили в Новоорловске и уже полюбили этот райский уголок в Агинской степи — за природу, за красоту экспериментального городка. Зима в тот год наступила раньше обычного: снега выпало много, и морозы стояли суровые. 1975 год встречали дома. Лариса была на последнем месяце беременности, и я очень переживал за неё, помогал во всём, чаще бывал дома, постоянно звонил. Дежурных по роте и по колонии держал в готовности, чтобы они могли без промедления прислать машину. Лариса успокаивала меня и решила лечь в больницу чуть раньше. 23 января, ранним морозным утром, её увезли в Агинское — там была окружная больница. А через два дня меня разбудил резкий телефонный звонок:
— Юрка! Хватит дрыхнуть — у тебя родилась дочка! Быстро одевайся, я уже отправил тебе машину! — голос Сашки Гранина звенел, как будто это у него родилась дочка.
Над лесом стоял морозный туман, сквозь него тускло пробивалось зимнее восходящее солнце. Машина неслась по ровной снежной дороге. Скорость не пугала меня — какая-то сила несла вперёд, сердце клокотало где-то в горле, оно рвалось навстречу крохотному существу, появившемуся сегодня на свет.
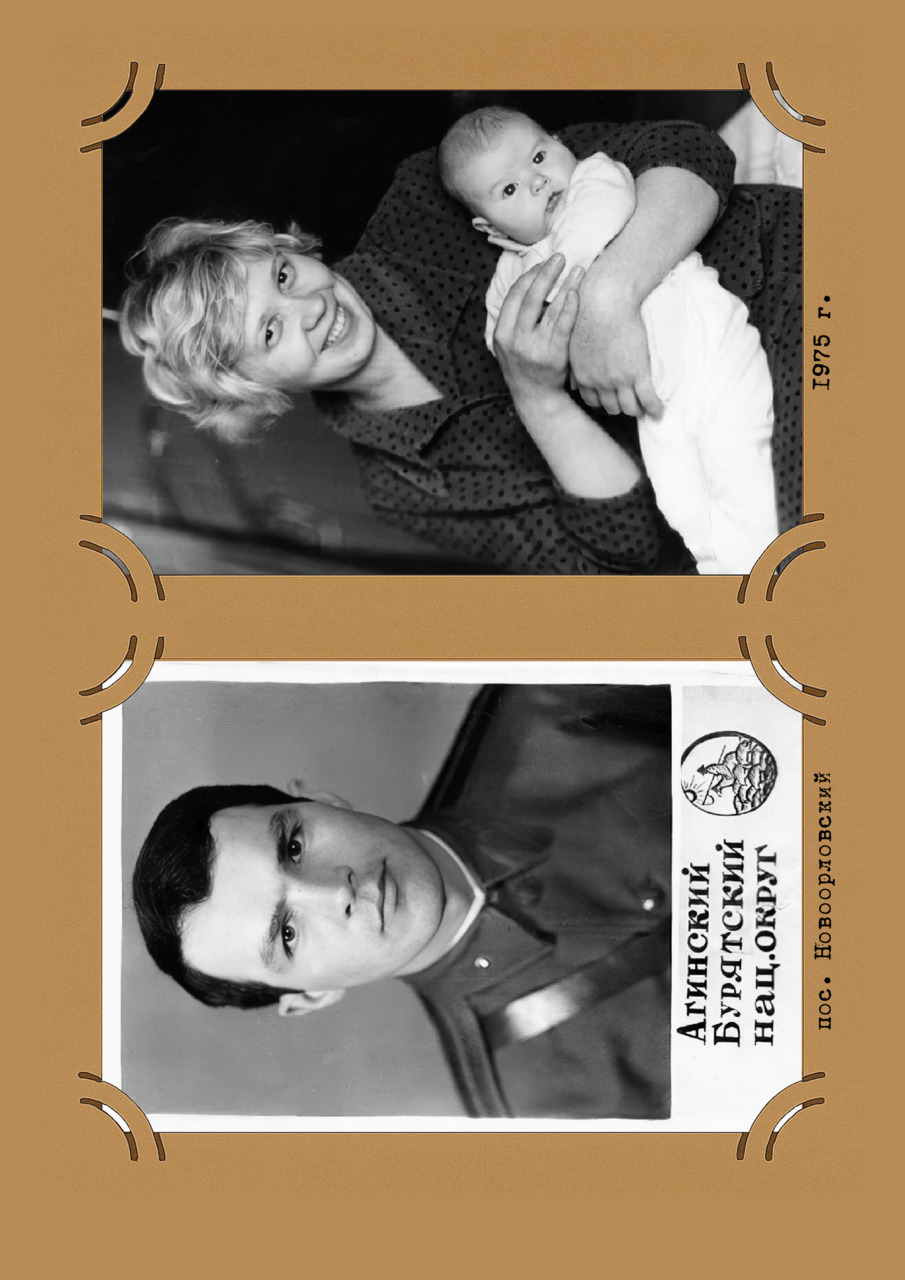
В расстёгнутом полушубке, весь в клубах морозного пара, я мчался по коридору в сторону родильной палаты. За мной бежала, пытаясь остановить, пожилая санитарка.
— Ой, батюшки-светы! Да что же это такое! Остановите этого сумасшедшего! Шубу хоть сыми! — Эти слова я запомнил навсегда. В них не было злости — каждый тембр её голоса напоминал радостную мелодию, давая понять: с женой и дочкой всё в порядке.
Сбросив на ходу полушубок на руки этой санитарки, я обнял её и поцеловал.
— Да вот же она! — добродушно сказала она, указывая на каталку.
Я увидел Ларису — бледную, но счастливую. Она улыбалась одними глазами.
— Ты как здесь оказался? — едва шевеля губами, спросила она.
— Дочка где? Покажите мне дочку! — взволнованно кричал я, держась за горячую руку жены.
— Иди, сынок, на улицу — тебе её в окно покажут, — сказала санитарка, набрасывая на меня полушубок. — Сумасшедший он у вас… Значит, любит, — заключила она, уже обращаясь к Ларисе.
Выбежав на улицу и обогнув здание больницы, я стал искать глазами окно. В одном из них увидел знакомое лицо — Лариса показала на соседнее.
С трудом влез на цокольный выступ, постучал по замершему стеклу. Меня увидела девушка в белом халате и, улыбнувшись, взяла со стола маленький свёрток. Чуть наклонив, показала мне.
Я увидел маленькое припухшее личико с заплывшими глазками.
— Неужели это существо — моя родная дочка, моя кровиночка… — подумал я почему-то мамиными словами.
Ящик с шампанским открыли прямо в автобусе, по пути из штаба на обед. А вечером все собрались у нас в квартире — отметить радостное событие.
Маша Кеменова и Людмила Шаврина хлопотали на кухне, готовили закуску. Народу было — полон дом. Поздравляли, обнимали, пили не только шампанское… Утром, собирая Андрея в детский сад, я с удивлением обнаружил гору пустых водочных бутылок.
В этот момент в дверь позвонили. Я удивился, увидев на пороге Анну Михайловну Волкову.
— Юра, извини за ранний визит, — торопливо заговорила она. — Но я пришла за шарфиком, который, возможно, Наташа оставила у вас вчера вечером. А то Лариса приедет — могут быть неприятности…
Говорила она так быстро, что я не сразу понял, о чём речь. Честно говоря, я вообще с трудом вспоминал, кто был у меня вчера.
— Разреши, я всё-таки посмотрю, пока ты одеваешь сына, — не дожидаясь ответа, она юркнула в прихожую, быстро перебрала пальто и шубы, выудила злополучный шарф — и, извившись, поспешно убежала.
Два дня я чистил и наводил порядок в квартире, ожидая жену с дочкой домой. Начиналась новая веха нашей жизни…
Знакомство со «Сталиным»
Служба захватила меня целиком — я растворился в ней полностью и, казалось, только этим и жил.
Начальника нашей колонии перевели в областное УВД, а на должность начальника ИТК-11 назначили майора Шагербаева из Приморского УВД. Нас поразило его внешнее сходство со Сталиным. Он это знал — и сознательно подражал «отцу народов» во всём: говорил с акцентом, курил трубку, не вынимая её изо рта.
В это время я исполнял обязанности замполита. Владимира Кирилловича, моего непосредственного начальника, на момент вступления нового начальника в должность не было — он был на сессии. Учился уже тринадцатый год и часто шутил:
— Первые десять лет тяжело, а потом привыкаешь.
Шагербаев с первых дней вёл меня за собой повсюду: на совещания в стройуправление, в окружком, в окрисполком. Я выступал вместо него — пока лучше знал положение дел на стройке и умел говорить с присущей мне эмоциональностью, что нередко определяло нашу «победу» в спорах и обсуждениях.
В своём кабинете Шагербаев повесил портрет Сталина над головой, а портрет Ленина — над дверью. Его не все замечали: выходили из кабинета, понурив головы. Об этом вскоре узнал начальник политотдела, полковник Власов — и позвонил мне.
— Как ты это допустил? Ведь это же антиполитично! Ты что, ему сказать не можешь? — рычал в трубку полковник.
— Как он это объясняет? Ты его спрашивал? — продолжал возмущаться Власов.
— Да у него не только портрет Сталина, у него весь книжный шкаф забит полным собранием сочинений Сталина, — тоже раздражённо доложил я Власову.
— А по поводу портрета над столом он мне пояснил, что каждый входящий в его кабинет должен, увидев портрет Сталина, понимать: служба — это серьёзно, и за нарушения устава будут спрашивать строго. Портрет Ленина у него перед глазами потому, что он — учитель и вождь. Я не смог ему возразить, не нашёл аргументов, — пояснил я начальнику политотдела и замолчал, не кладя трубку.
Власов тоже молчал, я слышал его дыхание — видимо, соображал, что предпринять по этому поводу. Ничего не придумав, заключил:
— Ты с ним не очень говори о политике, я ему сам всё объясню. Или подождём Владимира Кирилловича.
Время шло, отряд, которым я командовал, уверенно занимал первое место в соревновании. Я первым ввёл вологодский метод работы с осуждёнными и получил грамоту МВД за достижение высоких показателей в выполнении социалистических обязательств.
Однажды, сопровождая колонну осуждённых, мне пришлось превысить полномочия, предотвратив нападение на охрану. Вырвав автомат у солдата, я дал очередь вверх и положил осуждённых на дорогу лицом вниз. Затем, приказав отконвоировать нарушителей в штрафной изолятор, разрешил начальнику караула продолжать движение к объекту работы.
На следующий день оперативные работники доложили в ОИТУ УВД о происшествии и не разрешили мне заходить в зону в целях моей безопасности. В колонию приехал начальник ОИТУ УВД полковник Кристалинский, который принял решение ходатайствовать перед начальником УВД о моём переводе на другое место службы.
Перевод на равноценную должность означал наказание, но так как я проявил находчивость, меня решили перевести с повышением — на должность старшего инженера собственного производства лечебно-трудового профилактория.
В ноябре 1976 года был подписан приказ начальника УВД Читинского облисполкома.
Я, конечно, возмущался: как это — политработника назначать старшим инженером? Я и станков ни разу не видел, меня директор производства не поймёт.
Представлять меня коллективу поехал начальник производственного отдела, подполковник Бурдуковский. В купе мы были одни, и я пытался убедить его поговорить с Кристалинским об аннулировании приказа, хотя прекрасно понимал — это практически невозможно.
Посёлок Линево Озеро встречал нас ясной морозной погодой. На станции нас встретил сам директор производства на ГАЗ-69. Дорога петляла по заснеженному лесу. Снег был такой белизны, что от него слепило глаза. Над посёлковыми домами стояли столбы белого дыма, подпирающие голубое небо.
Говорить о работе не хотелось, но я всё-таки убедил директора поговорить с начальником ЛТП и отпустить меня в УВД — на приём к генералу Щелканову. После дружеской беседы я вернулся в Читу один, без подполковника Бурдуковского.
В приёмной начальника УВД, предварительно записавшись у секретаря, я ожидал вызова. Вдруг в приёмную вбежал Кристалинский. Он, гневно взглянув на меня, попросил разрешения войти в кабинет и скрылся за дверью. Я понял — ему доложили о моём возвращении, и он решил форсировать события сам.
Ждать приёма пришлось довольно долго. Через какое-то время в кабинет вызвали полковников Палкина и Власова — они, погрозив мне, исчезли за дверью кабинета.
Наконец начальник УВД подписал новый приказ о моём назначении на должность начальника отряда ИТК-2, отменив свой же приказ №314 по личному составу.
Оленгуйская ИТК-2 дислоцировалась в посёлке Шара-Горохон, где проходил службу мой отец. Здесь же жил мой друг Кириллович, которого тоже перевели на должность директора производства. Продолжал службу и друг моего отца Собиров — в доме у него я и остановился. После смерти жены он жил один.
Через две недели я решил снова штурмовать кабинет начальника УВД и просить перевода на прежнее место службы в ИТК-11, где жила жена с двумя детьми. Решил: если откажут — подам рапорт об увольнении из органов.
Приехав в Читу, встретил Палкина. Он жил в соседнем доме, и долго оставаться незамеченным было невозможно.
Разговор в кабинете Кристалинского был долгим и всё время срывался на крик. Я клал рапорт на стол — Кристалинский его сбрасывал. Затем позвонил Шагербаеву и попросил пригласить к телефону Ларису Павловну. Услышав её отказ переезжать в ИТК-2, начальник нервно забарабанил пальцами по столу.
— Ты понимаешь, что я скажу генералу? — Кристалинский говорил, не глядя на меня. — «Отмените приказ, мы ошиблись с переводом, потому что этот пацан не желает выполнять приказы»? Уволить тебя тоже невозможно — месяц назад писали представление на награду… Он замолчал, задумчиво глядя в окно. Все молчали, утомлённые долгим разговором.
— Надо позвонить Шагербаеву. Пусть он решает, — сказал Палкин, нарушив затянувшуюся тишину.
— Вот сам и звони, — буркнул Кристалинский, выходя из-за стола.
Вскоре после незначительных, приветственных фраз мы услышали спокойный голос с кавказским акцентом:
— Мне товарищ Полуполтинных здесь очень нужен. Я гарантирую ему безопасность. Только у меня нет свободных вакансий — нужно ввести дополнительную должность в штатное расписание. — Он делал ударения на последний слог, почти каждого слова, от чего слова принимали весомое значение и звучали убедительно.
Кристалинский встал и, не сказав ни слова, вышел из кабинета. Прошло около получаса. Он вернулся с новым приказом в руках. Вручив его мне, сухо произнёс:
— Это в последний раз. Возвращайся. И чтобы я тебя больше здесь не видел.
Партийное задание
Риск работы в колонии, конечно, был. Шагербаев поручил мне заниматься вопросами, связанными со строительством, хотя специально для меня была введена должность инструктора политчасти.
На одной из планёрок присутствовал первый секретарь окружкома КПСС Намдаков. Он довёл до присутствующих стратегическую задачу, поставленную партией и правительством, — о сокращении сроков строительства.
Потребовалось срочно вводить в строй вспомогательные объекты, важнейшим из которых был объект «Склады». Намдаков просил уделить этому направлению особое внимание и предложил назначить меня главным координатором — с предоставлением машины и дополнительных полномочий.
Я взялся за это дело незамедлительно. Во-первых, мне нужен был авторитетный человек из числа осуждённых, который мог бы возглавить бригаду строителей. И, конечно, это был Сурин — но он отбывал наказание в ПКТ за инцидент на дороге, связанный с моим участием. Оперативники посчитали его виновным и посадили в ПКТ на шесть месяцев. До освобождения оставалось два месяца, но я настоял, чтобы его освободили.
Сурин охотно взялся за выполнение поставленной задачи — формирование строительной бригады, половину которой пришлось досрочно освободить из ПКТ. Работа закипела. У нас была чёткая договорённость: беспрекословная дисциплина и, кроме чая, никаких спиртных напитков.
Кроме того, Сурин пользовался телефоном, который ему без возражений подавали в окно начальники караулов с КПП.
Однажды он срочно вызвал меня прямо с совещания. Сурин ждал меня в тамбуре КПП.
— ЧП! — сказал он интригующе. — На объекте водка. Пять бутылок у меня в каптёрке. Если не изъять, могут выпить, — скороговоркой, задыхаясь, выпалил Сурин и, уже на улице, громко говорил о проблеме цемента, который действительно не завезли, как обещали ещё вчера.
Пройдя по стройке, и осмотрев пустые цементные ёмкости, я попросил Сурина, угостить меня чаем. Он стал отказывать, потому что за нами как привязанные ходили несколько человек его приближённых, они знаками показывали ему не задерживать меня. Не обращая внимания на возражения, я направился в прорабку. Сурин следовал за мной. Закрыв за нами дверь, он кинул перчатки на холодную печь, показав мне, где водка. Надо было теперь найти повод изъять её. Дверь открылась, и на пороге появился один из его приближённых с электрической плиткой.
— Э, нет, я хочу с дымком. Мне дома надоело на газовой печке чай кипятить. Дайте мне самому заняться растопкой, — и, не давая им возразить, открыл дверцу печи, начал шуровать поленьями.
— Стоп. Там что-то есть, — ткнув с силой поленом, услышал характерный звон и, не обращая внимания на осуждённых, вынул пакет с бутылками.
Дальше всё происходило стремительно. Сурин что-то кричал, кто-то пытался оправдываться, а я уже стоял у шлагбаума под прикрытием караула. Не говоря ни слова, я ударил пакетом о железную трубу. Водка брызнула на шинель и сапоги, а на снегу растеклась искрящаяся на солнце лужица.
Позади послышался чей-то стон. Не оборачиваясь, я пересёк КПП и вышел.
По оперативным данным, моё пребывание в колонии вызывало опасения. Было принято решение направить меня на учёбу в Ленинградское высшее военно-политическое училище МВД СССР.
Однако принимали туда только членов КПСС или кандидатов в члены партии. Получив три рекомендации от старших товарищей, в мае 1976 года я стал кандидатом в партию, чем очень гордился.
Перед вылетом в Ленинград меня лично инструктировал начальник политотдела полковник Власов. Артём Евстафьевич просил меня найти и познакомиться с выпускником ВВПУ капитаном Федорасом Сергеем Васильевичем и убедить его попросить направление в УВД Читинского облисполкома, сориентировав на Новоорловск. Там он должен был занять мою квартиру, а я — его в Ленинграде.
Ленинград встретил меня сезоном белых ночей. Я впервые увидел это явление природы и осознал поэтические строки великого поэта:
«ОДНА ЗАРЯ СМЕНИТЬ ДРУГУЮ, СПЕШИТ, ДАВ НОЧИ ПОЛЧАСА».
Красиво, но холодно и сыро. Гуляя по городу, я постоянно одевал плащ-накидку — в ней было теплее, и руки можно было держать в карманах брюк, так что патруль не замечал нарушения устава.
С Федорасом я, конечно, познакомился, и не только с ним, но и с его семьёй — женой Галиной и сыном Виталиком. Они стали моими экскурсоводами и гидами. По выходным наши культпоходы длились по восемь, десять часов. Усталые, мы ужинали в их небольшой квартирке, пристроенной на четвёртом этаже лестничного марша, высокой, но удобной, с маленькой кухней и ванной комнатой, затем они провожали меня на такси.
Я на всю жизнь запомнил исторические сооружения и сейчас без труда узнаю их в художественных фильмах.
Учиться предстояло четыре года, и все офицеры решали проблемы трудоустройства своих жён и местожительства. В УВД города мне сказали, что жену примут на работу только в качестве вольнонаёмного врача, но ни в коем случае речи о переводе её на аттестованную должность быть не может. Я понял, что не жить мне в этом прекрасном «городе на Неве», который так и называли на Западе. Слушая зарубежное радио, мы услышали сообщение: «В городе на Неве проведён очередной выпуск офицеров полевой жандармерии». Вот, оказывается, кем я был — «офицером полевой жандармерии».
В решении вопроса о возвращении домой сыграла телеграмма от Ларисы: «У Наташи заглоточный абсцесс. Срочно везу в Читу на операцию». Это подтолкнуло меня к действию. Я написал рапорт о направлении на прежнее место службы и, получив проездные документы, помчался в Пулково — на самолёт.
Чита, как и прежде, приветливо встречала меня. Радостно сверкал на солнце Кенон, над головой простилалось голубое небо, какого я не видел в Ленинграде почти месяц. Я знал, что моё возвращение вызовет негодование у руководства. Единственным утешением была весть о том, что я выполнил задание, и уговорил капитана Федораса получить направление в распоряжение УВД Читинского облисполкома. Его назначили заместителем начальника колонии по политико-воспитательной работе с осуждёнными, а я стал его заместителем, в качестве инструктора по ПВР.
Наша дружба крепла, Сергей был моим наставником во всём, даже в семейных отношениях, потому что наши жёны стали подругами. Мы отмечали вместе все государственные и семейные праздники, в число которых входила и Пасха. Общение доставляло нам удовольствие, мы веселились, как умели, пели украинские песни, рассказывали анекдоты, шутили. Федорасу нравилось в Новоорловске, у него была хорошая четырёхкомнатная квартира в пятиэтажном доме, весь первый этаж которого занимал промтоварный магазин. Он с удовольствием строил дачный домик своими руками. Мне нравилось, как они с Галиной тщательно обрабатывали свой земельный участок — ровно лопата к лопате вскапывали землю под картошку. Я же делал всё наспех, трактором пахали мне землю, не ровно, какими то кривыми закруглёнными бороздами, которые я не ровнял, а прямо в них кидал картошку, и потом не окучивал и не пропалывал. Сергей с Галей только шутили. А урожай у нас был таким же, как и у них. По двадцать мешков накапывали картошки и съедали её за долгую зиму. Для строительства дачного домика, пиломатериал мне привёз командир взвода с солдатами. Он отказывался, но командир батальона, подполковник Пилипенко, приказал. Кеменов возмущался вечером за столом у нас на кухне. Они с Машей жили с нами на одной площадке, и мы часто выпивали вместе.
— Что это командир так о тебе заботится? Солдат дал и заставил доски доставить на твою дачу. Мне своей нет времени заниматься — на службе днём и ночью, а я на твою дачу должен доски возить, да ещё приказал сложить аккуратно, — жуя всё время, говорил незло Кеменов.
— Что ты всё жуёшь? — спросил я пьяным голосом Мишку.
— Да, блин, колбаса жёсткая попалась. Так, причём здесь командир? — без перехода допытывался он, продолжая жевать.

— Отец попросил его, когда Пилипенко в полку был, обедали вместе у отца в столовой. Говорит, в отпуске буду, поеду строить сыну дачный домик, а то он никогда не построит.
— Нам с этой службой, конечно, нет времени дачами заниматься, пусть бабы в земле роются. — Согласился со мной Мишка, дожёвывая колбасу.
Папа с Сашей, действительно, вскоре приехали в Новоорловск. Погостив сутки, он принялся за дело. Поставил на дачном участке палатку, забрал с собой Сашу и Андрея, начал строить домик. Вечерами мы с Ларисой навещали их, приносили продукты. Беседовали подолгу у костра, прихлёбывая крепкий, с молоком, чай. Отец с довольным видом посматривал на мальчишек, хвалил их за помощь.
В воскресенье мы пришли помогать в окончании работы. Унылый участок словно переродился. Домик весело смотрел на улицу стёклами небольших окон. С южной стороны ограды на врытых в землю столбиках были скамейки. Работа ещё кипела. Отец уже закончил крыть крышу, и сегодня по тёмному от пота желобку на военной рубашке я понял — сделал немало. Саша с Андреем складывали в ящик у ограды обрезки досок, брёвен, щепки и даже стружки. Папа любил порядок во всем и требовал это от нас.
— Ну как, ребята, вид? — весело спросил отец, подойдя к нам. — Хорошо, шибко хорошо! — сам же и ответил на свой вопрос.
Уже закатилось солнце, в воздухе повеяло вечерней прохладой, но никто не хотел уходить, мы ещё долго любовались новым домиком.
Учеба в Москве
Служба шла своим чередом. Постепенно я овладевал навыками психологии и ораторского мастерства. Мне необходимо было продолжать учёбу, и поэтому Федорас, согласовав предложение с Власовым, решил отправить меня в Москву — в Институт повышения квалификации руководящих работников органов внутренних дел МВД СССР.
4 января 1979 года я, экипированный по уставу, улетел в Москву. Институт дислоцировался в полутора километрах от города Домодедово, окружённый со всех сторон лесом.
И вот опять — мистика. В одной группе со мной учился старший лейтенант Ярыгин, инструктор по ПВР одной из краснодарских колоний. А так как к тому времени я уже хорошо знал Краснодар (у родителей жены жил Андрей), я сдружился с Ярыгиным и рассказал ему об этом.
Мы с ним планировали в один из выходных дней слетать туда — билет был недорогим, стоил 28 рублей, а аэропорт находился рядом. Но Ярыгин в последний момент отказался лететь, а я один не решился.
За период учёбы в Москве мы многое повидали. Главным событием стало посещение Мавзолея В. И. Ленина. Весь наш курс — 480 человек — ввели в строй граждан, движущихся непрерывным потоком к мавзолею вождя.
В Александровском парке, перед Могилой Неизвестного Солдата, когда мы всей шеренгой поравнялись с ней, прозвучала команда: «Приставить ногу!». Нас построили колонной, а очередь пропустили вперёд. Четыре курсанта строевым шагом возложили цветы, все офицеры приняли «стойку смирно» и взяли под козырёк. Со стороны это выглядело очень торжественно и длилось не более десяти минут.
Затем общее движение колонны продолжилось по Красной площади. У Мавзолея церемониал с возложением венков повторился. Перед чёрными воротами, слева и справа, застыл караул Поста №1. Неожиданно появились два офицера с синими околышами — сотрудники КГБ. Они внимательно осматривали нас с ног до головы.
Спереди по цепочке передали команду: «Вынуть перчатки из карманов шинели и надеть их». Это касалось всех, даже гражданских, которые шли следом: в руках нельзя было держать ничего, а карманы не должны были оттопыриваться. Мавзолей охранялся от возможных террористических актов — Москва готовилась к Олимпийским играм.
После возвращения из Москвы мы с Ларисой стали думать о моём переводе в Краснодар. В апреле 1980 года я направил в Москву два рапорта о переводе. Главным аргументом, на который мы ссылались, было проживание сына Андрея в Краснодаре у родителей жены — по климатическим условиям ему было противопоказано жить в Сибири.
Из управления кадров в Москве пришёл ответ, в котором затребовали обоснование от врачей. Пришлось действовать решительно, подтверждая необходимость переезда медицинскими справками.
В марте 1981 года Лариса подала рапорт на увольнение из органов, чтобы дополнительно аргументировать мой перевод решением жены оставить службу. В апреле мы собрали контейнер для отправки вещей в Краснодар, и она улетела к родителям на юг.
Я оставался один в пустой квартире с мебелью, которая состояла из одной разваленной кровати и стола на кухне, на котором стоял неработающий телевизор «Горизонт». Возвращаясь с работы, я смотрел на тёмные окна нашей квартиры, вспоминая строчки из песни: «На третьем этаже квадратики огня — теперь они уже горят не для меня».
В пустой квартире я находиться не мог — всё напоминало о семье. Я отдал её лейтенанту Тарских, а сам перешёл в однокомнатную квартиру лейтенанта Дуброва. К этому времени Федораса тоже перевели в г. Нерчинск на должность начальника ВТК.
Наконец пришёл ответ из управления кадров МВД СССР с требованием направить моё личное дело в УВД Краснодарского крайисполкома. Мне оставалось лишь ждать вызова, но его всё не было. Пришлось взять кратковременный отпуск и полететь в Краснодар.
В УВД Краснодарского крайисполкома вопросами моего перевода занимался кадровик. Он знакомился с семьёй моей жены, осматривал квартиру. После изучения личного дела пришёл официальный ответ на рапорт: связи с Краснодаром не усматривается. Поэтому мне снова пришлось лететь с рапортом в Москву, в управление кадров МВД СССР. И вот — чудо! Сам бы я, наверное, никогда на это не решился, но какая-то сила будто подталкивала меня. Неожиданно для себя я попал на приём к самому Чурбанову.
Огромный кабинет поразил меня. Впечатлял и сам генерал-полковник Чурбанов. Его чёрные, набриолиненные волосы сверкали в лучах солнца. Лица я не видел — он сидел, наклонившись над документами. Не поднимая головы, каким-то резким, металлическим голосом он спросил:
— Что у вас?
Я сбивчиво начал объяснять ему ситуацию: рассказал о семье, о том, что кадровики УВД не усматривают оснований для моего перевода в Краснодар. Пояснил, что жена с детьми живёт в Краснодаре и работает в исполкоме.
Чурбанов протянул руку:
— Ваш рапорт.
Он крупно писал прямо на рапорте и, ставя точку, проткнул лист бумаги. Затем, не поднимая головы, передал его мне и сказал:
— Передайте секретарю.
Я вышел и прочитал его неразборчивый почерк на моём тексте: «Перевести в г. Краснодар или города Краснодарского края на равноценную должность».
Передав рапорт в канцелярию, я направился в аэропорт. Но билетов на ближайшие семь дней до Читы не было. Ехать поездом означало опоздать. Нужно было что-то предпринимать.
На читинский рейс №110 уже шла регистрация, я ждал, но свободных мест не оказалось. Рядом оформлялся рейс на Красноярск. По радио объявили, что на этот рейс есть свободные места. Я рванул в кассу, купил билет и пошёл на посадку. Самолёты стояли рядом. Около самолёта рейса №110 стоял человек в лётной форме. Его лицо показалось мне знакомым, я стал мучительно вспоминать, где и когда видел этого человека. И вдруг вспомнил, что когда-то в молодости я работал у него заправщиком на самолёте АН-2. Я сразу начал с вопроса:
— Лёша, привет! Ты меня узнаёшь?
Прошло больше десяти лет, он мог меня и не вспомнить. Я обратился к нему:
— Прошу помощи, мне нельзя опаздывать.
— Хорошо, — ответил он, — пойдём к командиру.
Мы поднялись по трапу в кабину самолёта, где лётчики уже готовились к полёту.
Лёша стал объяснять командиру:
— Командир, тут знакомый офицер, ему нужно в Читу. Билет у него на Красноярский рейс, но он всё равно опаздывает, нужно помочь.
— Нет. У нас перегруз, да и в Новосибирске топлива нет. Надолго застрянем. Уж, лучше ему в Красноярск лететь. Всё к Чите ближе. — Уверенно сказал тот, как бы оправдываясь.
Я спустился по трапу и направился к самолёту рейса Москва — Красноярск, но от него уже отогнали трап. Растерявшись, стоял с билетом в руке, не зная, что делать. Самолёт начал выруливать и медленно катился к взлётной полосе. Я не заметил, как ко мне подошёл бортинженер.
— Опоздал на свой рейс, — уныло сказал я потерянным голосом.
— Ничего, полетишь с нами в пилотской кабине. Будешь сидеть на стуле в нашем гардеробе. Войдёшь за мной и сразу налево за ширму. Понял? — Инструктировал меня Лёша.
Мы поднялись по трапу, который сразу же отошёл от самолёта. Я неуверенно шёл за ним, скрываясь за его спиной, войдя в кабину, нырнул за шторку. Сел на жёсткий стул. Слышно было щёлканье тумблеров, команды командира, чёткие ответы членов экипажа: — Второй готов? — Готов. — Выполнить рулёжку? — Готов. — Полоса? — Свободна. — Ветер? — 60 градусов с левого борта. — Форсаж — тысяча пятьсот оборотов. — Готов.»
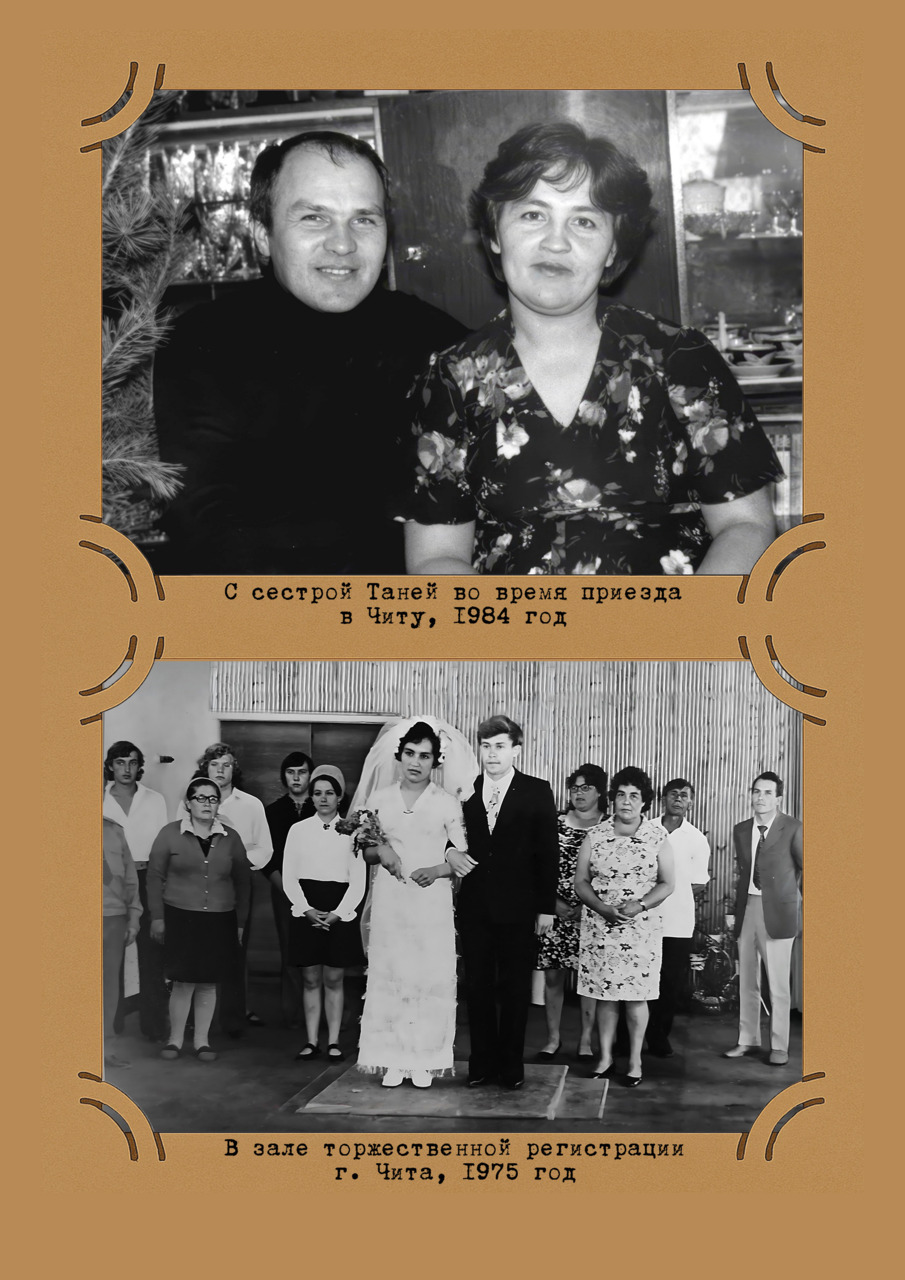
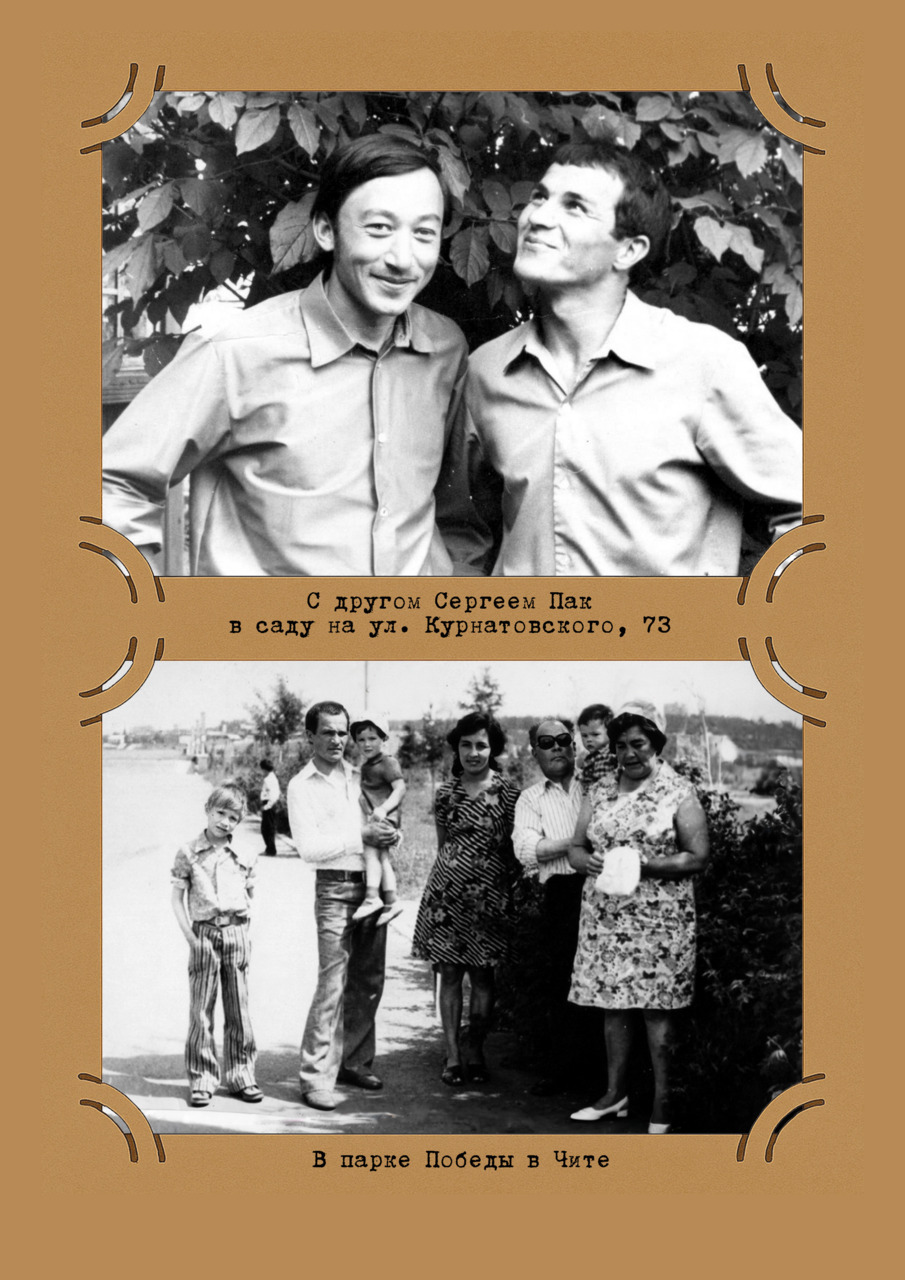
Самолёт задрожал, гудя турбинами, и резко рванулся вперёд, придавив меня к жёсткой спинке стула. Выглянув из-за шторки, я увидел красный диск заходящего солнца и стремительно надвигающиеся на нас облака. Мгновенно стемнело, и перед глазами открылось звёздное небо.
— Ну, что у тебя случилось, лейтенант? — после взлёта и долгой рабочей паузы раздался голос командира воздушного лайнера. Вопрос был адресован мне, но я не сразу понял, наивно полагая, что лечу незамеченным.
— Он опаздывает из отпуска, — ответил за меня бортинженер.
— Можешь открыть шторку, лейтенант, а то спрятался, как мышонок. Я же видел, как сто третий ушёл без тебя, а мы сибиряки своих земляков в беде не бросаем. Давай раздевайся, устраивайся удобнее, сейчас будем ужинать. Настенька, давай на пятерых, — по-хозяйски распорядился командир, и приказал второму пилоту:
— Включи автопилот. Ты, что ужинать не хочешь? — Его тон был доброжелательным, а голос добрым.
Ужин был обильным: курица, бульон в огромном кувшине, ещё всякая всячина, шоколад и фрукты.
— Так что случилось, лейтенант? — Повторил вопрос командир, после обильного ужина.
И я рассказал о переводе в Краснодар: как попал к Чурбанову и что опаздывать нельзя — могут затормозить перевод.
Перед Новосибирском радист связался с аэродромными службами, передав радио командиру.
— Ну, ты счастливчик, лейтенант. Нас заправят, а больше топлива нет. Будешь в Чите вовремя.
Только через месяц, в октябре 1981 года, получили приказ Министра внутренних дел: «Откомандировать старшего лейтенанта Полуполтинных Ю. М. в распоряжение УВД Краснодарского крайисполкома».
В УВД Краснодарского крайисполкома не понимали, почему рапорт подписан Чурбановым, а приказ — Министром внутренних дел Щёлоковым. Обычно все приказы по личному составу подписываются начальником управления кадров — генерал-полковником Чурбановым Ю. М. Я же ничего толком объяснить не мог, так как не понимал существа вопроса.
В краснодарских учреждениях не было свободных должностей инструктора политчасти, поэтому мне предложили должность инструктора по ПВР в ИТК-8 города Усть-Лабинска, расположенной в пятидесяти километрах от Краснодара. В ИТК-8 отбывали наказание осуждённые, больные туберкулёзом. С осуждёнными работали в основном проштрафившиеся офицеры, а начальник колонии, подполковник Лукашевич, был переведён с Камчатской области тоже за какие-то грехи. По стечению обстоятельств мне пришлось исполнять обязанности замполита. В моём подчинении находились восемь офицеров, шесть из которых — в звании майора. Один из них — капитан милиции — носил штатский костюм, другой — старший лейтенант, в прошлом фельдшер, недавно переведён на должность начальника отряда. Все — с ромбиками на засаленных мундирах. Меня особенно удивил старший лейтенант: его вид оставлял желать лучшего — изо рта уродливо торчал жёлтый зуб. Говорил он, почти не открывая рта, цедя слова сквозь зубы. Я приказал всем офицерам привести форму одежды в надлежащий вид и не позорить органы:
— А вам, товарищ старший лейтенант, может быть, удалить этот зуб?
— Пожалуйста! — не обидевшись, сказал он и, вынув его изо рта, показал мне. Все дружно рассмеялись.
— Это чеснок, Юрий Мефодьевич. Вам тоже советуем держать чеснок во рту — от палочки хорошая защита. А формы нужно иметь два комплекта: в одной работаете в зоне, другую надеваете домой, чтобы не подвергать опасности окружающих и родственников заражению туберкулёзом, — дал мне разъяснение бывший фельдшер.
Мне стало неловко. Я извинился перед офицерами и всё же попросил иметь опрятный вид.
В Усть-Лабинске располагался ОИТУ УИТУ УВД КК и дислоцировались пять учреждений, в одном из которых инструктором по ПВР был старший лейтенант Ярыгин — тот самый, с которым мы учились в Москве. В нашей колонии служил его брат — лейтенант Ярыгин. Мы, конечно, за столом многое вспоминали. Здесь тоже есть мистика, как ни странно.
Служба в Краснодаре
Да, работа в краснодарских колониях отличалась от службы в колониях Забайкалья. Условия содержания осуждённых были несколько мягче — и не только из-за климата. Например, ИТК-8 числилась как колония строгого режима, а условия содержания осуждённых были как в больничном учреждении. Осуждённых на утренних и вечерних проверках не строили на плацу, а считали по секциям в любую погоду. Мне вместе с командиром роты пришлось приучать их к построению на плацу — с усиленной охраной и пулемётом, выставленным на небольшом кургане за пределами зоны. Со мной соглашались и даже побаивались — видимо, слух о моём рапорте, подписанном Чурбановым, распространился за пределы отдела кадров УВД.
Ко Дню Советской Армии мне присвоили очередное звание — капитан, и наградили медалью «За безупречную службу». Мой тесть, прослуживший в армии тридцать лет, удивлялся: ему было невозможно представить, что на новом месте службы через четыре месяца присваивали очередные звания — у них это длилось по нескольку лет. Раньше я не задумывался, какой я человек: и в следственном изоляторе, и в орловской колонии всё получалось как бы само собой. Но, приехав сюда служить, я всё чаще стал задавать себе этот, как я понял, основной вопрос. Правду сказать, первое время я немного задавался, внешне этого не показывая, а про себя гордился больше, чем следовало: как-никак — капитан, политработник, медаленосец! Почему к моей персоне столько внимания? Меня по приказу Главка включили в комиссию по инспектированию колоний. Я был наделён оперативным мышлением, редкой способностью мгновенно оценивать обстановку. Я, определённо, родился политработником. Это была моя стихия, моё призвание. Я любил готовить отчёты, составлять планы, сводки — всё помнил, обо всём знал.
Взрослое чувство долга и ответственности пришло не сразу. Сначала для меня существовало только чёрное и белое, только «да» или «нет», «хорошо» или «плохо» — третьего не дано. Порой меня заносило, бросало, как говорится, на «дзоты», и это сказывалось на отношениях с подчинёнными. На одном из партийных собраний так разошёлся, что обвинил всех во взяточничестве. Все сидели понурые, никто не проронил ни слова. Меня слушали с вниманием — и с недоброжелательным интересом. Я увидел лицо майора Романова и на минуту сбился с мысли: так угрюмо он глядел. Это был единственный человек, который меня по-настоящему понимал и всегда помогал дельными советами. Он один не боялся меня — оставлял на столе очки, шариковую ручку и фуражку, исчезал куда-то, а потом возвращался с черными от орехов руками. И ничуть не стесняясь, уверял, что был в рабочей зоне.
Было уже поздно, когда я вышел к Кубани. После душной тесноты зала воздух у реки освежал прохладой. Я медленно шагал по берегу, обдумывая организацию своей работы и жизни в новых для меня условиях. Здесь не было друзей и товарищей, и все решения надо было учиться принимать самому. Вечером я иногда возвращался в гостиницу пешком, не спеша, потому что жил без семьи и меня никто не ждал. Утренняя прогулка была зарядкой, подготовкой нервов и мозга к рабочему дню. Я не позволял себе опаздывать на службу. Никто из сотрудников не видел меня раздражённым или взволнованным. Раздражение и волнение — элементы эмоциональные, а эмоциям не место в работе. Я учился тренировать свои нервы и добился того, что во всех трудных случаях владел собой.
Но время работало против меня. Я стал отдаляться от семьи, всё реже и реже появлялся в Краснодаре. На выходные ставил себя в график дежурств по ОИТУ города Усть-Лабинска и загружал себя работой, чтобы не скучать. Лариса звонила, ругала меня и требовала, чтобы я добивался перевода в Краснодар. Я отказался от квартиры в Усть-Лабинске и написал рапорт на перевод, хотя вопрос перевода уже был в стадии решения. Меня хотели перевести в политотдел главного управления исправительных учреждений, но я торопил события. В Управлении КГБ по Краснодарскому краю работал брат моего друга Бутина, который служил со мной в Новоорловске. И я с ним познакомился. На одну из наших встреч он попросил меня надеть новый мундир со всеми значками и наградами и, надев мундир с погонами подполковника и фуражку с синим околышем, повёз меня в ГУВД Краснодарского крайисполкома.
Чёрная «ВОЛГА» с правительственными номерами подкатила к парадному входу здания на Гаврилова, и некоторое время стояла с выключенным двигателем.
— Нас должны встретить, — спокойно сказал мне подполковник и закурил.
Из огромных дверей здания вышел лейтенант и бегом бросился к машине. Открыв дверцу, он представился:
— Вас ждут, товарищ подполковник. Прошу! — вскинув руку к козырьку фуражки, сказал дежурный офицер.
— Выходи из машины, капитан, и иди за мной, — сказал мне Юрий Михайлович и лёгкой походкой зашагал за дежурным офицером, спешившим открыть дверь кагебешнику. Я едва поспевал за ним.
У двери лифта нас ждал начальник отдела кадров — полковник Погодин.
— Здравия желаю, Юрий Михайлович, — он вопросительно взглянул на меня.
— Это мой родственник, — как-то обыденно бросил подполковник, и Погодин в полупоклоне протянул мне руку.
— Прошу! — Он указал рукой на кабину лифта и, войдя последним за нами, нажал на кнопку четвёртого этажа.
В кабинете они говорили о своих делах, мало понятных для меня, и в заключение Юрий Михайлович сказал, как бы между прочим:
— Надо капитана перебросить в Краснодар. Что он там без семьи живёт — найдите для него место. Да-да, уже всё решено. Ты, Юра, подготовь отчёты и передавай дела капитану Савенко. Я его с Белореченской ВТК в «восьмёрку» перевёл, приказы уже у начальника ГУВД на подписи, — необычно заговорил Погодин, относившийся ко мне с подозрением.
Вернувшись в Усть-Лабинск, я принялся за подготовку документов к передаче. На телефонные звонки не отвечал, слушал только радио. Вдруг слышу: «ВНИМАНИЕ! ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ БУДЕТ ПЕРЕДАНО ВАЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ».
Что это? Сразу почувствовалось волнение. В душе появилась тревога. Прибежал майор Романов:
— Юрий Мефодьевич! Ты слышал? — взволнованно говорил он, прикрывая рот ладонью.
— Слышал. Надо позвонить в политотдел.
В кабинет вошёл начальник колонии. Он молча прошёл и сел в моё кресло.
— У вас радио включено? — после паузы спросил он.
Только сейчас я услышал лёгкий гул в приёмнике. После сообщения радио просто молчало.
— Да, конечно, включено. Что это может быть? — задал я вопрос самому себе.
Раздался телефонный звонок, заставивший всех вздрогнуть. Я подошёл к столу и снял трубку. Услышал раздражённый голос начальника нашего главка — полковника Стовбы:
— Полуполтинных?
— Так точно, товарищ полковник.
— Ты радио слушаешь?
— Так точно.
— Что ты заладил «так точно», «так точно». Где Лукашевич?
— Здесь. У меня в кабинете.
— Никуда из кабинета не выходите. Радио на зону отключите — до особого распоряжения. Всё! — в трубке послышались гудки.
— Кто с вами говорил? — спросил Лукашевич.
— Стовба, — ответил я, продолжая держать трубку в руке.
— Вас спросил, и приказал ждать особых распоряжений.
Мы все понимали, что умер Генеральный секретарь КПСС, но вслух эту мысль никто не высказывал. Вот, оказывается, как нестабильна власть — в стране могут произойти перемены, как это уже случалось не раз. Сейчас мы это знаем, а в тот исторический момент все напряжённо ждали.
Голос Кирилова, сообщавший о смерти Брежнева по радио и телевидению, был неподдельно скорбным, и эта скорбь передавалась нам. У меня на столе зазвонил телефон. Было приказано всем свободным от службы офицерам к 16 часам собраться в клубе на митинг. Лукашевич ушёл отдавать соответствующие распоряжения, а я поехал в гостиницу, чтобы вывести на митинг всех проживающих там офицеров.
К назначенному времени к клубу стали подъезжать машины и автобусы. Из Краснодара приехал начальник политотдела. Надо было подтягиваться и нам. Многие постояльцы гостиницы уже ушли, я вышел последним с женщинами в офицерских погонах. Чтобы разрядить обстановку, приказал с шутливой интонацией построиться в две шеренги. И сам, возглавляя колонну из десятка женщин, зашагал к клубу, не оборачиваясь.
— Что это за цирк вы устраиваете, капитан? — раздался зычный голос начальника ОИТУ. Я обернулся и увидел, что женщины строевым шагом едва поспевали за мной.
— Приставить ногу. Разойдись! — под дружный хохот офицеров приказал я и подошёл к полковнику из Краснодара.
— Здравия желаю, товарищ полковник. Я и не заметил, что они за мной идут строем, — пошутил я. — А женщины есть женщины.
Пытался объяснить эту ситуацию в столь трагический час.
— Всё по уставу: так и полагается в армии приводить подчинённых на любые мероприятия, и ты заслуживаешь похвалы. Где Лукашевич? — Он поискал глазами моего начальника и жестом пригласил подойти. — Отправишь Полуполтинных в отпуск с пятнадцатого ноября, — сказал он Лукашевичу и, уже глядя на меня, добавил:
— А ты после отпуска уже в Краснодаре будешь служить. Приказ подписан. Получите почтой. — Слушаюсь. Разрешите идти? — подвёл руку к козырьку фуражки я.
— Куда идти-то? Стой здесь. Может быть, выступишь по поводу кончины Генерального секретаря. Я слышал, ты мастер речи говорить, — он бросил взгляд на Лукашевича, и я понял, кто докладывал в Краснодар о моих делах.
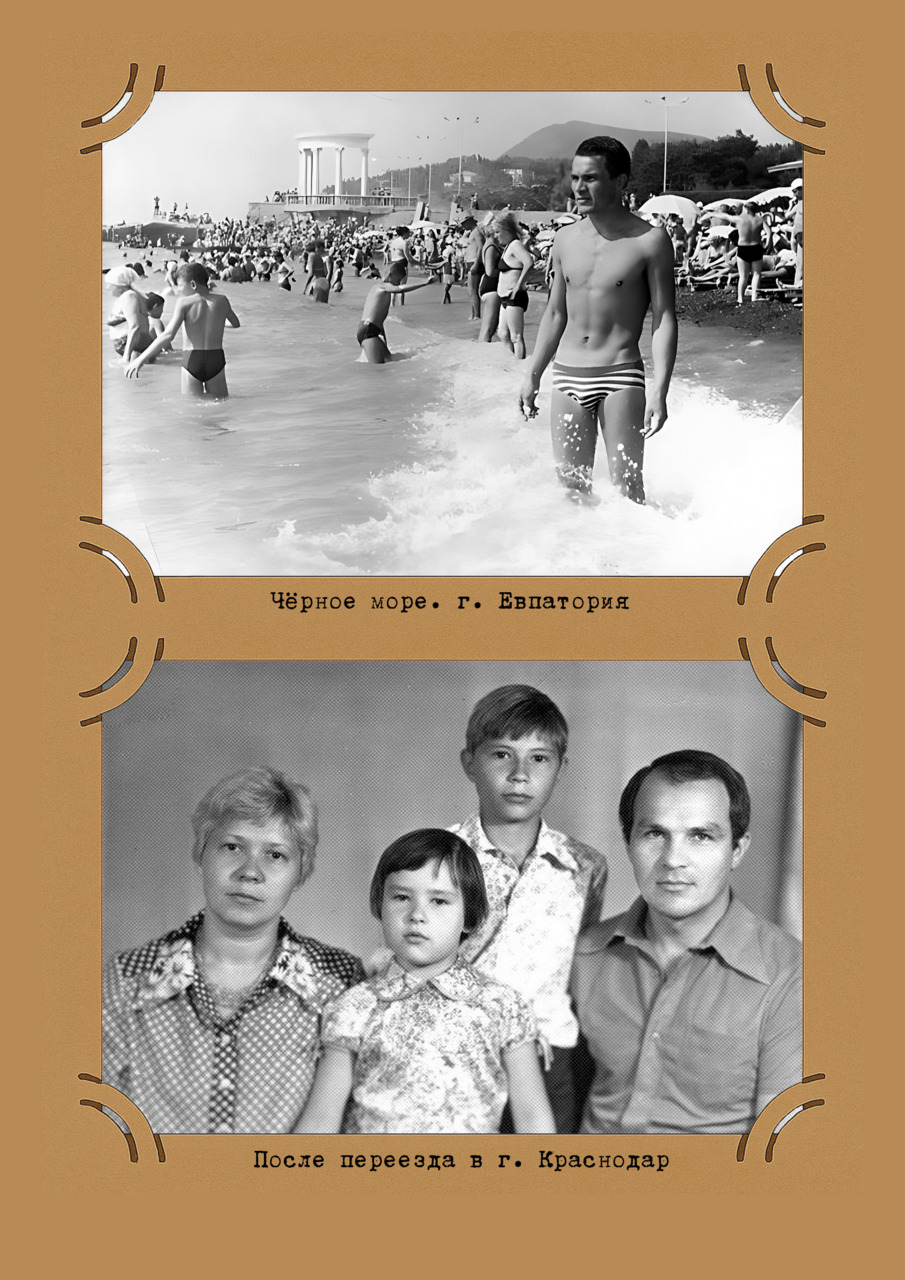
Зимой 1982 года я окончательно переехал в Краснодар. Сам город был мне так хорошо знаком, как будто я прожил здесь уже много лет. Теперь я мог гулять в выходные дни по городу с дочкой. Она просила меня повезти её «в Читу» — так она называла улицу Атарбекова в Фестивальном микрорайоне. Этот участок города напоминал улицу Ленина в Чите, которая начинается от улицы Богомягкова, затем пересекает Курнатовского, Журавлева и ведёт до площади имени Ленина. Наташа запомнила этот участок, когда мы ездили из аэропорта домой, возвращаясь из ежегодных отпусков. Здесь улица Атарбекова начиналась с таких же магазинов, как «Юбилейный» и «Старт», а напротив был магазин «Игрушки». Мне тоже нравилось гулять в этом районе города, который резко отличался от старинного центра Краснодара.
Кроме моей профессиональной работы, мне пришлось заниматься политическими вопросами Коммунистической партии, так как в январе 1983 года меня избрали секретарём партийной организации учреждения ИЗ-18/1. И так я окунулся в политику, как говорят, с головой. В ту пору меня огорчали две вещи. Первая — откровенная ложь, когда говорят одно, а делают совершенно другое. Вторая — самоунижение служебного и партийного достоинства, когда человек, облечённый властью, берёт взятку. С моей точки зрения это доказывало, что люди не имеют представления о том, какое губительное действие производит эта чума на наше общество. Это понимали партия и правительство и вели с этим злом непримиримую борьбу. Камеры СИЗО, где я теперь служил, начали заполняться ответственными работниками партийно-советских органов и сотрудниками МВД.
Моим близким другом стал капитан Бондарчук — бывший армейский офицер, прослуживший в армии более пятнадцати лет на полигонах, где проходили испытания современного оружия. Его комиссовали по болезни на пенсию с правом выбора места жительства и предоставлением квартиры. Но капитан Бондарчук был истинным патриотом своей Родины: он не захотел быть военным пенсионером и продолжал службу в органах МВД. И вот здесь мне пришлось столкнуться с чёрствостью людей, с которыми его свела судьба. Они не видели в этом человеке патриота, считали его ничтожеством и определили на самую низкую должность — без кабинета и даже без собственного стола, где можно было бы написать какую-то бумагу или посидеть. Вот так по девять и более часов он не имел возможности снять тяжёлую шинель, а иногда и присесть. Он, привыкший к трудностям армейской жизни, не жаловался на свою судьбу, только смотрел на меня грустными глазами, иногда наполнявшимися непрошеными слезами. Я, конечно, поставил ему стол в своей комнате для отдыха, примыкавшей к кабинету, где стоял небольшой диван. Алексей Иванович в знак благодарности помогал мне во всём. Он ночами печатал доклады, хотя мог делать эту работу и днём. Он поведал мне историю своей нелёгкой судьбы и болезни — лучевой, а также что ему раз в год делают переливание крови в госпитале участников войны, и что никто из руководства об этом не знает. Но самое интересное, что я узнал, — это история его продолжения службы в МВД. Оказалось, что в решении этого вопроса ему помог генерал-полковник Яковлев, командующий внутренними войсками, и что Яковлев — его двоюродный брат. Для доказательства он показал мне фотографии, на которых Алексей Иванович в его кителе с погонами генерала обнялся с ним, сидя на диване.
В начале февраля я написал представление на присвоение капитану Бондарчуку очередного звания — майора — и подал его на подпись начальнику, который обвинил меня в поспешности моих действий. Тогда мне пришлось рассказать ему всё. Представление он подписал, но не из уважения к этому человеку, а из страха перед высшим руководством.
23 февраля 1983 года Бондарчук стал майором. После объявления приказа офицеры окружили его и поздравляли с присвоением звания. Они жали ему руку, а он успевал только отвечать:
— Спасибо, спасибо!
Когда все разошлись, я сказал ему:
— А ведь событие, товарищ майор, придётся отпраздновать!
Ему было странно и приятно слышать это новое обращение. Обмывали его большую звезду мы вдвоём в его квартире на «Гидрострое», куда пришла телеграмма с поздравлением о присвоении очередного звания от генерала Яковлева.
Алексей Иванович старался помогать мне во всём. Он не жалел ни сил, ни времени, в любое время выполнял мои просьбы с таким рвением, что мне было неудобно ему приказывать — я мог только просить что-то сделать. Через месяц, неожиданно для меня, на моём столе раздался телефонный звонок. Я снял трубку:
— Товарищ капитан, вы «скорую помощь» вызывали? — спросил меня ДПНСИ.
— Нет. А что случилось? — раздражённо спросил я дежурного.
— Майор Бондарчук вызвал и куда-то убежал, мы думали, вы знаете.
Я выбежал из кабинета и побежал искать Бондарчука. Я знал, что он должен был быть на мостике прогулочных двориков. И действительно, он был там — стоял, облокотившись на перила, фуражка съехала на затылок, мокрые волосы прилипли ко лбу.
— Что случилось, Лёша? Ты для кого «скорую помощь» вызвал? — кричал я ему, поднимаясь по ступенькам.
Расслышал ответ только, когда подошёл к нему. Он, не отрываясь от перил, сказал слабым голосом:
— Для себя. Мне плохо, надо срочно в госпиталь.
Провожая его, я подбадривал:
— Держись, майор, «ничто нас в жизни не может вышибить из седла».
На его лице появилась слабая улыбка, и одновременно по щеке покатилась мужская слеза.
В госпитале я навещал его часто. Приходил в форме, прикрытой халатом. Заходил в палату, здоровался со всеми — при моём появлении все вставали, хотя до этого лежали на кроватях. Алексей Иванович благодарно улыбался бледными губами и шептал:
— У вас всё хорошо, Юрий Мефодьевич, а я оставил вас одного среди этих волков. Простите меня, старого воина.
— Да, действительно, воина — прямо с «поля боя» в госпиталь. Ты, Лёша, настоящий воин, таким людям надо Героя давать.
Позднее я узнал, что Алексей Иванович возвышал меня перед офицерами своей палаты так, что они в знак уважения вставали при моём появлении.
Такие люди всегда оставались на обочине нашей жизни. Они становились коммунистами не из соображений выгоды, а по зову сердца, по убеждению — потому что верили в светлые идеалы. Партбилет был для них не пропуском к вершинам власти, а святыней, и шли они с ним на самые трудные участки строительства коммунизма.
Но время, в котором мы тогда жили, было нестабильным. У власти находился Ю. В. Андропов, и мы знали, что он конфликтует с министром МВД Щёлоковым и в целом не доверяет органам. Я помню выступление в нашем ГУВД первого секретаря краевого комитета партии В. И. Воротникова. Указывая в зал, где сидели начальники учреждений и секретари партийных организаций, он говорил, резко взмахивая рукой — от чего волосы спадали ему на лоб, и он небрежно откидывал их назад:
— Вы все погрязли во взятках, вы продали наши идеалы, вам не место в партии и в органах. Мы наведём здесь порядок…
Андропов заменил Щёлокова на Федорчука, которого сначала поставил вместо себя председателем КГБ СССР, а затем назначил министром внутренних дел. Началась чистка в органах: снимали, сажали, и даже расстреливали. Но всколыхнувшиеся было надежды оказались недолговечными. Андропов тяжело болел и вскоре умер.
Наступило время К. У. Черненко, ещё более сложное. Страна жила предчувствием изменений. Необходимость их ощущалась во всём. Но в жизни партии и страны всё оставалось по-прежнему.
В Краснодарском СИЗО тогда сидели многие руководители высшего эшелона власти, которых осуждали на большие сроки лишения свободы. Одну из женщин даже приговорили к расстрелу за хищение в особо крупных размерах, хотя по закону женщин и малолетних преступников не расстреливали. А её расстреляли в конце 1984 года. В сентябре 1985 года у нас из-под стражи сбежали двое осуждённых, приговорённых к расстрелу, прямо из камеры смертников. Им помогли девушки-контролёры, внедрённые на работу в органы заинтересованными личностями. Побег был пресечён на территории СИЗО, один из бежавших был ранен. Контролёров арестовали сразу после задержания беглецов.
В течение сентября, октября и ноября 1985 года проводилась глубокая проверка деятельности учреждения ИЗ-18/1 ГУВД Краснодарского крайисполкома. В результате которой от большинства сотрудников были взяты объяснения и проведены оргмероприятия, повлекшие аресты и увольнения многих офицеров среднего и старшего начальствующего состава. Начальника СИЗО уволили из органов с передачей дела в прокуратуру. Начальника ГУИТУ уволили по статье 69 — за дискредитацию органов МВД. Инспектора оперчасти, капитана Шандро, арестовали — она содержалась в СИЗО КГБ. За моей подчинённой, лейтенантом Делеевой, приехали ночью на квартиру, чтобы арестовать, но она, в присутствии мужа и трёхлетнего сына, застрелилась, так и не открыв дверь. Меня для беседы вызвал представитель Генеральной прокуратуры Т. Х. Гдлян, занимавшийся ташкентским делом, нити которого привели его в Краснодар. Я очень переживал, что какой-то армянин ведёт дело.
Гдлян работал в кабинете начальника оперчасти в штабе учреждения.
— Капитан Полуполтинных прибыл по вашему вызову, — по привычке представился я, едва шевеля языком в пересохшем рту.
— Что, капитан, волнуетесь? — Гдлян подошёл ко мне и протянул руку. Моя рука была холодная и влажная.
— Присаживайтесь, выпейте воды — это вас успокоит немного. Вас откуда перевели в Краснодар? — внимательно глядя мне в глаза, спросил Гдлян.
— Из Читы, — едва, разжав губы, процедил я.
— Что? Откуда? — недоумевающе произнёс он.
— Из Забайкалья, — уточнил я, думая, что он не знает, где Чита.
— Из Читы, значит? — он вопросительно посмотрел на меня.
— Да, это моя Родина, я прослужил там двенадцать лет. Я там и родился.
К моему удивлению, Гдлян расхохотался, не скрывая этого, достал из кармана платок и стал вытирать слёзы, отвернувшись к окну.
— Рассмешили до слёз, олухи, — он сел за стол. — Понимаете, капитан, они Читу с Чемкентом перепутали.
— А что, вы с Чурбановым Юрием Михайловичем знакомы? — спросил он как-то неожиданно.
— Да. Я у него на приёме был по поводу перевода. Даже не знаю, как попал к нему.
— Да, им хотелось вас подставить, и они не отступят от своих намерений. Вам придётся защищаться. Единственное, что они могут сделать, — это уволить вас из органов. А у меня к вам вопросов больше нет. Можете спокойно спать. Я советую вам обратиться в особую инспекцию по личному составу к генералу Ерёмову и всё ему рассказать. До свидания, — и он углубился в бумаги.
Я полетел в Москву. На Огарёва, 6 мне уже доводилось бывать, и я без труда нашёл генерала Еремова. Когда ему доложили, что в приёмной ждёт Полуполтинных из Краснодара, я услышал по громкой связи:
— Это какой же Полуполтинных? Фамилия знакомая. Пусть войдёт.
— Здравия желаю, товарищ генерал, я к вам по рекомендации товарища Гдляна, — спокойно представился я, ничуть не волнуясь, потому что увидел добродушного старика, сгорбившегося и худого. Генеральский мундир на нём висел, как на вешалке.
— Присаживайся, молодой человек. Фамилия твоя мне знакома. Много лет назад я занимался жалобой Полуполтинных. Его восстановили в органах и в звании. Это не твой отец? — говорил он тихо, спокойно, помешивая ложечкой чай в стакане с подстаканником.
— Да, это мой отец. Был уволен, а затем, через четыре года, восстановлен. Вот и у меня теперь сложности.
— У вас в Краснодаре всё сложнее, некоторые даже стреляются. Наломали вы там дров. Но ты ни в чём не замешан. Мне Гдлян звонил. Я в курсе всех дел. Вот занимаюсь всеми этими делами. А тебе советую на пару месяцев покинуть Краснодар, чтобы тебя не смогли подставить или подстроить какую-нибудь гадость.
Я ещё не знал, кто из офицеров застрелился, и эти слова генерала меня взволновали. Ситуация была сложной, надо было лететь в Читу, а может, ещё дальше — где бы меня не нашли.
В Читу я прилетел озабоченным. Надо было придумать что-то, чтобы не волновать родителей, нужно было как-то сообщить жене о моём месте нахождения, не выдав себя. Вопросов было больше, чем ответов. Я не помню, что говорил всем и что делал, живя у родителей, но когда через два месяца вернулся в Краснодар, узнал многое. На квартире у родителей Ларисы скопилось штук десять повесток в прокуратуру, но когда я пришёл туда, страсти уже улеглись. Мне сообщили, что я уволен за выполнение незаконных указаний начальников и несообщение о них по команде, и что надо пойти в кадры ГУВД сдать удостоверение и жетон. Так закончилась моя служба в органах МВД СССР.
А 5 декабря я получил письмо из управления кадров МВД — меня приглашали на беседу для восстановления и оформления на службу в учреждение КЛ-400 (Коми АССР) с присвоением очередного звания майор. Посоветовавшись с женой, я отказался, потому что мы получили квартиру в доме, который уже достраивался, и менять место жительства Лариса не хотела. Но я был благодарен генералу Ерёмову за бескорыстное участие в моей судьбе.
Гибель великой страны
Теперь я попытаюсь изложить события гибели страны, которая называлась СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК — сильнейшего государства в мире. Я заранее понимаю, что говорить о полноте изложения не приходится. Хочу описать те события и впечатления, которые сам прочувствовал и пережил вместе со всем советским народом. Пресса же либо полностью замалчивала происходящее, либо так искажала факты, что уловить какую-либо связь было невозможно. Общество получало крайне искажённое представление о происходящем. Сторонники Коммунистической партии ждали чудес — чудеса не наступали и, разумеется, наступить не могли.
10 марта 1985 года умер К. У. Черненко. За три года это была уже третья смерть подряд — трёх генеральных секретарей, трёх руководителей страны. К власти пришёл Михаил Горбачёв. Началась эпоха перестройки.
Вспоминая тот или иной период своей жизни, я неожиданно для себя обнаруживаю в этом нечто мистическое и душой понимаю: кто-то помогает мне, и всё это — часть какой-то цепи закономерностей. Все воспоминания моего детства, юности и зрелых лет сопровождаются у меня яркими картинами природы. Я до сих пор ощущаю и запах морозного солнечного дня, и аромат тайги, и вкус лесных ягод и грибов. Помню запах и вкус багульника, его малиновый цвет, украшающий подножия изумрудных сопок. Помню, как, будучи в Евпатории, молил Бога дать мне возможность жить рядом с Чёрным морем — и эта молитва была услышана: Он предоставил мне такую возможность.
И вот февраль 1986 года — пора «февральских окон». Воздух прогревается до 20 градусов тепла, все готовят огороды под посадку картошки. Я один на участке, погружён в раздумья. Не знаю, что мне делать — хочу в Читу, домой. Когда мне плохо, я всегда стремлюсь домой. А здесь, на восточной окраине Краснодара, куда уже подступают девятиэтажные дома, мне спокойно и хорошо. Мне кажется, это потому, что рядом аэропорт, который незримой нитью связывает меня с родным городом.
Я сижу на нашем огородном участке среди высокой травы и наблюдаю за облаками. На память приходят строки стихов: «Тучки небесные, вечные странники, мчитесь вы тоже, как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную…» Я вижу самолёты, улетающие на восток.
«Господи, дай мне возможность жить в этом районе города и найти здесь неподалёку работу. Господи, помоги! Мне уютно и спокойно именно здесь. Господи, если этого не случится — душа моя не выдержит». Так я всегда молился.
И Бог услышал меня. Буквально через пару дней я встретил на трамвайной остановке одного знакомого из шестой колонии — его тоже уволили, и теперь он работал начальником цеха на заводе.
— Приходи завтра обязательно в райком партии, я буду там по делам. Зайдёшь к первому секретарю, попросишься на завод — он даст направление, — сказал Воробьёв. Он рассказал мне, что директор завода — хороший мужик, и что ему нужен мастер, умеющий работать с людьми.
Я стал мастером цеха, руководил бригадой грузчиков, обеспечивавших непрерывный поток грузов. Завод находился в Комсомольском микрорайоне, на улице Уральской, 99 — всего в пятнадцати минутах ходьбы от нашего огорода. А в памятный день 26 апреля 1986 года мы получили ордер на квартиру в доме, который построили всего за четыре месяца — прямо на месте нашего огорода. Лариса вытащила номерок с числом 265 — тот самый, который я заранее, ещё до жеребьёвки, обвёл на плане расположения квартир.
Работа мне практически была знакома. Я не давал возможности грузчикам пить, работать заставлял до тех пор, пока разгрузка вагонов не завершалась полностью. Я знал наличие грузов на площадке лучше кладовщиков и снабженцев. Директор вскоре это оценил и перевёл меня на должность старшего мастера цеха сельхозмашин, где меня избрали секретарём партийного бюро.
А перестройка набирала обороты. Завод начали готовить к приватизации. Партийная организация теряла авторитет. Решения партбюро не выполнялись, а я всё больше сил и энергии отдавал производству и выполнению планов. Да могло ли быть иначе?
В общем, это было время надежд и тревог, свершений и ломки, время раздумий и сомнений.
После майских праздников мы переехали в новую квартиру. Начали обустраивать своё жильё: покупали мебель, меняли обои. Место действительно было хорошее. Перед окнами с северной стороны ярко зеленело клеверное поле, откуда доносился свежий аромат, наполнявший нашу квартиру. А с восточной и южной сторон к дому подступали Карасунские озёра. Здесь же, под северными окнами, я посадил три берёзы, чтобы они напоминали мне о забайкальских лесах.
Мне памятно одно странное событие: вдруг около наших домов появились стаи чаек — они кричали и с шумом носились около подъездов.
Прикормленные сердобольными хозяйками, чайки несколько дней не покидали эту территорию, заставляя людей выходить из подъездов с зонтиками. Чем было вызвано их появление, никто до сих пор не знает.
В июле 1987 года мы с дочерью Наташей полетели в Читу на шестидесятилетие моего отца. Билеты купили на рейс Краснодар — Иркутск, а с Иркутска до Читы должны были добираться любым рейсом. Полёт прошёл благополучно, но в иркутском аэропорту возникли проблемы с билетами. Самолёты на Читу улетали один за другим, но свободных мест не было. Я пожалел, что мы полетели этим рейсом — надо было лететь, как всегда, через Москву. Наташа сидела на чемоданах, а я пытался взять билеты, но безуспешно. Пришлось нам ехать на вокзал, чтобы продолжить путь поездом. Мне было жаль мучить ребёнка, и я решил, что в поезде она выспится. И это было правильное решение.
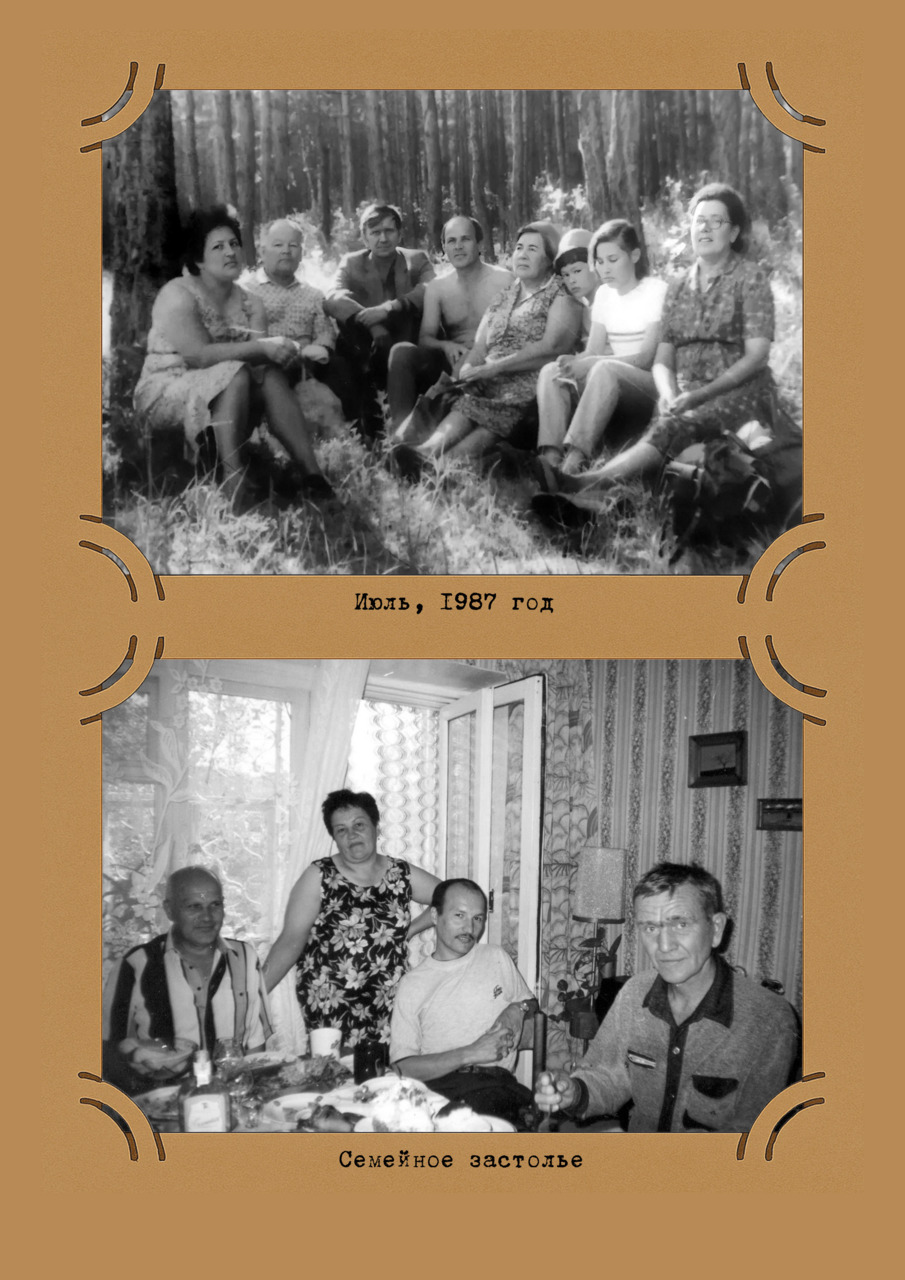
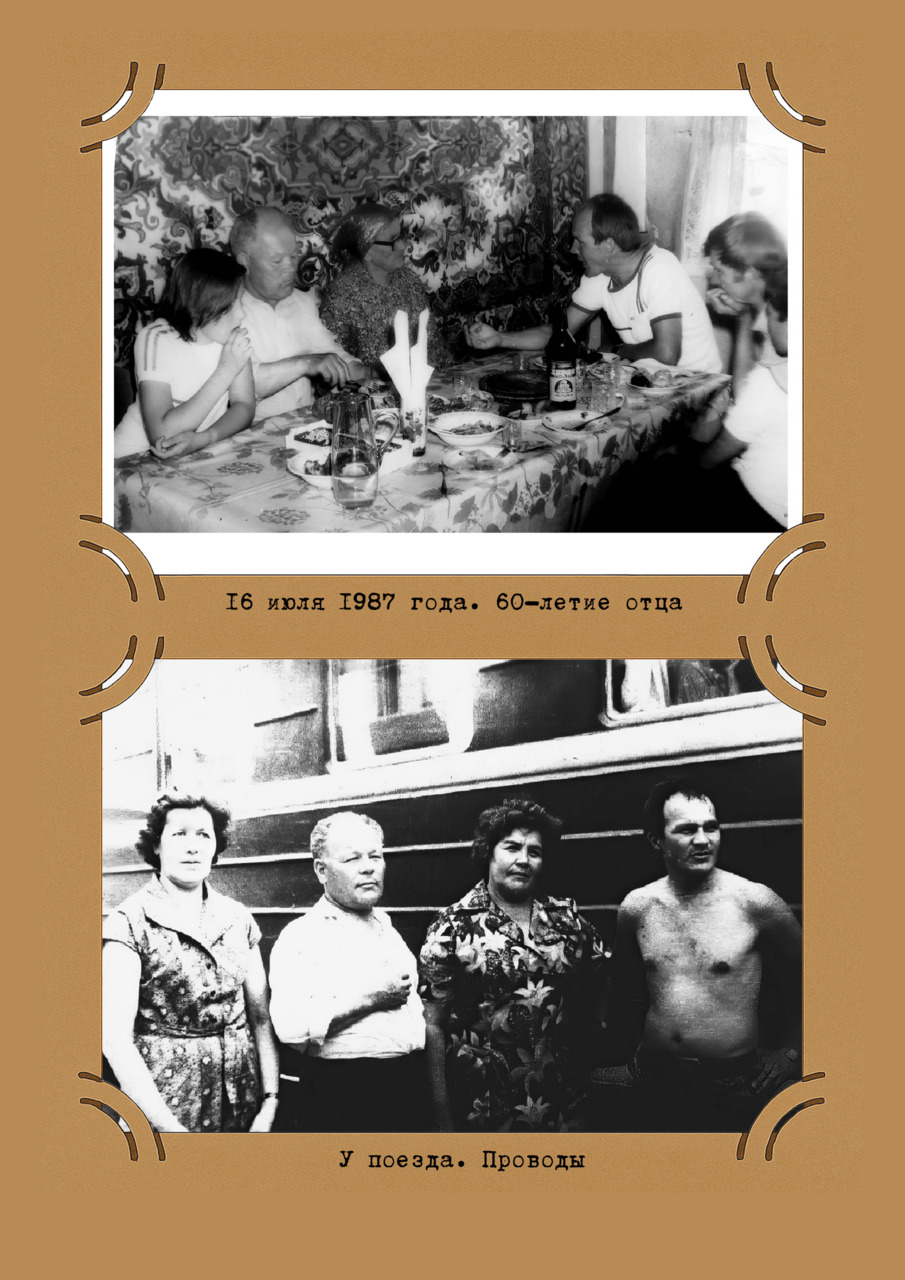
В Чите Наташа познакомилась со всеми родственниками и с моей бабушкой, которая умерла через полгода — 22 декабря 1987 года. Судьба подарила моей дочери возможность увидеть свою прабабушку. Черная полоса наступила и в жизни наших родственников, которая началась с 1986 года со смерти моей тёти Гали, и вот теперь не стало и бабушки Александры Прокопьевны Манаевой. 31 июля 1989 года скоропостижно скончался мой тесть Павел Михайлович Сусь.
Павел Михайлович, был человек редкой закалки. Он родился 7 января 1922 года в станице Екатериновской Краснодарского края. В год, когда началась Великая Отечественная, ему было всего девятнадцать. Тогда семья жила уже на Дальнем Востоке, в городе Артём Приморского края. Отец его был инженер, участвовал в строительстве ГРЭС — людей технических профессий тогда особенно уважали.
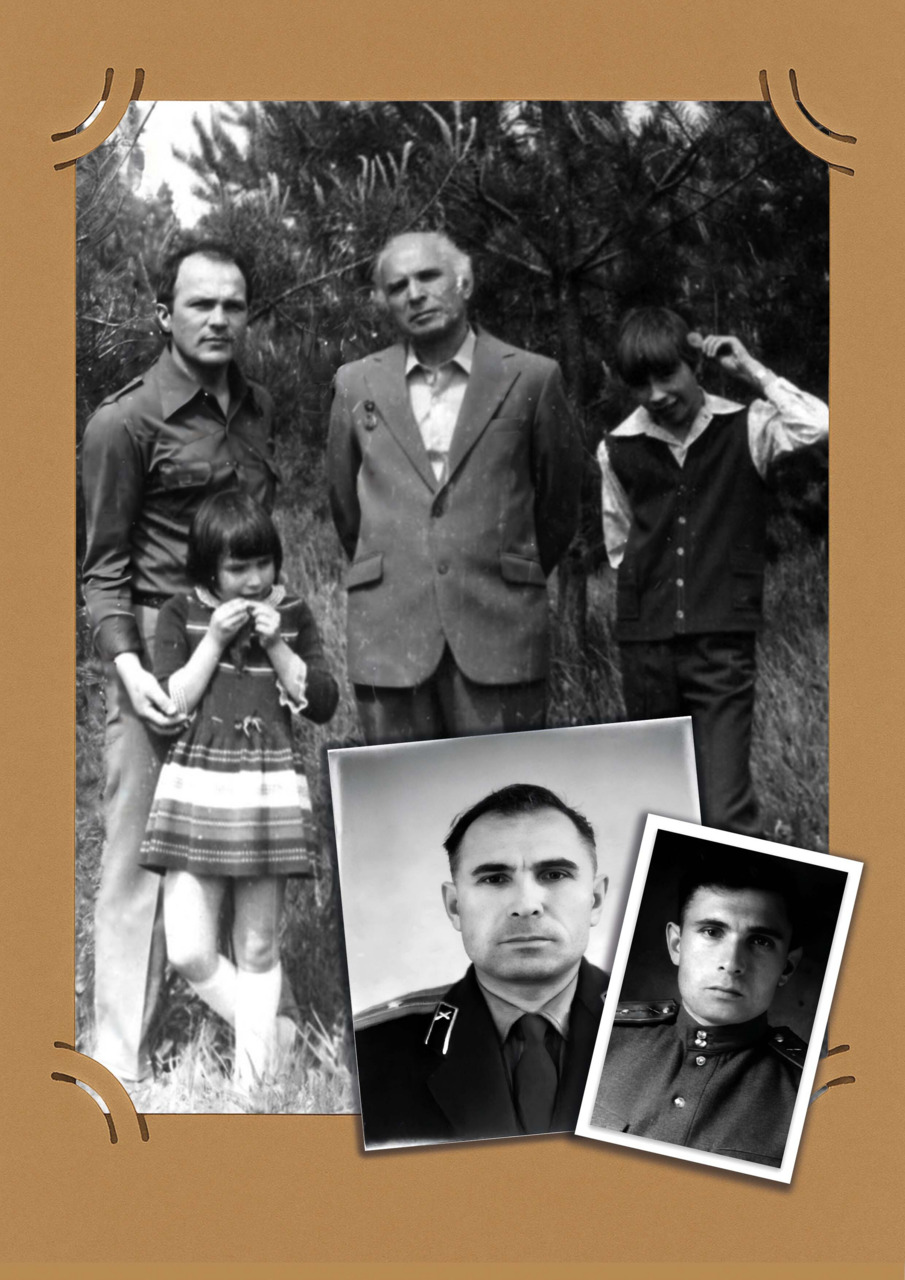
28 июля 1941 года Павел Михайлович был призван в Красную армию Артёмовским военкоматом. Он окончил ускоренные курсы артиллеристов — война не ждала. Начал службу на Дальнем Востоке, под Хабаровском, в посёлке Красная Речка, где вместе с другими бойцами охранял восточные рубежи страны.
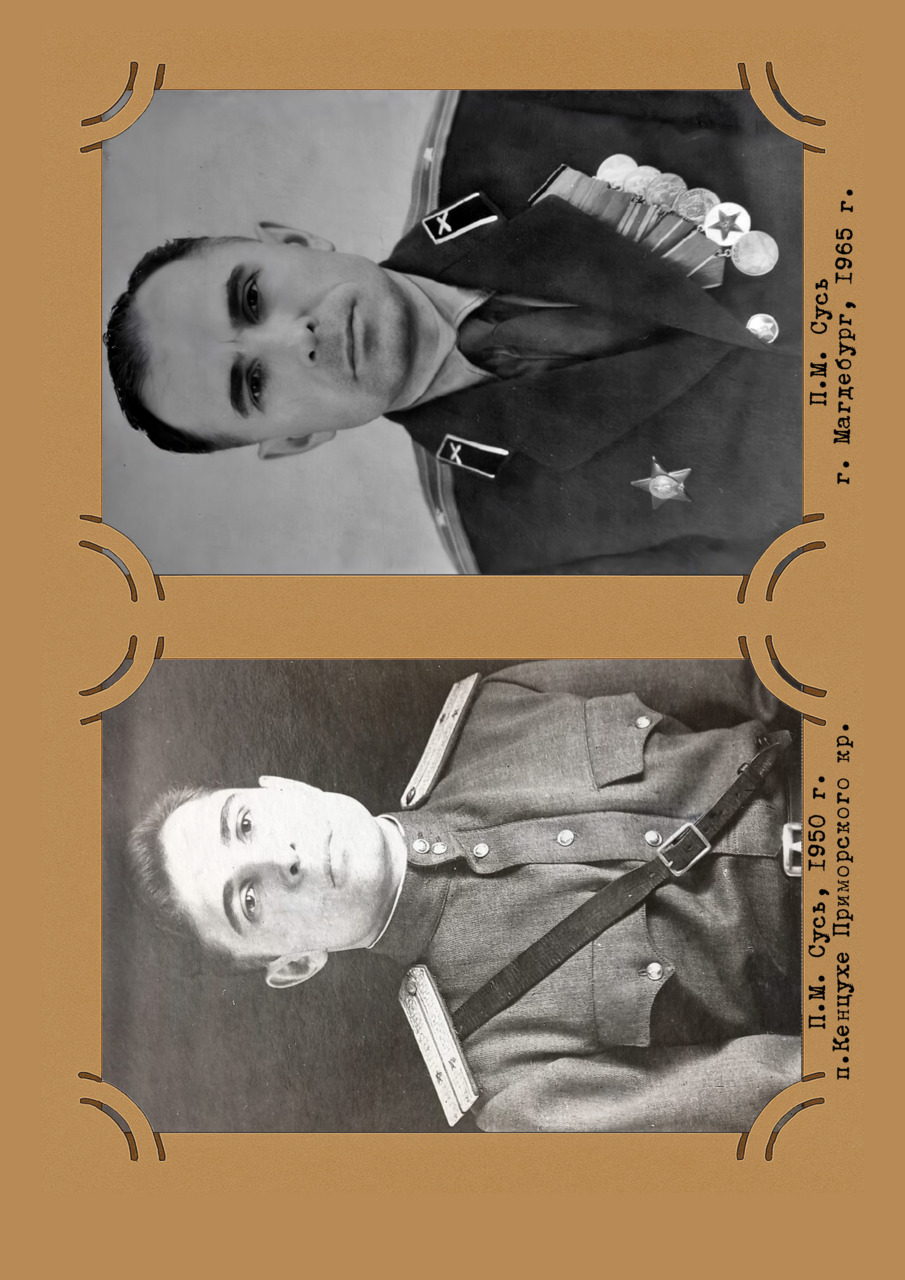
Когда в 1945 году началась война с милитаристской Японией, Павел Михайлович принял участие в боевых действиях. Война была короткой, но тяжёлой. После победы он вернулся к службе, уже как кадровый военный. Служил в составе 267-го стрелкового полка 105-й стрелковой дивизии, затем — в отдельном батальоне 249-й отдельной стрелковой бригады. Дослужился до звания майора технической службы.
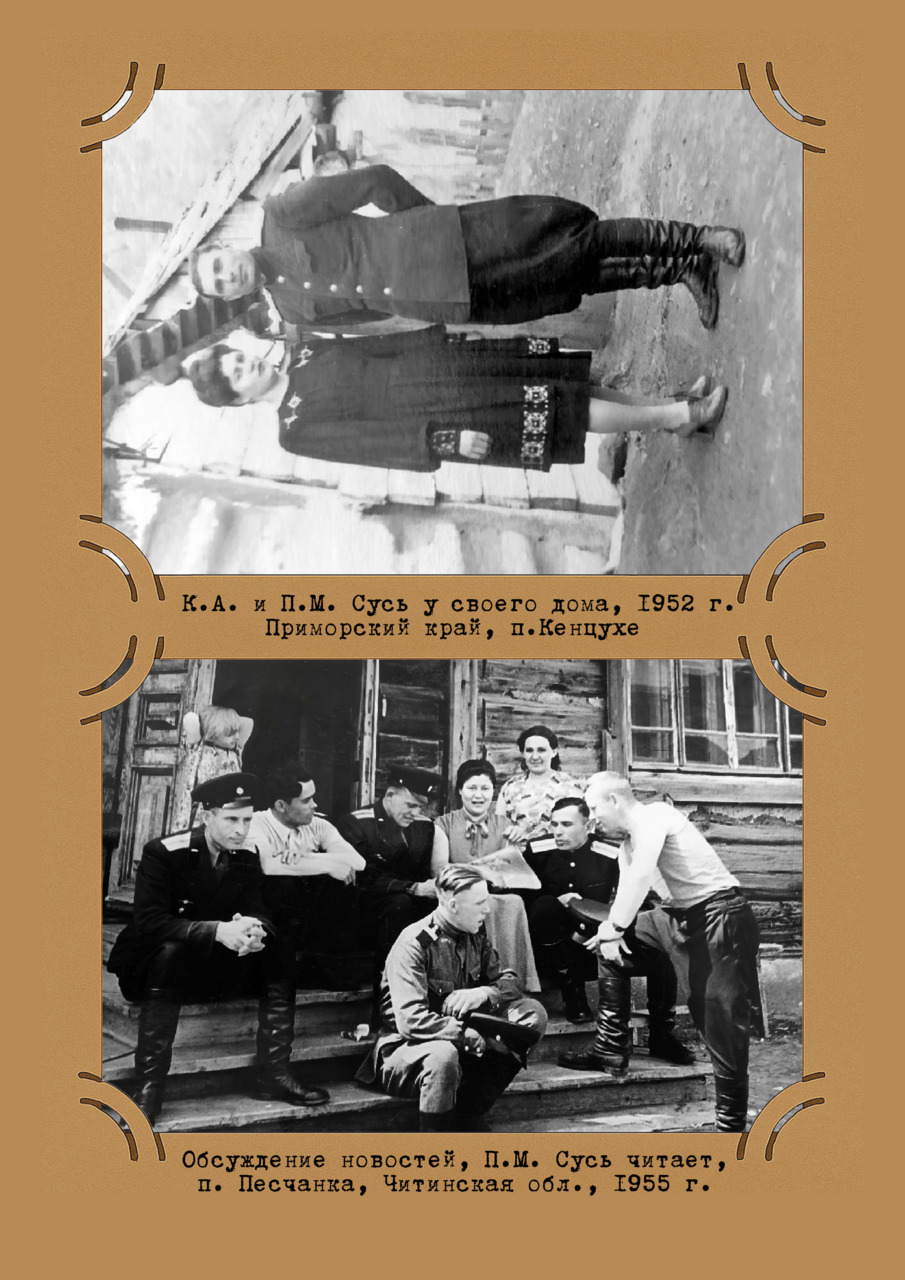
В 1943 году в армию была призвана и будущая жена Павла Михайловича — Клавдия Александровна (Кокорина). Она училась на радистку. Там, на фронтовых курсах, они и познакомились. После войны, в 1945 году, у них родилась первая дочь — Лариса, моя будущая жена.
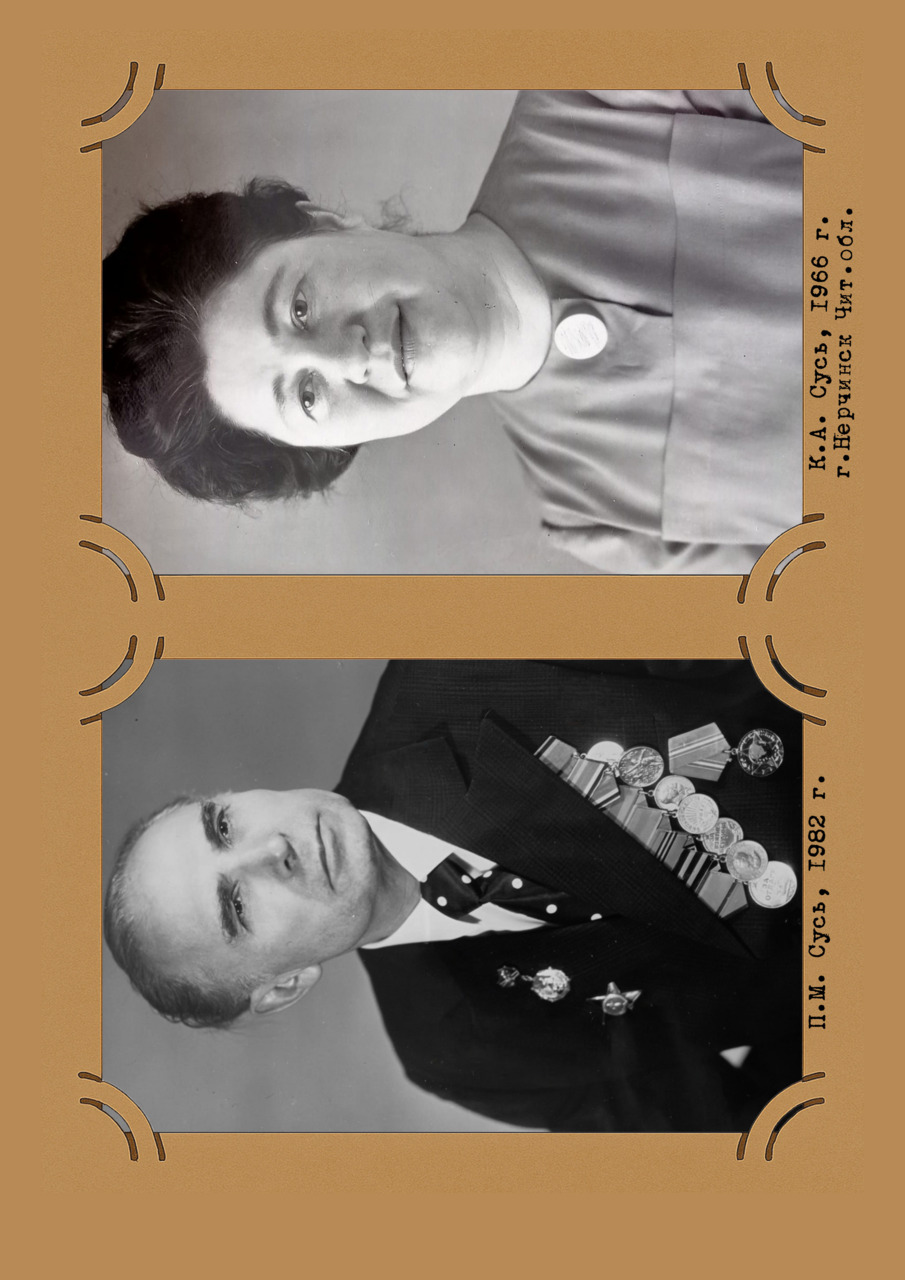
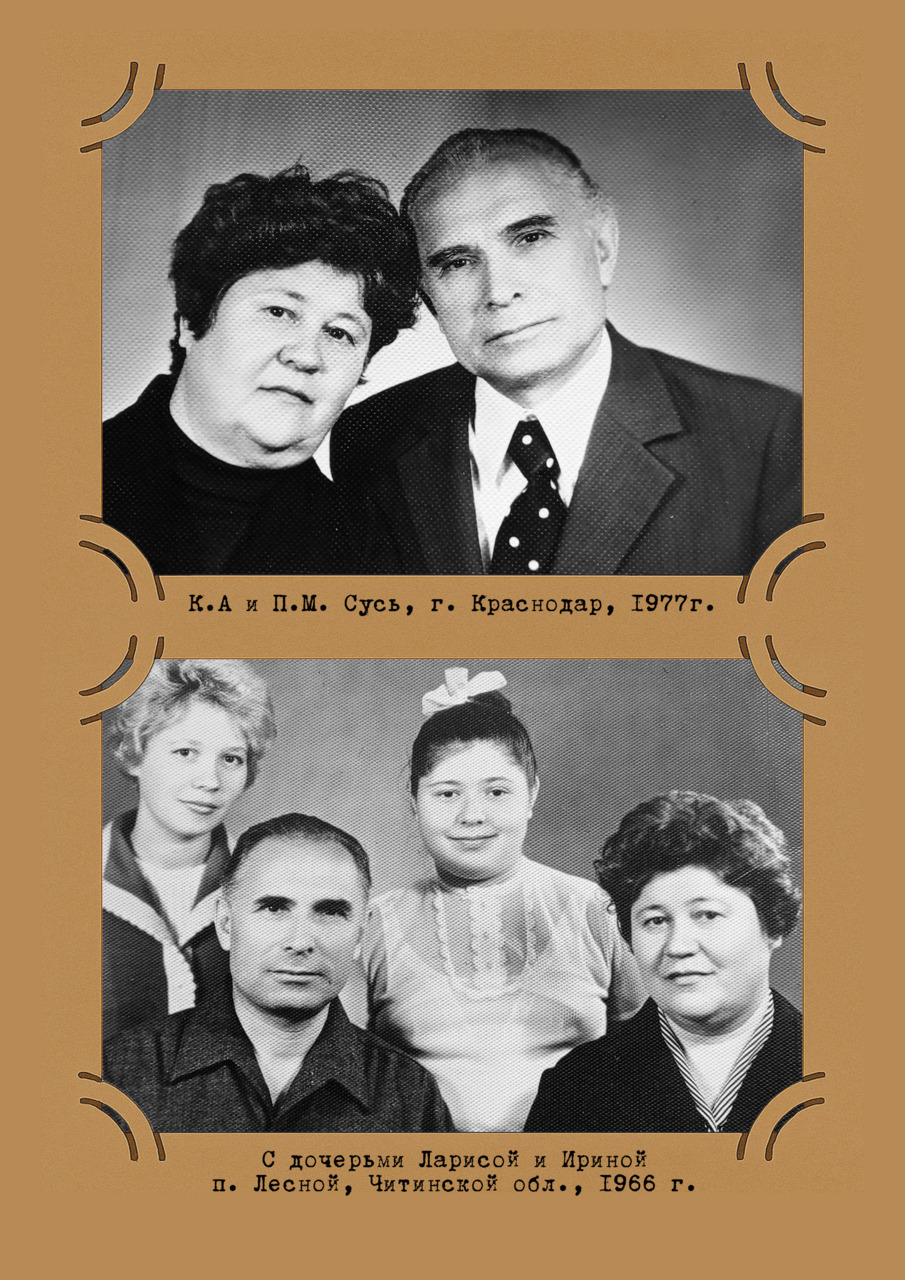
Семья переехала в посёлок Кенцухе Ковалеровского района. В 1952 году Лариса пошла в первый класс. С 1953 по 1955 год Павел Михайлович служил в г. Порт-Артур Китайской Народной Республике — наши войска тогда несли службу и за рубежом. В 1955 году родилась вторая дочь — Ирина. В это время семья жила уже в посёлке Лесной Читинской области.
С 1963 года начались его переводы: сначала — в Сретенск, потом — в Нерчинск. В 1967 году его направили служить в Группу советских войск в Германии — в г. Магдебург. Год спустя, в 1968 году, он демобилизовался и переехал с семьёй в Краснодар, где и прожил до конца своих дней рядом с любимой женой.
Дочери — Лариса и Ирина — тоже перебрались в Краснодар, каждая с семьёй. Мы часто собирались вместе, и Павел Михайлович всегда был в центре внимания — спокойный, рассудительный, с чёткой военной выправкой и светлыми глазами. Человек, на которого можно было положиться. Настоящий офицер и настоящий отец.
Страна жила в ожидании. Накопившиеся за десятилетия проблемы, трудности становления нового, дефицит потребительских товаров. Мне памятны дни девятнадцатой партийной конференции. Все ждали от неё конструктивных решений. Мы с Ларисой отдыхали в Бетте на заводской базе. Рядом — база отдыха СКВО. Я на пляже с кипой газет, вокруг меня — отдыхающие. Читаю стенограмму партийной конференции. Громко возмущаюсь, чтобы меня слышали даже офицеры СКВО (у нас с ними общий пляж): почему все согласны с Горбачёвым, почему нет ни одного выступления против него?
И вот событие: Борис Ельцин не согласен — он приостанавливает своё членство в партии. Вот это поступок. Ельцин — кумир. Его поддерживают миллионы, и я тоже.
Приехал в Краснодар. Не дожидаясь конца отпуска, бегу на завод и пишу заявление о выходе из партии. Это — тоже поступок. Ведь я не рядовой член партии, а секретарь партийной организации. Естественно приехал первый секретарь райкома. Меня уговаривают забрать заявление, но я уже согласовал дату партийного собрания и подготовил доклад.
На собрании стоит гул. Мне не дают говорить. Многие коммунисты ещё с синдромом страха, оставшегося с 37-го года, пытаются покинуть зал, но их останавливает главный инженер завода Гареликов:
— Товарищи коммунисты, вы же вслушайтесь в слова, которые произнёс наш секретарь партийной организации Полуполтинных, которые занесены в протокол: «Я не хочу быть в партии, члены которой безропотно поддерживают Горбачёва. Я не хочу в капитализм, куда Горбачёв нас ведёт. Опомнитесь — надо любыми средствами, противостоять этому!»
Лариса в это время занимала ответственный пост в Октябрьском райисполкоме города Краснодара — её назначили на должность заведующей райздравотделом, в начале приняв в партию. Коммунисты совали нос во все дела и даже медицинские. Первый секретарь райкома партии на заседании бюро, спрашивает Ларису:
— Скажите, Лариса Павловна, почему в нашем районе города детская смертность выше, чем в других районах?
— Потому что все родильные дома, кроме одного, находятся в Октябрьском районе. Наш район — центральный. Вот и показатели детской смертности высокие, — спокойно высказала Лариса очевидные факты.
— Что вы мне здесь географию подмешиваете? — возмущённо, явно не понимая ответа, говорила В. Ф. Галушко. — Отвечайте по существу заданного вопроса!
— Если вы имеете в виду географию, Вера Фёдоровна, то наша страна на первом месте по детской смертности именно потому, что родильные дома размещены в бывших конюшнях. Они не оснащены современным оборудованием и финансируются по остаточному принципу, — резко парировала Лариса.
— Прекратите! Вы не на митинге. Вы политически безграмотно оцениваете эту ситуацию.
Лариса позже тоже вышла из партии, как и многие другие. Некоторые члены КПСС бросали партбилеты на ступеньки перед парадными дверями райкомов.
В городе постоянно проходили митинги. Я видел на трибунах многих известных политиков: Варенникова, Жириновского, Явлинского. Олег Калугин, генерал КГБ, баллотировался на пост губернатора края. Он выступал в городском парке — рядом стояли Гдлян и Иванов. Калугин клеймил позором партийную номенклатуру, раскрывая факты финансирования многими правительствами СССР режимов, пришедших к власти путём революций.
Многое было непонятно. Нужен ли Союз? Нужен ли президент? Зачем нужна приватизация?
17 марта 1991 года впервые в истории нашей страны прошёл всенародный референдум. 80 процентов граждан, внесённых в списки, пришли на избирательные участки, чтобы ответить на главный вопрос: быть или не быть СССР. И 76,4 процента сказали: «Да! Быть великому государству — Союзу Советских Социалистических Республик».
А рабочие… Они вообще мало что понимали. Как точили свои детали, так и продолжали точить. Как пили, так и продолжали пить.
На заводе работала группа офицеров в отставке, которые после моего выхода из партии приняли меня в свои ряды. Они, видимо, готовились к каким-то событиям, но со мной откровенно не делились. Лишь однажды попросили:
— Изготовь в цеху сто наконечников на древки флагов.
На наших собраниях мы говорили о предательстве Горбачёва, о том, что необходимо поддержать патриотические силы в наведении порядка в стране.
Была на заводе еще одна группа, центральной фигурой в которой был майор в отставке Ю. С. Маслюченко. Он постоянно находился в инструментальной кладовой. У него было удобно собираться для обсуждения процессов происходящих в стране. Но мы только обменивались мнениями, часто спорили, особенно с Кирюшко. К Спиридоновичу иногда заходили многие, даже директор, и, посидев несколько минут, уходили, не уловив ничего криминального.
А в основной группе, связанной с краевым союзом офицеров, решались организационные вопросы. Мне было поручено прощупывать настроение рабочих и, в случае необходимости, информировать их. Этой группой руководил подполковник в отставке Шакалов.
Однажды я спросил его:
— Почему Маслюченко и Кирюшко не входят в состав союза офицеров?
Шакалов ответил:
— Ты, Юра, только не вздумай рассказывать им о нас. Не стоит посвящать их в наши дела. Они не поняли самого главного — что Горбачёв их предал. А ты понял, и правильно поступил, что вынес на обсуждение свой выход из партии Горбачёва. — Он сделал акцент: именно из партии Горбачёва.
18 августа 1991 года мы отмечали день рождения Ларисы, хорошо посидели, выпили, конечно, говорили о политике. А утром — радио молчит, по телевизору — балет. Я пришёл на работу с больной головой. Шакалов встретил меня около проходной завода и сказал:
— Постарайся быть в кабинете, включи радио, не занимай телефон. В Москве восстание. Горбачёв болен. Жди указаний.
Вскоре мы узнали о создании ГКЧП. На заводе всё было как обычно — люди работали на своих местах, некоторые уже были явно подпиты, звонил телефон, решались производственные вопросы. На следующий день стало известно, что вице-президент Янаев временно исполняет обязанности президента страны — в связи с «неспособностью Горбачёва исполнять свои обязанности». Затем появилось слово «путч», и мы узнали, что Ельцин летит в Форос «спасать» Горбачёва. События начали развиваться стремительно. Вскоре Горбачёв подал в отставку.
Жизнь продолжалась. Но во всём чувствовалась нестабильность. Везде стихийно возникали рынки — продавали всё: и старое, и новое. Невольно вспоминается профессор времён НЭПа, торгующий спичками и громко кричащий, зазывая к себе базар. События стали настолько похожими на времена НЭПа, что казалось, будто мы, нарушив временные рамки, попали в прошлое. Я тоже продавал кожаные куртки, которые привезли из Читы знакомые моего брата. А в декабре 1991 года на вырученные деньги купил шоколад на десять тысяч рублей, чтобы продать его втрое дороже, и полетел в Читу. Билет стоил полторы тысячи рублей — через Новосибирск. В билете было указано: «Краснодар — Чита» с перерегистрацией на рейс №110 «Москва — Чита». Время было смутное, и отправляться в такое путешествие было рискованно.
Итак, Новосибирск. В кассе регистрации отвечают, что мест нет. В очереди у кассы прошла ночь. Утро следующего дня утешений не принесло. Нас краснодарцев, летевших в Читу, было одиннадцать человек. Пришлось объединиться, чтобы посменно дежурить у кассы. Вещи наши стояли под лестницей, туда же принесли две скамейки, на которых поочерёдно отдыхали. Прошли ещё сутки, надо было, что-то предпринимать. У кассы толпились люди, летевшие в Петропавловск-Камчатский, их было человек шестьдесят. Больных и пассажиров с детьми брали на проходящие рейсы, а остальных вообще забыли. Возник стихийный митинг, призывающий перекрыть взлётно-посадочную полосу. Затем выбрали делегацию, в число которой попал и я. Мы пошли к управляющему пассажирских перевозок аэропорта «Толмачёво». В кабинете управляющего нам показали картинку на мониторе, где я, размахивая руками, кричал:
— Вот куда привёл нас Горбачёв, к хаосу и беззаконию. Надо перекрыть полосу, тогда на нас обратят внимание.
— Вы знаете, к чему приводят такие призывы, вы можете вообще никуда не улететь, — стал угрожать мне управляющий.
— А я Вас могу привлечь к ответственности, за нарушение прав человека. Отправьте меня в Читу, и вы избежите неприятностей. — Перешёл я в наступление.
Это подействовало. Когда мы вернулись в зал ожидания, меня уже искала женщина из Краснодара:
— Скорее на посадку, ваши вещи уже в зоне досмотра багажа пассажиров. Нас до Читы берут на какой-то частный рейс за пять тысяч рублей.
Мы прошли на посадку без досмотра, без проверки документов. У трапа ТУ-134, который летел в Пекин с посадкой в Чите на дозаправку, у нас брали пятитысячную купюру с каждого, пропуская в самолёт. В салоне нас удобно разместили, накормили — видимо, они были проинформированы, что мы более двух суток провели в зале ожидания.
Прилетели в Читу рано утром по местному времени. Мороз под сорок. Родители рады моему приезду. Думаю встречать Новый год в родном городе под трескучий мороз. Но нестабильная обстановка в стране, которая умирала на глазах двух сотен миллионов советских людей, не давала нормально жить. Инфляция росла не по дням, а по часам. В агентстве Аэрофлота мне сказали, что с 1 января 1992 года билет до Краснодара будет стоить 25 тысяч рублей. Принимаю решение улетать до наступления Нового года, пока официально билет стоит 1500 рублей, но мест уже до конца года нет. Хорошо, что у Федораса была знакомая, которая работала в аэропорту, — она согласилась достать мне билет за пять тысяч. На Краснодар прямых рейсов зимой не бывает. Рейс на Сочи летит из Иркутска, на Анапу — из Улан-Удэ, а из Читы — до Ростова. Мне, конечно, лучше до Ростова. Билет на 28 декабря 1991 года. Мама плачет, отец переживает — хватит ли тех денег, которые мы выручили от продажи шоколада.
Вот и Ростов. Это уже почти в Краснодаре. Здесь учился наш Андрей в мореходном училище, здесь я поступал в академию МВД. На маршрутном такси с аэропорта еду в город, на автовокзал. У кассы много народа, все ждут проходящие автобусы. Вижу, что стоять в очереди бесполезно, иду на стоянку с надписью «На Краснодар». Минут через пятнадцать подошёл автобус. Водитель ушёл в здание на регистрацию, а я обратился ко второму водителю:
— За сто рублей возьмёте до Краснодара?
— Да, берём. Садись вот на это место впереди, здесь удобно, — сказал он мне и тоже ушёл в здание автовокзала.
Билет до Краснодара стоил 32 рубля, и сотня была хорошей ценой за место второго водителя. Через три часа я уже спал в своей постели, утомлённый дорогой.
Перестройка
Перестройка. Что за термин такой в политике? Никто не знал, но всё стало меняться, как по мановению волшебной палочки. Вчерашние теоретики коммунистической идеологии, начинавшие свою карьеру ещё при жизни Сталина и занимавшиеся его восхвалением, вдруг стали утверждать, что Сталин — тиран, а коммунизм вовсе не светлое будущее, а роковая ошибка прошлого. Те, кто прославились как теоретики социалистической экономики, с успехом доведя её до полного развала, стали утверждать, что только «свободный рынок», ориентированный на Запад, спасёт нас от падения в пропасть, к которой они же нас и подвели. Те, кто довёл социалистическую идеологию до абсурда — той самой, по которой пионера, променявшего свой значок на жевательную резинку у иностранца, могли исключить из школы, — сегодня сами отдают тем же иностранцам за ту же резинку нашу землю, полезные ископаемые и национальные богатства, объясняя это тем, что мы приобщаемся к мировому сообществу. Нам внушали, что сильная и мощная Советская Армия — гарант мира, — сегодня её разваливают и поливают грязью. Отчего это? Может быть, наш противник — США — из ястреба превратился в голубя мира? Но только за последнее время этот «голубь» раздавил суверенитет Гренады и Панамы и уже подбирается к Ираку, желая наложить лапу на ближневосточную нефть. Нет, США, как и прежде, верны себе и готовы силой оружия отстаивать свои интересы за тысячи миль от своих границ. Так что же изменилось в мире? Ничего не изменилось. Изменилось лишь «новое мышление» наших политиков, затеявших очередной этап — «перестройку». На нашу страну были брошены все имевшиеся у них резервы — от золота до внешней агрессии и действий пятой колонны внутри Русского Государства.
Наступил 1993 год. На фоне всех происходящих драматических событий в нашей стране значимые события проходили и в нашей семье. В сентябре женился Андрей, его избранницей стала девушка, проживающая в соседнем доме. Они дружили четыре года. Светлана ждала Андрея из армии. И вот в этом памятном году они решили пожениться.
У нас в это время гостил мой брат Александр. Свадьбу играли с присущими кубанскими традициями под руководством тамады.
В конце года, 11 декабря, играли вторую свадьбу. Выходила замуж Наталья, её избранником был Сергей Яглов, которого через неделю забрали в армию, и Наташа жила с нами.
А в промежутке между свадьбами произошло событие, потрясшее весь мир. В Москве был расстрелян «Белый дом», в котором заседал СОВЕТСКИЙ парламент России. Саша полетел в Читу через Москву и, конечно, побывал на месте трагических событий, сфотографировавшись на фоне обгоревшего «Белого дома».
Это событие круто изменило мое понимание политики. Я, наконец, понял, кто есть кто. Закончилась демократия, а вместе с ней — и Советская власть в России. Зарождавшаяся демократия, процессы становления которой проходили так неуверенно, под прикрытием непонятных политических терминов, тормозивших преобразование экономики, утратила свою значимость. Многие политики это осознали, но поздно. Была поставлена жирная точка демократических преобразований, к власти пришли «воры в законе», захватившие государственную собственность в свои руки, народу оставив лишь атрибуты демократии — выборы.
Многие демократы первой волны, такие как Юрий Афанасьев, Гавриил Попов, ушли из команды Ельцина, который был опьянён властью и не понимал происходящих за его спиной процессов разграбления страны.
История временных рамок совместила октябрь 1917 года с октябрем 1993-го, поставив знак равенства между выстрелом «Авроры» по Зимнему дворцу и выстрелами из танков по Белому дому. Когда «Альфа» ворвалась в здание, они увидели следующую картину: повсюду валялись обрывки бинтов, повязок, ваты, остатки еды, грязь. Коридоры завалены мебелью, сваленной в кучу. Это зрелище напоминало кадры из фильма «Взятие Зимнего».
Рейтинг Ельцина стремительно пошёл вниз. Это усугублялось его поведением в заграничных визитах: то он смешил, как скоморох, Клинтона, который хохотал до слёз, то дирижировал оркестром и пел «Калинку» в Германии, то не вышел из самолёта в Шенноне на встречу с премьером, будучи смертельно пьяным. Все эти кадры показало НТВ. Некоторые плакали от стыда за нашу страну, нам всем было стыдно за такого президента. Когда я узнал, что вся пресс-служба, которой руководил В. Костиков, состояла из людей, чьи взгляды и поведение мне были неприятны, возненавидел Ельцина.
Страна знала, что президент болен, у него были инфаркты один за другим, и все удивились, что в конце 1995 года он принял окончательное решение идти на выборы на второй срок. Заработала машина «грязной» предвыборной технологии под лозунгом «Голосуй сердцем». Был создан штаб под руководством Чубайса, который поручил И. Малышенко, возглавлявшему в то время независимый телеканал, отвечать за пропагандистскую часть. И НТВ начал обратный процесс: если раньше они эффективно разрушали имидж Ельцина, то теперь за выборные миллионы должны были реанимировать облик президента. Работали над имиджем и американские консультанты, которых пригласил Чубайс. По рекомендации американцев, например, Ельцин, выступая перед избирателями в Ростове, продемонстрировал публике молодой дух и сплясал для достоверности под зажигательную музыку, а Наина Иосифовна тоже пыталась топтаться на месте. Народ свистел, орал, некоторые зрители многозначительно крутили у виска пальцем. Несмотря на эти выкрутасы, в Ростовской области он набрал голосов в два раза меньше, чем Зюганов. А у нас, в Краснодаре, — в три раза меньше Зюганова, хотя Краснодар встречал Ельцина, как будто это был Белодар.
Страна жила напряжённой жизнью. Но жизнь есть жизнь. Наташа родила сына Виталика, и это внесло в нашу жизнь настоящую радость. Это небесное создание очаровало не только нас с бабушкой Ларисой, но и буквально всех вокруг. Фотографии младенца с завитками светлых волос и удивительно ангельским взглядом долго украшали витрину фотоателье. Прошло полтора года. Зять, вернувшись из армии, забрал Наташу с Виталочкой в свой частный дом. Наташе пришлось познать условия жизни, совершенно ей не знакомые. Она родилась и жила в квартирах со всеми удобствами, а жить без этих элементарных удобств, да ещё с ребёнком — это неудобно. Заботы о малыше затмили всё, хотя трудности ощущались — денег не хватало.
Мне на заводе перестали выдавать зарплату, и пришлось окунуться в бизнес. В 1996 году я прошёл обучение и стал работать консультантом в швейцарской фирме ZEPTER, совмещая это с работой на заводе. На начальном этапе у меня были хорошие успехи, и я стал менеджером. Мне нравилась работа, современный офис, проведение презентаций. Нас, успешно работавших менеджеров, пригласили в региональный офис в Ростове на цептербал — там изысканно угощали в шикарном ресторане, на эстрадной сцене которого весь вечер пела Люба Успенская.
Это — хороший кусок времени. Времени и для страны, и для каждого из нас, очень своеобразного. Оно подавало надежды, и оно же разочаровывало. Кстати, наш острый на язык народ придумал поговорку про «демократизацию»: демократия отличается от демократизации тем же, чем канал от канализации. Время ломки многих сложившихся представлений, стереотипов, формирования новых идей, новых подходов и вместе с тем — время невозможности полной реализации идей и неудачи начинаний.
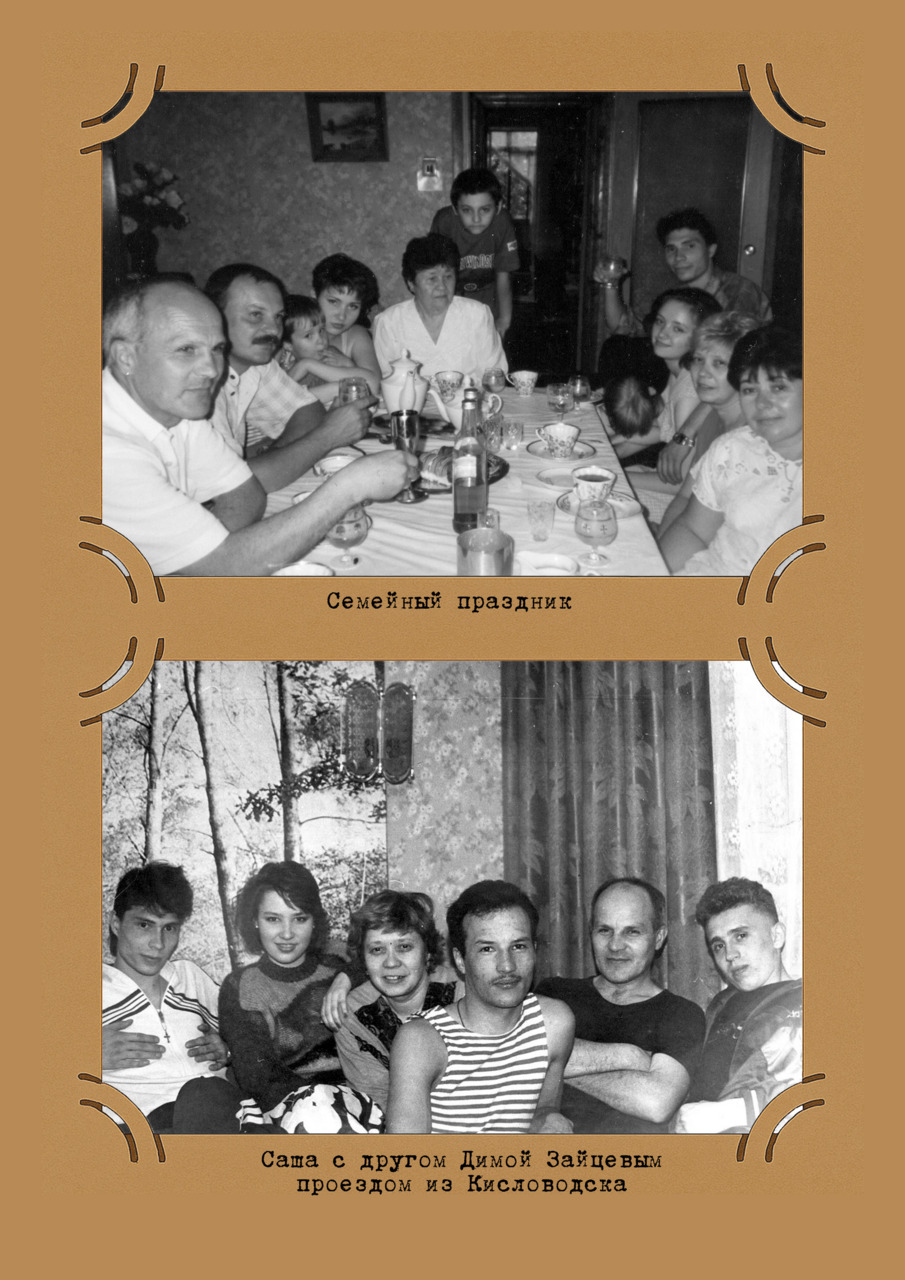
Я не был в родном городе долгих пять лет — после неудачной коммерческой поездки в конце 1991 года. Скучал. Часто повторял слова из песни М. Ножкина: «А я, Лариса, в Читу хочу, я так давно не видел маму». В письмах обещал приехать, и вот решение пришло. В начале июня 1997 года к нам прилетел Саша. Он привёз от родителей видеописьмо, снятое своей камерой. На экране телевизора мы увидели родителей. Они приглашали меня в гости, папа сказал:
— Да, Юра, ты обещал приехать, так сдержи своё обещание. Выходи из положения и вместе с Сашей приезжайте на мое семидесятилетие, а то мы уже старые, сегодня живы, а завтра…
— Летите лучше самолётом, а то на поезде долго, да и еды надо с собой брать много, а на самолёте — раз и дома, — давала наставления мама, говоря в камеру, как профессиональная артистка.
Конечно, мы с Сашей полетели самолётом. Душа моя ликовала. Я испытывал тот же восторг, что и много лет назад от встречи с родителями и городом. Меня радовало всё: и дождь, и песок, и солнце. Это была радость со слезами на глазах. Этот отпуск в Чите запомнится мне на всю оставшуюся жизнь.
Мы втроём — я, Саша и отец — бродили пешком по городу, по памятным местам, рассматривали город с Восточной сопки, а затем спустились на площадь Декабристов и на рынке около магазина «Весна» снимали репортаж «специально для Краснодара». Позже с братом совершили восхождение на Титовскую сопку, перевалив её, посетили могилы бабушки, тёти Гали и двоюродной сестры Светланы.
Незабываемой была поездка с мужем и друзьями моей родной сестры Татьяны в верховье Ингоды на рыбалку. Я тогда близко познакомился с тестем и тёщей моего племянника Димы. А друг со школьной скамьи Сергей Пак провёз меня по всем улицам Читы с остановками в памятных местах, и в завершении мы поехали на дачу к его сестре Анне, где пили шампанское. Саша всё это снимал на камеру.
А Ельцин в это время менял премьеров. Он только что назначил председателем правительства Сергея Степашина, и я сказал отцу, что этот, видимо, тоже не последний. Все смеялись и, наверное, запомнили юмористическую фразу: «Не так сели». Вернувшись в Краснодар, вдруг услышал эту, ставшую крылатой, фразу от Степашина на одном из заседаний правительства. Он сказал, произведя изменения в правительстве: «Я никого пересаживать не буду», и это стоило ему должности — Ельцин снял его через 82 дня.
Я ввёл этот фрагмент только потому, чтобы показать читателю, как всё-таки несерьёзен был президент. Он не серьёзен был и в самый ответственный момент новейшей истории России, когда втянул армию в чеченский конфликт. На примере чеченского кризиса мы ещё раз убеждаемся, как непопулярен был Ельцин даже у тех, в ком едва теплилась жизнь. Например, Азербайджан, терпящий поражение на армянском фронте, но всё же посылающий своих боевиков на помощь Дудаеву. Или Эстония, которая не может набрать армию больше одного полка, не упускает возможности лягнуть Россию и посылает в Чечню женщин-снайперов убивать русских солдат и офицеров.
Я говорю это потому, что сотни тысяч россиян лично столкнулись с этой бедой — как для русского, так и для чеченского народов.
У родителей в соседней квартире живёт пожилая женщина, сестра, бежавшая из Грозного. Тысячи погибли, и многие тысячи продолжают страдать. Таких примеров можно приводить множество. В результате ельцинского руководства наш народ доведен до обнищания — зарплату не платят, а выдают продукцией. Вот и приучают людей торговать — жить-то надо.
25 мая 2003 г.
Вехи. Молодёжный посёлок
дополнение к «Воспоминаниям»
Судьба, иногда делает такие виражи в жизни, которые становятся вехами на жизненном пути. Одной из такой вех, стал посёлок Молодёжный, когда-то именовавшийся совхозом Приаргунским. Здесь было всё впервые, первый вагончик, первый дом, первые похороны, первая свадьба моей двоюродной сестры Светланы и моя первая юношеская любовь.
В далёком 1954 году, мой отец вместе с маминым родным братом Манаевым Петром Спиридоновичем поехали по призыву партии, осваивать целинные и залежные земли в приаргунской степи. Отец стал бригадиром строителей, о нём был написан большой очерк, который вошёл в сборник «Октябрьский марш», изданный в 1977 году. Он по праву получил возможность занять первый дом, построенный в совхозе. В этом доме мама родила девочку, назвав её Ольгой. Условия жизни были трудными, особенно для детей. Оля заболела и умерла по дороге в районную больницу, которая была в Бырке. Помню почерневшие от горя лица родителей, которые не смогли жить в совхозе, и отец подал рапорт на продолжение службы в армии. Мы переехали в Читу, получили квартиру от воинской части, я пошёл в первый класс. Но служба военная особенная, отца часто переводили с одного места дислокации на другое, и семья колесила по Забайкалью, а я жил с бабушкой в нашей городской квартире. Так я и учился в школе №1 города Читы до восьмого класса.
В 1963 году отец во время ликвидации побега осуждённых превысил полномочия, был отстранён от службы.
Родители, забрав младшую сестру Таню, уехали в Приаргунский совхоз, где жил мамин брат.
Я закончил 7 класс, но у меня была школьная практика, и поэтому сразу не поехал с родителями. Через некоторое время получили от папы письмо. Он писал, что принял ферму, но пока гурт находится на летнем пастбище. «Прилетай на самолёте, тебя встретит Нэлин муж на аэродроме».
Ждал с нетерпением, бабушка причитала: «Как это ребёнок полетит один, где будет искать в степи родителей?» Крёстная проводила меня в аэропорт и, когда я пошёл на посадку в самолёт, почему-то заплакала. Но я радостный, что впервые полечу на самолёте, ликовал. Серебристый ЛИ-2 взмыл в воздух, и я на протяжении полутора часов не отрывался от иллюминатора.
Когда самолёт приземлился на пыльном аэродроме Приаргунска, взволновался немного. Вышел, осмотрелся. Я не знал Петра Абрамовича, но зато по описаниям отца знал его машину «Москвич-408»: бежевый верх и зелёный низ — так было написано в письме. Машину я увидел, но раньше меня увидел Абрамович. Он подошёл ко мне и сказал, подавая руку: «Здорово, целинник, ты же открывал этот совхоз, когда был маленьким. Вот первоцелинникам и почёт, видишь, на машине встречает главный инженер совхоза?»
Машина неслась по хорошо укатанной дороге, и вскоре я увидел в степи маленький оазис густо разросшихся тополей и черёмухи.
— А вот и дом твоего дяди, он приехал с отары встретить тебя и отвезти на летник, где живут и работают родители.
— О, Юрка, какой ты здоровый стал, — дядя тискал меня в сильных мужских объятиях и говорил: — Мама-то как, не болет? Нюся работат? — это он спросил о моей крёстной, его младшей сестре Анне.
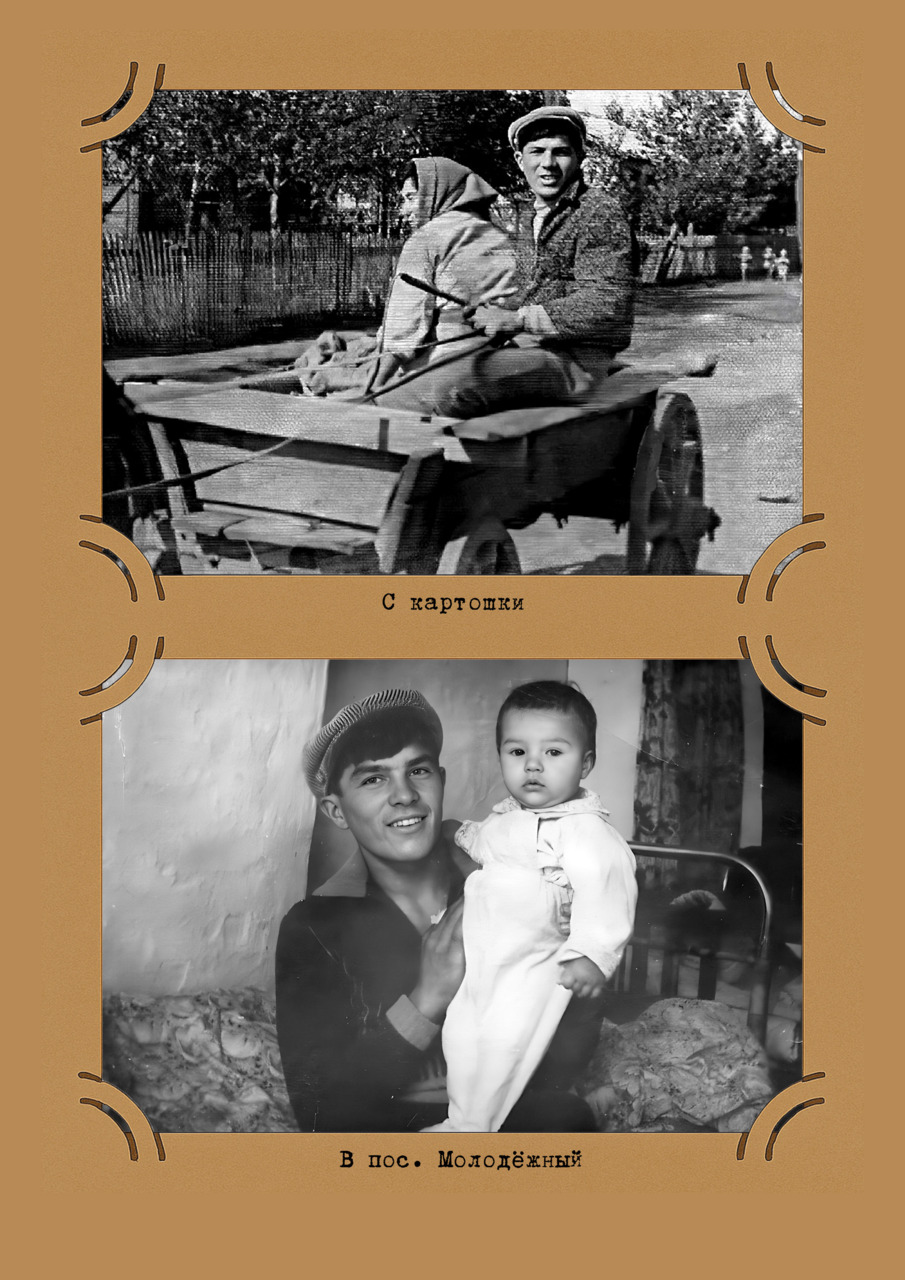
— А тётя Шура где? — спросил я его, едва успев вставить вопрос в его бурлящую речь.
— Шура с ребятишками на отаре, а я вот приехал за продуктами. И тебя встретить. Сейчас вот чай попьём и поедем, я тебя к Вале с Гошей отвезу. (Моего отца все звали Гошей, хотя по документам он был Мефодий).
Какая же всё-таки красивая степь, запах необыкновенный, наполненный цветочными ароматами цветущих марьиных кореньев, которые белыми мохнатыми шапками встречались нам на пути. Я лежал в телеге смотрел на облака в высоком голубом небе и слушал дядю Петю, который громко восторгался свободой и простором приаргунской степи.
— Вон, Юрка смотри, домик под косогором видишь? — громко спросил меня дядя Петя, показывая рукой,
— Вижу, а тётя Шура там? — спросил я его, просто чтобы поддержать разговор.
— Вон она на коне сидит верхом — хлёшится, пауты, зараза, заели, — и он с силой врезал себе по шее, убив паута. — Ничё, Юрка не сыдят, привыкнешь, оне поначалу новеньких пробуют — пошутил дядя Петя и громко на всю степь захохотал. Видно было по его настроению, что ему нравится и работа, и степь.
Пообедав на отаре, приготовленным тётей Шурой пловом с бараниной, поехали дальше по степи на летнюю стоянку гурта. Дядя Петя пел на всю степь песню «Бродяга к Байкалу подходит», и я ему тоже подпевал. Родители были рады моему приезду, да и дяде Пете тоже. Сидели за столом под навесом. Кругом степь, к перилам навеса привязана лошадь, которая громко хрумкала овёс из привязанного к бревну ведра. Вокруг неё кружили пауты, и она с шумом изредка отгоняла их, махая хвостом, а в вагончике было темно и прохладно, там спала маленькая Таня.
Это было на Троицу, мама в вагончике расстелила на вымытый пол траву, и Таня сладко спала, вдыхая аромат разнотравья. Я даже позавидовал ей. Это был райский уголок. Папа всё говорил слова, когда мы садились за стол: «Троица, Троица — зелёным лес покроется». Праздновали долго. Я тогда не понял: то ли отмечали наш с дядей Петей приезд, то ли Троицу. Вечером, уже подвыпивший дядя Петя, лёг в телегу, а папа привязал вожжи к облучку и, хлопнув лошадь рукой по холке, сказал: «Пошла! Теперь сама его привезёт на отару», — а сам тоже завалился в телегу наполненную свежей скошенной травой. И ещё долго по степи слышался голос дяди Пети: «Едут новосёлы по земле целинной, песня молодая далеко летит!»
А когда было уже поздно, загнав гурт в загон, легли спать в вагончике. Мама постелила мне на полу, подложив матрац, набитый травой и такую же травяную подушку. Мы лежали, и я долго рассказывал маме, недавно прочитанную книгу «Овод» — это, оказывается, паут по-забайкальски. Когда я услышал, что мама стала посапывать, замолчал, и через минуту услышал голос сестры: «Давай дальше рассказывай, чё замолчал!» Я ей сказал: «Спи, а то маму разбудим, завтра продолжу рассказывать», — и через мгновенье вырубился сам, утомлённый дорогой и днём. Этот день показался мне длинным, длинным и счастливым.
На следующий день приехал помощник отца Иван Дружинин. Маленький рыженький мужичок. Он был одет в широкие штаны, заправленные в сапоги, синюю рубаху в полоску, выпущенную поверх штанов, и почему-то застегнутую на верхнюю пуговицу. Кстати дядя Петя был одет так же. Почему запомнил их одежду? Потому что папа был одет в привычную для меня военную форму без погон, он постоянно носил даже ремень, но без портупеи. Ванька, как называли его родители, спал в телеге, над которой был натянут брезент, а папа на лежанке под навесом. Мы же с Таней, с мамой — в вагончике.
Степь пьянила меня. Мне тоже нравился этот бескрайний простор, по которому я носился верхом на лошади с огромным удовольствием.
— Папа, я поеду заверну коров, а то они уже далеко ушли, — с нытьём просил я отца, который мне часто не разрешал садиться на коня.
— Рано, — говорил отец, сидя на маленькой скамеечке с хомутом на коленях. Он всё время, что-то чинил, ремонтировал, а Ванька постоянно пил чай.
— Ваня, давай ты сгоняй, заверни гурт, и направь коров в падь, а то они за сопку перевалят, а там Погодаевский покос, — приказным тоном обращался он к Ивану.
— Щас, Гоха, чай допью и сгоняю, а то Юраха, уже с непривычки задницу поди стёр, — неохотно отвечал дядя Ваня, пошвыркивая чай.
Так пролетело лето. Где-то в середине августа пришли два трактора. Один из них подцепил вагончик, а второй — большие сани, на которые были сложены щиты от загона и весь скарб. Мы ехали на телеге.
Я помню, сидел надутый, потому что мне надо было улетать в Читу, а во-вторых, отец мне не разрешил ехать в вагончике, который по степи тянул трактор, громко урча и выбрасывая клубы синего дыма из трубы, торчащей на капоте. Отец, хлопнув вожжами лошадь, прибавил скорость, и наша повозка, обогнав две рычащие машины, трясясь на ухабистой дороге, изрезанной тракторами, быстро удалялась от странного обоза.
Переехав на место постоянной дислокации гурта, на молочно-товарную ферму, родители временно жили тоже в вагончике, но уже в большем по размеру. Папа шутил, называя его двухкомнатной квартирой. Я помню тамбур, и налево, и направо — по комнате. К зиме им дали квартиру в щитовом четырёхквартирном доме, рядом с таким же щитовым клубом.
Я увидел эту квартиру, когда прилетел вновь в совхоз на весенние каникулы в марте, прихватив с собой портфель с книжками и дневником, в котором были выставлены оценки за третью четверть.
Стремился к родителям поехать, потому что хотелось увидеть маленького брата, родившегося 16 ноября 1964 года.
Было ещё морозно, но степь уже очистилась от снега почти совсем. Он лежал ещё в распадках между сопок. Привёз меня с аэродрома опять же — Пётр Абрамович.
В квартире родителей было тепло, в комнате, в подвешенной к потолку зыбке, посапывал ребёнок. Я подошёл и увидел смугленького малыша с чёрными волосами. Рот закрывало розовое кольцо соски. Мама набросила на стропы, которые удерживали зыбку, одеяльце и шёпотом сказала:
— Пускай спит, пошли на кухню, сейчас папка с фермы приедет на обед.
Я рассказывал маме и Тане о Чите, о бабушке и обо всех новостях наших многочисленных родственников. Позже, когда приехал, отец, объявил о своём решении, что в Читу больше не поеду, буду последнюю четверть 8 класса учиться в совхозе. Папа согласился, сказав: «Ладно потеплее станет, переедем в новую квартиру Толи Кривицкого, там места всем хватит, дом большой двухквартирный, а ты, Юра, если экзамены хорошо сдашь за восьмилетку, получишь в подарок мотоцикл „М-104“, тут в магазин привезли».
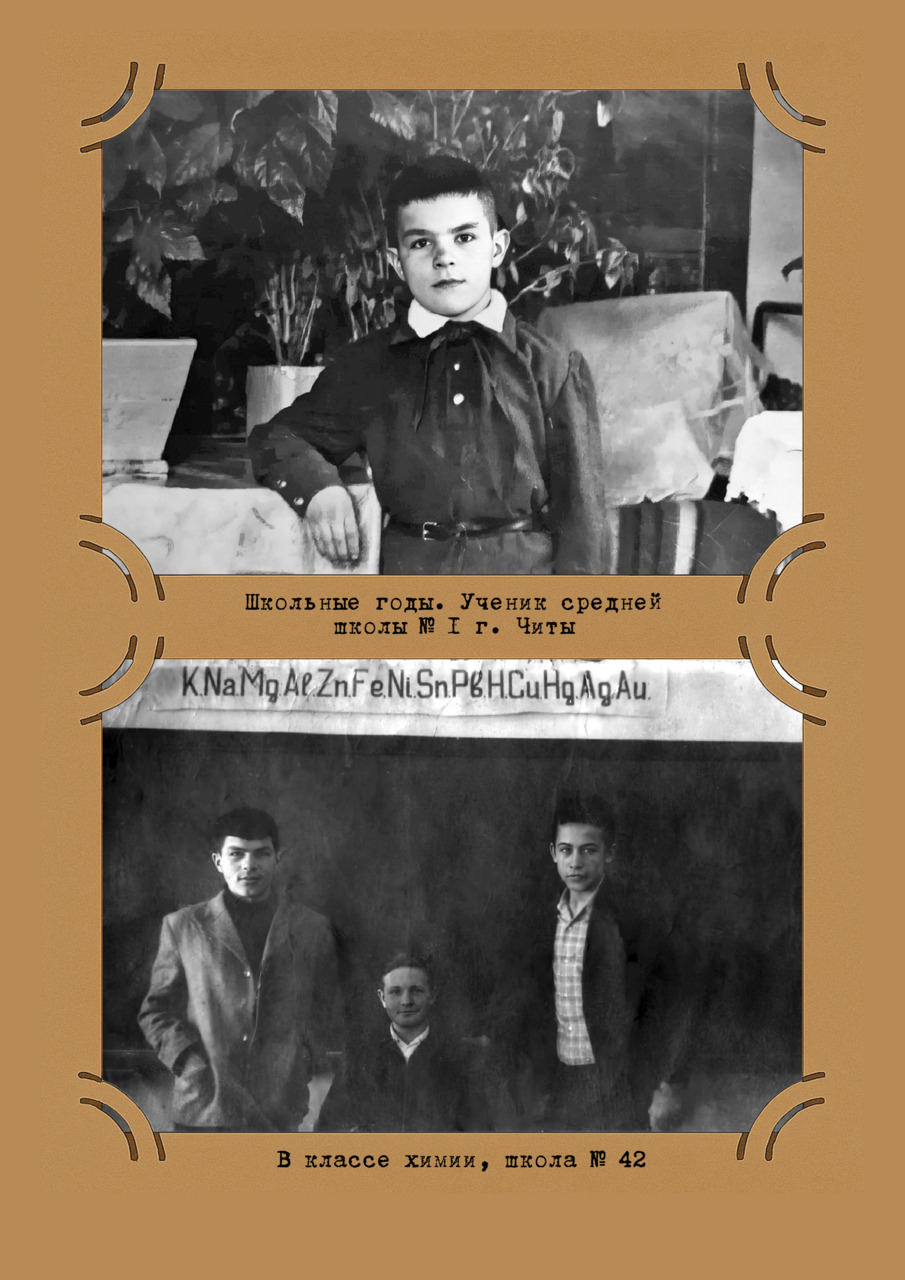
Это был хороший стимул. Тем более уровень моих знаний, полученных в городских школах, был намного выше, чем у совхозных ребятишек. Постоянно получал пятёрки почти по всем предметам. Хулиганил, правда, тоже, осталась привычка развязанного поведения без родительского контроля. Помню на первомайские праздники, девчонки приглашали меня в гости, но я упирался и не хотел идти. Они просили маму уговорить меня пойти, долго упрашивали, но я проявил свой упёртый характер и не пошёл к ним на вечеринку. Это была тоже привычка, воспитанная во мне бабушкой, она никогда меня не отпускала вечерами. В театр я ходил только с Крёстной.
Хорошо запомнил учительницу Веру Ивановну, она была классным руководителем и всегда хвалила меня за знания и ставила в пример остальным, даже девчонкам.
Экзамены я сдал все на пятёрки, которые повлияли на оценки в свидетельстве о восьмилетнем образовании, там была только одна тройка по русскому языку.
(Пришлось посмотреть свидетельство за 8 класс: по русскому «4» и по литературе «4», а вот единственная «3» — это по химии.)
Итак, лето наступило вновь в Приаргунской степи. Так же цвели жарки и марьины коренья, придавая степи живой неповторимый вид. Мотоцикл мне отец, конечно, купил, выбрав почему-то зеленый цвет. Я гонял на нём по бескрайним просторам степи, прыгая на естественных трамплинах. Эти катания были куда интереснее, чем скачка на лошади. Ветер упругой струёй бил в лицо и рвал за спиной рубашку, надувающеюся огромным пузырём. Мальчишки, не имеющие мотоциклов, пытались меня догнать на велосипедах.
Теперь необходимо вспомнить о речушке. Мы приезжали туда по утрам и купались до обеда, пока нас не выгоняли злые пауты.
Кончилось лето, и вот мне помнится поезд, который увозил нас — кого куда, для продолжения обучения. Я ехал в город Нерчинск поступать в зооветеринарный техникум. Не знаю сейчас, чем было вызвано это решение, но особой тяги к зооветеринарной работе я не имел. Хотя сейчас с высоты своих лет, оцениваю этот поступок, как генетическую тягу к сельскому труду, ведь мои предки по линии отца были зажиточными крестьянами (кулаками), их всех раскулачивали и ссылали за пределы Читинской области.
Вообще, хорошо помню, что встретил там давних знакомых сестёр Шавриных Людмилу и Галину, они пришли в комнату, где я жил поздравлять меня с успешной сдачей вступительных экзаменов. В аттестационном листе были все пятёрки. Видимо, Нерчинская земля предков благословляла меня на ратный колхозный труд.
Нет, учиться я там не стал, забрал документы и укатил в совхоз. Что влекло? Наверное, юношеская влюблённость, чувства первой любви, которые я испытал к девочке, с утончёнными чертами лица. Её звали Галина. Галочка, как я её называл. Я писал ей стихи и робел перед нею, когда мы оставались вдвоём.
Я не люблю молчание угрюмое», —
Ты бросила, когда мы шли в степи.
А я молчу лишь потому, что думаю,
А думаю я — только о тебе.
В общем-то, я был не робким, а, наоборот, дерзким и вздорным, избалованным мальчишкой. А перед Галей робел, терял дар речи и молчал. Помню, как-то у Галины сломался велосипед, и я не смог его починить. Мы шли пешком в посёлок, а я насуплено молчал, перебирая в памяти строчки стихов. Мне памятны эти мгновения: первого поцелуя, трепетного и воодушевлённого, первого признания в любви, неумелого и смелого.
Зато это уже была веха, навсегда оставившая память о посёлке и девочке, которую любил, чистой юношескою любовью.
Был потерян ещё один год. Сейчас понимаю, что терял многое, но всё же понимаю, что судьба готовила мне совсем другую карьеру. Я работал у отца на ферме в котельной, которая отапливала два цеха: доильный и для содержания телят, а когда кончился отопительный сезон, отец посадил меня на трактор, маленький такой с кузовом впереди. Я подвозил на нём корм для телят и пустые молочные бидоны. Подвозил доярок на обед.
Летом я работал с лётчиками сельскохозяйственной авиации. Летал с ними в кабине пилотов, открывая створки распылителя гербицидов. Однажды на день молодёжи, который праздновался на берегу речушки, мы решили приземлиться на дорогу, и я в лётной форме предстал перед девчонками. Конечно, гордился, прилетел на самолёте повидать Галочку.
Я мчался на аэродром —
Себя опередить.
Крен, разворот,
Земля — ребром.
Естественная прыть.
Над синей лентою реки,
Скользит от крыльев тень,
В душе рождаются стихи —
Какой счастливый день!
И пусть полёты высоки,
Пусть унесут меня…
Но если б не было тебя —
То не было б и дня.
В сентябре следующего, 1967 года, отца призвали в армию на сверхсрочную службу, и мы переехали в Читу. А я поступил с Сергеем Поплавским в ГПТУ на Камвольном (Читинский камвольно-суконный комбинат (КСК) — ред.). Предполагаемая профессия должна была быть слесаря-сантехника, но она меня тоже мало прельщала. Три года обучения опять пропали даром. В 1969 году пошел служить в органы МВД СССР. С этого времени и началась моя военная карьера.
На пороге века
(из дневника)
Начал писать дневник по совету врачей, как психотерапевтическое средство при стрессах. Я заболел, появился депрессивный синдром. Мучили головные боли. Мне хотелось знать, что предшествовало концу двадцатого века и каким будет начало двадцать первого. Как будет меняться мировоззрение людей и наше лично. Какие изменения произойдут в обществе. Ведь это конец века и конец второго тысячелетия. В начале первого тысячелетия родился Христос, а в начале второго — произошло Крещение Руси. Что нам принесёт конец второго и начало третьего тысячелетия?
16 декабря 1998 года.
Сегодня Б. Клинтон отдал приказ о бомбовых ударах по Багдаду. Еду в троллейбусе, наблюдаю за людьми. Лица хмурые. Люди одеты плохо и как-то странно, очень плохо. Мужик рядом — в засаленной куртке и военной шапке со следами кокарды. Старушка — в шале и короткой потёртой шубке. Около нашего подъезда встретил уборщицу в калошах. Отправил открытку в Читу в самодельном конверте, потому что нигде нет конвертов.
25 января 1999 года.
Татьянин день — день рождения моей дочери. Ей уже 24 года. На улице тепло, +10, газоны зелёные. Все одеты легко. Приехали Хвостовы. Разговоры за столом — о торговле и моей работе в фирме «Паллада». Я начал изучать маркетинг, читать Карнеги.
17 апреля.
У нас в квартире ремонт. В прошлом году, в августе, делали большую комнату, и вот только сегодня приступили к следующей. А у меня побаливает сердце. Тревожное предчувствие. Звонок. Иду открывать дверь. Принесли электронное письмо. С дрожью в голосе читаю Ларисе: «Папа болен. Будет операция на пищеводе». Всё валится из рук, сердце стучит так, что отдаётся в висках. Соображаю, что делать? Лариса подсказывает — надо лететь. Это серьёзно. Как лететь? Где взять деньги? Чем смогу помочь? На улице +28, жара. Как одеться? Что взять?
18 апреля.
Почти не спал. Мысли чёрные. Еду в агентство Аэрофлота. У кассы пусто, напротив — в кресле паренёк. Кассир говорит, что прямой рейс ещё не открыт, можно лететь с Сочи в Улан-Удэ или с Минвод прямо в Читу. Конечно, соглашаюсь лететь с Минвод. Она делает запрос на два места — второе для парня в кресле. Когда он подошёл, я его спросил, для кого билет. Он ответил, что для бабули.
19 апреля.
В семь утра Лариса проводила меня на вокзал. Время в автобусе пролетело незаметно. Мысли — о том, как там дома? Как отец? В накопителе ко мне подошла старушка — бабуля того парня. Завязался разговор, который меня отвлёк. Ей 85 лет, прилетела к внуку в Краснодар поесть клубнику, но из-за его тёщи визит сократился до двух недель. Внук — военный хирург. Он плакал, стоя за стеклом, и не уезжал, пока самолёт не взлетел.
20 апреля.
Чита. Вторник. Сегодня родительский день. Холодно. Я вынул из сумки и надел плащ и кепку. После зелёного и жаркого Краснодара увидел совершенно безжизненный город — серый, неприветливый, голый. Неуютно. Наверное, от моих мыслей. Нет того привычного восторга и радости. Всё вокруг хмурое, серое. Душа моя плакала, и город вместе со мной.
В квартире я увидел ту же картину безмолвия, и даже голос мамы показался мне неприветливым. Она встретила меня так, будто я утром вышел и спустя пару часов вернулся. В квартире пахло жареными блинами, комната была наполнена солнечным светом, но не было того привычного уюта. Вещи в комнате брата свалены в кучу, косо в кресле стоит телевизор, пыль на мебели.
Мама говорит тихо и как-то скорбно:
— Вот, видишь, папы нет. Он в больнице. Звонил. Операцию перенесли до следующей недели. Его отпустили домой. Саша за ним поехал.
Звонок. Дверь открыла мама, вошёл отец и, увидев меня, заплакал навзрыд…
И вот мне пришлось, применяя все методы психологии, выводить всех из этого состояния. Я был шутом, психологом. Заставлял всех улыбаться. Носился по аптекам. Постоянно ездил в больницу, смешил больных в его палате, беседовал с хирургом. Я с молитвой провожал отца в операционную, заставляя его улыбаться.
9 мая.
Слава Богу, операция прошла благополучно. Главное — выдержало сердце. Мы дома. Солнце заулыбалось, город почистился, стал приветливым, радостным. Квартира наполнилась солнечным светом, стало уютно и тепло. Возможно, это день Победы раскрасил всё красками весны, или сама природа радуется вместе с нами.
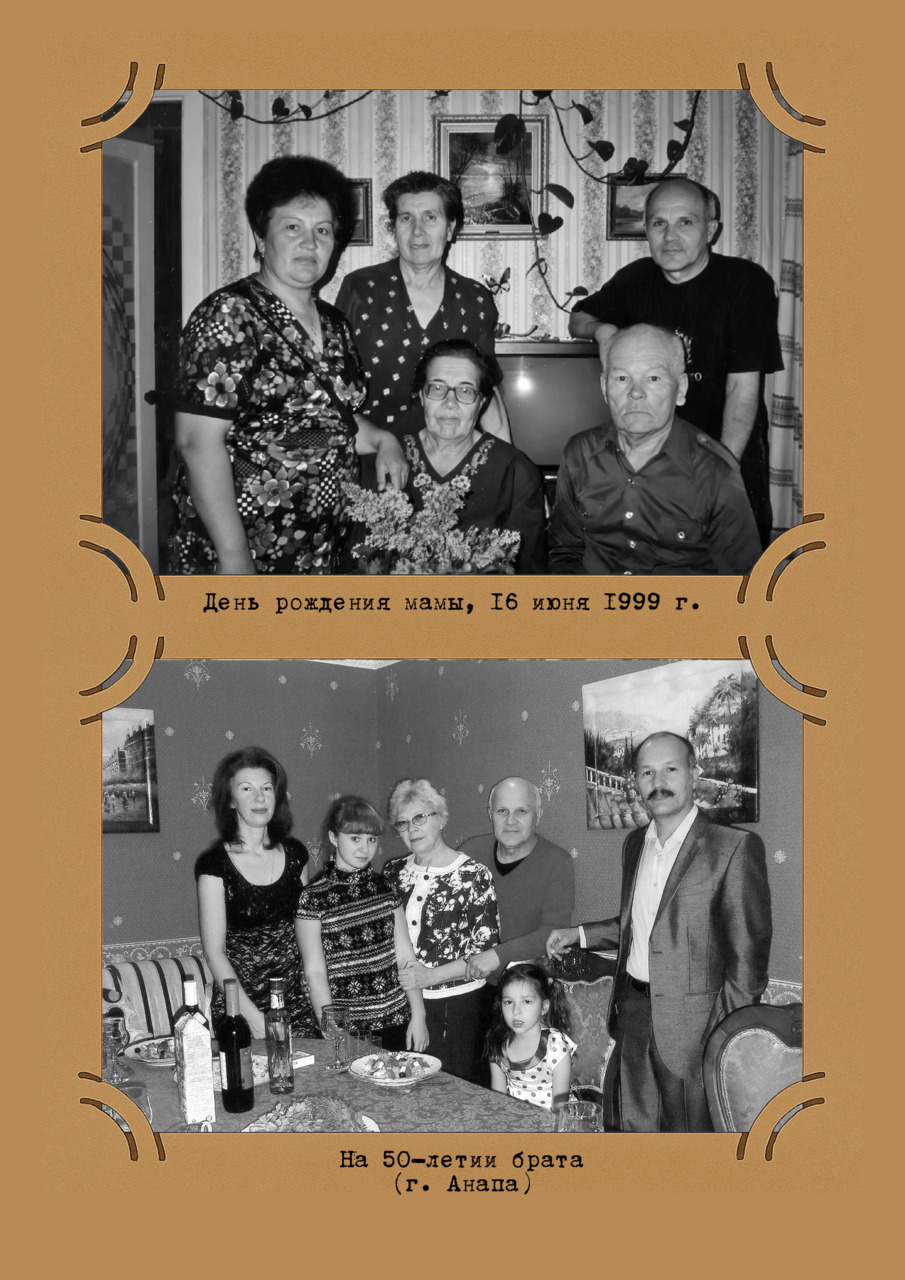
16 июня.
День рождения мамы. Последний раз я был на таком торжестве 17 лет назад. Тогда я перепутал июнь с июлем, и мама всегда помнит об этом, напоминая мне. В этот раз я специально остался дома, чтобы вместе с семьёй отметить день рождения мамы.
Стол украшали все. Таня всё готовила, а мама ставила и ставила на стол закуски. Крестная пришла нарядная, радостная, хотя только что выписалась из больницы. Всё было наполнено радостью. Мы даже пели, а отец подпевал.
17 июня.
День моего вылета в Краснодар. Папа прижал меня к себе, не выдержав, заплакал, как будто заранее почувствовал, что мы прощаемся навсегда. А я знал это и едва сдерживал слёзы, надрывая сердце, молил Бога продлить его жизнь как можно дольше.
9 августа.
Война пришла и на наши улицы, в наши дома. Взрыв дома на улице Гурьянова потряс каждого из нас. Теперь, ложась спать, думаешь: а проснёшься ли завтра? Я почувствовал себя и всех нас незащищёнными от терроризма.
22 августа.
Ночью встречал Сашу с женой Ириной. Они приехали поездом Иркутск–Адлер, который опаздывал на полтора часа. Я бродил по ночной привокзальной площади и удивлялся тому, что жизнь здесь не замирает даже ночью. Торгуют бойко домашними пирожками, чаем из термосов, громко крича: «Чай с сахаром, пирожки домашние, горячие».
Во втором часу ночи прибыл поезд. Бегу к вагону. Они уже вышли. Идут мне навстречу. Обнимаю их и веду в противоположную сторону от вокзала. Перелезаем через забор, и мы у дома моей тёщи. Я оставляю Сашу с Ириной у машины Хвостовых, а сам иду будить Женьку.
Полтретьего ночи подъезжаем к нашему дому — в машине семья Хвостовых, Саша с Ирой и я. Дома Лариса, она не спит, ждёт ночных гостей, нагрела воды, чтобы гости с дороги могли помыться. Через час садимся за стол, выпиваем за приезд все, кроме Жени — он за рулём.
В 5 утра выезжаем на море. Все хотят спать. Я, устроившись в багажном отделении машины, сразу засыпаю. Проснулся в Пшаде, а в 8 утра мы уже в Бетте. Устраиваем Сашу с Ирой на квартиру и идём на пляж.
Рынок на пляже дорогой: кружка пива — 9 рублей, небольшая рыбка — 50 рублей.
Накупавшись в море, утомлённые солнцем, в 16 часов выезжаем в Краснодар. Всё позади. Гости устроены. Всё пролетело стремительно. Теперь через пару недель смогу пообщаться с ними в спокойной обстановке.
2 сентября.
Саша с Ирой приехали с моря, оба чёрные, как негры. До 6 сентября есть время поговорить обо всём. Ира нам понравилась, они с Сашей чем-то похожи. Мало говорят.
6 сентября.
Вот и пролетело время короткого пребывания наших дорогих гостей. Сегодня ходили на рынок. Я купил свиной антрекот, готовил в цептер-посуде овощи, а на сковороде жарил мясо.
Вчера вечером проводить Сашу с Ирой собралась вся наша родня: Хвостовы, Андрей с Юлей, Наташа. Пили вино — много. Говорили, шутили. Андрей рассказывал о житье в частном доме у моей знакомой. Было весело и как-то необычно.
На вокзале мы с Ларисой помогали садиться им в вагон.
24 сентября.
На улице тепло, +25. Прошёлся по рынку. Подошёл к торговкам подписать договоры. Они хотят казаться грамотными, богатыми. На покупателей, которые вынимают тощие кошельки, смотрят с высокомерием. Думают, что у них какое-то преимущество. Не хотят понимать, что мы все оказались в одной лодке и плохо всем. Только одни пока сыты, а другие — голодные. Умрём все вместе. В одном доме подорвут или где-то в людном месте шарахнет. На рынке все смотрят за бесхозными сумками, боятся взрывов.
2 октября.
Встали рано, едем сегодня в Апшеронск. Вышли на остановку. Ждём. Нет ни одной машины. Водитель с автобуса кричит нам: — Уральская улица закрыта. 198-й дом заминирован. Движение только по улице Сормовской.
Мы пошли на конечную остановку. Сели в маршрутное такси. Все молчат, как будто это никого не касается. А в городе праздник — День города. Флаги, плакаты. С утра даже жарко, что будет днём?
В автобусе Ларису встретила знакомая, едет с подругой отдыхать в горы. В 11 часов мы в Гуамском ущелье. Красота природы завораживает. Вверх по ущелью идёт узкоколейная железная дорога.
Садимся в красный вагон и едем вверх, чтобы спуститься пешком. Поражает контраст температуры: кругом +30, а в ущелье +15 — мы даже надеваем куртки.
21 октября.
С утра было пасмурно, после полудня дождь, к вечеру — ливень с грозой и молнией. Сегодня семейный праздник — 27 лет совместной жизни. Ужинаем в зале за большим столом. Виталик любит сидеть за праздничным столом. Делимся впечатлениями. Лариса рассказывает, что в Краснодаре сегодня был Путин, он прилетел вручать награды лётчикам, затем на вертолёте улетел в Моздок, а с Моздока — в освобождённые районы Чечни. В средствах массовой информации об этом показали только по местным каналам.
3 ноября.
Золотая осень. Солнечно, тепло — +18. Среди жёлтых деревьев ещё много зелёных. Черешня вообще не желтеет, а так — зелёные листья и роняет. Прошёлся по берегу Карасунских озёр. Часть озера отгородили. Настроили домики под камышовыми крышами и деревянные сходни у воды для ловли рыбы. Вход — 100 рублей, ловля рыбы — до 5 килограммов. Даже озеро купили.
6 ноября.
Были у Иры на дне рождения. Всё как всегда: тот же стол, те же салаты. Разнообразие вносят танцы, видимо, под телекамеру. Танцуют все, даже тёща. В конце вечера за нами заехали Андрей с Юлей.
Дорога домой поразила нас. Ростово–Сочинская трасса смотрится ультрасовременно: дорожная разметка светится люминесценцией, в полосы вмонтированы катафоты, светящиеся при свете фар. Ограничительные бордюры горят красными фонариками. Создаётся впечатление тоннеля, и эта красота — в трёхстах метрах от нашего дома.
26 ноября.
Ещё вчера было +18, а сегодня на город тихо опустилась зима. Виталик ликует, он радуется снегу. Да, красиво, как у Пушкина: «Мороз и солнце — день чудесный».
В 10 утра смотрел дебаты Явлинского и Чубайса, смеялся, а они чуть не плакали. Сегодня должно произойти важное событие — подписание договора о союзе Белоруссии и России, но в связи с очередным запоем Б.Н. отложили до начала декабря. Идёт предвыборная кампания. Все мы — как перед премьерой остросюжетного фильма. Все говорят: «Посмотрим, что будет дальше».
27 ноября.
День был тёплым, +10, весь снег растаял. Виталик плачет, что им не разрешили в садике поиграть в снежки. Пришли домой, и вдруг за окном повалил снег — да такой обильный. Пришлось выходить на улицу, чтобы внук мог насладиться снегом. Но он уже таял, с деревьев капало, но мы успели слепить снеговика и играли возле него ещё целый час. Впечатлений у него было много, он хорошо ел, щёки красные, руки горячие. Здорово, когда много снега.
30 ноября.
Утро. За окном — белая красота. Деревья в белом куржаке. Тишина. Быстро завтракаю и иду на улицу. Краснодар непривычно тихий, спокойный, как будто сам очарован собой. Зелёный город превратился в белый, яркий город. Хочется смотреть на эту белизну, потому что дороги тоже белые. Во время белого безмолвия отдыхает душа, плохие мысли исчезают. Вот бы эту сказку на Новый год.
3 декабря.
Опять весна, кажется, что вот-вот зацветут деревья. Сегодня +15, солнце такое яркое — хоть загорай. Я пошёл пешком вдоль Карасунов. На воде множество уток — откуда они появились в таком количестве?
22 декабря.
Погода стоит весенняя, синоптики обещали хорошую погоду до +18 градусов тепла. Но ошиблись: к вечеру температура снизилась до +5 и пошёл снег, который тает, не успевая долететь до земли.
Правые сегодня празднуют победу. Ельцин поздравил Путина: «Медведь» даёт такую возможность сохранить преемственность власти. Вообще планы были другими. Хотели набрать думское большинство — левыми и центристами — 300 человек, сменить правительство, а затем упразднить должность президента, отменив президентские выборы. Но «Медведь» нарушил все планы.
Дали опять Жириновскому пройти в Думу, он был на всех каналах, а у нас в Краснодаре ежедневно крутили его выступления на канале «Екатеринодар». Вот и получил свои 6% — это плюс «Единству». Образован блок: «Единство», «ЛДПР», «СПС». Это позволит поставить своего спикера и поддерживать «семью» Ельцина и его реформы по ослаблению России.
Этот план НАТО будет претворяться в жизнь с помощью нашего тупого электората и рыночных торгашей, потому что рынок ведёт к перерождению интеллигента в преступника, которые могут даже убивать…
И всё-таки мне думается, что Б. Н. уйдёт досрочно. Он не захочет подвергать себя новым испытаниям с новой Думой.
27 декабря.
Приснился странный сон. Надо было ещё ночью записать. Сейчас 10 часов, но я попробую написать текст, который мне был продиктован во сне.
«Вы, счастливые люди, благодарите Бога, что дожили до этой поры. 31 декабря 1999 года в 00:00 вы перейдёте временную грань и окажетесь в другом измерении. Вам доведётся увидеть будущее, предначертанное Богом. Не бойтесь колебаний воздуха — это может сопровождаться гулом, вибрациями. Это происходит всегда, только вы этого не замечаете. В этот раз всё будет значительнее. Земля набирает обороты. После завершения цикла Земля изменит свою орбиту и траекторию движения. Все события будут проходить быстрее, чем это было во втором тысячелетии. Человечество станет частью вечности — вам суждено познать многое. Желаю вам понять это как можно лучше. Сомневающиеся уйдут из жизни сразу, потому что их мозг не будет в состоянии перепрограммировать организм на вечное существование…»
31 декабря.
Сенсационное сообщение в 12:00 в прямом эфире по всем каналам радио и телевидения: заявление Ельцина о добровольной отставке и передаче полномочий Путину до конца марта 2000 года.
Что повлияло на это решение? Видимо, Ельцин почувствовал, что новая Дума может консолидироваться с «левыми», и тогда — импичмент. А с позором Б. Н. уходить не желает.
Ну что же, этим тоже будет памятен последний год уходящего столетия.
В начале века
(Продолжение «Воспоминаний»)
Немного о политике
Что я, как человек, могу сказать или написать, чтобы быть услышанным? Да ничего! Потому что: «Главное уже сказано Создателем в двух книгах. В одной Он показал — Своё величие, в другой — Свою волю. Первая — видимый мир, Им созданный. Вторая книга — Священное Писание», — сказал Михаил Ломоносов. И всё же каждый человек имеет право высказать свою мысль — пусть даже не для широкого круга читателей, а только для самых близких. Итак, никто не ожидал, что Ельцин практически отречётся от «престола» в конце столетия и назначит преемника. Этим он хотел быть похожим на царя Николая II, но выглядело всё обыденно, даже смешно — как простой уход в «запой».
На меня это большого впечатления не произвело, хотя в дневниковых записях «Воспоминаний» я угадал этот его «царский» поступок. Действия Путина на посту президента я лично сразу начал оценивать как игру хорошего актёра. А если есть актёр, значит, должен быть и режиссёр, и сценарист. И мы начали смотреть этот политический спектакль, в главной роли которого был В. В. Путин. Его коронная театральная фраза — «мочить в сортире», мгновенно ставшая метафорой, меня лично покоробила, потому что она ассоциируется с «воровским» жаргоном. Значит, пока ещё «воры в законе» у власти?
Многим, например, нравилось, что президент молодой, что он красиво ходит, что умеет говорить, логично выстраивая литературные фразы. Странно — говорит он всегда ясно и понятно для каждого человека, даже совсем не разбирающегося в политике. Но вот что страшно: ведь многие его слова воспринимаются за чистую монету, и люди верят тому, что он говорит. Однако были и такие моменты, когда навёртывались слёзы: именно он возвратил нам гимн, которым гордились и спортсмены, и воины. Он возвратил нам праздник Великой Победы, отдав дань памяти и павшим, и живым. За это народ будет благодарен ему всегда.
Тревожно было на душе. Многие говорили, что начало века наступит в 2001 году, а не в 2000-м. Почему-то мне хотелось, чтобы век начался как можно скорее, чтобы с нуля можно было отсчитывать новую эпоху. Хотелось верить, что с этого времени начнёт возрождаться Православная Русь.
Потому что в начале первого тысячелетия родился Христос, и человечество с Рождества Христова начало отсчитывать новую эру. В начале второго тысячелетия Православие пришло на Русь, и тысячу лет страна не знала поражений, потому что народ православный был силён духом. Ни один народ мира не может быть таким стойким духом, как русский. Недаром в сказках говорится: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет».
Последнее столетие безбожия, перечеркнувшее историю Руси, принесло народу тяжёлые страдания — война и политические конфликты унесли почти треть населения страны. В начале третьего тысячелетия началось возрождение Православной Веры, которая вернёт русскому народу былое величие. В нашем Отечестве на государственном уровне будут приняты нравственные законы, заложенные в заповедях Нового Завета, чтобы общество и каждый человек жили по ним. Тогда всё будет ладиться — и в семьях, и в общественном деле, и в России.
И тогда Богородица Державная, взявшая на себя покровительство над Россией в момент отречения Царя от престола, даст нам силы преодолеть все трудности. Постепенно возрождался «Союз Русского народа» в России. В начале прошлого века его членами были такие знаменитости, как Фёдор Достоевский. По стечению обстоятельств мне довелось стать участником возрождения Забайкальского отдела Союза Русского Народа. В конце ноября 2005 года, после смерти мамы, я жил в Чите два месяца. Брат позвонил и попросил накрыть в его домашнем кабинете стол для чая: — Будут гости, — сказал он, — сейчас я с друзьями в храме. Просили у епископа Евстафия благословения на создание в Чите Отдела Союза Русского Народа.
Через полчаса в дверь позвонили. Вошёл Саша, за ним — С. М. Авдеев, кандидат философских наук, А. С. Яременко, бывший сотрудник КГБ, Вика, жена брата, и Дмитрий, алтарник Кафедрального собора.
Проходя в кабинет, они поочерёдно перекрестились перед иконой Владимирской Богоматери. В кабинете рассматривали уголок Николая II, карту царской России и имперский флаг (черно-жёлто-белый триколор).
Заседание прошло по-деловому, быстро и как-то торжественно.
Позже, уже в Краснодаре, я стал интересоваться деятельностью «Союза Русского Народа», главной идеей которого стали монархия и лозунг «За Веру, Царя и Отечество», и пришёл к мысли, что монархом может быть не только наследник, но и президент.
Написал в «Русь Православную», но поддержки не получил.
Прочтите и вы.
«Странные вещи происходят с нашими политическими идеалами. То, устав от тоталитарного гнёта, мы устремляемся к демократическим преобразованиям, то, ещё больше устав от таких преобразований, которые оборачиваются хаосом, начинаем требовать «крепкой руки», причём зачастую вчерашние радетели демократии оказываются в авангарде и этого движения.
Надо обратить внимание на то, как разрешилась антимония «демократия — автократия» в Священном Писании и в истории Государства Российского.
Обратимся сначала к первому тезису — о якобы существующем догматическом и мистическом различии между властью Помазанника и властью того, кто является лицом выборным. Сейчас модно доказывать, что если монарх — так непременно от Бога, а если президент — то чуть ли не от дьявола.
На самом же деле монархический и демократический принципы государственного устройства могут не исключать, а наоборот, дополнять друг друга.
Это иллюстрируется, во-первых, священной историей, а во-вторых — историей Государства Российского.
Воцарение Саула — первого на земле монарха — оплакано в Библии как событие столь же печальное, сколь и неизбежное. Если изначально теократический, послушный лишь Богу (вещающему через пророков и судей), народ стал настолько маловерен, что захотел жить по примеру «прочих», языческих народов, то и для маловерия есть своя свобода, поскольку Господь не может отнять у человека дарованную Им же, Творцом, свободу выбора.
Самуил, пророк и судия Израиля, просил Бога воспрепятствовать народному стремлению к «демократическим выборам» первого в истории монарха, но Бог ответил ему: «Послушай голоса народа,… ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними».
Итак, первый в истории монарх был избран народом. Избран был народом — по аналогичной причине — и первый русский царь династии Романовых. А ещё раньше, до Михаила Романова, народ избрал царём Бориса Годунова (вот уж кто, вопреки общему мнению, действительно был «первым всенародно избранным»! ).
Власть монарха не мешала, однако, развиваться представительной демократии. Вспомним, например, Земский Собор 1613 года. Заложенные в его основу демократические нормы были так высоки, что остаётся только завидовать нашим далёким предкам.
— Да, — опять возразят нам неомонархисты, — первый из Романовых был действительно избран, но ведь Церковь освятила наследственную монархию, освятив и Царственный Дом, и саму августейшую фамилию.
Конечно, Церковь не может не освятить и не благословить то, что своим существованием способно гарантировать политическую стабильность власти, удерживающей от зла и человека, и общество.
Да, православный правитель — подолгу веры и подолгу совести — обязан заботиться о христианском воспитании наследника, но кто может поручиться, что он непосредственно станет православным?
Вот и святая княгиня Ольга пыталась воспитать своего сына в «греческой вере», но Святослав не оправдал её надежд, и крестителем Руси стал только внук Ольги — равноапостольный Владимир.
Стало быть, сам принцип наследственной христианской монархии, будучи доведённым до своего логического предела, противоречит евангельскому учению о власти как «чадах Божиих».
Но как же самый чин венчания на царство? — спросите вы. — Разве не является он выражением силы Церкви? Разве не даёт он Помазаннику особую благодать?
Да, является, и даёт силу Божию. Более того, «греко-российская Церковь» настолько трепетно относилась к этому чину, что даже карала анафемой тех, кто такого отношения не испытывал.
Кроме того, сам чин венчания на царство, являясь, конечно, таинством — торжественной общецерковной молитвой, удостоверяющей с одной стороны миропомазанием, а с другой — скрепляющей общественный договор между народом и правительством.»
Капиталистическая действительность
В начале января 2000 года моя соседка, Голубкова Людмила, совладелица одной солидной фирмы, попросила меня в новогодние праздники поработать вместо диспетчера Ольги, у которой заболел ребёнок. Я согласился и затем так и остался работать диспетчером фирмы. Ольгу перевели на должность бухгалтера, и она стала моей наставницей.
Работа требовала постоянного напряжения. Это приблизило меня к реалиям существующего строя. Я вблизи увидел «новых русских», почувствовал ритм рыночной системы, пульс которой тоже бился в этом офисе, и я держал его в руках.
Когда в офис входил директор, я по привычке вставал, а он всегда, махнув рукой, говорил: — Сидите, не надо церемоний, — и уже из кабинета кричал: — Юрий Мефодьевич, зайдите ко мне.
В кабинете он обычно сидел на стуле верхом, сцепив руки на высокой спинке. Эта кавалерийская поза не вязалась с его официальным видом, но соответствовала ритму его деятельности и готовности в любую минуту сорваться с места для выполнения новой важной задачи. Он резко перескакивал с одной мысли на другую, любил разыгрывать собеседника, и никогда нельзя было понять — шутит он или говорит серьёзно.
Людмила всегда выглядела очень солидно, даже изящно. С гордо поднятой головой, украшенной модной причёской, она ходила по рынку под завистливые взгляды местных торговок. Входя в офис, она приносила с собой запах свежести и дорогих духов.
Тревога не покидала меня. Я знал, что мой отец болен, и что конец его жизни неизбежен. И вот, 26 августа 2000 года, брат сообщил мне, что папа умер. Это был первый серьёзный удар в моей жизни — сердце заболело, заныла душа. Наверное, так бывает у всех, когда теряешь самых близких, самых дорогих — родителей.
Конечно, я сразу же полетел в Читу на похороны. Лететь пришлось из аэропорта Минеральных Вод, ведь краснодарский аэропорт всегда перегружен. Но Господь всегда даёт возможность попрощаться с ушедшими, устраивая всё так, чтобы мы успели выполнить свой сыновний долг.
Чита встретила меня моросящим дождём, словно плакала вместе со мной. В аэропорту города я чувствовал себя плохо — почти ничего не видел, не замечал даже встречавших меня родственников и школьного друга Сергея Пака, который приехал на своей машине. Говорить не мог, слышал лишь обрывки фраз. Впервые ехал по городу без привычного восторга. Всё вокруг — серое и чёрное, других красок не было вовсе. Сердце постоянно ноет, и страх увидеть отца в гробу не отпускает.
Вхожу в квартиру — много людей, но я никого не узнаю. Вижу женщину, очень похожую на тётю Лёлю, а потом понимаю — это Валя. Он сидит скромно, в тапочках, руки сложены на коленях. Я кивнул ему в знак приветствия. Мама обняла меня, что-то сказала, но я не слышал — был в прострации, наглотавшись таблеток ещё в самолёте.
Гроб с телом отца стоит по диагонали комнаты. Я подошёл к нему, но слёз не было. Помню, как стоял с тонкой церковной свечой, священник читал молитвы, а у меня в висках гул, лоб покрывался испариной. Шепчу маме: «Мама, мне плохо…» Очнулся от резкого запаха нашатыря. Передо мной — две женщины, знакомая Ирина, жена Саши, делают уколы — сразу в обе руки. Затем дают крепкий, горячий кофе.
Саша говорит: «Гроб уже вынесли. Ты, Юра, сможешь пойти?» Я вышел на улицу. Там собралось много людей, выстроились солдаты с оружием. Гроб подняли на руки, подошёл друг отца — подполковник Тропин. Он положил цветы и сказал: «Прости, Гоша, что не мог подняться на третий этаж — ноги не ходят». Все звали отца Гошей, хотя по документам он был Мефодий Илларионович Полуполтинных. Интересно, если бы мы знали тогда равноапостольных святых Кирилла и Мефодия, отец был бы горд своим именем.
Едем в ритуальном автобусе рядом с гробом. Вдруг сквозь пелену дождя выглянуло солнце, и мы встали в небольшой затор. Кто-то начал возмущаться: «Почему так долго стоим?» А я подумал: «Куда торопиться?» Это были последние слова отца, о которых мне рассказывала мама. Теперь я часто вспоминаю этот дождь и солнце — думаю, что это не случайность. Ведь смерть — это таинство, и весь окружающий мир откликается на происходящее. Душа отца была рядом, потому что в этот момент мы увидели, как его лицо озарила едва заметная улыбка…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.