
Бесплатный фрагмент - Счастливой сути!
Часть 1
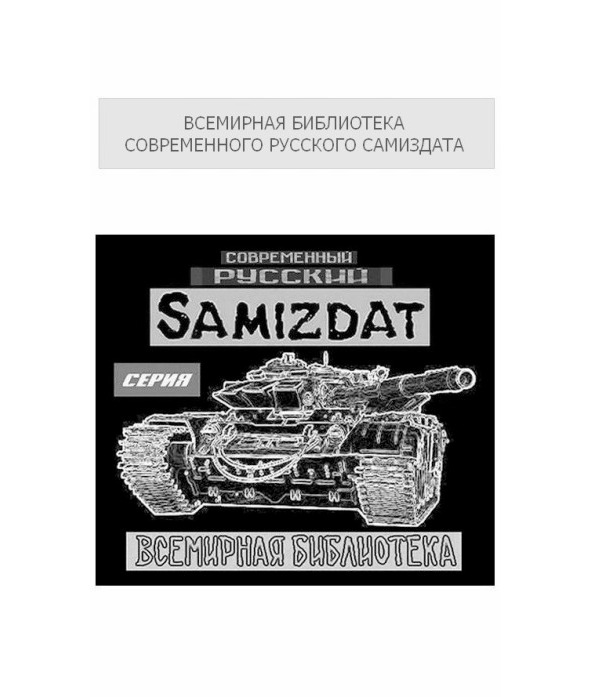
Предисловие
Первая публикация книги «Счастливой сути!» началась 4 июля 2016 года на страницах аномального паблика «Неформальные Всепогодные Новости» (Воронеж ИНФО-НВН), в разделе «Из полного собрания сочинений», в котором размещались отдельные произведения таких авторов, как Воль Неж, Владимир Воронежский, Вова Далёкий, Виктор Золотухин (Эш), Uri Pech, Владимир Котенко, Юрий Фетисов, Стас Фёдоров. В качестве иллюстрации, к этому эксклюзивному, неформальному изданию этой книги использовалась картина известного русского живописца Николая Трощенкова, выполненная в сюрреалистической манере. Заключительный же пост с растянутой по времени публикацией содержания книги В. Далёкого на страницах этого паблика был размещён 1 мая 2018 года.
Сам автор позиционирует свою книгу и её структуру в своих собственных специфических терминах, согласно которым, книга «Счастливой сути!», это — «романевич», состоящий из трёх, неразрывно связанных между собой отдельных «кусков», где одним из главных действующих лиц является мистико-реалистический герой — шатен. Пабликом «Неформальные Всепогодные Новости» публиковался только «первый кусок» этого очень необычного и очень интересного произведения.
Теперь, вашему вниманию предлагается бумажная версия этой же публикации, по праву вошедшей в книжную суперсерию «Всемирная Библиотека Современного Русского Самиздата».
Кусок №1
Водитель «девятки» краем глаза дружелюбно посмотрел на попутчика, для начала приятного дорожного разговора, поднявшего любимую тему всех водителей о некой, как бы, всем известной непорядочности и жадности работников ГИБДД.
«Да? А у меня о них, вот, немного другое представление. По своему личному опыту общения сужу. Первый случай такой мне запомнился. Я тогда ещё сам за рулём не ездил, прав у меня ещё не было. Возвращались мы, как-то днём, с отцом, на его «копейке», по курской трассе, домой, в Воронеж. И, как обычно, на спуске к мосту через Дон, где дорога расширяется, прибавили немного газу. И смотрим — вот они ГАИшники, показывают нам — останавливайся. Мы не поймём в чём дело. Останавливаемся. Батя из кабины выходит, предъявляет документы. В чём дело, так ещё и не понимает. А ГАИшник ему и говорит: «Нарушаете. Превышаете скорость». Как превышаем? Ехали не больше 90 км/час. «В том-то и дело, что 90. А знак вы разве не видели?» Оказывается, установили уже дорожные службы в начале спуска знак ограничивающий скорость до 60 км/час. А мы-то его, по привычке, и не заметили. Вот тебе и нарушение. А время было тогда тяжёлое у всех работяг, и, особенно у пенсионеров. Пенсии и зарплаты месяцами не платили, а тут ещё и такой удар по семейному бюджету. Поглядел их старшой на наши лица и на наш рабочий дачный прикид, и говорит бате: «Штрафовать вас на этот раз не стану. Впредь будьте внимательнее. Вот ваши документы. До свидания. И вспоминайте добрым словом семилукское ГАИ».
С тех пор вывод я для себя сделал простой: ГАИшники это такие люди, которые зря тебя тормозить не будут, но могут, даже если ты и виноват, отпустить безо всяких финансовых санкций, если твоё финансовое положение наглядно неблагополучное.
И что самое интересное, вскоре я опять же стал непосредственным свидетелем аналогичного случая. Мой хороший знакомый тогда ездил на видавшей виды жёлтой «шестёрке». Сидел без работы и однажды попросил меня махнуть с ним в деревню к тёще за картошкой. На подъёме в гору был знак «Обгон запрещён». Впереди, прижимаясь к обочине, ехал трактор. Конечно же, мы его аккуратно, обогнали. И, конечно же, нас сразу же, там же, на подъёме, остановили ГАИшники. Мой приятель, не вступая в бессмысленные споры, тут же взмолился: «Ребята, Христом Богом прошу, не штрафуйте. Жить не на что. Выбрался, вот, за картошкой к тёще. Спасибо, друг помогает, и канистру бензина дал, и съездить со мной согласился». Про канистру он на ходу присочинил, но с деньгами у него, действительно была в ту пору полная ж-па. И, представь себе, работники ГАИ поняли это безо всякого труда. Хмуро отдали права, сказали: «Больше не нарушай», и всё на этом таким благополучным образом для моего знакомого закончилось.
Сам я водить машину начал, примерно, класса с восьмого. Отец меня научил. Практиковался, в основном, за городом, сначала по грунтовкам, а потом и на трассе. Но жизнь сложилась так, что на права я пошёл учиться только лет в сорок. Годик поездил на «копейке», оставшейся от отца. Это было уже в начале двухтысячных. Раза два пришлось съездить в Москву. И за обе поездки только один раз остановил меня гаишник. Было это ночью, зимой. Мы проезжали стационарный пост ГАИ на трассе, и по сигналу постового, припарковались у них на площадке. Он подбежал вслед, и не обращая внимания на приготовленные мною документы, сказав: «У вас не горит правая фара. Будьте осторожнее. Счастливого пути», поспешил назад. Но приостановился, обернулся, крикнул: «Какого года машина?» и услышав «1972 –го» побежал дальше, своей дорогой. А мы поехали дальше, своей, на Москау…
Не знаю, с каких пор повелось называть «Жигули» первой модели «копейками», но мы свою машину так никогда не называли. Тогда, в начале семидесятых, это был самый современный в СССР автомобиль. Представляешь, целый завод купили в Италии. Получается, что и тогда наши властители особо не парились насчёт собственного развития собственных производственных технологий. Тупо или крали или закупали на западе уже готовое. Но завод в Тольятти отгрохали, конечно, громаднейший. Название для новой легковушки выбирали, как бы, всей страною. Мне оно сразу не понравилось. «Жигули». Не подходящее для машины название. Да и её внешний вид особо-то не впечатлял, а скорее даже разочаровывал. Впечатляла стоимость. Многие советские граждане вообще не могли и мечтать о такой покупке. И, в то же время, желающим приобрести новое авто приходилось записываться в очередь и ждать счастливого момента годами.
Отец мой работал на знаменитом ВМЗ. Там, под грифом «секретно», выпускали двигатели третьей ступени для ракет. В том числе и для той, на которой запускали в космос Гагарина.
Батя был с последнего военного призыва, осени 1944 года. Попал сначала на Урал, а оттуда после курса обучения, повезли их на Дальний Восток воевать с Японией. Но пока добирались до места, война закончилась, японцы капитулировали. А часть, в которой оказался батин друг, односельчанин, Алексей, с которым вместе они призывались, успели перебазировать и кинуть в бои. Там он, Алексей и погиб.
Во Владивостоке молодых бойцов пехотинцев стали распределять по разным действующим частям. Отца отобрали для дальнейшей службы на флоте, корабельным мотористом. Но какой-то другой офицер отвёл его в сторону и сказал: «Слушай, зачем тебе нужен этот корабль? Ты же в этом моторном отделении света белого видеть не будешь. Давай к нам, в морскую авиацию!». Бате очень хотелось в море, но офицеру всё же удалось его убедить, и он согласился: «Только меня же, ведь, уже записали в моряки». Морлёт лишь ещё больше взбодрился: «Решим вопрос!».
Так батя оказался на легендарном острове Русском в учебном подразделении. Освоив специальность оружейника, он был направлен на аэродром, располагавшийся недалеко от порта Ванино. Семь лет он отслужил в морской авиации Тихоокеанского флота. Демобилизацию, в связи со сложной внешней политической обстановкой, постоянно откладывали.
С одной стороны, не позавидуешь — семь лет срочной службы. А с другой — вроде, как даже, и повезло. Сам представь. Жил в деревне. Жили бедно и голодно. Настолько голодно, что людям, порой, приходилось идти на самые крайние шаги. Бате было года четыре, лет пять, когда его привезли в Воронеж, чтобы оставить на вокзале. Но он тогда ничего даже и не понял. Старшая сестра не смогла бросить брата. Посмотрела уже со стороны, как он стоит один, ничего ещё непоправимого не предчувствующий, маленький, с доверчивым любопытством оглядывающийся по сторонам, терпеливо ожидающий её, как ему и было сказано, и не смогла. Узнал он об этой истории от чужих людей, когда приезжал в армейский отпуск. Сначала обозлился на мать страшно, а спустя немного времени, успокоился, смог понять, и впредь всегда относился к ней, как и прежде, с любовью и по-доброму.
Отец его, мой дед, после коллективизации сразу рванул в город, хотя сделать это было очень непросто, паспортов-то на руках ни у кого не было. Но самые непокорные всё равно находили пути. Всякие нужные справки добывали. Всё бросали. Так и дед. Через знамых людей обзавёлся справилой, нашёл себе в Воронеже работу с общежитской халупой и с пропиской. Семье, как мог, помогал какой-никакой копейкой, навещал с гостинцами. Но жизнь-то, всё равно уже, и у семьи и у него, была обездоленная какая-то. Хотя, батя мой отца своего любил. При случае бывал у него в городе.
А тут, вдруг, вот тебе и война. Деда мобилизовали. Служил он в инженерных войсках. При наведении мостов, часами случалось стоять по пояс в ледяной воде, а то и под обстрелами. Но он выжил. Прошёл всю войну. И снова вернулся в свою общежитскую четырёхместную комнатушку, к своей прежней работе на «холодильнике».
Деревня же оказалась на оккупированной немцами территории. Сразу кто-то выдал председателя, не успевшего уйти за Дон и вернувшегося домой. Не смог кто-то простить ему. Сдали под расстрел.
При немцах стало ещё хуже. В любой момент можно было попасть в немилость и лишиться жизни. По самому краю ходили все — и стар и млад. Постоянно. В любом ненормированном случае меры ко всем могли применяться драконовские.
Когда наши отступили, несколько деревенских подростков, лет по 14—15, среди которых был и мой батя, на одном из оврагов, за селом, нашли укрытие и брошенные винтовки. Тут же устроили развлекательную пальбу. И хорошо ещё, что успели вовремя заметить мчащихся из деревни к тревожному месту мотоциклистов. Едва сумели убежать оврагами. А вот мой дядя, младший брат бати, отчаянный шкет, которому тогда было лет 8, попробовал утащить у немцев из палатки пачку сигарет, а заодно прихватить и пистолет. Не удалось только благополучно покинуть место преступления. Его поймали и поволокли за околицу расстреливать за воровство, да к тому же, оружия. Мать чудом успела притащить старосту-переводчика, бывшего в Первую мировую в германском плену, который чудом уговорил начальника не убивать мальца.
Угоняли людей и в Германию. За старшой сестрой, моей тётей, тоже пришли. Полицай и немец. Она болела и лежала на кровати. Матери дома не было. Полицай схватил сестру за руку и потащил беззащитную девушку к двери. Батя бросился на него. В борьбе тот оттолкнул подростка от себя, и вскинув винтовку попытался выстрелить в него. Но немецкий солдат успел помешать, а потом дал команду никого не трогать, и ушёл, сопровождаемый послушным христопродавцем.
Случались и просто чисто бытовые незначительные происшествия.
В одной из хат квартировался немец, шофёр. Как-то он оставил свои сигареты на столе, а старый дедок, хозяин, возьми и вытяни из пачки одну штучку, попробовать, какой он на вкус оккупантский табачок. Думает, не заметит же квартирант такую пропажу. Немец вечером подзывает деда к себе: Пан, ты, мол, взял сигарету? Дед крутит головой: да нет, не брал я ничего такого. Немец — хлесть деду по лицу: «Никогда не ври, пан». Хлесть второй раз по лицу: «Никогда не воруй, пан». Подаёт ему всю эту пачку сигарет и говорит: «Бери, пан. И без разрешения больше никогда ничего не трогай». После Польши они всех наших мужичков «панами» звали.
Или вот, двоюродный брат моего отца рассказывал историю. Он тоже в той же деревне жил. Лет двенадцать ему тогда было. Пас он на взгорке козу. Смотрит, останавливается рядом на дороге грузовик. Выходит из кабины водила. Не немец. Финн. Открывает капот. Достаёт ведёрко и командует пацану: Беги, мол, быстро, сюда! Давай, дуй к колодцу за водой! Мальчишка отказываться: «Не могу козу бросить. Сам беги». Финн суёт ему силком ведро в руки, злится: «Беги за водой!». Пацан ни в какую. Не берёт ведро, упирается: «Не побегу. Беги сам». Финн, тогда, бить его. А неподалёку несколько немцев отдыхало. Смотрели что происходит. Поднялись быстро, подходят: «Ты за что бьёшь ребёнка?». Финн объясняет им, что и как. Они ему и говорят, финну: «Взял ведро и побежал к колодцу за водой! Бегом! Туда и обратно бегом!». И пинков ему вслед, для скорости. Сбегал финн. Получил ещё в придачу от старших союзников, в кабину влетел и по газам, подальше от этого русского «беспризорника» несгибаемого и от этих неблагодарных немцев. «Финны очень злые на нас были. Немцы не такие. Они были справедливее» — говорил мне двоюродный мой дядя, спустя уже больше 40 лет после войны. А в Питере теперь, видите ли, Маренгейму памятную доску торжественно открыли русский министр образования и глава президентской администрации. Охренеть, как всё в этом мире поперевернулось после 90-го. Так, он ещё, что рассказывал. Немцы, когда отступали, подарили ему две пары отличных лыж, карты игральные и ещё каких-то вещей хороших. Вслед пришли наши передовые разведчики. Всё себе на ходу забрали. И лыжи и карты и вещи. Не знал он ещё тогда, что, оказывается, и от своих прятать нужно было.
Или вот ещё интересное сопоставление: немцы быстро организовали работу и проложили от станции до райцентра многокилометровую узкоколейку, которую после освобождения наши, зачем-то, ещё быстрее взяли и разобрали.
У бойцов передовых разведгрупп доля, конечно, была нелёгкая, поэтому их жёсткость, даже иной раз и по отношению к своим, понять можно. Главное, что они выполняли свою непростую боевую задачу. Выполняли, или погибали при выполнении. Рассказывают, что в плен они никого не брали. А если местные жители указывали на убеждённых фашистских пособников, то ни на какие дополнительные выяснения время тоже не тратилось. Полицаев, холуев немецких, подвернувшихся таким образом под руку, стреляли, где придётся, и продвигались дальше, вперёд. Но вот на старосту, из деревенских никто указывать не стал. Знали, что назначили немцы его старостой сами, помимо его воли, за возраст, образованность и знание языка. И очень много он сумел сделать для односельчан, спасая не только от случавшихся опасных передряг и невзгод, но было, что и от смерти.
Никто никаких претензий не имел и к брату моего деда. Он в начале войны попал в окружение. В старости уже, рассказывал мне, как всё потом было. Разбежались все врассыпную. Вдвоём, говорит, с совсем молодым парнишкой брели мы брели, голодные, оборванные. Кругом немцы. И в один из дней сидим во ржи, зёрна еле жуём. Тощие оба, измученные. Я ему говорю: «Давай решать, что делать дальше будем. Больше мы с тобой идти не сможем. Вот пистолет. Давай или сами застрелимся, или встаём, и если убьют, так убьют. А в плен так в плен. Мне сейчас всё равно. Выбирай». Ну и решили, что встанем, и будь что будет. Поднялись вдвоём среди поля. Ждём пуль. А немцы, какие на мотоциклах проезжают, на нас и не смотрят. Потом, глядь, один останавливается. Машет: идите сюда. Посадил он нас, одного сзади, одного в люльку и повёз в село, в часть какую-то. Накормили нас там…
Определили они его в обоз. Так он добрался до курской области. Через кого-то передал письмо жене. Немцы тогда ещё даже и из накопительных лагерей не редко отпускали по домам тех, за кем родственники приходили. И его тоже жена сумела вытащить. Добралась, нашла, что-то там кому-то проплатила и всё. До прихода наших, жил он дома, в деревне. И немцы его не трогали, хотя два его брата, тем временем, продолжали стойко воевать против них. Когда деревню освободили, его, как положено, допрашивали особисты, проверяли. И тоже, ведь, не стали губить жизнь человеческую. В итоге, снова его призвали в действующую армию, где он и провоевал с 1943 года до самой Победы. И все три брата вернулись с войны живыми, и, в общем-то, невредимыми. А бабушки моей брат, танкист, погиб в 1942 году. Вроде бы, в Новгородской области, в деревне Никольское.
Под Воронежем тоже Никольское есть. Кладбище там, рядом, большое городское, Никольское. Тётя моя там похоронена, младшая сестра батина. И дочь с нею её. Ненадолго мать свою пережила, быстро без неё совсем спилась. А могла бы и не спиваться. Выучилась на ветеринара в Конь-Колодезном. В цирке работала. За границу даже ездила…
И друг у меня там похоронен. Вместе росли, учились. Он стрельбой со школы занимался. У нас там в подвале тир был. Там он и добивался своих первых спортивных результатов. В соревнованиях успешно участвовал. Когда в армию пришло время идти, ему, по спортивной линии, помогли остаться в Воронеже, при Авиационном училище. Потом закончил институт спортивный. Стрелял постоянно. Но перешёл уже на боевое оружие. Тренировался в Шиловском лесу. Я тогда, году, примерно, в застойном 1979-м, учился в универе, и, как-то вместо занятий махнул к нему на Шиловское стрельбище. Весна уже была, теплынь, на стрельбище безлюдно. Сначала на одном рубеже он дал мне пострелять из Макарова. А до этого я только из мелкашки, и один раз из карабина Симонова на курсах уроков НВП, стрелял. Из пистолета потруднее оказалось, хоть мишень, вроде бы и близко. Он мне подсказал, как нужно. Лучше стало получаться. Потом перешли на другое место, стрелять из АКМ, с позиции лёжа. В армии мне потом всё это пригодилось. А тогда он ещё мне и из трёхлинейки с оптическим прицелом дал выстрелить пару раз. Прицел высоко закреплён. При желание можно и на обычную мушку мишень брать. Я решил попробовать. Слышу: «Осторожнее!», а уже и на спусковой крючок нажал. От отдачи, сильнейшим ударом оптики мне бровь рассекло. Чуть-чуть не успели предупредить. Опытные стрелки помогли обработать ранение, приговаривая: «Как же ты так быстро-то. Ну, теперь и сам будешь знать. Это ты ещё легко отделался. Счастливчик».
Работать друга моего устроили в пожарку. Занимался он параллельно и тушением пожаров и стрельбой. И на пенсию вышел рано. Но и тогда его не бросили, оформили в оружейный магазин на «Динамо». Летом он любил съездить на рыбалку на своём универсале ВАЗ-2110. Как-то остановившись на дороге, и открыв дверцу, он поприветствовал меня и радостно поделился сообщением: «Еду на рыбалку, с ночёвочкой!». «Давай! Счастливо отдохнуть, порыбачить!». Сам-то я не любитель всего этого, но и против таких увлечении ничего не имею, наоборот, поддерживаю. Через несколько дней встретился с ним на нашей улице. В первый раз за всю жизнь он был в сильнейшем подавленном состоянии. Я у него успел только спросить «Как ты?», но он уже двинулся дальше, в сторону дома: «Да, ничего…». Появилось тревожное ощущение: «Может быть, заболел не на шутку? Или что-то случилось?». А ещё через несколько дней его не стало. Шёл вечером из «Динамо» к остановке, и, говорят, плохо стало с сердцем. Упал. Лежал какое-то время один. Людей никого поблизости не было. Так и умер. Но так ли всё было на самом деле, теперь уже мы никогда не узнаем.
Жизнь пролетает, оглянуться не успеваешь. Недавно, вроде бы, ещё пацанами бегали, играли, округу осваивали, в школе учились.
Не знаю, как кто, а я в школу ходить не любил. И детский сад тоже не любил. Любил отца своего и мать.
В детсад меня водили мимо разрушенного, наверное, ещё войной, большого мрачного здания из красного кирпича. Кажется, это была церковь. Место производило тягостное впечатление. Такого поблизости нигде уже не оставалось. Потом руины, всё-таки, снесли и построили, от мехзавода, светлый, современный Дворец культуры. В нём, в восьмидесятых появилась студия, на которой наш, воронежский «Сектор Газа» альбомы первые записывал. Кстати, Хой, лидер группы, какое-то время ГАИшником служил. На днях по ТНТ показывали передачу, из серии про экстрасенсов, посвящённую всяким странностям, связанным с очень уж неожиданной смертью самого Хоя, а затем и его музыкантов. Почему всё так случилось — тоже не понятно. Соло-гитарист недалеко от меня жил. Нас приятель мой познакомил ещё до того, как он в «Секторе» стал играть. Он ко мне заходил, я к нему. Хороший парень был. Спокойный, приветливый, высокий, симпатичный. Трудно ему было без востребованности. Настоящему, талантливому музыканту всегда нужен спрос для возможности творческого самовыражения. Потом встретились мы с ним на трамвайной остановке возле нас, вижу, он как-то, внутренне живее стал, как бы опоры обрёл какие-то. Но и всё равно, чувствовалось, что не до конца он в них уверен, в опорах этих. Спрашиваю его: «Как жизнь?». Он говорит: «Сейчас в „Секторе Газа“ играю». Вижу: и рад он, вроде, что нашёл для себя место такое, а вроде, как и смущается, от чего-то, в глубине души. Но в группу он вписался очень хорошо, и проявился там по максимуму. С Хоем они плотно скорефанились. Жаль, что всё так оборвалось трагически. Я, когда узнал, что с ним произошло, чуть не заплакал. Говорят, что нашли его у аэродрома нашего, военного. Говорят, что тяжко ему было одному после случившегося с Хоем, с «Сектором».
Через взлётное поле этого аэродрома, я вместе с ребятами, в детстве, ездил в Долгий лес. На велосипедах, типа «Орлёнок». Пытались там свои раскопки вести на месте боёв. Любая найденная вещь времён войны несла некий мистический смысловой заряд необъяснимо притягательной силы. Землю прощупывали проволочным прутиком. Но находок у нас было немного и поиски после нескольких поездок были прекращены. Один только из нас в дальнейшем, всерьёз увлёкся поисковым делом. Видел я его, как-то, по телевизору в «Воронежских новостях», несколько лет тому назад, на раскопках. Другой мой знакомый, уже в двухтысячных, организовал свой отряд, при доме пионеров, кажется, в Комминтерновском районе. Приглашал, как-то, и меня съездить в экспедицию, но я отказался. Во-первых, формальные структуры никогда меня ничем не привлекали, во-вторых, работы своей всё ещё выше крыши, а в третьих, и возраст уже не тот…
На обратном пути, мы обязательно старались промчаться и по самой взлётной полосе. У меня был прибалтийский велосипед, серого цвета, и по конструкции немного не такой, как обычный «Орлёнок». Я его называл «Дракон Эс — 35», т.е. так же, как назывался зарубежный истребитель, пластмассовую модель которого, изначально состоящую из отдельных серых деталей для склеивания, мне тоже купили родители. И ещё у меня была модель пассажирского ТУ-104. Но мне, конечно же, больше нравился истребитель.
Очень классно было промчаться на своём прибалтийском двухколёсном «Драконе Эс — 35» по настоящей взлётно-посадочной бетонке нашей советской самой настоящей военно-воздушной базы. Никто этому не мешал. Вокруг было пусто. Полоса была в полном нашем распоряжении. Нужно было только смотреть, не идёт ли на взлёт или на посадку самолёт.
Немного позднее, на аэродроме появились необычные двухкилевые, двухкабинные МИГи. Однажды, один из них разбился, упав в поле рядом с аэродромом. Оба лётчика погибли. Для всех это стало печальным, горестным событием. Всем хотелось, чтобы самолёты наши никогда не разбивались и лётчики не погибали. На нашем аэродроме больше таких случаев я не помню.
Но потом уже пошли и боевые потери: Афганистан, развал СССР, Чечня, Грузия… Сейчас — Сирия. На днях вертолётчики погибли на «Крокодиле». Тоже двое. Сразу в интернете видео опубликовали, для всех, кому интересно. А интересно всем. Что-то непонятное происходит в мире. Толком не поймёшь, куда всё идёт, развивается человечество, или деградирует?
В Великую Отечественную, при освобождении наших советских территорий от фашистских оккупантов, у меня погиб дед, мамин отец. Под Луцком. Точное место захоронения, по сути, до сих пор нам неизвестно. С большой долей вероятности — в самом Луцке, в братской могиле на Мемориале Славы, на теперь уже бывшей части некогда «единого и нерушимого» СССР.
А в Риге жил двоюродный брат моей мамы. Они из Боброва. Вместе росли, и так на всю жизнь и сохранили самые добрые родственные отношения. Он поступил в военное училище. Стал офицером. Со временем попал в порученцы к генералу армии Хетагурову, командующему Прибалтийского военного округа. И по окончанию службы, в звании полковника, остался в Риге. Всегда, при случае, заезжал к нам и останавливался на несколько деньков. И родители мои не раз ездили в Ригу. Умер он в 1983 году. Я служил на Дальнем Востоке и мне сообщать не стали. В последний раз съездили туда, на похороны. А после развала СССР, квартиру у его семьи отобрали. Вдову, после поездки к дочери в Москву, назад в Латвию не впустили. У неё к тому времени была ампутирована нога, но на это, получившие независимость «цивилизованные» латыши не обращали совершенно никакого внимания. Вскоре, тяжёлая болезнь и навалившиеся на старости лет жестокие испытания взяли своё. И теперь — его могила на рижском кладбище, а её на московском. А в Прибалтийском военном округе теперь натовские оккупанты к войне против России готовятся. Кто всё это допустил в наших верхах? С какой предательской, разрушительной целью? Почему продолжают позволять твориться такому на территориях бывшего СССР? Могли же и независимые прибалты мирно жить с нами, в дружбе и в нормальном общении. И, разве, они, прибалты, сами не понимают, что вместе с финнами показали нам и всему миру, что не достойны они были предоставленной нами им полной, бесконтрольной свободы? И неужели они не понимают, к чему их приведёт их бесчеловеческая ненависть? Самолюбивые, ничтожные слепцы.
Впрочем, разделить людей, и сделать из них смертельных противников не сложно. И в самой природе человека есть самые разные составляющие, вынуждающие его, с одной стороны, стремиться к объединению с подобными себе, а с другой — видеть, при определённых обстоятельствах, в любом другом человеке потенциального конкурента, или, вовсе, врага. Чуть ли не все бытовые кровавые драмы и убийства, по существу — абсолютная бессмыслица. Но никакие разумные доводы не способны влиять на персональные и коллективные человеческие страхи, амбиции, капризы, вспышки ярости и агрессии. И каждый человек, неожиданно для себя и для всех, может оказаться, как в положении виновного, так и в положении жертвы. Однажды, году в 1978, в университетском общежитии у памятника Славы, в вестибюле, на первом этаже проводилась праздничная дискотека. Парень с нашего курса, поступивший после рабфака, уже отслуживший в армии, повздорил со студентом с другого факультета. Сам он был крепкий, всегда спокойный в общении человек, но в этот раз, всё для его обидчика, или соперника, кончилось плачевно. В ход пошёл, принесённый сразу после ссоры из жилого отсека, кухонный нож. Смертельный удар пришёлся в область живота. После этого наш сокурсник скрылся в неизвестном направлении. В бегах он продержался, наверное, около года. Сдался сам. В основном, все мы, на факультете, были на его стороне, но ничего изменить и исправить уже никто не мог. Его судили. Он получил срок.
У людей взрослых, не редко, всё усугубляется воздействием спиртного. Но у детей и без спиртного жестокость в конфликтных ситуациях, зачастую, переходит всякие границы простейшего благоразумия. Отчасти, можно объяснить это желанием примитивно подражать взрослым. Но, в большей мере, здесь проявляются некие природные инстинкты каждого отдельного человеческого «Я», поскольку люди рождаются с уже определёнными личностными задатками, и существуют в мире ограниченных ресурсов, естественного отбора в условиях то природных, то социальных стихий, слишком индивидуальной сущности представлений о собственной реальной и желательной жизни, и постоянно существующей угрозы собственной гибели. И каждый должен, с самого начала существования, неустанно проявлять и утверждать себя шумом, капризами, смышлёностью, привязанностями, ловкостью, силой, изворотливостью, смелостью, умением, талантом, понтами, удачливостью, оптимизмом и т. д. и т. п. Чем кому и чем когда сподручнее. Иначе, ты можешь оказаться в бедственном положении. Ведь, даже у самых влиятельных и всесильных особ этого мира жизнь никогда не делается раз и навсегда гарантированно обеспеченной, безопасной и счастливой.
Видимо, понимая это, современные правители развитых стран смотрят сквозь пальцы на карикатуры, анекдоты, приколы, насмешки, критические замечания, а порой даже и откровенные оскорбления в свой адрес со стороны верно и неверно подданных. В прежние же времена, тоже понимая зыбкость своего сверх привилегированного положения, монархи и правители, наоборот, старались всячески укрепить занятые позиции, деспотическими методами управления, беспощадно карая всякого рода политических шутников, вольнодумцев, смутьянов, бунтарей и революционеров.
Отец мне рассказывал, как у них в части морской авиации, под Сов. Гаванью, во второй половине сороковых, под политическую статью попал неудачно пошутивший матрос. Вечером свободные от нарядов военнослужащие собрались в ленкомнате, пообщаться, отдохнуть, побалагурить. Один из них заметил, что со стены убрали портрет какого-то члена партийного Политбюро, и, показав на это место, весело прокомментировал: «На одного хрена меньше стало!». На следующий день его арестовали. Всех, присутствующих в момент произнесения невольным подстрекателем преступной фразы, допрашивали. При этом, нужно было объяснить, почему лично ты не отреагировал должным образом, или по какой причине не услышал, или, где в это время находился. Выкручивались, кто как мог, лишь бы не усугублять судьбу своего товарища. Отец сумел выбраться из сложного положения, сославшись на то, что, видимо, как раз тогда не надолго выходил из комнаты, хотя, на самом деле, выходил он несколько раньше. Но уйти от дачи свидетельского показания, подтверждающего факт происшествия, под нешуточным напором работников особого отдела удалось не всем. Стукач очень подробно изложил всю хронологию события. Несчастный парень получил внушительный срок. Вычислить доносчика не удалось, и впредь, в этом отношении, все старались быть осторожнее.
В Боброве, откуда родом моя мать, в годы репрессий всё происходило более масштабно и наглядно. И среди наших родственников тоже были пострадавшие. Дед моей мамы попал на Соловки, после того, как отказался вступать в колхоз. Не знаю, сколько лет он там пробыл, когда поехала за ним его жена и выкупила, точно так же, как потом, в войну, выкупали жёны своих мужей из немецких лагерей. Рассказывала она, что там, в Соловках, спали все в ряд, чуть ли не на земле, к которой, к утру примерзали волосы. После каторжной работы и таких испытаний и у тех, кто выживал, здоровье становилось никуда не годным. Но дед выдюжил, и, вернувшись в Бобров, всё равно не стал записываться в колхозники. Возил председателя сельсовета. Однажды, в дороге, то ли от выпитого с председателем, где-то подвернувшегося им спирта, то ли от нажитых на Соловках недугов, его парализовало. Зять, отец моей мамы, ухаживал за ним до самой войны, а когда уходил в солдаты, дед плакал: «Егорушка, кто же теперь мне будет помогать?» И уже в сентябре умер.
Нам, в начале восьмидесятых, конечно, тоже доводилось спать на морозе в армейских палатках во время полевых выездов на полигон «Князь Волконский», под Хабаровском. Лежали в навалку на деревянном помосте, одетые в бушлаты, ватные штаны, в валенках, в шапках с опущенными и завязанными ушами. Печка только дымит, но не греет. Холодно, голодно, дышать нечем, на ногах у тебя тоже кто-то лежит. Не повернуться, не пошевелиться. Ужас. Ждёшь в кошмарном полузабытьи, когда же ночь закончится. Питаться приходилось и мёрзлым хлебом с банкой мёрзлого минтая в томате на двоих. Но это же, ведь, не годы, а максимум, 5 мучительных ночей и дней. Но уже и после этого, в отапливаемую казарму, на белые простыни своей солдатской кровати, возвращаешься, как в дом родной.
У двоюродной сестры моей бабушки свёкор тоже был сослан на Соловки, после «раскулачивания». И она, сестра моей бабушки, тоже поехала туда, за свёкром, заплатила какому-то начальству выкуп, и привезла арестанта домой.
И ещё двое маминых дальних родственников попали в лагерные жернова в 1938 году. Случалось, что таких заключённых гнали колонной по городку из тюрьмы к железнодорожной станции. Люди выбегали из домов, искали среди этапников своих родных, просто передавали, кому придётся, какие-то продукты. Оба вернулись после войны, измученные, больные, обречённые, ненадолго пережив погибших на фронтах, прошедшей дальней стороной от них Великой Отечественной.
Двор моего деда, отца моей мамы, находился, как раз, прямо напротив Бобровской тюрьмы, рядом с двором его отца, после которого, в том же ряду, располагался двор его деда. А за огородом — двор тестя, того, что был сослан на Соловки, а потом парализован. Получается, что держались все вместе, рядышком, как бы единым целым, хотя личное хозяйство своё каждый вёл сам по себе, по своему.
Территориально эта часть улицы Парижской коммуны относилась к Чукановскому сельскому совету, колхоз «20 лет Октября». В отличие от несломленного ссылкой тестя, дед мой состоял в колхозе. Выполнял самую разную работу, а зимой, в основном, на своём дворе ухаживал за колхозными жеребятами. В свободное время, вечерами и ночами, подрабатывал тем, что валял валенки. Научился он этому ремеслу у заезжих мастеров, сбывавших в Боброве готовую продукцию и останавливавшихся на постой в его доме. Труд этот тяжёлый, требующий времени, терпения и сноровки. Кроме того, нужно иметь специальные приспособления и материалы.
Дед старался обеспечить семью, и очень хотел, чтобы его дети выучились, получили образование. И жизнь, постепенно, становилась лучше. Перед войной он даже пристроил к хате ещё одну комнатку.
Повестка ему пришла в августе 1941 года. Он работал в поле, был сев, и маму (ей тогда только исполнилось 11 лет) послали за ним. Она ещё не понимала, что ничего хорошего эта повестка их семье не несёт. Назад ехали с отцом на телеге…
Ему предлагали устроиться работать в тюрьму, чтобы не забрали на фронт, но он отказался, не захотел быть охранником над людьми. Из Боброва был направлен в Моршанск, один, поездом, в своей, гражданской одежде.
Служил при лётной части. Был ранен. Лечился в госпитале на Урале, в Магнитогорске.
На фронт возвращался мимо Боброва, но эшелон там не остановился, и родных увидеть не удалось.
А в апреле 1944 года он погиб. На Украине, под Луцком.
Проводив мужа на фронт, бабушка моя осталась одна, с пятью детьми на руках. Да ещё требовался уход и за больным, парализованным отцом. Но, он, лишённый основной психологической опоры — внимания и заботы зятя — в сентябре умер.
Когда меня провожали в армию, в 1981 году, неожиданно, вдруг заплакал один из моих дядей, муж старшей маминой сестры. Все выпивали, и я подумал, что это обычное выражение чувств, по ходу застольной церемонии, без особого смысла растревоженных спиртным, но, вскользь, невольно обратил внимание и на то, что больше никто во время всего традиционного мероприятия, называемого «проводами», не проявлял своих внутренних ощущений настолько эмоционально. Года через полтора, мне из дома пришло письмо, из которого я узнал, что дядя умер. Едва сдерживая слёзы, сидя на табуретке в казарменном помещении, я, почему-то, сразу снова вспомнил о его переживаниях в день нашего расставания. Как будто всё уже тогда было предопределено, и даже частично наглядно предначертано всем нам. А вот моя бабушка, по отцу, напротив, провожая меня, сказала, спокойно, так, словно знала каким-то уже данным ей откуда-то знанием, что дождётся моего возвращения, и потом лишь уйдёт в мир иной. Так и случилось. Я вернулся осенью 1983-го. Зимой её похоронили. Раньше, ничего такого, я за ней не замечал. Но спустя ещё несколько лет, вдруг, осознал, что вот уже сбылось и ещё одно её пророчество, спокойно сделанное незадолго до моего отъезда в армию, в пору прокуренной, изрядно перенасыщенной спиртным, моей студенческой юности: «Ты курить не будешь. И пить тоже не будешь».
За свою жизнь любой человек не раз оказывается свидетелем необъяснимых явлений и совпадений, порой спасительных или губительных для него самого или для окружающих. С возрастом у многих вырабатывается собственное отношение ко всему подобному и со всем подобным. Понять куда тебя хотела бы вести некая тайная высшая или глубинная сила, а куда нет, не так уж сложно по исходам многих жизненных ситуаций, в которых каждому из нас постоянно приходится оказываться. Просто, не все согласно следуют таким порой прямым, порой полускрытым символическим подсказкам. Но и то, что есть в этом мире и нечто ещё более выходящее за рамки наших обычных представлений о пространстве, времени и о самих себе, т.е. сверхъестественное, оспаривать, наверное, тоже не решится ни один нормально мыслящий представитель человеческого рода.
Я помню, как, когда мне ещё не было и пяти лет, я оказывался в ситуациях, в которых только сам должен был делать свой непростой выбор, невзирая на возможные последствия. Но исход, как, мне теперь кажется, уже и тогда, порой, зависел не столько от моих действий и усилий, сколько от естественной природной, или моральной, или даже сакральной правильности или неправильности самого выбора. Т.е. дальнейшее развитие события направлялось уже, как бы, некой неведомой мне высшей сущностью того или иного уровня воздействия на всё человеческое, а я, лишь, при этом, превращался ею в некую наиболее оптимальную форму самого себя, участвующую в процессе неких неподвластных мне же самому моих действий, направленных к уже определённому свыше результату.
В детском саду у каждой группы, в парке, был свой условный прогулочный участочек. Пацаны старших групп казались мне большими и значительно более сильными. Однажды, зимой, я со своим однолеткой, заигравшись, оказался в «чужом» пространстве, где на нас немедленно напал один из таких «больших» ребят. Он повалил моего товарища и, навалившись сверху, мутузил его со всех сил. Проще всего было без оглядки убежать, но что-то меня остановило. Я понимал, что должен что-то сделать в пользу своего несчастного одногруппника. В голове моей даже не было мысли о том, что «большого» задиру можно одолеть. И я понимал, что мои действия, скорее всего, приведут к тому, что он просто напросто переключится на меня, а убежать от него в своих огромных валенках на вырост мне, конечно же, уже не удастся. И всё равно, я схватил какой-то длинный сук, или палку, и сзади, со всей силы ударил нашего общего недруга по опущенной на уши шапке. По крайней мере, это его ошарашило, удивило и возмутило, и он, действительно, бросился теперь уже за мной. Друг по несчастью был спасён, да и, погнавшись за мной, мой противник смог только, толкнув в спину, повалить меня с ног. Этим всё и закончилось. И всё это никак на меня не повлияло. Я не чувствовал себя ни проигравшим, ни победителем, ни защитником, ни кем-то преданным, поскольку, с самого начала вопрос для меня был гораздо сложнее: как поступить самому в данной ситуации? И, как тогда же я и понял, исключительно, по своим внутренним ощущениям — поступил я правильно. И, как я понимаю теперь — основные принципы и основные назначения своего существования, которым каждому отдельному человеку было бы предпочтительнее следовать, вполне достаточно ясны и совсем не безразличны ему, с первых же лет его жизни.
Кто-то пользуется, и, возможно, дорожит, какими-то своими физическими, волевыми или душевными свойствами, кто-то каким-то умением, талантом, знаниями. Но, скорее всего, основная масса людей, в обыденной жизни, делает это без лишней сосредоточенности, и, почти что на интуитивном уровне, т.к. обыденная жизнь диктует свои условия социального существования и благополучного выживания. Всеобщие же невзгоды и тяжёлые испытания ярче проявляют многие человеческие качества, но и сами в наших восприятиях быстро теряют свою трагическую значительность и становятся привычной частью нашего рутинного бытия.
До Боброва немцы не дошли совсем немного.
Моей бабушке, проводившей мужа, т.е. моего деда, на фронт, пришлось, практически, одной, продолжать растить и ставить детей на ноги. Родители мужа всегда, в основном, помогали семье дочери. К тому же, его мать умерла ещё в марте 1938 года, от сердца. Перед похоронами, кошка ложилась на бездыханную грудь хозяйки и мяукала, кричала. Люди её сгоняли, а она снова оказывалась там же и кричала, кричала. И тоже умерла, прямо на груди хозяйки.
После смерти супруги, отец деда, вторично жениться не стал.
У своих родителей он был единственным ребёнком. В колхозы, как и другие старорежимные мужики и бабы, тоже никогда не записывался. Работал пожарным, рассекая по Боброву на лошадях, запряжённых в телегу с бочкой и насосом. Однажды, по пути к месту пожара, конь Вихрь на всём скаку проломил доску на мосту и сломал ногу. После, любимого всеми Вихря резали на дворе маминого деда. Мясо раздали работникам пожарки и их родственникам.
Пожарная часть размещалась прямо напротив трёх дмитриевских домов, через широкую улицу. Деревянные сараи, конюшни. А дальше располагалось строение тюрьмы. В войну на выгоне между пожаркой и тюрьмой, какие-то стратеги, удумали установить фанерные макеты самолётов. Дети ближайшей округи с радостью лазили по ним. Но, в конце концов и немцы прилетели бомбить ложный аэродром. Было это в июле, когда цвела картошка, и, кажется, это и была первая бомбардировка Боброва. В дома не попали, но одна бомба упала рядом с сараем маминого прадеда. Сарай разрушился, но, к счастью, не загорелся. Разрушения были и во дворе тюрьмы, где, как раз, заключённых готовили к этапу. Потом там бегали с носилками, собирали раненых. Скорее всего, были и убитые.
Маму бомбёжка застала у парка. Её послали к бабушкиной квартирантке, эвакуированной из Керчи и работавшей в буфете, за хлебом и чаем. С нею пошла и трёхлетняя дочь квартирантки. Когда от взрывов всё вокруг загремело и задрожало, они спрятались за какой-то воротиной. Малютка уже знала, что происходит, а мама моя не могла понять, что и каким образом творится, одновременно, стараясь успокоить плачущую маленькую спутницу. Как только всё утихло, бросились бежать домой, но, видимо, от пережитого страха никак не могли выбраться на свою улицу, спрашивая у встречающихся людей: «Как пройти к тюрьме?».
После первой же бомбёжки выкопали укрытие на огороде. Работали всей ребятнёй — моя мама, её старший брат, старшая сестра, младшая сестра и младший брат. Убежище получилось достаточно надёжным — глубокая, узкая щель, сверху накрытая брёвнами, засыпанными землёй, накрытой ешё одним слоем брёвен, тоже засыпанного землёй. Сверху, для маскировки, всё прикрыли дёрном, а потом там наросло и травы.
Всегда, когда начинала реветь сирена, и все бросались к укрытию, расталкивая и опережая людей, у входа первой оказывалась коза. На ходу она садилась задом на землю и, осыпая земляные ступени, съезжала вниз, и выгнать её на улицу до конца бомбёжки было уже невозможно. Вокруг всё сотрясалось и гремело от рвущихся бомб. Страшно было всем — и людям и козе. Но едва разрывы стихали, и германские самолёты улетали, все, выбираясь наружу, начинали прикалываться друг над другом и над козой, смеяться. Ребята, здесь же, располагаясь, доставали колоду и, с громким непрерывным хохотом и прибаутками, рубились в карты.
А смышлёную шуструю козу пришлось зарезать, когда эвакуировались в Шишовку.
Наше детство проходило уже в совершенно других условиях. Рождённый всего лишь через четырнадцать лет после войны, я понятия не имел что такое разруха, недоедание, тяжёлый труд, какие-то лишения. Детская жизнь моя на нашей улице заводского посёлка, удобно расположенного на окраине Воронежа, рядом с военным аэродромом, проходила светло и обеспеченно. Мы с братом не испытывали никакого недостатка в заботе и любви родителей, и, в этом плане, нам абсолютно ни о чём не нужно было беспокоиться.
И в детских садах детей хорошо кормили, система была отлаженной. На лето всех вывозили на дачи. Нас — в Дубовку. Летние корпуса, там, располагались в сосновом лесу. С точки зрения обустройства, всё было прекрасно. И это несмотря на, по сути, только что закончившуюся страшнейшую разрушительную, кровопролитную войну. А ведь ещё за этот кратчайший отрезок времени из руин восстанавливались целые города, промышленность, учебные учреждения, театры, развивалась армия и новейшие передовые научно-производственные технологии, такие как атомная энергетика и космос.
Как-то нашу детсадовскую группу вели на прогулку, по живописной лесной дороге, неровно и подвижно освещаемой солнечным светом сквозь кроны высоченных сосен. Нам встретились двое дядек, которые весело поприветствовали нас и спросили: «Ребята, кто знает, как зовут первого космонавта?» Отвечали ему, все кто и что хотел, разом, наперебой, но, в целом получилось, почему-то: «Титов!».
Воронеж считается одним из самых пострадавших во время Второй мировой войны городов. Но и вся остальная часть страны, по которой прокатился смертоносный вал гитлеровского нашествия, находилась в разрухе. То, что смогла сделать Советская власть после войны — истинное волшебство и чудо, особенно на фоне бесконечно длящейся, с начала девяностых, после «свержения коммунистического режима», деградации и агонии отечественной экономики. Демократы безо всякого стыда, на протяжении уже более четверти века, демонстрируют собственную же неспособность организовать нормальную, не чудовищно вредительскую, работу отечественных дорожных служб, автопрома, авиапрома, электроники, ЖКХ, лёгкой промышленности, сельского хозяйства, и т. д. и т. п.
Может быть, глобализация и мировое географическое разделение труда не такая уж плохая вещь для всего человечества. Но, пока что, под видом рационализации производственной деятельности, творится нечто не укладывающееся в сознании любого образованного и культурного современного человека. А культурными и образованными сейчас во всех развитых странах являются, чуть ли не все 100% их населения.
Скорее всего, перед развалом СССР, возник некий Интернационал правящих элит. Их совместный сценарий дальнейших практических действий антинародной направленности, продолжает неуклонно, методично, непоправимо, воплощаться в жизнь. В противном случае, всё происходило бы и объяснялось бы совсем в иных условиях, понятиях и установках.
Но и опять же, нашу нынешнюю жизнь нельзя назвать невыносимой. Глядя, какое количество людей, по нашим городам, каждый день, движется в пробках на работу на своих личных автомобилях, бросая их на целый день, где придётся, паркуясь в несколько рядов, или, как наши беспринципные соотечественники снова рвутся на турецкие курорты, невзирая на всё уже произошедшее и происходящее в Турции сейчас, невольно начнёшь понимать истинные первопричины и мотивы использования иными конструктивными правителями авторитарных, насильственных методов управления массами в частности, и страной в целом. Поэтому, если разбираться объективно, то, вполне возможно, что наиболее целесообразной и максимально комфортной, как для народа, так и для правящей элиты, в нашей стране, на данный момент, может являться, именно, только такая система общественно-экономического устройства, которая и существует в настоящее время. Лично мне, конечно же, не нравится ненасытность, бездарность, продажность и стиль поведения огромного множества представителей высших и средних властных и коммерческих сфер нашего государственного и частнособственнического управленческого бомонда. Но меня, частенько, не очень устраивают и общепринятые стандарты взаимоотношений между собой простых продавцов и покупателей, врачей и пациентов, преподавателей институтов и их же коллег, учителей и школьников, актёров и поклонников, мужей и жён, простых кавказцев, украинцев, прибалтов, или поляков и русских, и т. д. и т. п.
Нужно ли что-то менять в нашей стране? Конечно, нужно. Нужно поменять то же самое, что можно было поменять в СССР, не разрушая его, и самостоятельно не ставя свою же страну в очередное положение раком. Но сможет ли Путин осуществить долгожданные перемены и запустить механизмы неудержимого развития и процветания России, или так и ограничится имитациями и процедурами, направленными на постоянное затягивание времени, я, до сих пор не знаю. И, увы, это тоже уже, ещё один, не слишком хороший признак.
Всем известно, какой страна досталась коммунистам после многовекового застойного монархического правления, тотальной безграмотности, изнурительной Первой мировой, и разрушительного буржуазного переворота. Большевики пришли к власти в стране, не ими ввергнутой в состояние полного хаоса, поэтому инициаторами развязывания гражданской войны за власть являлись уже не они. Но и в гражданской войне победили большевики при подавляюще сознательной поддержке народных масс.
И не смотря на междоусобную бойню, интервенцию, саботаж, изоляцию, Великую Отечественную, послевоенную разруху, в начале шестидесятых, я видел перед собой, принадлежащий и мне, большой мир всеобщего достатка, основополагающей правильности, само собой разумеющейся устроенности, и всё новых и новых достижений во всех сферах народного хозяйства, в науке, культуре и спорте.
С тех пор и за всю свою жизнь я встречал только одного человека, не умеющего читать. Это моя бабушка по отцу. Но и она, с конца 50-х жила в городе, всегда с интересом слушала радио, а потом и смотрела телевизор, была чистоплотной, культурной в общении, с культурной городской речью. Я всегда охотно рассказывал ей разные новости и удивительные истории, которые узнавал сам, и она всегда внимательно их слушала. Она ничем не отличалась от такой же интеллигентной и замечательной бабушки моего школьного друга, проработавшей всю жизнь учительницей, потерявшей в старости слух. А когда у неё, у бабушки моего одноклассника, ухудшилось и зрение, она смотрела телевизор в упор, через лупу среднего размера. Постоянный живой интерес к информации делает и старого человека более устойчивым к различным психологическим срывам и надломам, а вернее, в этом проявляется одно из позитивных и благоприятных для общего душевного и физического состояния человека свойств его характера.
В Еланских и Чебаркульских лагерях, где с осени 1944 года проходил курс боевой подготовки мой отец, с питанием и с обмундированием было плохо. Бытовые условия тоже были никуда не годными. Но потом, перед отправкой на Дальний Восток, по дороге туда, и на Дальнем Востоке, в морских частях, всё поменялось к лучшему. Продукты поступали и из капитулировавшей, после ядерных ударов, нанесённых нашими союзниками американцами, Японии. Теперь трудно сказать были ли они заражены в результате атомных атак, или нет, но рацион наших военных пополнили очень ощутимо. Высококачественный рис в огромных количествах жарили в масле на больших противнях. Целиком консервированной в высоких жестяных банках сайры на столах было без меры…
А вот в восьмидесятых, там же, на Дальнем Востоке, в учебке, в Хабаровске, молодых солдат, курсантов, кормили, наверное, ничем не лучше, чем в Еланских военных лагерях в 1944 году. Проводя предварительную беседу с молодым пополнением и, видимо, хорошо зная, что нас ждёт здесь в плане пропитания, старший лейтенант, армянин, завершил свои искренне товарищеские наставнические пожелания и напутствия цитатой, которую до этого мне ещё не приходилось слышать: «Ребята, не забывайте, что человек живёт не для того, чтобы есть, а ест для того, чтобы жить и всегда оставаться человеком».
В целом, офицеры в армии, по моему личному опыту, как правило, были вполне объективны и вполне справедливы в отношении солдат. С откровенными беспричинными измываниями командиров над подчинёнными, мне сталкиваться не приходилось. Поведение каждого отдельного офицера, его манера общения с личным составом отличались какими-то характерными своеобразиями. И как личности, в основной своей массе, каждый из них привлекал внимание, вызывал интерес и симпатию. Не знаю, как они и мы проявили бы себя в боевой обстановке, но особых оснований заведомо не доверяться им у меня не было.
За время службы я встречал среди офицеров и несколько выходцев с Кавказа. Их отношение к нам было не менее справедливым и правильным, что вызывало взаимное уважение и доверие. А вот, что касается рядовых представителей Закавказских, Северокавказских и Среднеазиатских республик, то тут уже всё было гораздо сложнее и запущеннее.
Первый нагляднейший пример особенности положения абреков, по сравнению с простыми русскими новопризванными, был продемонстрирован всем нам сразу же, в начальные дни службы. В одном из взводов нашей роты, специализирующейся на освоении автоматического гранатомёта АГС-17, системы «Пламя», внешне похожего на какой-то короткоствольный очень крупнокалиберный пулемёт, числились и два чеченца. Происходило это в 1981 году, когда ещё я и сам толком-то не знал, кого больше в Грозном, столице Чечено-Ингушской АССР, русских или кавказцев. Как только все мы были окончательно размещены по своим местам, началась полноценная солдатская служба, состоящая, в том числе и из коллективного мытья полов в расположении своего взвода. Пол — деревянные, некрашеные доски. Мыть их нужно было с использованием пенной воды и каблуков от обычных кирзовых сапог. Все садились на корточки в ряд и двигались назад, тщательно соскребая грязную пену с досок с помощью, выдаваемого каждому бойцу, «специального каблучного приспособления». Работали качественно и споро, под надзором сержантов, и стремясь быстрее закончить муторное мероприятие. Однако, два чеченца, в отличие от остальных, просто напросто, категорически отказались от участия в уборке казарменного помещения. И тогда, вдруг, беспощадные по отношению к русским подчинённым русские же сержанты, почему-то, совершенно ничего не смогли толком предпринять для укрощения строптивцев, и быстренько отстранились от, на глазах у всех чётко обрисовавшейся, дисциплинарной проблемы. Господа охфицера тоже предпочли положенной в таких случаях атаке в лоб временное стратегическое бездействие. Видя это, ничего не решался предпринимать для восстановления справедливости и личный состав взвода.
Всё, показательно для нас, и благополучно для бунтарей, решилось через пару дней — их перевели в спортроту, состоящую из их же землячков-кавказцев, и на этом у них молодая служба закончилась. Там они, уже на полном основании общепринятых в советской учебке неформальных порядков, зажили спокойной, сытой, дембельской житухой свободолюбивых, изящно прикинутых мачо.
Смешно в наше время слышать восторженные высказывания современных официальных лиц о присущей русскому народу тяге к справедливости. Во все времена именно официальными властями такая природная склонность всячески в русских подавлялась и изводилась с самого раннего возраста. Ни самодержцы, ни большевики, ни демократы никогда всерьёз и не помышляли о создании стопроцентно справедливых условий существования на подвластных им территориях. Только поэтому и в бытовой жизни граждан нашей страны всегда преобладали чисто приспособленческие мотивации взаимообщения и самореализации. Лицемерие, обман, халтура, корысть, зависть и прочие составляющие обычной житейской порочности — вот что всегда было на виду у каждого из нас и определяло основную практическую линию нашего поведения.
Могут ли люди жить иначе, лучше, свободнее от лжи? Конечно же могут. Но тон этому должны были бы задавать те, кто имеет властные возможности. Но, имея властные возможности, им гораздо соблазнительней и проще обеспечивать самих себя сверх всяких разумных потребностей. Соответственно, никто и из простых тружеников, особо-то, не склонен отказываться от аналогичных манипуляций с понятиями и материальными ценностями на своих уровнях гражданской ответственности и общественно-экономической деятельности.
Очень остро чувствуют несправедливость дети и, особенно, подростки.
Летом, после восьмого класса мы были отправлены на сельхозработы в лагерь труда и отдыха «Юность», от Воронежского механического завода, на две недели. Отъезда и новых приключений ждали с большим нетерпением. Работали в полях, на прополке, с утра до обеда. Однажды, нужно было дождаться и загрузить какую-то машину, и нас, пятерых пацанов, попросили задержаться, сказав, что поваров предупредят, и обед нам оставят. Кормёжка в лагере была неплохая, да и сам лагерь был на хорошем счету. Обедом нас, действительно, накормили, но вот сока томатного, который в этот день значился в меню, мы, почему-то, на столе не увидели. Пошли к раздаче. Оказалось, что сока больше нет. И поваров совсем не волновали наши сверхурочные трудовые подвиги. Это было обидно вдвойне. Ведь, мы же задержались для выполнения «особого задания», и мы же оказались крайними и никому не нужными в вопросе распределения томатного сока! Громко обсуждая это безобразие, мы двинулись к выходу из пустого общепитовского зала, разминувшись на ходу с каким-то пожилым высоким мужчиной. Но он сам остановился и окликнул нашу возмущённую компанию: «Ребята! Подождите. Что случилось?». Мы тоже остановились, готовые в этой столовой теперь уже и к любым необоснованным претензиям в свой адрес, и ответили: «Да то и случилось. Задержали нас на работе, а сока томатного нам не досталось. Говорят, что кончился». Мужчина нахмурился: «Как не досталось? Ну-ка, пошли со мной». У раздачи он позвал к себе какую-то работницу. «Почему не дали ребятам сока? Как кончился? Открывай холодильник!» В холодильнике стояли трёхлитровые банки с соком. «Бери банку. Открывай». Он повернулся к другой работнице столовой: «Неси стаканы!». Таким, почти что чудесным образом, справедливость была восстановлена. Мужчина оказался важным начальником. А поварихи — простыми непорядочными хабалками.
Но, что такое одномоментная столовская незадача с томатным соком, по сравнению с голодным и кровавым ужасом военных лихолетий, или кошмаром гитлеровских и сталинских лагерей? Хотя, и в военное время судьба у каждого складывалась по разному, и кому-то приходилось страдать, лишаться жизни, а кто-то с удовольствием пользовался различными благоприятностями, вдруг, выпадающими на его долю.
После того, как моего деда, в августе 1941 года забрали на войну, осенью на его трудодни бабушке выдали в колхозе зерно, подсолнечное масло, сахар, семечки, которые самостоятельно тоже возили на завод, жать на масло. Такая продуктовая подпитка очень помогла, и очень поддержала семью.
Война же обретала всё более катастрофический характер. Красная Армия отступала.
Через Бобров, с Украины, с запада, гнали большое количество скотины. Не редко бесхозные, никому не нужные коровы, лошади, овцы разбредались по огородам, садам. Никто их, брошенных, не искал, никто о них не беспокоился. Поняв это, их стали подбирать местные жители. Кто-то резал, а кто-то держал в хозяйстве. Так и моей бабушке досталась корова, забредшая к ней на огород. Появилось своё молоко. Сквашку даже и продавали. И потом, в Шишовке, в эвакуации, были со своим молочком.
А на запад перемещались воинские части. В доме бабушки расположились связисты, повара. Они, в течение суток поочередно приходили, спали, снова уходили, видимо, заступая в наряды. Все — мужики и бабы, русские. Со своей стороны они хоть как-то смогли помочь стеснённой многодетной семье: младший брат мамин, которому тогда было лет семь, бегал с котелком к ним на кухню, расположенную в сельсовете, за супом.
На дворе моей прабабушки (а прадед умер в сентябре 1941 года, после пяти лет парализации), находящемуся за огородом и выходящему на другую улицу, остановились понтонники. Эти жировали по полной программе, подрабатывая частной перевозкой на своём служебном транспорте грузов местному населению. Деньги за это они брали со всех подряд, не взирая ни на какую бедственность чьего-либо положения. Питались ухватистые понтонники отменно. Жарили на противнях в масле макароны с импортными мясными консервами и устраивали для себя шикарное застолье. Насытившись, вальяжно расслаблялись и отдыхали. У этих гражданским ничего не перепадало.
Что касается вопросов экстремального выживания, то любой человек, в первую очередь, будет заботиться о себе и о своих близких. Да и в нормальных условиях тоже. Капиталистическая идеология, в этом плане, оказалась более реалистичной, нежели марксистская. Но это вовсе не значит, что она же является и более правильной и более полезной для человеческого развития. Полный отказ европейской цивилизации от коммунистического мировоззрения понадобился не для ускорения процесса дальнейшего повышения уровня жизни населения развитых стран, а, скорее всего, наоборот, поскольку сразу же и Запад прекратил дальнейшее построение своей системы государственного устройства, основанной на рационализме, организационном порядке и законопослушании. На смену двум разным системам, соперничающим в методах решения одной и той же задачи — повышении уровня и качества жизни народных масс — пришло нечто общее, новое, консолидированное по предварительному сговору правящих элит. И самых желанных общих своих целей они уже достигли.
Но жизнь простых людей и сейчас зависит не только от политической воли Путина в России, Меркель в Германии, и Обамы в США. Целые поколения наших сограждан могли позволить себе в наибольшей степени зависеть лишь от семейных и повседневных чисто человеческих взаимоотношений. Другое дело, что отношения эти слишком часто оказывались и оказываются гораздо более невыносимы, нежели последствия тайных происков наших и зарубежных правителей, направленных, на самом деле, всё ещё непонятно на какие последующие цели и задачи. Именно бытовая повседневность, прежде всего, должна быть максимально комфортна для человека. Как говорится: счастлив тот, кто с радостью идёт на работу, а потом с радостью возвращается домой. И если с понятием «любимая работа» не всё так просто, то семейную и частную жизнь можно совершенствовать до бесконечности, всего лишь, собственными усилиями, или с участием, всего лишь, нескольких непосредственно заинтересованных в этом лиц. Но и в таком незначительном радиусе действий, судя по всему, люди всё ещё оказываются бессильны и не состоятельны что- либо изменить к лучшему. Почему? Может быть, потому что все мы разные и физиологически и психологически, и, что самое, пожалуй, главное — эзотерически? Здоровый человек никогда не согласится отказываться от своих преимуществ по сравнению с инвалидом. И никогда инвалид не сможет не страдать от осознания своей физиологической неполноценности, не позволяющей ему всесторонне, на равных конкурировать с остальными. Да и из здоровых, писаная красавица, скорее, предпочтёт более статного, крепкого, успешного и обеспеченного мерзавца какому-нибудь надёжному, но беспонтовому трудяге. И мало того, что природа, включая данные фамильной родословной, изначально ставит нас на определённое место в иерархии всевозможных человеческих статусов и значений, существенную роль во всём этом играет и степень стечения обстоятельств, персональной везучести, удачливости и прочих халявных данностей нашего бытия, не имеющих никакого отношения к чему-то идеально или осознанно справедливому. А, ведь, есть ещё в мире наших привычных, стандартных измерений и восприятий, как общественного, так и индивидуального толка, и вовсе необъяснимые и загадочные явления, которые иначе, как сверхзапредельными чудесами и назвать-то невозможно.
Вроде бы, совсем не сложно понять, что истинной глобальной справедливости в нашем телесном мире никогда не существовало и существовать не будет, но люди, непрерывно конфликтуя между собой, всякий раз упорно подводят, каждый под свои позиции, как бы, заповеданные всем нам кем-то законы высшей всеобъемлющей справедливости. Не хотят, почему-то, люди раз и навсегда понять, что всегда и везде излишнее лицемерие лишь усугубляет любые конфликтные ситуации.
Если ты хоть раз заглядывал в Библию, наверняка, тоже обратил внимание, что больше всего на самое основное слово, характеризующее там людей, тянет слово «лицемеры».
А сейчас, разве, иначе?
Посмотри, что творится на международной арене. Таких масштабов манипуляций с информацией человечество ещё никогда не видело. Какие там двойные стандарты?! Полная вакханалия, фантасмагория и информационная беспредельщина на грани безумия. Непрерывный поток в бредовом стиле срежессированных резонанснейших событий. Сейчас, вот, очередное шоу с отстранением России от участия в олимпийских играх. Лично мне, с некоторых пор, до лампочки весь этот современный махинаторский спорт высших достижений, и все эти всевозможные продажные отечественные функционеры и политиканы. Но за Державу, действительно, очень обидно и очень давно. Когда-то вся страна, глядя на Брежнева с его вставными челюстями, оригинально искажающими, на стадии окончательного воспроизведения, речи престарелого генсека, испытывала чувство неловкости перед всем мировым сообществом, и грезила молодыми энергичными, образованными управленцами, готовыми к реальному общению с народом не по бумажке, безо всяких «сисек-масисек», способными встряхнуть страну, устремить её к новым грандиозным достижениям и свершениям. И они пришли. Молодые, энергичные, говорящие не по бумажке и не только по-русски, но и по-английски и по-немецки, образованные, трезвомыслящие, борцы с номенклатурой и привилегиями. Ельцины, Жириновские, Чубайсы, Собчаки, Поповы, Немцовы, Путины, Ивановы, Жуковы, Мединские…
Но история человечества, тоже довольно запутанная и не всегда поддающаяся логическому осмыслению, реалия. За все века, прошедшие с библейских времён, несмотря на природные катаклизмы, губительные эпидемии, кровопролитные войны, антинародные репрессии тоталитарных режимов, и т. д. и т.п., «цивилизация лицемеров» добилась очень неплохих созидательных результатов, и, особенно, в пору расцвета разнообразных атеистических учений достигших, в конечном счёте, высот диалектического материализма, ставшего прочным базисом воплощения в жизнь основ теории научного коммунизма.
Может быть, всё настолько же неоднозначно и в истории нашего времени?
Ну, осуществился крах коммунистического мировоззрения. Ну, самоликвидировался Советский Союз. Ну, целенаправленно тормозится развитие экономики. Ну, впаривают нам вместо натуральных продуктов всякую генномодифицированную сою и техническое пальмовое масло. Ну, благоустраивается у нас в существенных объёмах только Москва…
Но, жизнь и простых людей в России, всё равно, стала обеспеченнее и цивилизованнее.
Полки современных торговых центров, сетевых маркетов, уличных киосков завалены разнообразнейшими товарами. Продукты питания, бытовая техника, строительные материалы, инструменты строительные, инструменты музыкальные, сантехника, книги, одежда, обувь, мебель, канцтовары… Полное изобилие. Правда, при этом, по-настоящему вкусной, высококачественной еды ни в магазинах, ни на рынках просто так не купить. То же самое и с одеждой и с обувью. Но цены, никак не отражаясь на качестве продукции, постоянно ползут вверх. Особенно на пищевые продукты и особенно после введения Америкой и Европой санкций против нас. Постоянно повышаются цены и на бензин, и на коммунальные услуги. И опять же, особенно раздражает во всём этом знаешь что? Криводушие. Криводушие, пронизывающее насквозь всю цепочку, начиная от производителей с торгашами и контролёрами, и до самой предпоследней наивысшей всевластной инстанции.
Или, вот, если взять систему образования. Не могу согласиться с тем, что всё там настолько уж плохо. Практически, все учебные корпуса ВУЗов страны, впервые за долгие годы их существования, приведены в, более или менее, приличное состояние, с заменой старых окон на пластиковые и старых кровель на современные, с ремонтом фасадов и внутренних помещений. Построено немало и новых корпусов. И проведён весь этот огромный объём работ без лишнего афиширования.
Конечно же, ректоры ВУЗов должны получать зарплаты не меньше духовно и технически убогих футболистов сборной РФ, но не в десятки же раз больше обычных преподающих докторов и кандидатов наук. Иначе становится совсем непонятной главная цель и полностью теряется весь смысл градаций уровня образованности, воспитанности и интеллигентности. Как это может быть, чтобы в высококультурном государственном учреждении заработная плата кандидата наук едва дотягивала бы до 15 000 рублей, а ректорская стабильно исчислялась бы сотнями тысяч? Это же вопиющий хамский, жлобовской беспредел по отношению к своим же коллегам. Никакой цивилизованный руководитель, ни при каких обстоятельствах, не имеет никакого права улучшать своё финансовое положение за счёт финансового положения своих работников. Если у тебя не получается обеспечить тучную жизнь всему своему трудовому коллективу, то с каких хренов ты сам утопаешь в роскоши и материалистических сверхудовольствиях? И речь тут ни о какой-то абстрактной справедливости. Речь о том, как поступает человек по отношению к окружающим его людям. Можно поступать достойно, а можно вести себя со своими же соотечественниками по жульнически, или по проходимски, или даже по шпански. Это же очевидные вещи, но именно на такие очевидности не принято обращать слишком далеко направленного общественного внимания. А то, вдруг, всем господам «соврамши» добровольно отказаться придётся ни от каких-то номенклатурных пригородных дачек с мансардами, а уже от целых замков и дворцов, расположенных, в том числе, и за рубежом.
А ведь мне, например, и не нужно, чтобы кто-то отказывался от нажитого «непосильным трудом» бесценного своего богатства. Но, все они, вполне, могли иметь всё то же самое и даже несоизмеримо больше того, и безо всяких дешёвых, позорных лицемерий, обмана и махинаций, если бы занимались постоянным реальным развитием собственной страны, а не её разбазариванием и предательским разваливанием. Ещё больше имели бы они, процветала бы страна, и постоянно возрастало бы благосостояние народных масс. Почему всё не так, понять невозможно. Может быть, эти люди не просто патологически порочны и ленивы (на продаже интересов Отчизны зарабатывать гораздо проще, чем на её развитии), но, к тому же, и безнадёжно бездарны, как лидеры нации, как инициаторы и организаторы грандиозных прогрессивных процессов, как патриоты своей Родины?
Но и само общественное внимание не настолько уж и кристально безукоризненно. Эти тоже глядят с таким расчётом, чтоб как бы самим хуже не стало, на своих персональных местечках, от чьих-то чересчур активных популяризаций небывалой прямолинейности и объективности.
Мне было года четыре, когда старшие ребята с нашей улицы разделились на две враждебные группы. Раскол носил глубоко идеологический характер. Его первопричин я не знал, но уже и тогда держался с компанией, которая производила впечатление более духовно независимой и свободной от всяких формальных предрассудков и заорганизованных показух. Конечно, в этом вопросе я, прежде всего, следовал за своим старшим братом, но и, в то же время, и самостоятельно ощущал реальное неприятие использования в уличных условиях пионерско-тимуровской методики коллективного самообъединения. Против книжных и киношных тимуровцев и пионеров-героев я никогда ничего не имел, но в обычной жизни их среднестатистические последователи и подражатели выглядели и вели себя слишком фальшиво и не честно. Как раз такими, фальшивыми и ненадёжными, мне казались и наши уличные идеологические противники.
В то время завод проводил по посёлку воду, и по улице тянулась глубокая широченная траншея. Ходить приходилось по горам, насыпанных с краёв земли и песка. Детям такие ландшафтные перетрубации очень нравятся: появляются новые, более разнообразные возможности для игр и забав. Замечательно подходили такие условия и для почти что боевых действий, столкновений, секретных операций, осуществляемых противоборствующими сторонами. В ход шли песчаные камешки, психические атаки, подмётные письма, устраивались ловушки, допросы пленников.
Старшие ребята нашей стороны всегда казались мне сильными, решительными, настоящими. В этой компании независимых пацанов был и мой старший брат, и наши соседи, и ребята с других улиц. Я, как правило, крутился возле них и не помню, чтобы хоть кто-нибудь был бы груб со мной, или обидел меня. Наверное, и поэтому тоже, потом, я и сам старался всячески придерживаться этого принципа: не обижай слабых.
Обижать-то они не обижали, но обманывать обманывали. То есть, иногда шли на вынужденную хитрость. Я очень любил покататься с ними на велосипедах. Кто-нибудь сажал меня на рамку своего «школьника» и вся кавалькада устремлялась в каком-нибудь уже известном, или неизвестном мне направлении. Но порой я становился чрезмерной обузой, мешающей их очередным приключенческим замыслам. А поскольку отделаться от меня было не так просто, они изобрели стандартный способ сбрасывания с себя лишней заботы. Брат или ещё кто-нибудь говорил: «Иди, спроси у мамы сколько времени». Велосипеды же уже были наготове. И пока я бежал через двор, в дом, узнавал сколько времени, вся ватага бесследно исчезала. И так происходило всякий такой раз. Я уже и старался бегать быстрее, и не верил и обвинял их в нечестности, и всё равно вновь и вновь они убеждали меня в том, что на этот-то раз они не обманывают, не уедут и точно дождутся моего возвращения. Это только потом уже я постепенно приспособился и предпочёл, по возможности, доверять только тем, кто держит своё слово.
Если тебе не нравится, когда тебя обманывают, значит, в общении с людьми, ты и сам, если ты достаточно адекватная личность, пытаешься оставаться максимально порядочным человеком. Но жизнь устроена сложно, и у всех разом быть постоянно порядочными не получается. Поэтому, на самом деле, нормальным считается не столько чьё-то не шуточное стремление жить лишь по честному, сколько умение грубо или интеллигентно не позволять другим вешать тебе лапшу на уши, а самому смотреть на некоторые собственные корыстные или малодушные уловки и поступки философски, или, вообще, не переживать по таким поводам. У авторов Священного Писания на этот счёт есть ещё одно беспощадно негодующее восклицание: «Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего».
Почему-то, с давних ещё времён, в поисках всего лучшего, русскую знать, а потом и простой люд, особенно тянуло на Запад. Ну, или из провинции в столицу. Ну, а кого-то, хотя бы, из деревни в город.
Из Боброва люди тоже, случалось, пробовали перебраться куда получше. Тем более, после революции 1917-го года.
У моего пра-прадеда был старший брат и две младшие сестры. В начале двадцатых годов, дочь одной из сестёр, с мужем, подалась в Москву. Не знаю, какими были их первоначальные планы, но из столицы нашей Родины, они очень быстро рванули в Америку, куда энергичная дочь, также быстро забрала из Боброва и мать. Чуть позднее сделать ей это уже вряд ли удалось бы: все свободные выезды из страны наглухо закрылись. На новом месте, наши переселенцы обустроились тоже достаточно быстро. В войну они, в числе других русских эмигрантов, были на одном из приёмов у тогда ещё занимавшего пост советского посла в США А. Громыко, ставшего в последствие Министром иностранных дел СССР. Когда погиб мой дед, они, узнав об этом, попытались отправить непосредственно на адрес его семьи посылку, но даже и при специальном обращении в Советское посольство, разрешение им на это не дали. Все «передачки» можно было направлять только на единый адрес: Советский Союз.
Но и такие чрезмерные уравниловские строгости объяснить гораздо проще, чем понять, почему, в то же время, один ребёнок воюющего советского офицера получал ежемесячное пособие в размере 500 рублей, а на всех пятерых детей воюющего советского рядового солдата полагалась общая суммарная денежная выплата в размере 9 рублей. Или, например, почему оставшимся в живых участникам Великой Отечественной войны государство постоянно помогало дополнительными выплатами, льготами, бесплатными квартирами, повышенными пенсиями, единоразовыми пособиями, настолько избыточными, что на вопрос журналиста ветерану «На что потратите такую существенную прибавку к пенсии?», более, чем довольный жизнью ветеран отвечает: «Да, это я внукам буду отдавать…». А что же тем, кто погиб, их детям, их внукам? Я совсем не против того, чтобы и со стороны государства проявлялось постоянное внимание ко всем нашим согражданам, воевавшим за нашу Родину. Но их дети и внуки должны были быть в максимально равных условиях с детьми и внуками всех наших погибших воинов. Это только лично у ветеранов инвалидов войны всегда должны были быть персональные льготы: бесплатные праздничные продуктовые наборы, бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатные лекарства, бесплатные операции, санатории и предоставление в пожизненное владение, в случае необходимости, отдельной жилплощади, но которая не должна никому на вечно передаваться в безвозмездное пользование.
Мой дед погиб в 1944 году. Если бы он остался жив, то ничего другого ни от кого, ни ему, ни его детям и не нужно было бы.
Это же показало и время: выжить, и по-человечески жить можно и без отцов, навсегда оставшихся на полях сражений, и без не разрешённых посылок от заокеанской родни.
Но, в целом же, мир устроен так, что задают всеобщий тон мотиваций и правят в нём отъявленные крохоборы и махинаторы.
И всё же, всё было бы гораздо проще, если бы и в каждом отдельном человеке не таились, бог весть какие, всякий раз, подвигающие его не только к благоразумным действиям силы. И, прежде всего, именно поэтому, постепенно, с возрастом, обретя житейский опыт, люди становятся менее общительными, более замкнутыми, избегая потенциальных опасностей исходящих, практически, от всех окружающих без исключения, и, тем более, от людей малознакомых, или слишком долгое время остававшихся вне сферы близкого общения. Самые наибольшие вероятные угрозы для простого современного обывателя представляют такие же простые обыватели, или отдельные представители отдельных гос. структур, но никак не вся целиком вседержавная управленческая махина. Так бывало и в советское время.
Государственный произвол, в случае с зарубежными посылками, смешная нелепица по сравнению с тем, на что оказались способны люди, ради скорой и лёгкой наживы, не считающиеся ни с властными ни с общечеловеческими законами этой жизни.
В общих чертах, по рассказам вспоминающих, всё происходило, примерно, следующим образом:
В Коршево, неподалёку от Боброва, жили две подруги, мужья которых, одновременно, прислали им с фронта посылки с вещами. Где-то с кем-то кто-то из них поделился своей общей радостью, и об этом стало известно бандитам. По дороге из Боброва, с почты, в хлебах, обеих убили. В дальнейшем выяснилось, что уже после этого, в поисках новой цели для нападения, один из наводчиков, попросив воды у старшего брата моей мамы, заходил с ним в хату, на разведку, зная, что домочадцы, только что, зарезали целую корову и часть мяса продали. Что здесь злоумышленников остановило от дальнейших действий — неизвестно. То ли количество народа, то ли вид и количество детей. А спустя ещё какое-то время, лиходеев арестовали. Зарытые трупы двух несчастных коршевских подружек случайно нашёл пастух, когда бык, почуяв кровь, начал раскидывать землю на этом месте.
Потом даже маленькие бобровские дети бегали в Военный клуб, смотреть, как идёт судебный процесс. Зал был забит народом до отказа. Судья спрашивала одного из преступников: «Чья на вас рубашка?» «Моя». «Не ваша, а вот того-то». «Была его, а теперь моя». «А чьи ботинки?». «И ботинки тоже». Почему-то, даже и на суде, обвиняемый был одет во всё добытое каким-то неправедным путём.
К счастью, в достаточно сытые, вполне благополучные времена, люди имеют возможности переступать все нормы морали гораздо проще, без беспощадных насилий и убийств.
В восьмидесятых годах, какие-то борисоглебские переселенцы, вернулись из США назад в Россию. С ними, всё та же, энергичная представительница нашего бобровского «тейпа», снова попыталась передать из Америки посылку на Родину, в Бобров, своей двоюродной племяннице. Однако и тут сработала система контроля за перемещениями материальных ценностей, но уже системы не государственного, а более радикального, индивидуально-бытового уровня: возвращенцы, вдруг, оказались людьми падкими на чужое и посылку заныкали. Тем не менее, сын двоюродной племянницы от досадных последствий такой людской беззастенчивой вороватости не пропал, и с приходом отечественных демократов к власти, стал мэром Боброва.
Призванный в армию осенью 1944 года, основной период срочной службы, затянувшейся на неопределённое время, после окончания Второй мировой войны, мой отец, начиная с 1945 года, проходил в Советской Гавани в воинской части 09694 Военно-морской авиации Тихоокеанского Флота ВМФ СССР. В конце 1949 года ему был предоставлен кратковременный отпуск. Путь в родные края предстоял далёкий. Под Комсомольском-на-Амуре в ту пору ещё не было железнодорожного моста. Зимой пассажирам приходилось выходить на одной стороне широко раскинувшейся знаменитой дальневосточной реки и переходить на другой её берег по льду. А поезд двигался тут же, по временно проложенным путям. Несколько моряков, ехавших в отпуск, зашли в помещение привокзального буфета, согреться после нелёгкого, в такие морозы и на таких ветрах, перехода через Амур. Уже находившийся там офицер, ответив на приветствие изрядно подзамёрших матросов, как всегда принципиально бравирующих в бескозырках, сказал буфетчице: «Разрешаю подать товарищам морякам по сто грамм спирта».
Мне довелось проезжать теми же местами летом 1983 года и тоже во время своей армейской службы. Путешествие было впечатляющим. Больше всего поражала бескрайняя огромность необъятных просторов нашей Родины. Мы сопровождали груз — вагон с аккуратно уложенными в один ряд на полу ПЗРК — из сахалинского порта Корсаков на материк. Караульное подразделение состояло из капитана зенитного взвода нашего кадрированного мотострелкового полка, одного старослужащего старшего сержанта, одного старослужащего рядового и одного молодого рядового бойца родом из Комсомольска. Нас снарядили АКаэсами танковой роты с соответствующим боезапасом, матрасами с подушками, топором, вещмешками, и, загрузив в кузов трёхосного ЗИЛа, направили через Сокол и Южно-Сахалинск, минуя аэропорт с Хомутами, прямиком, считай что, на один из самых краёв земли русской — в Корсаковский порт. На самом деле, внешний облик населённых пунктов и уклад тамошней, островной гражданской жизни, и мои внутренние ощущения всего этого, ничем не отличались от обычных материковских.
После окончания хабаровской учебки, взводный хотел оставить меня в роте, но я хотел уехать в войска и высказал пожелание продолжать службу где-нибудь на Курилах. Зафрахтованным пассажирским самолётом, из Хабаровска, через Татарский пролив, покрытый сверху изредка рассеивающейся туманной дымкой, нашу партию доставили в Южно-Сахалинский аэропорт. Был солнечный весенний день. Нас вели колонной по дороге от здания аэропорта, а нам на встречу шла разнобойная колонна счастливых дембелей. Все в максимально навороченном солдафонском прикиде, все «по чернухе», т.е. в чёрных погонах, радостные и довольные, они, с каким-то неудержимым ликованием, на прощание, напутствовали нас, своих долгожданных сменщиков: «Вешайтесь! Это остров!». Глядя на них я подумал: «Неплохо вы тут прокантовались. И, главное, хорошо, что хоть дальше-то служить буду «по чёрному». Т.е. — в чёрных, а не в красных общевойсковых погонах.
В конце 1949 года моя мама, работавшая по распределению, после окончания Бобровского педагогического училища, в семилетней сельской школе, получила сообщение о смерти своей тяжело болевшей матери. Можно только представить, что творилось при этом на душе у 19 летней девушки, уже потерявшей в войну и отца. На формальное согласование с начальством времени не оставалось, итоги учебного полугодия были подведены, и горестно и одиноко, она поспешила к ближайшему поезду на Воронеж, а выбираясь на дорогу в сторону Курбатово, зачем-то оглянувшись назад, увидела издалека у сельсовета неизвестно откуда, вдруг, взявшегося здесь моряка в чёрном бушлате и бескозырке на белом фоне всей занесённой снегом округи.
В педагогическое училище её приняли в августе 1945 года. С выбором учебного заведения помогала врач райцентровской поликлиники, бывшая фронтовичка, оказывавшая, по возможности, содействие многодетной семье, оставшейся без погибшего на войне кормильца. Видимо, моя бабушка познакомилась с ней во время какого-нибудь обращения в поликлинику, и со своей стороны, конечно же, тоже старалась, по мере сил, быть хоть чем-то полезной своей настолько по-человечески душевно отзывчивой знакомой. Поступление средней из трёх дочерей в училище, улучшило и обеспечение семьи. Всем студентам помимо стипендий в размере 130 рублей, полагались и ежемесячные продуктовые пайки, состоящие из наборов с сахаром, крупами, маслом. А помимо ежемесячных стипендий и пайков, учащимся каждый день выдавалось по 500 граммов хлеба каждому.
Сидя за партой, на занятиях, невозможно было удержаться, потихоньку отщипывая от хлебного ломтя крошку за крошкой. Тогда четыре местные, бобровские студентки, решили скооперироваться, и поочерёдно получать целую двухкилограммовую буханку. Отщипывать от непочатой буханки рука уже не поднималась, и было что, наконец-то, по существу принести домой.
В 1942 году, когда немцы дошли до Колыбелки, началась эвакуация жителей Боброва. В ноябре ко двору подогнали колхозную подводу. Все куры и, постоянно прятавшаяся во время бомбёжек в убежище вместе с людьми, коза, были заранее порезаны, благо, что уже стояли очень сильные морозы, обеспечивающие прекрасные условия для хранения мяса. Но в полях, по дорогам бегало огромное количество мышей. Скирды все были проедены ими насквозь.
Загрузив подводу и привязав к ней прибившуюся ко двору в 1941 году корову из какого-то спешно перегоняемого с западной стороны бессчётного, никем не управляемого стада, всё семейство, включая и жившую по соседству, за огородом, мать моей бабушки, двинулось в сторону Шишовки. По пути пришлось сделать остановку в Коршево. Кто-то пустил их обогреться и поесть. Но пускали не все и не всех подряд.
Мамина бабушка, та самая, которая ездила на Соловки вызволять на волю мужа, частенько водила с собою своих внучек в церковь, несмотря на новые послереволюционные атеистические порядки. Моя, совсем ещё маленькая мама становилась на колени и усердно молилась, на умиление всем присутствующим там православным прихожанам. Когда же бывала у бабушки в хате, сразу забиралась на печку, а бабушка давала ей Евангелие: «Возьми-ка, почитай вслух». И она так приноровилась к этому делу, что читала старорусские книги Священного писания совершенно без запиночки.
Бабушка её обладала некой не совсем обычной силой верующего человека. Она умела лечить людей заговорами, молитвами, крестом. Лечила разное, в том числе и сибирку и рожу. За способность делать для людей то, на что мало кто способен, народ её очень уважал.
Однажды к бабушкиному дому подъехала бричка ГПУ. Ничего неожиданного в этом не было, ареста открыто верующей настолько неофициального значения, можно было ждать в любую минуту. Но и они повезли её исцелять кого-то из своих родственников.
Отношения с новой, Советской властью у множества людей старших и средних поколений складывались не очень гладко.
Дед мой, ещё и в середине тридцатых, работал плотником на маслозаводе. Но, поскольку двор его находился в части Боброва, Чукановке, относящейся к колхозным владениям, то ему, как и всем другим её жителям, было указано добровольно переменить все свои жизненные планы, и, со всем своим частным, подлежащим обобществлению излишним инвентарём и имуществом, записаться в число передовых сознательных советских колхозников. Дед, как и многие другие, от такого неожиданного бесповоротного предложения отказался. Тогда за дело взялись колхозные активисты. В дом к упорному строптивцу они нагрянули днём, когда хозяин был на работе. Начался погромный процесс демонстративного шмона и конфискации. Старшая дочь, которой тогда было лет 10—11, побежала за отцом. Средней, моей маме, которой тогда было лет 7—8, мать успела шепнуть: «Возьми деньги в самоваре и беги к бабушке», и она, в какой-то момент, незаметно вытащив узелок из самовара, и, крепко прижимая его за платьишком к груди, выбежала из хаты в сад, и через огород со всех сил устремилась на соседний бабушкин двор.
Дед не стал больше подвергать семью подобным испытаниям, отступил и записался в колхозники. Тут же, развивая успех, фанатичные коллективизаторы превратили его двор в хранилище для экспропреированного в округе имущества «единоличников», но он наотрез отказался вести с бывшими законными владельцами каждодневные разборки, и склад конфиската, по решению руководства, был перенесён в амбары у сельского совета…
А умерла мамина бабушка, году в 1958. Гроб, до самой церкви и кладбища, несли на руках одни бабы. Мужиков не подпустили. Так они её почитали.
Раньше на месте нашего посёлка, расположенного в частном секторе на юго-западной окраине Воронежа, находилась территория воинской части. Военные землю передавали Механическому заводу неохотно. Даже после того, как были нарезаны участки, их владельцев пытались не пропускать на всё ещё охраняемую территорию вооружённые часовые. Но со временем руководство завода решило все собственнические вопросы в свою пользу.
У работников мощного оборонного предприятия появились новые возможности быстрого улучшения условий жизни. Судьбы людей удачно складывались буквально в считанные годы. Устроившиеся на престижный завод вскоре могли бесплатно получить земельный участок сотки в три, неподалёку от места работы, под строительство частного дома. Кто-то отказывался, в ожидании готовых квартир, а кто-то, наскитавшись по чужим углам, охотно пользовался чудесным предложением. Для начала, на скорую руку ставили времянки. И тут же начинали строительство настоящих, с четырёхскатными крышами, кирпичных, или литых из шлака домов. Поначалу проектировались и дома на два хозяина, т.е. с общей стеной. Но потом всем желающим разрешили строиться отдельно.
Отопление в домах было печным. Воду брали из трёх колонок, установленных в среднем поселковом проулке. Электрическое освещение было не только в домах, но и на уличных столбах.
Обзаведясь добротными собственными жилищами, люди, в основном молодёжь из окрестных сёл и деревень, уже, несмотря на то, что далось всё это через постоянный неустанный труд, витали на седьмом небе от радости.
Но завод этим не ограничился. По посёлку была проведена и подведена в каждый дом вода. В домах появились титаны и ванны, чаще всего, устанавливаемые на кухнях. Сливные ямы рыли во дворах. Уровень комфорта стал существенно выше.
А ещё немного времени спустя, завод организовал проведение работ по газификации посёлка! Закончились каждодневные мытарства с углём и шлаком. Печи пошли под слом. Начались постепенные внутренние перепланировки. Для полного счастья теперь не хватало только лишь подключения к централизованной городской канализационной системе.
Но через некоторое время и этот вопрос тоже был полностью решён. К домам стали пристраивать санузлы, ванные, более просторные кухни, дополнительные комнаты, а то и вовсе отдельную жилую площадь для кого-нибудь из выросших детей.
Такие организационные действия тогдашней дирекции Воронежского механического завода заслуживают лишь самых добрых воспоминаний и оценок. Конечно же, много труда и средств пришлось вложить в обустройство своих индивидуальных владений и самим жителям небольшого городского частного квартальчика, называемого иногда в ближайшей округе «Палестиной».
В послесоветское время, когда ещё не было мобильной связи, все кто хотел и располагал финансовыми возможности, наконец-то, и телефонизировались. Но это уже полностью на коммерческих основах.
О таком уровне благоустройства и в наше-то время, и даже в Подмосковье, многие могут лишь мечтать. До сей поры даже там, в Подмосковье, не у всех в частных застройках имеется вода в домах. А в провинции и тем более. В деревне, откуда был родом мой отец, ещё и в середине шестидесятых годов не редко жили в хатах крытых соломой и с земляными полами. Если бы я сам не видел этого, я бы не поверил, настолько всё это, для меня, городского мальчишки, с рождения жившего в нормальном городском доме на территории находящейся в сфере жилищно-коммунальной ответственности легендарного ВМЗ, стало неожиданным и потрясающим.
Вот что значит высокая отраслевая репутация предприятия, и правильная активная социальная политика его руководства.
Результаты, достигнутые за годы становления и дальнейшего преобразования коммунальных инфраструктур заводского посёлка, в конечном счёте, оказались весьма впечатляющими.
Но и жизнь поколения «палестинских» первопроходцев уже приближалась к закату. Страна рушилась, и гордость военной и космической отрасли страны, завод орденоносец, под глобалистическим прессом тёмных сил буржуазного реваншизма, постепенно пустел и сдувался.
Вообще-то, есть отдельные подразделения, занимающиеся сопровождением грузов. Не знаю, из каких соображений, но, изредка, и от нашей части кого-нибудь отряжали на такие поездки.
В Корсакове наш старший, капитан зенитчиков нашего мотострелкового полка, отправился докладываться о прибытии. Вернулся расстроенный. Оказалось, что на этот же груз приехал караул и от роты сопровождения, а мы, со своими матрасами, вроде как, здесь уже и ни к чему. Возвращаться в полк ни с чем, без длительной поездки, ему, как и нам, троим его подчинённым бойцам, явно, тоже совсем не хотелось. Видно, надоело ему уже не меньше нашего тащить непрерывно изо дня в день постылую гарнизонную службу. А путешествие-то, действительно, наклёвывалось интереснейшее: через весь Дальний Восток от Сахалина до Благовещенска и обратно. «Столько можно было бы увидеть в пути!» — мысленно сокрушался я. Как потом оказалось, начальника караула в этот момент мучили другие переживания: он уже настроился хорошенечко отоспаться на маршруте, и при этом, потом, суметь порадовать семью возможными излишками дефицитной тушёнки и сгущённого молока, которые, обычно, в более чем достаточном количестве выдаются в дорогу служивым сопроводителям груза. Капитан постоял, подумал, что-то окончательно решил, и снова порулил по шпалам на командный пункт распределителей секретных перевозок, перетягивать вагон с ПЗРК под свою юрисдикцию.
После окончания срочной службы, длившейся целых семь лет, осенью 1951 года мой отец вернулся домой, в деревню. Ему предлагали остаться на сверхсрочную, но он отказался. В дорогу демобилизованных снаряжали, как самых родных и близких людей: хорошее обмундирование, запасные комплекты белья, несколько комплектов постельного белья, продукты и, конечно же, довольно приличное денежное довольствие. Деньги, вернувшись в деревню, он потратил на покупку новой хатёнки, в которую всеми и переселились.
Старшая сестра перебралась в Воронеж ещё в конце тридцатых. Поступила в педучилище. Но когда немцы приблизились к городу, пришлось перебираться назад, к матери. А после победы она снова подалась в областной центр.
И он теперь тоже не стал задерживаться в колхозных владениях, и, прописавшись у отца в общежитской комнатке «Холодильника», по совету ещё одного родственника, работавшего с довоенных лет на ВМЗ, быстро устроился туда же. Взяли его мотористом в шестой цех, где в то время проводились стендовые испытания двигателей нового вида авиационной техники — вертолётов.
Первая попытка познакомиться с молоденькой учительницей, работавшей по распределению в его деревне, потерпела неудачу. Она не пошла на встречу ни бывшему моряку, ни другому местному бывшему армейцу, тоже пытавшемуся подбить клинья под очень привлекательный и престижный, по местным меркам, вариант женитьбы. К делу, потихоньку, уже активно подключались и родные второго претендента со своими основными аргументами — имеющейся пасекой и ощутимым финансово-вещевым достатком, хотя и сам кандидат в женихи выделялся статью и уравновешенным, покладистым характером.
Про моряка же окружающие говорили ей разное. И что пасеки у его родителей нет, и что отец его вовсе гулевой и пьющий, бросивший семью на произвол судьбы и в городе без кола и двора живущий, да и сам парень выпить и, при случае, в драку какую вписаться, тоже не прочь…
Но судьба уже давно вела его более верным и целенаправленным путём, нежели это всё ещё могло кому-то показаться со стороны.
В августе 1952 года ему потребовалась справка об окончании шести классов, для поступления в вечернюю школу. Нужно было навёрстывать и в учёбе упущенное за годы войны и затянувшейся армейской службы.
В довоенное время в их деревне особым авторитетом у сельчан пользовалась старая учительница начальных классов. Она была очень строгая и своенравная. Иногда могла и всандалить линейкой кому-нибудь из отстающих учеников, за нерадивость. Но зато и почерк у всех её воспитанников отличался каллиграфической аккуратностью. По церковным же праздникам она, невзирая на ещё более строгие советские порядки, всякий раз, открыто шла, несгибаемо одинокая, через всю коряво тянущуюся вдоль болотистого лога разрывистую деревенскую улицу, в избищенский храм. И никаких мер к простой старой учительнице начальных классов, за такую её непоколебимую и наглядную верность своим прежним идеалам, руководство школы и колхозного партактива применять не решались.
Кстати говоря, в соседней, избищенской, церкви крестили всех жителей деревни, в том числе и моего отца. Когда в 1986 году пришло время и для моего младшего племянника, моя мама со своей сестрой сначала пошли в Никольскую церковь узнать, можно ли в ней провести обряд крещения. Такие вещи тогда делались в нашей стране полусекретно, как бы, втайне от властей. Внутри соборного помещения шла служба. Какая-то распорядительница продающейся церковной утвари, на прямой вопрос отвечала, видимо из соображений необходимой конспирации, не совсем конкретным намёком и, к тому же, одновременно слитно с исполнением своих соглядатальских функций, обращённых на присутствующих в храме прихожан: «На колени, на колени, „Верую“ читают, „Верую“ читают… Ищи блат… На колени, „Верую“ читают… Ищи блат, ищи блат… „Верую“ читают», на колени, «Верую» читают…». Увы, не только в миру развитого социализма для свершения даже и богоугодных дел нужны были блат, подвязки, подмазки, отстёжки.
Решили обратиться в церковь, расположенную в селе Девица. Там на прямой вопрос ответили прямым отказом.
Ещё раз всеми посовещавшись дома, в итоге, поехали, на своём ноль первом «Жигуле», прямиком в Избище, подальше от мест, уже и тогда заметно опошленных всеобщим неудержимым возжеланием чрезмерных благ урбанистической цивилизации, в родную бездорожную глубинку, на родную батину сторонку, где, можно сказать, в своей, фамильной, церкви, безо всяких околокультовых намёков, махинаций и подкупов, благополучно и крестили самого новорождённого и его старшего четырёхлетнего братана.
После школы старший получил высшее образование, защитил кандидатскую и стал преподавать в универе. А вслед и младший, выучился, защитился и тоже, там же, занялся активной научно-просветительской деятельностью.
Вот и получается: не ищи зря, где попало того, что у тебя уже давно есть. Или, как иносказательно говорится в Библии: всегда ходите прямыми путями. Например, как та, старая одинокая деревенская учительница. Или, как высшие силы, уже и с самого начала твоего пути, всячески преграждающие тебе всевозможные окольные завороты не к твоей, по высшей сути, например, Никольской, и не к твоей, по высшей сути, например, Девицкой, и направляющие тебя, и в случае с местом твоего крещения, только прямым ходом к твоей, по высшей сути, например, Избищенской церквухе.
Но в человеческом мире всегда всё было гораздо сложнее и запутаннее. Практическая жизнь в постоянном окружении и взаимодействии даже лишь с бесчисленным числом суверенных интересов и сил каждого отдельно взятого человека разумного, несравнимо произвольнее, непредсказуемее и многообразнее, чем все вместе взятые бесконечные попытки литературных, философских, религиозных и прочих её отображений и осмыслений.
В отличие от заслуженно неприкосновенной бывалой учительницы, с другой, молодой преподавательницей той же школы (тоже, как и моя мама, выпускницей бобровского педучилища), уже после войны, никто церемониться не стал, и как только она, выходя замуж, обвенчалась со своим избранником, её сразу же из этого же учебного заведения и уволили. Именно на это, освободившееся место, потом и перевели из совсем небольшой соседней коммунарской школы, новую преподавательницу начальных классов, т.е. мою будущую маму. Перевод был инициирован и осуществлён вопреки её собственным пожеланиям. Сама она не хотела расставаться с очень хорошей владелицей подворья, к которой её определили на постой, но пришлось выполнять решение начальства и снова перебираться на другое место.
На новом месте, с новой хозяйкой, действительно, уже не повезло.
Зато, здесь-то, и появились два самых реальных, с самыми серьёзными намерениями, соискателя её руки и сердца. Из окружающих, кто-то поддерживал более формально основательную кандидатуру, но и у моряка тоже хватало идейных сторонников, в том числе и в педагогическом коллективе.
В одноэтажном светлом здании сельской семилетки, в учительской, директор, подготавливая запрошенную бывшим морфлотовцем справку об окончании шести классов, всячески старался обратить его внимание на ту самую училку, давно уже тем запремеченную, а её на него. Выдавая же просителю готовый документ, деликатный директор, в завершение своих тактичных посреднических хождений вокруг да около, обращаясь одновременно к обоим, в качестве всё окончательно проясняющего и всем всё доказывающего несомненного аргумента, добавил: «Между прочим, вы были бы хорошей парой».
В Шишовке пускать к себе большую семью беженцев из Боброва, несмотря на жмущий вовсю ноябрьский мороз, никому не хотелось. Скитаясь по селу, пристанище нашли не сразу. Подключилась работница правления. В одном из дворов, хозяйка, как и все, ответила отказом, но представительница властей обратилась к её мужику: «Нельзя так. Не по-людски. Куда же им теперь деваться?». Хозяин не стал противиться, и остепенил жену: «Пускай сгружаются! Неизвестно ещё, может и самим придётся бежать. Так же мыкаться будешь…». На этом всё и решилось. Жили все вместе в небольшой хатёнке. Бобровские перемещенцы, и шишовские хозяева со своей единственной дочерью. За постой они с беженцев денег не брали.
Детей определили на учёбу в местную школу. Но какой может быть учёба при такой, бродяжьей жизни? Мать пошла работать в колхоз, на веялке. Как-то она послала старшую и среднюю дочь за соломой для коровы, в поле. Едва выйдя из деревни и двинувшись к стогам, они услышали завывание и увидели вдалеке волчью стаю. Бежали без оглядки через всё село.
Немного помытарясь с родными в эвакуации местного значения, бабушка вскоре ушла назад, домой. В основном-то, все старики, с самого начала, оставались на местах, как и мамин дед и прадед по отцовской линии.
Ближе к весне и для всех эвакуированных обрисовалась возможность возращения в Бобров. Мать сразу направила наиболее шуструю среднюю дочь к бабушке, договариваться с понтоншиками о перевозке походного имущества в родной Бобров, т.к. колхозной подводы на обратную дорогу уже не полагалось. Разузнав куда ехать и зачем, военные согласились быстро, за шесть вёдер картошки. Но в это время шли какие-то авральные наступательные переброски техники, и нужно было немного переждать, пока грузовики не освободятся от разнарядок по своему прямому армейскому назначению.
Через несколько дней ожидания водитель посадил маленькую «заказчицу» в кабину здоровенного «Студебеккера» и направился в сторону Шишовки. По дороге девочка увидела вдалеке свою, идущую более коротким путём, через заснеженное поле, на Берёзовку и в Бобров, мать: «Стойте, стойте! Вон моя мама идёт!» — закричала она водителю. «Да откуда ты видишь, что это твоя мать?» — засомневался, тормозя, военный шофёр. «Вижу! Это моя мама!». Машина остановилась, и дочь бросилась из кабины за матерью, на ходу стараясь изо всех сил, как можно скорее докричаться до неё. Водитель тоже не переставая отрывисто жал на сигнал, чтобы уходящая путница услышала, оглянулась и поняла, что зовут с дороги и ждут именно её… Дальше ехали уже втроём.
Если при организованном уходе жителей из Боброва в Шишовку, корове пришлось тащиться 20 километров по морозу на привязи за выделенной хозяевам для эвакуации колхозной телегой, то обратный путь она проделала с ветерком, удобно устроенная вместе со всеми и всей беженской кладью в просторном кузове лендлизовского «Студебеккера» военно-инженерных войск Красной Армии, в котором свободно разместилась и ещё одна бобровская семья со всеми своими пожитками, а точнее — семья двоюродной сестры матери, тоже временно квартировавшая в Шишовке.
Картошкой, за доставку, расплачивались дома. Она была при эвакуации присыпана в яме вырытой в погребе, и сверху заставлена пустыми бочками. Т.е. прямо рядом с местом базирования понтонщиков, прямо у них под носом.
Замок на входной двери в хату был сбит. Дед, по линии воюющего на фронте отца, живущий рядом, рассказал, что какие-то транзитные красноармейцы попытались разместиться в закрытой хате. С замком справились легко, но так и не смогли найти задвижку, перекрывающую печной дымоход.
Добросердечного шишовского хозяина тогда же мобилизовали в армию, а демобилизовали сразу после войны, всего больного. Его высадили на Бобровской станции. Он с трудом добрался до бывших своих квартирантов. Мать, по просьбе нежданного гостя, тут же отправила всё ту же свою среднюю дочь в Шишовку сообщить его жене о таком возвращении мужа. Жене дали в колхозе подводу, чтобы привезти больного домой, и, возвращаясь с нею в Бобров, посыльная девчонка-подросток мысленно удивлялась, что лошадьми правит женщина, а не мужчина, и опасалась, как бы не вышло из этого в дороге какой-нибудь катастрофической неприятности.
Оказавшийся же единственным для них самым отзывчивым на чужие беды житель Шишовки, вскоре, после того, как жена привезла его, сама управляя колхозными лошадьми, из Боброва домой, умер.
Большие, как мне тогда казалось, ребята с нашего посёлка придумывали для себя разные рискованные забавы и испытания. Они уходили в расположенный рядом карьер, и, то сооружали там из подручных средств плоты для плавания по огромной глубокой луже, то устраивали ещё более опасное развлечение с полётом над огромным песчаным котлованом. Провода, ещё не действующей высоковольтной линии, проходили очень низко над самым краем обрыва. Оставалось только найти подходящую толстую проволоку и умело её изогнуть. Отойдя подальше от края, проволоку накидывали на провод. Очередной мальчишка крепко брался за неё, разбегался, и, оттолкнувшись от обрыва, летел на ней вперёд, легко скользя надо всем карьером с высоты одного его края на низ другого. Это было впечатляющее зрелище. Но иногда случалось нежелательное: примитивное приспособление застревало вместе с очередным отважным воздухоплавателем где-то на полпути. В таких случаях ничем помочь ему никто не мог. Самоотверженному бедолаге оставалось только, сидя и держась на ржавой загогулине, тянуть время, выслушивая сочувственные подбадривания рЕбзей, всеми терпеливо ждущих исхода под местом возникновения нештатной ситуации, но потом, всё таки, прыгать со всей запредельно небезопасной высоты вниз.
Был ещё и малый полукруг для пролёта над краем карьера, где один из проводов линии, почти что сразу изгибался и возвращался чуть в стороне на тот же самый стартовый край обрыва. Поэтому полёт на проволоке был коротким, но тоже опасным. Мой старший брат, не удержавшись, на лету по этому изгибу, сорвался с подвесного приспособления и упал спиной на песок.
В таких случаях от сильного удара об землю перебивало дыхание, пацан долго не мог встать, двигаться, друзья всячески помогали ему прийти в себя. Не помню, чтобы случались переломы, непоправимые травмы, но не раз покорчиться от сильнейших ушибов после неудачных прыжков и падений с высоты, приходилось, практически, всем малолетним любителям острых ощущений.
Нашему поколению полетать на проводах уже не посчастливилось. Их натянули, как положено, ЛЭП ввели в строй. И от весеннего карьерного водоёма тоже ничего не осталось. На месте большого карьера возникла череда песчаных оврагов, и нам ничего не оставалось делать, кроме как разбегаться и прыгать сразу же вслед друг за другом с какого-нибудь крутого высокого обрыва вниз на песок, быстро отскакивая при преземлении куда-нибудь в сторону из под уже летящего сверху следующего такого же, как ты, «экстремала». Вот и весь полёт. Но «дыхалки» себе, случалось, тоже отбивали.
Потом в нашем карьере, на какое-то время, была устроена сложная трасса для мотокросса, которая использовалась не только для тренировок, но и для проведения соревнований. На пересечённой местности собиралось много зрителей. Гонщики демонстрировали чудеса владения двухколёсной спортивной техникой. Но длилось это не долго. Карьер снова опустел. Но и мы уже заметно повзрослели и единственное, чем он ещё оставался для нас привлекательным, так это, возможностью, зимой, иногда прокатиться там на лыжах. Мой младший двоюродный брат, когда ему было лет четырнадцать, во время такой одиночной лыжной прогулки, соскользнул в обрыв и, при падении вниз, его ноги с лыжами, и часть тела, оказались придавлены снегом. Он сам ничего не мог сделать для того, чтобы выбраться из образовавшейся ловушки. Уже темнело, пальцы рук без потерянных при падении варежек уже не могли шевелиться, и ждать помощи в безлюдной глуши было не от кого. К счастью, с ним была его собака, восточно-европейская овчарка. Она-то его постепенно, каким-то чудом, и вытащила из, вполне возможно, смертельной западни…
Теперь на месте когда-то заброшенного и нами карьера, в его заглаженной низине, находятся невзрачные бескрайние лабиринты обычных гаражных кооперативов.
От Южносахалинского аэропорта нас провели по короткой, далеко открытой с обеих сторон боковой шоссейке, до трассы, соединяющей Южно-Сахалинск и Корсаков, и, переведя через пустоватую самую главную местную дорогу, пропустили прямиком в тут же, при обочине, расположенные ворота, на территорию хомутовской воинской части, где размещался и штаб дивизии. Сюда, на пересыльный пункт доставляли всех прибывающих для продолжения срочной службы на Сахалине или на Курилах, и отсюда же отправляли на материк всех демобилизованных с Сахалинской области. Пересыльный пункт для прибывающих представлял из себя простой физкультурный зал. Вещи и люди размещались прямо на полу. Тут же каждый мог и полежать и принять пищу. Для пропитания, ещё в Хабаровске, нам выделили по несколько банок консервов.
С роты агээсников сюда нас занесло только двоих. К тому же, поскольку мы были из разных взводов, то и знали друг друга разве что лишь в лицо. Поэтому, каждый сам по себе ждал своего дальнейшего назначения. Я хотел на Курилы. Кажется, довольно быстро выкрикнули мою фамилию, и фамилию моего хабаровского сослуживца. Забирал нас, и ещё одного парня с пушками в чёрных петлицах, офицер тоже с пушками на погонах, и в фуражке с чёрным околышем. Он был спокойным, и немногословно мягким в общении с нами. Выяснилось, что мы остаёмся на Сахалине. «А как же Курилы?» — спросил я. «Считайте, что вам повезло. Здесь намного лучше и часть хорошая» — ответил капитан и без лишних команд и равнений, повёл нас через КПП к автобусной остановке.
День был светлый, тёплый, весенний, и со своим спокойным сопровождающим офицером мы спокойно ехали на самом заднем сиденье полупустого рейсового автобуса навстречу ждущей нас впереди полной неизвестности. Я снова подумал, что, видимо, не ошибся, тогда, при виде разнобойно двигавшегося нам навстречу, к аэропорту, строя дембелей, и теперь-то уж, наверняка, сменю красные погоны мотострелка на более предпочтительные чёрные.
Быстро проехали Южный в северном направлении. За окном, в стороне от дороги, и справа и слева, то ближе, то дальше, завиднелись лесистые сопки. Всё вокруг и внутри меня было как-то необычно уравновешенно. И уже, почему-то не нужно было мне зачем-то стремиться ещё дальше, словно именно тут мне и надо было сейчас оказаться и что-то обрести, именно на этом острове, а не на каком-нибудь другом…
Меньше чем через десять лет Советский Союз был разбазарен по частям, а мой малознакомый сослуживец по учебке, с которым мы сразу же скорефанились на Сахалине, стал одним из самых неформальных признанных классиков Русского шансона.
Мой прапрадед, по маминой линии, по линии её отца и по линии её деда, родился, примерно, в 1863 году и скорее всего, там же, в части Боброва, называемой Чукановкой. Его брат жил в отцовской хате. А он по соседству, на этой же улице, в направлении к рядом находящемуся центру города. Их дворы разделял узкий проулок. Потом для его сына, единственного ребёнка в семье, купили следующую соседнюю хату. А потом, и для отца моей мамы (моего деда), купили и ещё одну следующую соседнюю хату, прямо на границе с другой частью Боброва, называемой Смыговкой.
Прапрадед был невысокого роста, шустрый. В дореволюционные времена работал при железной дороге — открывал шлагбаум. Ходил в форме и в форменной фуражке. Слова произносил манерно, чётко.
Брат его жил рядом, одна сестра, после революции оказалась в Америке, а другая, вроде как, подалась в хлыстовки.
В старости прапрадед любил с утра сесть на крылечке, где, сначала, приветствуя всех прохожих, приподнимал картуз и кланялся, а потом откладывал картуз в сторону и только кланялся, помахивая седой бородкой.
В советское время он промышлял тем, что собирал после базара рассыпанное сено и солому, и на тележке отвозил на свой двор, набирая потихоньку стожок, для дальнейшей продажи. Правда, потом, у него стали появляться конкуренты. Ещё он предоставлял хромому липовскому торговцу мелом свой сарайчик, для складирования продукции. Правда, при бомбёжке, в войну, сарайчик разнесло вместе с мелом по всему двору.
Жена его была очень добрая. Высокая ростом. В жаркий день они с ним ставили на крылечке самовар и пили чаёк, когда с мятой, когда с молоком, предусмотрительно закрыв на задвижку дверь со двора. Но дети, живущего через двор внука, прибегали тогда уж, друг за другом не со двора, а с улицы, и получали-таки кусочки сахарку от своих прадедушки с прабабушкой.
Прапрадеду было сподручнее с внуком, чем с сыном. Сын не курил и не выпивал, а взрослый, самостоятельный внук всегда готов был составить своему деду компанию, несмотря на отрицательное отношение к этому своего отца и своей жены. Она сразу видела, с каким прицелом в их хате появлялся дед: «Дед, дед, опять за деньгами пришёл, за водкой?». А он ей: «Ишь ты, всё знаешь», и в сенцы, незаметно семафоря внуку. Тот выйдет вслед, даст денег, дед быстро сбегает за чекушкой и в чуланчике они её тихонечко разопьют.
К старости у прапрабабушки заболели ноги, она не ходила. Вдобавок и глаза перестали видеть. Сын и внук, как могли, помогали старикам. Но и у тех хватало своей тяги к жизни. В первую же, неожиданную бомбёжку, от страха, уже не умеющая ходить и слепая инвалидка стремительно уползла из хаты в соседний огород сына, и там полностью засыпала себя картофельной ботвой. Когда её потом, не без труда, нашли, сын спросил: «Мама! Как ты сюда попала? Что ты тут делала? Зачем ты картошку-то повырывала?». А она отвечала: «Это я, сынок, макировалась».
Умер мой прапрадед тихо, спокойно, на печке, сразу после войны. Сын зашёл к родителям, и мать поинтересовалась у него: «Что-то отца не слышно». Он заглянул на печку, а отец-то умер. С вечера, когда ложился спать, постонал немного и всё.
Её забрала к себе внучка, сестра моего деда. Через несколько лет моя, не сломленная жестокими недугами, прапрабабушка тоже умерла.
У брата моего прапрадеда был сын. Он так и жил в доме своего отца (т.е. в первом маларёвском доме на Чукановке) уже и со своей семьёй — женой, двумя сыновьями и дочерью.
Во время Гражданской войны, его, пряча от «белых», везли на телеге в соломе. Уши настолько забились трухой и пылью, что с тех пор он плохо слышал. Работал он плотником. В доме у него были хорошие полати. Маленькая моя мама раз по десять на дню прибегала к ним в дом, на эти полати. А на доме висел знак «Передовой колхозник». Сын брата моего прапрадеда был сторонником коллективизации. Однако, это не мешало его дружбе с моим дедом, попавшим в колхозники только лишь после нешуточного наезда советских активистов на него и его семью со всем её личным подсобным хозяйством. Но был всё-таки, был случай, когда они, вдруг из-за чего-то повздорив, сцепились, и дед, в скандальной сутолоке, сильно порезал себе руку стеклом. Рана долго потом заживала, как, наверное, и душевные раны обоих.
Во время Отечественной войны плохо слышащего передового колхозника всё равно забрали в армию. Служил он где-то в инженерных или сапёрных войсках, плотничал, наводил мосты. Демобилизовался с задержкой, поскольку строительные части ещё какое-то время и после войны привлекались к восстановительным работам. А дед с войны не вернулся. И его двоюродный дядя, не раз, упорно, ходил в колхоз, хлопотал, чтобы имя племянника внесли на памятник павшим воинам.
Старший его сын поставил себе хату рядом с отцовской, на этом же дворе. В войну он воевал шофёром, на полуторке, а потом работал на бобровском маслозаводе.
Сын дочери (и в дальнейшем жившей в доме отца), комсомольский работник, после успешно свершившейся буржуазной контрреволюции, стал мэром Боброва.
У старшего сына тоже были дети — девочка и мальчик. Мальчишка вырос, стал крепким мужиком. Однажды в очереди за пивом он не пропустил вперёд какую-то шпану. В драке его сильно избили и, в конечном счёте, в результате полученных травм и ушибов он скончался.
А сын младшего сына, тоже отстроившего свою хату на отцовском дворе, с другой стороны от отцовской, стал лётчиком и жил в Юго-Западном микрорайоне в Воронеже, недалеко от военного аэродрома «Балтимор».
Литература и жизнь — бесконечно далёкие друг от друга вещи. Пока труженики науки и технического прогресса мучительно медленно, но поступательно, а потом фантастически быстро и успешно создавали мир реального благоденствия для всего человечества, служители литературы и всех других видов свободной творческой деятельности, с бездумным шизофреническим страстным упорством, посредством целенаправленного эксплуатационного изощрения своих личных талантов и способностей художественно-драматургического толка, всячески изламывали общечеловеческое сознание и волю.
До сей поры всё ещё продолжаются споры вокруг тезиса о смерти искусства. А вот для некого, видимо, достаточно удалённого от закоснелых норм и предубеждений в восприятиях объективного бытия, Созерцателя, это уже безвозвратно пройденный этап в истории развития человечества, и, поэтому, новый вопрос уже наставшей новой реальности, он, бесстрастный наблюдатель и добросовестный потребитель Сущности, формулирует, без какой-либо уже совершенно излишней оглядки на ход, всё ещё формально неоконченного, отстало-исследовательского диспута, следующим, собственным, не общесистемным, неожиданным, но более чем ясным для любого нашего современника образом:
«Почему после смерти искусства жизнь стала ещё прекрасней?».
Полная свобода особенно хороша при способности людей адекватно оценивать происходящее с ними и вокруг них. Всерьёз страдать от не признания широкими массами твоих творческих способностей — это уже психическое расстройство. Но, как не расстраиваться и не страдать, если такой успех и такая популярность, основанные на самых элементарных умозрительных фикциях, возносят человека на небывалые высоты галлюцинационных приходов и охрененных финансовых сверхдоходов. По сути дела, искусство, так же, как религия и политика — до предела извращённые пережитки порочного прошлого. Для окончательного закрепления чудесных результатов человечества, достигнутых только лишь благодаря массовому образованию, просвещению и созидательному труду, и для дальнейшего успешного продвижения по пути непрерывного совершенствования и развития, осталось только отказаться от системы целенаправленных, или застарело привычных, или невольных искажений реальности.
Достаточно ли гуманно ведут себя наши власти по отношению к народу? Скорее всего, вполне достаточно. Особенно, по сравнению с тем, как ведут себя, периодически, люди по отношению к самим себе и во взаимоотношениях друг с другом. Или по сравнению с тем, насколько, зачастую, беспощадно вертят человеческими судьбами силы необъяснимых сверхреалий, или, иногда, силы природных стихий.
Однако, при этом, даже значение мистических явлений — ничто по сравнению с угрозой ядерного или планетарного уничтожения всего человечества. И если от природных катастроф космического масштаба мы пока ещё никак не защищены, то от роковых просчётов и ошибок наших правителей, и нас и их, может уберечь только система разумного прямолинейного управления всеми человеческими потенциалами, безо всяких ссылок на вторичнохудожественные, и церковно-приходские мифологические альтернативы реальному истинно спасительному, цивилизованному и прогрессивному, человеческому бытию.
В 1959 году в декрет моя мама ушла в апреле месяце. Получилось так, что одна наблюдающая врач направила её к другой, а та, пофигистически, немного и промахнулась со сроками, поскольку, по ходу, решая вопрос с пациенткой, была профессионально более сосредоточена на светском разговоре с заглянувшей к ней в гинекологический кабинет знакомой: «Представляешь, вчера в театр ходили, так, у Шкурского уже все причиндалы об колени бьются, а он всё женихов играет…».
Шкурский в областном центре являлся одним из самых известных и именитых актёров. Во всяком случае, и моя, параллельно обследуемая опытной театралкой, мама прекрасно понимала о ком идёт речь. Он не раз, в роли Деда Мороза приходил в детский сад, в котором она работала, на новогодние ёлки. Рослого, и не слишком замысловатого, как всякий успешный провинциальный ловелас, в общении, дети его очень боялись. Поэтому имя его было на слуху не только у гинекологов, но и у воспитателей детских садов. Но именно благодаря особому вниманию к наиболее сокровенным талантам Шкурского со стороны работниц медицинских учреждений, декретный отпуск моей мамы растянулся на целых три месяца. Потом, выписывавшие небывало долгосрочный декретный больничный, медички с юморком давались диву, как такая промашечка могла получиться у настолько бывалой специалистки узкого профиля.
Родился я в субботу в 2 часа дня. «Девочка и чёрненькая» — сказала мама. «Мальчик и беленький» — сказал акушер и похвалил маму: «Молодец, уложилась в короткий день». К тому времени субботние рабочие смены, очередным позитивным постановлением партии и правительства, были частично сокращены. «Как себя чувствуешь?» — спросил он её. «Хорошо. Хочу есть» — ответила она, и ей тут же, по его распоряжению, принесли тарелку борща.
День моего рождения совпадает с днём рождения матери моей мамы и с днём рождения старшего брата моей мамы. Т.е. в каждом из трёх поколений подряд по этой нашей родословной линии кто-то рождался в эту дату. Но узнал я об этом уже значительно позже, как и о том, что это число в церковном календаре отмечается как День иконы Божьей Матери Троеручницы.
И было ещё что-то для меня в моей жизни мистически значимое в том, что в 1980-ом, олимпийском, году, в этот же день июльского календаря, не стало В. Высоцкого. После такой совершенно неожиданной утраты произошёл и какой-то, словно, не совсем мною управляемый, поворот в моей судьбе. Всё вокруг меня и во мне было, в чём-то объективно, в чём-то субъективно, плохо, но именно тогда я и сделал свой первый, как бы, интуитивно верный шаг в, почему-то, нужную мне, для себя и не только для себя, сторону. В декабре я ушёл с пятого курса универа и стал ждать весеннего призыва в армию.
Однажды, ещё до эвакуации, летом, под Бобровом, в воздушном бою был сбит немецкий самолёт. Лётчик приземлился прямо в поле, на котором работали колхозники. Он сразу хотел рвануть мимо растерявшихся баб к посадкам, но ему навстречу пошёл мужик с вилами. Выбора у немца не оставалось, и, к тому же, видимо, ещё имелась вполне реальная возможность выбраться к своим, и он, пустив в ход оружие, застрелил решительно настроенного советского труженика тыла, и устремился к лесополосе. Поймали его военные, подъехавшие из Боброва. Лётчика, сидевшего с опущенной головой в кузове «Студебеккера», провезли полем под охраной автоматчиков, не позволивших потрясённым колхозницам расправиться с пленённым гитлеровцем.
В довоенные годы наиболее активная бобровская ребятня с ранних лет подрабатывала на базаре продажей воды. Мама со своими сёстрами и двоюродным братом тоже не отставали от других. Тётя её, по отцу, жила напротив столовой, практически, рядом с рынком, поэтому воду удобнее всего было брать из тётиного колодца, но случалось, что таскали и из своего, который, потом, в войну обвалился. Покупателей зазывали громкими криками: «Есть холодная вода — три копейки до сыта!».
Никто тогда и подумать не мог, что вскоре уже грянет война, и понарошечный торговый навык очень даже всерьёз пригодится при выживании в условиях едва выносимых всеобщих бедствий и лишений.
После эвакуации, вернувшись из Шишовки, вся многодетная семья, с новым, беженским, опытом и с новыми надеждами сразу втянулась в уже привычную, полуголодную тыловую райцентровскую жизнь. Промышлять приходилось по крохам, с трудом и риском. В товарообмен пошла сохранившаяся, предусмотрительно спрятанная в погребе, картошка. Старшая и средняя (т.е. моя мама, которой тогда было лет тринадцать) сёстры поднимались ранним тёмным морозным утром, часов в пять, взваливали каждая на плечё по два связанных узла с картофаном, и шли вдвоём к станции. Там они встречались с двоюродным братом (маминым годком, будущим порученцем командующего Прибалтийским военным округом) и его сестрой, тоже загруженными такими же узлами. Вместе садились на проходящий в Лиски поезд, составленный из обычных «бычьих» вагонов. Как правило, лавки, расположенные вдоль стен холодной «теплушки», были уже заняты, и новым пассажирам приходилось располагаться прямо на полу. Иногда поезд приходил на саму лискинскую станцию, а иногда останавливался в карьере, и тогда приходилось со всей поклажей слазить из вагона вниз и совершать дополнительный маршбросок до конечного пункта назначения — лискинского базара. Картошка раскупалась быстро. Частично и перекупщицами, которые варили её и тут же продавали из укутанных в платки вёдер. И уже у них, в свою очередь, юные торговцы, неспособные устоять перед соблазном, покупали, по порции на двоих, свою же, но уже варёную и нестерпимо вкусно пахнущую горяченькую картошечку. Но главной целью было закупить в Лисках на все вырученные деньги соли, или спичек, или какой-то самодельной примитивной ткани, привезти домой и потом продать, с выгодой, на своём бобровском рынке.
Обратный поезд тоже мог идти либо от станции, либо из карьера, куда надо было успеть добраться со всей своей нелёгкой ношей и суметь залезть с откоса, помогая друг другу, в какой-нибудь, более или менее свободный товарно-пассажирский вагон. Но, кроме всего прочего, нужно было успеть и суметь благополучно выбраться из него на бобровской станционной площадке. Однажды мама, сойдя на платформу, потянула за собой узлы, но вдруг почувствовала не только тяжесть груза, но и сопротивление и утягивание его в противоположном направлении, вглубь вагона. Поезд же уже тронулся. Она закричала брату и сёстрам: «У меня мешки тянут!». Вся гурьба бросилась ей на помощь, с криками, вместе с нею вцепившись в свою, кем-то настырно-умело присваеваемую собственность. Поняв, что теперь и сам может оказаться и остаться вместе с узлами на платформе, незадачливый ворюга бросил добычу.
И всякий раз домой они должны были попасть к 12 часам дня, чтобы успеть на уроки, во вторую смену, в школу.
«Взрослые» ребята с нашей округи любили походить по медленно продавливающейся под ногами поверхности чёрной смолы. Возле ведомственной железной дороги, пролегающей рядом с заводским посёлком, была какая-то рукотворная кругообразная выемка в земле, метров 10 диаметром, залитая этой самой смолой. Там она, очевидно, хранилась. Ходить летом по изгибающейся под тобой липкой толще занятие рискованное. Если вовремя не перейти с места на место, ногу затянет так, что вынуть её уже будет очень проблематично даже с помощью каких-нибудь опытных специалистов. Рассказывались всякие страшные истории о людях и животных, включая коров, оказывавшихся несчастными пленниками и жертвами таких уличных смоляных хранилищ. Но, всё равно, и те кто помладше, пытались испытать всю прелесть рискованных ощущений, осторожно прохаживаясь по краям смоляного круга.
Единственное, что тогда сдерживало нас, «мелюзгу» от неминуемых несчастий в карьере и у смолы, так это жёсткий контроль над нами старших ребят. Они нам не позволяли делать то, что делали сами.
Но нас уже тоже неудержимо тянуло на риск. Наша отдельная возрастная компания состояла, когда из 4-х, когда из 5-ти, когда из 6-ти пацанов, примерно одного возраста. Однажды, когда нам было года по четыре, мы одни убрели достаточно далеко от своего посёлка по магистральной улице имени Героя Советского Союза Александра Матросова, закрывшего грудью амбразуру вражеского дота, и на ходу придумали для себя очень простое и опасное испытание. Смысл состязания заключался в том, чтобы каждый желающий из нас попробовал пробежать перед проезжающей по дороге машиной, подпустив её на минимально возможное расстояние. Я, примерно, помню лица водителей самосвалов поневоле становившихся участниками этой детской игры, по сути дела, со смертью. И помню, как сам подпускал один из таких самосвалов, как можно ближе, и как браво, чертомётом бросился перебегать дорогу прямо у него под колёсами. Бедные шофера. Дорого им тогда обошлись наши испытания ловкости и смелости. Я вполне был доволен своим отличным результатом, о страхе вообще речи не было, а вот гримасы, жесты, ужасные состояния и реакции водителей за стёклами старых ЗиЛовских кабин оказали-таки на меня какое-то воспитательное влияние. Больше меня на такие подвиги не тянуло. Гражданских водителей я, конечно, уважал не так, как военных, но внутренне быстро согласился с тем, что за такие проделки они меня могут наказать по полной программе, и, при этом, будут абсолютно правы.
Чаще всего именно опытным путём, всякий раз, и определяется и вырабатывается дальнейшая линия поведения любого, даже взрослого конкретного человека. При этом самые действенные оценки исходят откуда-то изнутри, а внешние аргументации, хоть и важны, но всё-таки второстепенны, если только это не беспощадное насилие над личностью, не тотальный идеологический беспредел, и тому подобное.
Вернулся наш капитан с доброй вестью: вагон с ПЗРК будем сопровождать мы, а не наши, невесть откуда раньше нас нарисовавшиеся здесь конкуренты, профессиональные ездоки из роты охраны военных грузов.
«Вперёд! На продовольственный склад!» — скомандовал непрошибаемый, а сам какие хочешь преграды способный прошибить, начальник нашего импровизированного караула, и водила трёхосного полкового ЗИЛа повышенной проходимости, во весь опор помчал всех нас в заданном направлении. Успех нужно было закреплять быстро и навсегда, иначе снова всё могло неожиданно измениться не в нашу пользу. Стратегические склады располагались неподалёку, надёжно укрытые с трёх сторон безлюдными склонами, заросшими дикой буйной сахалинской растительностью. Там мы получили тушёнку и сгущённое молоко. На хлеб, крупу, макароны и прочую снедь выделялись наличные средства. На душе было тепло, светло и радостно.
Быстро вернувшись к отправной точке у железнодорожных путей, мы разгрузились, окончательно распрощались со своим водителем, и под руководством капитана начали выбирать из нескольких всеми заброшенных затрапезных караульных теплушек наиболее пригодную для нашего чудесного путешествия. Приглядели ту, в которой имелись, в одной стороне, широкие дощатые нары. Буржуйку перетащили из другого пульмана. Трубу печки выставили в специальное отверстие в крыше. Прочесав окрестность, запаслись дровами. И капитан снова отправился в штаб для получения дальнейших указаний.
Но и тут снова возникла непредвиденная заминка. На командном пункте только теперь задумались над вопросом, каким маршрутом направлять вагон с острова на материк.
Скорее всего, ничего в этом мире существенно не зависит от уровня сознательности человека. Всё зависит от степени развития техногенной среды существования всего человечества. Только благодаря достижениям научно-технического прогресса всё меньше остаётся предпосылок для проявления отрицательных качеств, свойственных людям. Легче становится работа, и, одновременно с этим, лучше становится обеспеченность продуктами питания и всякими, даже излишними, материальными ценностями. В таких условиях свободы, достатка и комфортабельности, в каких живём мы, не так уж сложно оставаться, преимущественно, человечным по отношению к окружающим. Но это вовсе не значит, что в критической ситуации все мы уже никогда не сможем поступить низменно, подло, трусливо, тем более, что всё ещё слишком многие из нас готовы поступать именно так всегда и при любых обстоятельствах, ради каких-то дополнительных лично своих преимуществ и превосходств.
«Мир спасёт красота» — нелепо заявлял один из литературных героев Достоевского. Толстой всерьёз и прямым текстом возлагал спасение мира на женщин: «Если бы только женщины поняли своё значение, свою силу и употребили бы её на дело спасения своих мужей, братьев и детей. На спасение всех людей! Да, женщины-матери, в ваших руках, больше чем в чьих-нибудь других, спасение мира!» («Не могу молчать»). А ещё ранее, во времена только что снесённой революционной массой Бастилии, французский поэт Беранже и вовсе витал в облаках самовоссторженного евронигилизма: «Господа! Если к правде святой мир дорогу найти не умеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой».
Всё это, в одинаковой мере, — откровеннейшая профанация, полностью лишённая какого-либо практического смысла, и скатившиеся до низших плоскостей наивной графомании идеи. Конечно, в те, давние времена надеяться людям обеспеченным, но пишущим романы и добросердечным, а прежде всего, людям низших сословий, было, в общем-то, в плане справедливости, особо-то, и не на что. Но, с позиций сегодняшнего дня, и Достоевский и Толстой и Беранже со своими ключевыми примитивными исследовательско-творческими умозаключениями выглядят, на самом деле, очень бледно.
Люди, хорошо знающие отца моей мамы, относились к нему с уважением. К нему тянулись и дед по отцовской линии, и двоюродный дядя, и сыновья дяди, и родственники жены и многие другие просто знакомые люди. Двоюродная бабка, уехавшая после революции в Америку, узнав о его гибели на войне, пыталась с дочерью хоть чем-то помочь его жене и детям даже из-за океана.
А вот со своими родителями, жившими рядом, он не очень ладил. Отношения испортились после их резко неодобрительного отношения к его избраннице. Родители были против его женитьбы на ней. Но дед с бабушкой, жившие рядом, через двор родителей, к выбору внука отнеслись с уважением, как и другие родственники.
В родительской семье было три ребёнка. Он и ещё две сестры, помладше. Самая младшая, когда ей уже было лет восемнадцать, в холодную пору, вымыв голову, пошла в церковь. Отстояла там службу. После всего этого простыла и умерла. Вторая дочь, до войны, вышла замуж. Семья у неё тоже была большая. Это как раз-то её сын, став офицером, потом попал на службу порученцем к генералу армии Хетагурову, командующему Прибалтийским военным округом. Вот семье-то дочери родители и старались всячески помочь, поскольку сын, после разлада, наотрез отказался от всякого содействия. Он сам обеспечивал семью и всё делал для того, чтобы его дети были обеспечены не хуже других, и чтобы все они, обязательно, получили образование. Подрабатывал изготовлением валенок. Этой дополнительной, тяжёлой работой приходилось заниматься, в основном, по ночам.
Когда у старшего сына, после сильного ушиба колена, начались серьёзные проблемы с ногой, отец предпринял всё, что только возможно, для его лечения: возил его к разным опытным докторам, в больницы, в санатории. Но справиться с недугом, толком так никому и не удалось. Нога болела, сын ходил хромая, опираясь на палочку.
Когда парализовало тестя, жившего сзади, двор ко двору, зять не остался в стороне, и находил время, чтобы помочь старику, поддержать его. Тот потом плакал, когда он, в августе 1941 года, уходил на фронт, и вскоре, первой же безнадёжной военной осенью, лишённый одной из основных своих опор, обездвиженный инвалид умер.
Отцу многодетного семейства, хорошие знакомые предлагали «откосить» от мобилизации, имея возможность пристроить своего человека охранником в тюрьму, расположенную прямо напротив его дома. Но он отказался. Раньше, в другой ситуации, ради спокойствия детей и жены он позволил себе согнуться перед напором колхозных коллективизаторов, но здесь уже до конца остался верен своим самым главным принципам и своему выбору. Погиб он весной 1944 года при освобождении Украины.
И почему-то получилось так, что очень схожими оказались по основной сути личные принципы моего погибшего деда, и его, совершенно совсем не известного ему при жизни, будущего зятя, т.е. моего отца.
Почему люди так упорно связывают, как свои судьбы, так и жизнь общественную с различными условностями, основанными на шитым белыми нитками обмане, и лицемерии? Зачем?
Вот, допустим, в Москве, отмечается День города. Её мэр, президент страны, премьер и другие ответственные лица поздравляют москвичей с праздником, с их трудовыми заслугами на поприще благоустройства столицы нашей Родины, радуются за темпы и масштабы созидательных работ, рассказывают о новых планах и замыслах по грандиозному обустройству городской инфраструктуры. Мэр благодарит президента за заботу о Москве и москвичах, благодарит премьера. Москвичи кажутся себе, действительно, очень заслуженными и особенными людьми, самостоятельно создающими для себя, в своей любимой Москве, всё более прекрасные, цивильные условия существования.
И почему-то для всех участников шумного праздничного столичного шоу не имеют совершенно никакого значения вопросы, которыми в это же время задаётся огромное множество таких же российских граждан, но, проживающих не в самом главном городе страны, а во всех остальных, простых, не главных, провинциальных, малозначительных, по чьим-то хитромудрым меркам, населённых пунктах.
Если основная потенция быстрого, объёмного, непрерывного преобразования Москвы заключается лишь в финансовых и профессиональных возможностях самих москвичей, её мэра и президента страны с премьером, тогда, конечно же, совсем ни к чему благодарить все другие российские города, власти и жители которых, как тогда получается, просто бездарно не способны изыскивать средства и возможности для сопоставимых с московскими масштабов и темпов развития собственных территорий. Но ведь это же не так. А если это не так, то почему же тогда мэру Москвы, москвичам, президенту и премьеру не поблагодарить, прежде всего, жителей всей остальной России за долготерпение, за то, что все они стойко переносят тяготы этапа, на котором осуществляется активное преобразование столицы, в ущерб финансовому положению и активному преобразованию их собственных городов? И уже не просто поблагодарить от всего сердца, но и назвать сроки начала нового этапа, этапа развития всей страны и всех российских территорий. В противном случае, всё это уже начинает слишком нагло переходить все рамки всех приличий сосуществования столичной конгломерации со всеми другими территориальными составляющими нашей единой, самой ресурсно богатейшей и самой ядерно мощнейшей в мире державы.
В голодное, беспощадное военное время растить одной пятерых детей — задача, по нынешним раскладам, посильная далеко не каждому, но, по тогдашним нормам, вполне, для множества русских женщин, обычная, хотя и во всех отношениях беспросветно тяжкая.
А в 1944-ом ещё один удар — в дом пришла похоронка. Но она выстояла и продолжила движение к намеченной прежде главой семейства цели — выучить детей, чтобы не пришлось им горбатиться всю жизнь в «родном» колхозе.
Старший сын, хорошо успевающий в школе, поступил в педучилище. Он очень тяжело пережил страшную весть о гибели отца. А до войны, случалось, когда отец, иногда, приходил, не слишком крепко держась на ногах, на школьный двор, проведать своих детей, угостить их какой-нибудь сладостью, типа, разноцветных петушков, он подвыпившего родителя стыдился и обижался на него, в отличие от, маленькой ещё, средней дочери, всегда и везде радовавшейся и отцу и его гостинцам.
После окончания педучилища, сына направили на работу в Таловский район, учителем.
Старшая из дочерей поступила на семимесячные курсы в медучилище, но знакомая докторша матери сразу похлопотала о переводе на двухгодичное обучение. После распределения, и дочери, как и сыну, пришлось покинуть Бобров. Кого-то направили работать на Сахалин, а она с другими сокурсниками попала на Памир.
Средняя дочь, по стопам старшего брата, поступила в педучилище. После трёх лет обучения мать отвезла её в Нижнедевицкий район, в сельскую школу, куда выпускницу Бобровского училища направили работать педагогом начальных классов.
Младшая дочь, как и старшая, пошла осваивать профессию медика.
Только младший сын старательно учился, пока что, в шестом классе, когда, в 1949 году, мать заболела. Сначала над глазом появился какой-то нарост, мешающий веку. Она обратилась всё к той же, своей знакомой, докторше — вот, мол, появился какой-то нарыв, глазу мешает, — и та безо всяких сомнений взялась решить этот простой, как ей сначала показалось, вопрос: «Да мы его махом удалим». После рядовой операции состояние пациентки стало ухудшаться. Заболевание оказалось связанным с селезёнкой. Больную направили в Воронеж и положили в стационар на Донбасской.
Главное и заключительное сражение между двумя противоборствующими подростковыми группировками на нашей улице состоялось уже после того, как водопроводная траншея была зарыта. Старшие ребята в очередном конфликтном споре, вдруг, решили, что окончательной победы будет достойна та команда, чей малолетний воспитанник окажется сильнее в честном поединке один на один. Сторона неуправляемых неформалов, в число которых входил и мой брат, ставку сделала на меня. А один из лидеров прирождённых официозников, сын заводского профсоюзного деятеля, выставлял на бой своего младшего брата. Внешне тот выглядел покрупнее и покрепче, чем я, и, видимо, поэтому исход сражения нашим недругам был заведомо ясен. Они вели себя самоуверенно и спокойно. Но и в нашем стане, почему-то, все, довольно сверхоптимистично, рассчитывали только на мою победу.
Прямо посредине улицы, вокруг нас, двух ещё даже и не пятилетних шкетов, образовался плотный и достаточно широкий круг. Я видел, что мой соперник не сомневается в своём силовом превосходстве, хотя оба мы знали и то, что он на несколько месяцев младше меня, а это уже и мне тоже придавало дополнительной решимости и показной развязанности. Да я и в самом деле не раздумывал, чем для меня может кончиться предстоящая драка, поскольку чувство долга перед своими наставниками и сторонниками в тот момент было выше всех других моих чувств.
Нас продолжали усиленно инструктировать наши старшие товарищи, как и куда бить своего противника, чтобы ему было больнее и чтобы скорее загасить его, как уклоняться от ударов, и делать обманные движения, как оказывать моральное давление на соперника, и мы, предельно взведённые и настроенные на кровопролитную махаловку, ждали уже только одного — начала нашего столкновения…
Бой был не слишком продолжительным. Он ринулся вперёд, так, как его и учили, пытаясь задавить меня массой, а мне удалось встретить его так, как учили меня — несколькими ударами в лицо, сразу же и решившими исход битвы. Превосходство школы рукопашного боя в стиле уличных «беспризорников» оказалось неоспоримым. Наступательный пыл рослого крепыша был сбит напрочь. Из его разбитого носа полилась кровь, из глаз — слёзы. Он кинулся назад в спасительные объятья своего брата и других ребят с их стороны, а я тут же оказался в объятиях радостной ватаги старших пацанов нашей бригады и своего брата. С ликующими возгласами они подхватили меня на руки и дружно стали подбрасывать высоко вверх. Их счастью не было предела…
Но и с моим менее удачливым соперником, в дальнейшем, мы не стали непримиримыми врагами, оба, по жизни, как со временем выяснилось, совсем не склонные ни к демонстративному превосходству над другими ни к злопамятству. Случалось, что вместе играли, общались, никак не считаясь с тем, что когда-то произошло. Правда, в подростковом возрасте у нас с ним снова приключилась короткая стычка, но в ситуации, когда по простому стечению обстоятельств оказался слишком неопределённым фактор правоты. И потом снова в наших отношениях всё наладилось. К тому же, наши матери, хотя и редко виделись, но были хорошо знакомы и всегда относились друг к другу с взаимной симпатией.
Его, не в меру задаватый, старший брат позже женился на дочери директора знаменитого на всю машиностроительную отрасль всей нашей огромной социалистической державы орденоносного предприятия. Но, спустя годы, они развелись. Говорили, что был он женат и на заведующей крупнейшего в ту пору городского универмага, и на дочери заместителя директора того же завода. В общем, парень, в этом отношении, сумел реально показать, весьма завидные для многих типичных понторезов результаты.
Ну а дочь директора, потом, продолжительное время руководила заводским Дворцом культуры, тем самым, где, пожалуй, впервые в городе появилась очень качественно оборудованная студия звукозаписи, на которой делались первые альбомы легендарной воронежской группы «Сектор Газа».
У моего прадеда по мамино-бабушкиной линии, того, которого ссылали из Боброва на Соловки, было два брата. Младший, ещё до Советской власти погнался за цыганами, укравшими коней, и его зарезали.
Сын среднего брата, примерно 1920-го года рождения, крёстным которого был мой дед, уехал перед войной в Москву, завербовавшись на работу вместе с двоюродным дедом моего деда. Начало у них получилось не очень удачным. Добравшись до столицы, они, по простоте душевной, очень были обрадованы предложением какой-то сердобольной девки, сразу же, как нельзя кстати, подвернувшейся, приезжим искателям лучшей доли, на вокзале и вызвавшейся помочь им с ночлегом. Расположившись в съёмном жилище, благодарные постояльцы охотно откликнулись и на предложение своей новой столичной знакомой культурно обмыть это дело. Проснулись они уже только утром, неожиданно обнаружив, что теперь у них нет ни денег, ни документов.
Преодолев возникшие дополнительные сложности, трудовые мигранты, всё же, сумели определиться в первопрестольной, и потом оттуда их забирали и в армию.
Представитель дедовой династии попал служить на границу с Ираном, а, когда началась война оказался на фронте, воевал и получил ранение в лёгкие. Доживал, вернувшись домой, в Бобров. Работал то бригадиром, то в ревизионной комиссии.
Бабушкин же двоюродный брат, крестник деда, служил на Балтийском флоте. Рассказывал, что в Эстонии, чемодан, хоть на дороге оставь, никто не стащит. И вздыхал: «Не то что в Москве». Во время войны, в бою, после гибели капитана, он принял на себя командование судном. Сначала его за это арестовали, а потом объявили благодарность и вручили награду от Калинина. После войны боевой военмор женился и остался жить в Петергофе. Одного из двух сыновей он назвал в честь своего, погибшего в 1944 году, крёстного. Умер в 50-х годах. Видимо, после всевозможных и всепогодных тягот и невзгод военной поры на Балтике, у него возникли проблемы с лёгкими.
Обеспечивал я восемнадцатого числа безопасность посещения избирательного участка моей мамой, бывалой пенсионеркой, которой уже за 85 перевалило. Сам-то я давно не голосую. Не вижу в таком ни на что не влияющем примитивном политическом шоу никакого смысла.
День был серый, на улицах было пусто.
Участок, как и в прежние годы, разместился в здании бывшего трамвайного депо. Административный корпус, после ликвидации в городе трамвайного сообщения, постепенно подмяли под себя какие-то коммерческие структуры. Часть территории трампарка, в конечном счёте, заняли производители пластиковых окон, а всё остальное, теперь уже, окончательно пошло под застройку — на просторной площадке установили несколько подъёмных кранов и заложили фундаменты, видимо, каких-нибудь элитных жилых домов, предварительно, снеся с лица земли вполне современные постройки мастерских и ремонтных цехов. Примерно, то же самое произошло и с другими депо. Все же городские трамваи, тоже уже давно, то ли пораспродали по другим городам, то ли поздавали, со всеми, не спеша демонтированными рельсовыми путями, на металлолом. Кого-то всё это с самого начала очень сильно огорчало и даже возмущало, а кому-то, что тогда, что теперь, что с трамваями, что без трамваев, что при коммунистах, что при демократах, один хрен — извечно полный отстой не только в системе управления и организации транспортной инфраструктуры, но и всей экономики и всей страны в целом. Но если посмотреть ещё шире, то на фоне в прах разрушенных сирийских городов, даже до предела запущенная современная Россия — не настолько уж и безобразно управляемая держава.
Главный корпус бывшего трампарка, в прошлом году, новые владельцы, полностью отремонтировали и снаружи и внутри, по самым что ни на есть, европейским стандартам. Заодно, богато облагородили установленный перед зданием памятный знак, посвящённый одному из не самых известных советских военачальников, а вместо неприметной деповской столовки, где иногда жителями ближайшей округи справлялись и поминки, бизнесмены открыли настолько же неприметный корпоративный ресторанчик.
Почему-то, на дорогостоящие ремонты, предприимчивые отечественные временщики, своих кровных капиталов, как правило, не жалеют. Потом, видимо, заметая следы, они перебираются куда-нибудь на другое место, а те, кто занимает их прежние владения, начинают с того, что полностью крушат шикарные интерьеры предыдущей евроотделки, и затевают ещё более затратную переремонтную европеретрубацию со всевозможными сложнейшими реконструкциями и перепланировками. Это только своим рабочим зарплаты нормальные платить у большинства из наших выдающихся работодателей рука не поднимается…
У обновлённого входа в обновлённое здание мы остановились. Возле припаркованных дорогостоящих иномарок прохлаждался кто-то из владельцев. «А где же теперь проход на избирательный участок?» — спросила его, моя, сопровождаемая мною, несгибаемо ответственно относящаяся к своим избирательским обязанностям, маманя. Молодой человек, проявив вежливое внимание, показал на двери с затемнёнными стёклами, и, аккуратно пройдя вперёд, зашёл с нами в фойе, и там тоже указал дальнейшее направление нашего движения. Мама косвенно поблагодарила отзывчивого проводника: «А эти что — безграмотные?» — она показала ему бадиком в нужную нам сторону — «Не могут на листке написать „избирательный участок“, и на дверь пришпандорить?».
На второй этаж, по облицованной керамогранитом лестнице я подниматься не стал. Решил никому не мешать своим праздным присутствием и никак не влиять на ход всероссийского процесса народного волеизъявления. Изредка мимо меня кто-нибудь проходил наверх, а кто-нибудь спускался на выход. Все — пожилые люди, и, преимущественно, женщины.
«Ты за кого голосовал?» — услышал я голос какой-то идущей по верхнему лестничному пролёту вниз избирательницы. «Ни за кого…» — буркнул в ответ голос мужской. «Не хочет человек выдавать тайну своего выбора и это его полное право» — подумал я. «Как ни за кого? Против всех, что ли?» — ещё настойчивее поинтересовался женский голос. «Против всех…» — снова, но ещё невнятнее, буркнул мужичёк, обречённо отбиваясь от своей ведущей бестактное дознание собеседницы, видимо, жены. «Дебил! Нужно было за Чижова голосовать! Он школам помогает… «Ни за ко-о-го-о-о…». Дебил!»…
Честно говоря, если бы мне сказали, что меня расстреляют за отказ от участия в избирательной кампании, при отсутствии в бюллетенях пункта «против всех», я бы тоже проголосовал за Чижова. Не знаю, как насчёт школ, а праздничные пайки ветеранам войны и труженикам тыла он раздаёт регулярно уже на протяжении многих лет. И процедура эта организована у него на очень высоком уровне, и, можно сказать, с душой. Жаль, что он не очень заметен в Государственной Думе, хотя, может быть, его самого это вполне устраивает. Можно даже предположить, что, будь он мэром или губернатором, наш город гораздо быстрее и целеустремлённее менялся бы к лучшему. Впрочем, вряд ли какие-либо произвольные бурные перемены к лучшему во всех российских городах возможны без не предвидящейся в ближайшее время отмашки свыше. Да и сам он тоже не настолько уж и идеален в своих стремлениях и свершениях. Зачем, например, было сносить недавно отстроенное здание универмага «Россия»? Почему никак снова не приведут в порядок фасад его высотки на Кольцовской? Для чего в центральной части города эти незамысловатые сооружения с безоконными стенами, по архитектуре больше похожими на огромные складские помещения?
Но, чижовская тяга к масштабным креативным преобразованиям и Чижовские пайки — дело, конечно же, в своей основе, хорошее. Как говорится, дай ему Бог, за это, здоровья и побольше ветеранских и не только ветеранских голосов на выборах. Судя и по настрою моей, наиглавнейшей для меня, труженицы тыла, и на этот раз голосовала она опять же за него, не скупящегося на поддержку стариков, самого, как ни крути, необыкновенного местного богатея, с некоторыми вполне эффектными признаками робингудовского благородства…
Таким образом, даже по данным моего случайного экзитпола, на 10 часов утра в избирательской гонке, с существенным отрывом, лидировала партия президента, его верного простодушного премьера и нашего деятельно и социально прогрессивного, но не слишком публичного кандидата в депутаты, изображённого на предвыборных плакатах внешне очень схожим с дрессировщиком Эдгардом Запашным…
Мама тайно проголосовала и мы, снова вместе, пройдя на улицу, двинулись потихоньку в обратном направлении. Тут же, чуть в стороне от входа, на свободном местечке, остановилась незамысловатая грузовая отечественная мусорка. Из кабины вышел уже не молодой, седоватый шофёр в рабочей спецовке и неторопливо направился в сторону избирательного участка…
Старшая сестра его, когда-то была влюблена в одноклассника и школьного друга моего старшего брата. Друг ещё с самых ранних школьных лет весело куролесил напропалую, своей добродушной непосредственностью и даже внешностью идеально вписываясь в образ Шуры Балаганова. Кое-как бренча на гитаре, он неподражаемо самозабвенно, при любых слушателях и в любой обстановке, пожалуй даже бы и со сцены Кремлёвского Дворца съездов, мог без устали напевать свои любимые песенки «На острове Гаити жил негр Тити Мити» и «Оц-тоц- первертоц, бабушка здорова…». После школы поступить в военное училище, в Томске, ему не удалось. Пришлось идти в армию. Там он угодил в дисбат. После этого у него и на гражданке самостоятельная сознательная жизнь тоже не заладилась. Беззлобный балагур оказался на зоне. И потом — снова. У таких, смышленых в бытовой жизни ребят, не редко судьбы складываются неисправимо наперекосяк. Но несмотря ни на что, всем своим видом он всегда излучал оптимизм и позитивную лёгкость отношения ко всему происходящему. Он был рослым, симпатичным, складным парнем. Любил выпить, умел развлечься, повеселиться и повеселить других. Тогда-то он и сошёлся с давно уже сходящей по нему с ума старшей сестрой некогда детсадовского воспитанника моей мамы, который был года на два взрослее меня, и в семидесятых годах учился в одной школе со мною…
Вместе она со своим легкомысленным суженным прожила немного. Несмотря на прекрасные внешние физические данные, он неожиданно умер, в достаточно ещё молодом возрасте, от сердечного приступа…
Сначала, в первый класс и я пошёл в ту же школу, куда ходили мой брат и его дружки. Это была та самая школа, в которой, как оказывается, когда-то учился популярный актёр и скандалист Кирпич…
На следующий день, после объявления результатов голосования, предвыборные плакаты Чижова разом, в один момент, заменили на новые. «Благодарю за доверие. Восстановим экономику вместе». Быстрая смена по всему городу своих плакатов — это, конечно, не основной залог воплощения в жизнь нашей давней неосуществимой всенародной мечты о нашем экономическом чуде. Но, что работает человек и его команда по максимуму на результат, с непрерывным учётом изменяющихся обстоятельств реальности, и даже на опережение, то работает. И флаг ему в руки.
А что касается ТРАМПАрка, то, может быть, всё это и, действительно, к ещё более лучшему? Ведь, то, что нормальному, цивилизованному человеку нужно для полного счастья, на самом деле, у него давно уже есть.
Первые впечатления на новом месте в сахалинской части не отличались особым позитивом.
День-то выдался светлый, чудесный. За расположением гарнизона, невдалеке тянулся живописный ряд сопок, на вершинах которых размещались какие-то фантастические большие белые шары. Может быть, это были такие элементы системы ПВО, или электронного слежения за всем происходящим в необъятной акватории Тихого Океана, находящегося, как раз, за этими сопками.
Но, мои предварительные предположения, относительно предстоящей вероятной смены цвета погон, к сожалению, в реальности окончательных подтверждений не нашли. Сопровождающий офицер передал нас, двоих выпускников хабаровской учебки, штабному дежурному, а сам, с третьим бойцом пополнения, чернопогонником, отправился дальше. Лишь только здесь выяснилось, что продолжать службу нам предстоит в мотострелковом полку, но, правда, не в развёрнутом, а в кадрированном, т.е. укомплектованном личным составом не в полном количестве, а в малочисленном, и, что тут же, вместе с мотострелковым, дислоцируется и кадрированный зенитный полк, со своим штабом.
На территории части царили тихая пустота и светлый простор.
Обед уже закончился, но нас, двоих, всё равно решили, покормить с дороги. Здание столовой занимало самое козырное место в окраинном гарнизоне, и было большое, высокое, капитальное. Не то, что убогая, полутёмная, столовка барачного типа в Хабаре, в учебке.
В наряде по совершенно безлюдной столовой копошился какой-то интеллигентного вида и, явно старослужащий, парень. Но, почему-то, под глазом у него неуместно красовался типичного вида фингал. Принеся нам еды, он присел рядом на длинную лавку, за десятиместный стол, спокойно и доброжелательно расположенный к общению. Выяснилось, что это — последний весенний дембель, ждущий отправки домой, в глаз словил, на прощание, от кого-то из дедов, но жить здесь, всё равно, вроде как, в общем-то, можно, хотя и не без эксцессов, что мы уже и сами поняли по его внешнему виду.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.