
Бесплатный фрагмент - Рука об руку
Сердцу, что бьётся в том же ритме
Предисловие
Это книга о любви. Автор известен своим проектом перевода с японского и издания на русском языке в 2015 году великолепного сборника «Письма о любви длиною в жизнь». Так вот, эта книга — сборник рассказов о любви, которая длиннее и гораздо больше жизни.
Представьте, что вы больше, чем человек. Представьте, что вы являетесь уникальной Искрой, жемчужиной духа, проходящей свою уникальную эволюцию, и проживающей опыт разных воплощений в разных мирах. Сейчас — вот в этом теле, в этом времени, в этом месте, на этой планете. Если вам ничего специально для этого не приходится представлять, если для вас это очевидность — значит, эта книга говорит с вами на одном языке. Если для вас это новая или относительно новая мысль и вам интересно взглянуть на любовь с этого ракурса — эта книга определенно для вас. Если для вас это фантастика и эзотерика — вам понравятся такая фантастика и такая эзотерика.
А теперь представьте, что вы всем своим междумирным сердцем любите другую, настолько же уникальную Искру. Вы вспыхиваете и пылаете ярче — в той связи, что она существует. Ваши различия столь невероятны, сочетания ваших качеств и свойств настолько вам нравятся, что вы решаете двигаться вместе. На что это будет похоже?
На Земле? А в другом мире? А какие вообще миры бывают? А какие задачи и интересы прихода в мир у вас могут быть? А если вы на Земле, то — как это будет выглядеть с учетом контекста разных эпох и культур? А если у вас закрыта память о себе междумирном, то — как вы узнаете своего друга? А если вы одного пола в этом воплощении? А если сейчас один из вас не воплощен и не собирается быть воплощенным?
Это книга о любви, которая больше, чем жизнь и чем смерть. Больше, чем культурные различия и гендерные стереотипы. Больше, чем прошлое и чем будущее. Больше любых представлений и ожиданий. Здесь приключения, путешествия, расследования и квесты соседствуют с молитвами, песнями и постельными сценами. Для меня эта книга ценна тем, что поднимает к поверхности сознания и напоминает нам о существовании такой любви, которую многие из нас давно забыли. Если вы заплачете в конце какого-либо из рассказов (а я плакала в конце каждого) — значит, вы, как и я, — вспомнили. Значит, вы знаете, что так бывает. Желаю вам искупаться в этой любви и исцелить тем самым в себе те уровни, которые тоскуют без нее.
Думаю, что особый интерес книга представляет для любителей японской культуры, в особенности для знатоков эпохи Мэйдзи и Бакумацу. Персонажи знатно поучаствовали в событиях того времени, и предполагают, что в русскоязычном пространстве прямо сейчас тусуется достаточно душ — участников тех событий.
Также хочу отметить особенность жанра: повествование время от времени перетекает в реальный мир и оттуда обратно в книгу, оставляя вопрос о том, насколько реально все описанное, — открытым. Я крайне благодарна автору за то, что он удержался от собственного описания степени размытости границы между вымыслом и жизнью. Радуюсь оставленной возможности каждому читателю решить этот вопрос для себя самостоятельно. С нетерпением жду вторую книгу и продолжения приключений любимых персонажей!
Ирина Казанская,
музыкант,
регрессолог,
специалист по детективной психосоматике,
основатель фан-клуба Яны Саковской
Предисловие
Я хочу начать с того, что чувствую к этой книге большое уважение. Уважение к той степени искренности и смелости, с которой Яна работает со своими историями. Уважение к тому, с какой заботой и любовью, не оглядывающейся на посторонних, не принимающей полумер в этом «люблю», Яна выписывает каждую из них, подбирает слова, словно нанизывает керамические бусины на тонкую нить. Я любуюсь этой книгой как редким артефактом высочайшей степени искренности, душевной прозрачности «смотрите, как бывает», с которой книга приглашает читателя погрузиться в истории.
Я не знаю, сколько в мире существ, способных выдержать такую степень искренности, и тем больше я ценю то, с какой смелостью Яна довела свою большую и, на мой взгляд, очень сложную работу до логической завершенности, когда книга обретает собственное дыхание и свою жизнь. Я искренне надеюсь, что таких существ больше, чем привыкли думать скептики и приверженцы теорий духовного вырождения человечества. Я верю, что таким существом можно стать или проснуться, столкнувшись с книгой Яны и «прожив» эти истории вместе с их главными героями.
Несмотря на то, что в книге герои нередко поясняют свои действия и мысли, делая их зачастую абсолютно прозрачными в своей сути, все же в прозе Яны и ее языке я вижу много японского. В моей «душевной» библиотеке эта книга стоит рядом с «Исповедью маски» Юкио Мисима и «Стоном горы» Ясунари Кавабата (и даже, скорее, с его же «Рассказами на ладони»), а в эстетической линейке — со стилем укиё-э, «картинами зыбкого мира». В некоторые моменты создается впечатление, что автор фиксирует реальность, набрасывает ее несколькими изящными мазками и оставляет таять в воздухе, давая читателю возможность самому разобраться с тем, что он видит в этих образах, что слышит и чувствует, сталкиваясь с ними. И эти моменты тем удивительнее, что они свободны от «единственного правильного понимания». Это шаг к читателю и предложение увидеть в истории себя.
Традиционно считается, что катарсис — обязательное условие для душевного прозрения, а сильное эстетическое переживание неразрывно связано с трагедией, надрывом и высоким эмоциональным напряжением. Тем приятнее видеть и читать книгу, которая одним своим существованием доказывает, что душа может очищаться и прозревать не только единственно через страдания, но и посредством внимательного, заботливого наблюдения за миром, аккуратного и уважительного взаимодействия с ним, обостренного слуха и улавливания мирового опыта.
Для внимательного читателя керамические бусины рассказов могут стать четками. И это лишь один из десятков способов взаимодействовать с этой книгой. Возможно, вы, прочитав ее, изобретете свой.
Юлия Graurock Черненко,
кандидат филологических наук,
поэт с душой Крысолова
От автора
Здесь где-то есть грань между правдой и вымыслом. Знать бы, где.
Благодарю вас за то, что вы открыли и начали читать эту книгу. Надеюсь, что вы проведёте с ней приятное время.
В нескольких произведениях этой книги я пишу о Бакумацу. Бакумацу — это эпоха в истории Японии, название которой переводится дословно как «конец сёгуната». Действительно, это последние 15 лет сёгуната Токугава, с 1853 по 1867 год включительно. Это славная страница мировой истории, и я от всей души приглашаю вас почитать про неё и про Сакамото Рёму, посмотреть японский сериал «Рёма. Летопись» («Ryomaden», 2010), сходить на один из спектаклей про Бакумацу («Волки Мибу» или «Дракон в рукаве») в московский молодёжный музыкальный театр «Волки Мибу».
Бакумацу было временем, когда впервые в истории страны люди стали выбирать свою судьбу. Не просто продолжать традицию, а решать, кем они хотят быть и что они хотят делать.
Это Бакумацу я навсегда люблю.
Впервые в этой книге Бакумацу упоминается в рассказе «Писарь». Я приглашаю вас попробовать почитать его, но, если к концу второй страницы вы почувствуете, что всё-таки не идёт, вы можете безболезненно пропустить его и перейти к «Амстердаму».
В остальных рассказах такого заглубления в историю нет, и в них рассказывается о дружбе, любви и приключениях двух существ в разных мирах и телах. Надеюсь, вы найдёте интерес и удовольствие в том, чтобы следовать за ними и вместе с ними проживать эти истории.
К интерлюдии «Цветы Бакумацу», где персонажи подводят внутренние итоги Бакумацу, вы, наверное, уже привыкнете к ним. Может быть, это будет подходящий момент, чтобы вернуться к «Писарю» и попробовать ещё раз.
Бакумацу, Бакумацу, Бакумацу…
Улыбаюсь.
Хочу выразить благодарность.
Я благодарю:
Ирину Казанскую — за радость, с которой ты встречаешь мои произведения. Радость для меня показывать их в первую очередь — тебе;
Андрея Ампилогова — за то, что ты был рядом, когда я написала первые три рассказа, и слушал, как я читала их вслух. Тёплое воспоминание об этом — навсегда со мной;
Юлию Graurock Черненко — за высокую оценку рассказа «Угадай» и за то, что ты пригласила меня прочитать его на заседании литературного клуба. В твоей высокой оценке моей прозы я нахожу благословение продолжать;
Елену Евгеньевну Шув и Владимира Владимировича Крылова — за поддержку моих школьных литературных опытов;
Ксению Пальчикову и Ксению Пташечную за то, что в своих иллюстрациях вы выражаете гораздо больше, чем я прошу в ТЗ. Доброго творческого пути вам!
Ирину Казанскую и Грау — за предисловия. Я чувствую, как книга гордится тем, что в ней есть ваши слова;
Ирину Казанскую — за помощь в оформлении этой книги на сервисе Rideró;
Грау — за помощь в редактировании песен и приведение подстрочника перевода в читабельный вид;
Катю Кузину — за то, что ты стала первым, кроме меня, человеком, вложившим деньги в создание этой книги — в частности, обложки;
г-на Соги Нобуюки и г-на Такэути Акихиро — за то, что вы проверили японские тексты песен, указали на странно звучащие места и подсказали, как их поправить;
Ингу Саковскую и Андрея Саковского, маму и папу — за то, что вы согласились принять меня как ребёнка и дали мне тело, чтобы я могла действовать в мире;
неизвестных мне читателей сервиса ЛитРес, которые скачивают мои рассказы. Для меня загадка, кто вы. Я нахожу много поддержки в том, что вы есть;
всех тех, кого сейчас я не упомянула, но кто ждал эту книгу и поддерживал меня во время её подготовки. Спасибо. Доброго времени вам.
Доброго пути нам всем.
Яна Саковская
Его смех
(из сборника молитв)
Когда мне плохо, мой друг смеётся.
Конечно, когда мне совсем плохо, он не смеётся. Он обнимает меня, и его присутствие и поток его любви — как горячий душ, под которым я согреваюсь и прихожу в себя.
Умеренно плохо мне бывает, например, когда я пытаюсь решить какую-то жизненную задачу весьма странным способом — как если бы я пыталась забивать гвозди мягкой мочалкой — и печалюсь оттого, что у меня не получается. Вот тогда мой друг смеётся.
Я склонна к психотерапии. Когда я вижу, что мой клиент забивает гвозди мочалкой, я склонна начать разбираться, откуда он узнал об этом ноу-хау, что оно ему даёт и чего не даёт. Обычно оно не даёт приближения к исходной цели. Как только клиент это осознаёт, ему удаётся отложить «ноу-хау» в сторону и найти более подходящие способы достижения цели. Или хотя бы допустить, что они есть.
Мой друг не склонен к психотерапии. Ему не интересно смотреть историю появления мочалки в моей руке и выяснять, чем она мне так дорога. Он посмеётся, пронаблюдав мои попытки забить гвоздь мочалкой, и принесёт молоток. Однако, прежде чем вручить мне его, он внимательно прислушается к моему состоянию. Он знает, что я не люблю готовых решений без запроса.
Если у меня совсем нет сил, он спросит меня, хочу ли я узнать вариант решения. Если у меня есть силы размышлять и рассуждать, то он может задавать наводящие вопросы: «В чём странность забивания гвоздей мочалкой? Каким должен быть предмет для забивания гвоздей? Где его найти?»
Когда мне интересно самой найти и ошибку в решении своей задачи, и правильное решение, он просто продолжает смеяться. Слыша этот смех, я допускаю, что есть состояния и пространства, из которых моя ситуация выглядит смешно. И я могу применить свою склонность к психотерапии к себе и постепенно дойти до идеи молотка.
В конце концов мы смеёмся вместе.
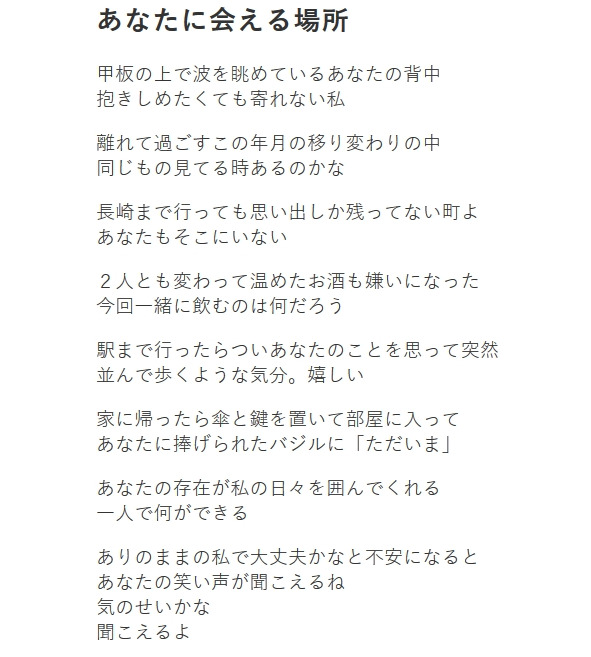
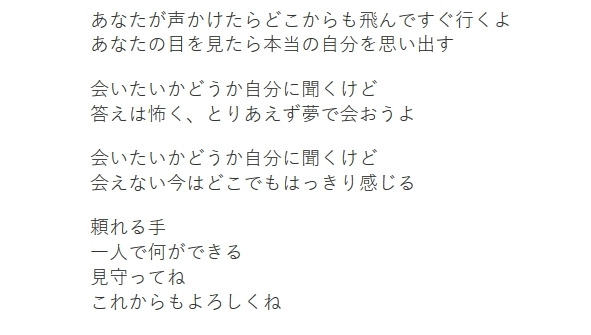
Место, где я могу встретиться с тобой
(из сборника песен)
Ты стоишь на палубе спиной ко мне
И смотришь на волны.
А я так сильно хочу тебя обнять, но
Не решаюсь приблизиться.
В череде и круговерти
Месяцев и лет, что мы проводим порознь,
Бывают ли моменты,
Когда мы смотрим на одно и то же?
Даже если поехать в Нагасаки, —
Там нет ничего, кроме воспоминаний.
И тебя в нём тоже нет.
Мы оба изменились.
Я больше не люблю подогретое сакэ.
Интересно, что мы в следующий раз будем пить вместе?
Бывает так, что я иду к станции,
И вдруг меня охватывает ощущение,
Что ты идёшь рядом со мной.
Так здорово!
А потом я возвращаюсь домой,
Кладу ключи и вешаю зонт,
Вхожу в комнату и базилику, посаженному в твою честь, говорю:
«Я дома».
Твоим присутствием
Окутаны мои дни.
Что я могу в одиночку?
А когда я беспокоюсь —
Выдержу ли я, хватит ли меня, достаточно ли меня, как я сейчас есть? —
Мне слышится твой смех.
Или мне кажется?
Слышится, слышится.
Тебе стоит только позвать —
И я примчусь отовсюду.
Глядя в твои глаза,
Я вспоминаю, кто я есть на самом деле.
Я спрашиваю себя,
Хочу ли я встретиться с тобой,
И мне страшен ответ.
Давай пока встретимся во сне.
Я спрашиваю себя,
Хочу ли я встретиться с тобой,
Но сейчас, когда мы не можем встретиться,
Я всегда чувствую твою
Руку, на которую я могу положиться.
Что я могу в одиночку?
Присматривай за мной — и увидишь.
Сейчас и впредь доверяюсь твоей заботе.
Всегда твой/всегда твоя.

Угадай
«Это было нечто…» — хочу, но не успеваю сказать я. Он вскакивает со стула, хватает меня за рукав и утягивает в мир. Видя по его намерению, куда он увлекает нас, догадываюсь, что нам предстоит.
«Дух бы хоть дал перевести!» — восклицаю я.
«Я соскучился», — следует ответ, и через мгновение он вместо рукава держит мою ладонь.
Голова ещё немного идёт кругом. Только что мне была доступна только память той личности в том мире, а теперь вся моя память, вся моя история как существа — вновь со мной, и он — как я мог забыть, что есть он?..
Я пожимаю руку.
«Я тоже».
«Я тоже» оказывается последней мыслью, слышной в телепатическом поле, ибо мы спустились в мир, и связь между нами пропала.
На самом деле я бы хотел выложить пакет с моими впечатлениями из этой жизни в общее поле, чтобы он мог воспринять его целиком и от первого лица. Я хотел бы и посмотреть его глазами на то, что он натворил в своей жизни. Теперь, когда я вновь помню, что это возможно, я хотел бы обычного слияния — мгновенно знать всю полноту, что происходит с каждым из нас, мгновенно отзываться и наслаждаться ощущением «мы». Но мне сладостно думать и о возможности медленного разговора, в котором из всего происходящего мне нужно будет выбрать что-то одно, сказать или спросить об этом и ждать, что скажет в ответ мой друг.
Поэтому мы здесь, и мир встречает нас клонящимся к горизонту солнцем.
Мы среди невысоких гор, на маленькой площадке, с которой видны город у подножия, блестящее у горизонта море, ждущее солнце в свои объятия. Всё, как я люблю. Похоже, мой друг действительно соскучился по мне, раз привёл нас сюда. Если бы я успел заждаться его, мы бы оказались у моря, он перешагивал бы с одного валуна на другой, дышал обещанием шторма и вспоминал себя. И меня.
Но сейчас это предзакатные горы, и мне интересно, до покалывания на кончиках пальцев интересно, как он жил.
— Кто начнёт? — слышу я голос. Этот мир отзывается лишь на озвученные слова, поэтому мой друг уже создал полутонкое тело — достаточное, чтобы производить звук. Мне стоит озаботиться тем же.
— Тебе же не терпится! Ты и начинай, — отвечаю я и прислушиваюсь к звуку голоса. Слепил что-то под настроение, из накопленного в камнях тепла, блеска далёкого моря и, конечно, из желания дотянуться до этого восхитительного, беременного легендарным закатом неба, — и для наших целей это тело сойдёт. А тех, кто может увидеть и удивиться, здесь всё равно нет.
— Тогда спрашивай, — говорит он, и так радостно и гордо светится, что я уже готов удивляться: в чём же он прыгнул выше головы, что теперь так сияет? А, знаю. И на первом ходу обойдусь без вопроса.
— Мечты, будущее, женщина.
Он весь про то, чтобы мечтать и творить будущее, — это понятно. Но так сиять он, пожалуй, может только оттого, что ему удалось женское воплощение, которые ему обычно непросто даются.
— Неплохо для начала! — одобрительно кивает он. — Но как именно?
На этом ставки повышаются. Угадать первый ход — легко, особенно если знать друг друга так, как знаем друг друга мы. Но в нашей игре участвует и этот гостеприимный, излюбленный нами мир, в котором слова имеют особую силу. От моих слов мечты, будущее и женщины этого мира оживились. Если буду дальше угадывать, с ними будет происходить то прекрасное, чем так гордится мой друг. Не буду угадывать — будет возникать сумятица. В интересах игры — чтобы я не сразу догадался. В интересах мира — чтобы в его мечтах, будущем и женщинах не было сумятицы. Отсюда наше правило: не больше двух ошибок. Две ошибки мир ещё может управить, да и мы поспособствуем этому, но больше — уже не бережно с нашей стороны.
Мне следует тщательно обдумать следующий ход. Догадка или вопрос? Мечты, будущее и женщины… Направление понятно, но он прав: как именно? О нём я знаю, что он умеет мечтать сильнее всех и увлекать всех своей мечтой — и он умеет собирать мечты других в одну большую и неостановимую. Интересно, как в этот раз? Вот об этом можно спросить.
— Мечтал сильнее всех или собирал мечты?
— Ни то, ни другое, — торжествующе улыбается он. Мир, готовый предложить живущим в нём мечтам одно из направлений, ахает и замирает. Даже время, кажется, замедляется.
Если ни то, ни другое, то он научился чему-то новому. Это сложнее угадать, но и интереснее угадывать. По нашим правилам, в каждую сторону можно задать три вопроса «или-или», и догадаюсь ли я за оставшиеся два?
Может быть, рассуждать не от того, что я знаю о нём, а от того, что я знаю о времени, в котором мы жили? Что для меня было важно в том времени? Для меня были важны война — о эта война! — и последовавший за ней бурный рост телевидения и прессы. Кстати, да. Работа в СМИ — а, зная его, могу предположить, что его могла увлечь работа в СМИ, — это не мечтать и не собирать мечты. Это то, что ему могло понравиться. Это…
— Пробуждать мечты, будоражить мечты! Пресса или телевидение?
Похоже, я попал. Выдерживаю его испытующий взгляд: в моих вопросах он ищет для себя ключей к следующему раунду. Затем он медленно отвечает:
— Пресса.
Вот ведь затруднение! Кажется, я знаю. Мечты, будущее, женщина, пресса — там был всего один такой журнал. Это было бы очень в его духе — делать этот журнал.
Если я догадаюсь сразу, я выдам себя. Но я чувствую, что в окружающем нас мире пробуждаются и будоражатся мечты женщин, и я буду не я, если не поддержу своими словами происходящее. Мы любим эту игру ещё и за то, что в этом мире мы можем доиграть последние, уже запредельные и эфемерные аккорды исполненных в мире воплощения сонат.
Конечно, пусть они звучат.
— Кто-то из «Graceful Weekly».
— Да, — я чувствую, что он многое отдал бы, чтобы понять, что происходит у меня в голове. Он с нетерпением ждёт следующего раунда. Он умирает от любопытства: как я так быстро догадался?
Graceful Weekly! Мир ликует, слыша такие слова. В нём появится что-то, что поможет женщинам еженедельно обновлять свою grace. Тоже журнал? Или необычные занятия танцами, уникальная художественная студия? Пока не видно, но к концу нашей игры проявится.
— Вообще здесь можно остановиться, потому что ты угадал. Да, «Graceful Weekly». Только откуда ты так быстро думаешь об этом журнале — вот, в чём вопрос… — протягивает он. Раунд закрылся, и мы можем обменяться парой фраз без такого влияния на мир, как в игре. Мне, например, вот что интересно.
— А кто?
— Так… — он улыбается, разводит руками и на миг подтягивает образ своего прошлого тела. Это лицо с длинными волнистыми и, как оказалось, рыжеватыми волосами, чего не было понятно с чёрно-белой фотографии, я видела сотни раз в колонке со статьёй от главного редактора.
Кларисса Гамильтон. «Praying that your dreams come true, Clarisse», как подписывалась она в конце статей. «Eternally yours, Clarisse», как заканчивала она письма мне.
Я рад, что моё лицо наспех слеплено из таких стихий, что оно не очень передаёт мимику. И ещё я держу себя в руках.
Что ж, друг мой. Готовься удивиться.
— Как ты хочешь? — спрашивает он. — Как сейчас или «мечта-явь»?
Часто бывает, что мы мечтаем об одном, а реальность не дотягивает до мечты. А бывает, что в реальности получается такое, о чём мы даже и не мечтали. Поэтому иногда мы играем так: кто-то рассказывает, а другой угадывает, рассказанное — это мечта или явь. Такой вариант игры интереснее, когда в жизни было много либо разочарований, либо приключений в духе «ты не поверишь». Чрезвычайно полезно для извлечения уроков — чего хотел, что получил и что делать дальше.
Однако у меня сейчас совсем нет настроения рассказывать.
— Угадывай. И мир тебе в помощь.
Я ещё повышаю ставки и приглашаю мир к большему участию в нашей игре. За меня, чувствуя мою историю, будет отвечать мир.
— Лучше и не придумаешь. Давай, мир, обозначь нам, пожалуйста, начало раунда. Мы приглашаем тебя играть.
Солнце касается далёкого моря, и золотистый свет разливается по куполу неба, от горизонта и до другого края, не видного за горами.
— Что ж… — задумчиво всматривается вглубь меня друг. — Зная тебя… Прошлое. Отпускание. Учитывая, как быстро ты назвал «Graceful Weekly», женщина.
«Прошлое» и «отпускание»! Друг мой, ты выбрал слова, ускоряющие время.
— Эй, я хочу продолжать любоваться этим закатом! — восклицаю я. Появившиеся было багровые тени развеиваются, и небо румянеет ало-оранжевым. Я бы хотел вглядываться в черты моего друга, но вокруг нас начинает твориться такое великолепие, что я ложусь на спину. Остаются голос и родное присутствие моего друга, трепещущий, пританцовывающий в нетерпении мир и проникающее своей роскошной прохладой до глубин существа небо над нами.
— Я тоже. Закат, продолжайся! — друг смеётся, взмахивает рукой, и закат продолжается. В небе набухает огонь, и мне интересно, как он проявится и развернётся. Пока мой друг думает, алая волна медленно катится по небу, и я так увлекаюсь этим зрелищем, что чуть не пропускаю момент, когда он готов сделать следующий ход. Его слова выводят меня из задумчивости и возвращают в игру.
— Учитывая время, когда мы жили…
Надо же! Он рассуждает в той же последовательности, что и я.
— …зная твоё сострадание и чувствуя твою большую печаль оттуда… Война. Потери.
Я бы сказал, что от этих слов мир поперхнулся. Наливающийся яркостью алый обратился в кровяной, как будто несколько раз проткнули ножом красный апельсин, но из него вместо сока полилась кровь. Небо в кровоподтёках.
«Ты что творишь!» — мысленно восклицаю я. Вслух — это только закрепило бы действие. Каждый раз, когда он берётся угадывать, он забывает о силе слов.
Позади раздаётся глубокий острый грохот, земля содрогается, и я привстаю посмотреть. Похоже, в горах произошёл взрыв. Шахты местных жителей. Тянусь туда вниманием и с облегчением понимаю, что в шахте уже не было горняков. Никто не пострадал. Но, похоже, до этой шахты будет очень сложно теперь добраться — на некоторое время она утеряна. И ещё что-то произошло в городе. Тянусь вниманием туда — а, ДТП. Один водитель отвлёкся на донёсшийся грохот взрыва, не обратил внимания на сигнал светофора и врезался в машину другой участницы дорожного движения. Очень неудачно столкнулись на перекрёстке и перегородили всю дорогу. Мир, как может, компенсирует разрушительный заряд, нечаянно привнесённый моим другом. Мне интересно, как он будет выкручиваться.
— Мир, прости меня! Я… — я почти слышу, как он говорит: «Я дурак», — но он вовремя осекается, сообразив, что, назвав себя дураком, он только усугубит положение. — Я любуюсь тобой. Я обещаю быть бережным. Я желаю тебе долгого мира…
Он стоит в полный рост, подняв лицо и руки к небу, и поглаживает ладонями кровоподтёки. Я ложусь обратно и наблюдаю, как под руками моего друга раны неба затягиваются, а избыток небесной ткани собирается в ватные облака, тотчас впускающие в себя огненный свет.
Закончив, мой друг вновь усаживается рядом со мной, и я чувствую его пронзительный взгляд. Угадал или не угадал? Я улыбаюсь и размышляю, не помочь ли облакам составить какую-нибудь причудливую форму — или оставить как есть. Пусть будут, как есть.
— Жить прошлым или искать для себя будущее? — тихо спрашивает он и прислушивается к отклику мира. Ничего. Пробуждённые нашим первым раундом мечты пока спокойны, но и ностальгическое чувство не наполняет души жителей этого мира.
Интересно, как он интерпретирует это. «Не попал вопросом»? «И то, и то»? «Ни то, ни другое»?
— Помогать себе или помогать другим?
Я смеюсь. На этот вопрос ответ такой же, как на предыдущий, поэтому мир молчит, но я чувствую, как ему нравятся эти слова. «Помогать себе». «Помогать другим».
Мой друг закусывает губу и погружается в глубокую задумчивость. Солнечный диск наполовину утонул.
— Я хочу, чтобы закат продолжался, — шепчу я и вижу, как стая чёрных на фоне пламенеющего неба птиц пролетает над солнцем и скрывается из вида.
— Муж или сын? — я чувствую прикосновение его руки к моей. Он догадывается, и это последняя проверка. Будет отклик в одну из сторон — значит, ему придётся сдаться. Не будет отклика — значит, на все эти вопросы один и тот же ответ.
— И то, и другое, — шепчу я. Ну же. Разгадай меня. Разгляди меня. Узнай меня.
Он встряхивает головой, и рыжеватое золото волос рассыпается по плечам. Передо мной Кларисса.
— Nice to finally meet you, Amanda.
Моё наспех слепленное тело не умеет выдерживать столько чувств, поэтому я погружаю руки в пламенеющее небо, вдыхаю прошлое и будущее, помощь себе и помощь другим, любовь к мужу и любовь к сыну и позволяю своему телу преобразиться в тело Аманды Пёрлз. Женщины, потерявшей на войне мужа, а от болезни — сына. Организовавшей группу поддержки для женщин, переживших потерю. Нашедшей отдохновение для души и надежду в журнале «Graceful Weekly», благодаря нему учившейся вновь мечтать и помогавшей мечтать другим. Написавшей однажды благодарственное письмо главному редактору Клариссе Гамильтон и получившей приглашение раз в месяц писать статью о проживании потерь и помощи себе в обретении новой надежды. Принявшей это приглашение и нашедшей задушевного друга по переписке в Клариссе, но так и ни разу не решившейся поехать на другой конец страны, чтобы нанести визит. Получившей однажды по почте номер журнала, где фотография Клариссы была в траурной рамке.
— Nice to finally meet you, Clarisse. Знала бы ты, как я мечтала произнести эти слова.
Я знаю, что происходит сейчас внизу в городе.
Таксист Марио, скучающий в мёртвой пробке, образовавшейся из-за столкновения машин поперёк дороги, высовывается из окна, убеждается, что в ближайшие минут двадцать он вряд ли сможет проехать дальше, бросает взгляд на небо и глушит двигатель. Вставляет в уши раковины маленьких наушников, включает в плеере ту самую песню и, опершись на крышу машины, смотрит закат.
— Моя вина! На самом деле моя вина! — говорит Пауль, водитель одной из столкнувшихся машин, Кристине, бывшей за рулём другой машины. — Готов оплатить ремонт крыла и замену двери. Главное, что вы не пострадали.
Кристина не сразу находится со словами.
— Вы очень любезны. Я первый раз попала в аварию и вначале даже запаниковала. Однако посмотрите, как неудачно мы столкнулись! Похоже, здесь соберётся огромная пробка.
— Зато вы посмотрите, какой закат! Ради него не жалко и в пробке постоять. Полицию я вызвал. Главное, чтобы они не по этой дороге поехали.
Кристина смеётся.
— Раз уж мы всё равно надолго встали, вы не возражаете, если я добегу до этого кафе за кофе? Подмёрзла в машине от кондиционера.
— Без проблем. Покурю пока.
Через несколько минут Кристина возвращается с двумя стаканами кофе. Что-то надоумило её взять для Пауля кофе с ореховым сиропом — именно такой, как вскоре окажется, любит он.
Ивонна, бариста кафе, приготовившая для кофе для Кристины, увидела за окном оранжевое зарево, вышла глянуть, вернулась, сделала для себя чашку горячего молока, написала и оставила на стойке записку «перерыв 15 минут» и села на летней веранде — пить молоко, смотреть за тем, как болтают и пьют кофе горе-водители, как смотрит на небо и слушает музыку таксист, как всё больше людей выходит из машин, останавливают работу, замолкают на полуслове и смотрят на небо. К середине чашки Ивонна тянется к телефону и набирает номер своей подруги Маргариты.
— Марго, привет! Слушай, тут такой закат, и я очень захотела разделить его с тобой, хотя ты на другом конце города. Хочу поговорить с тобой несколько минут и послушать твой голос.
Это наводит меня на мысль.
— На этом, наверное… — говорит, Кларисса, очевидно, предлагая завершить игру, но я жестом останавливаю её.
— О мир. Мы не встречались ни разу в жизни и ни разу не было такого, чтобы мы делали что-то, находясь рядом друг с другом. Я приглашаю тебя участвовать в том, чтобы мы вместе любовались закатом, пока не наговоримся.
Внизу таксист Марио сквозь затухающие аккорды музыки слышит, что девушка с молоком смотрит закат вместе со своей подругой — пусть они и на разных концах города, и задумывается, с кем бы он хотел быть сейчас. Ответ приходит сразу. Если бы он мог оставить машину, то он вернулся бы домой к своей жене Анне. Утром она что-то говорила про пирог, и было бы совершенно здорово провести этот вечер с ней. Если бы можно было оставить машину… Взгляд Марио останавливается на виновниках образовавшейся пробки, и у него появляется идея. Ведь можно же… А вдруг… Но ведь сегодня такой день! И Марио решается и подходит к месту столкновения.
— Ребят, добрый вечер. У меня есть самая странная в мире просьба к вам. Вы так встали поперёк дороги, что я в ближайшее время никуда не выеду. А очень хочу быть в это время дома с женой. Она обещала вечером пирог. Поэтому моя просьба такая: я сейчас хочу уйти, оставив вам ключи, а когда здесь что-нибудь начнёт ехать, пожалуйста, припаркуйте вон то такси где-нибудь поблизости, а завтра, позвонив по телефону с этой визитки, скажите мне, где мне найти машину и ключи.
— Без проблем, — Кристина берёт протянутые ключи и визитку и убирает их в карман сумочки. — Вы уж извините, что мы так неудачно столкнулись. Хорошего вечера.
У Пауля не находится слов, поэтому он молча пожимает руку Марио, и Марио идёт домой.
Через три улицы, в новом доме, в квартире на 10-м этаже Анна вынимает из духовки пирог, подходит к окну, чтобы открыть его и проветрить кухню от жара, и видит огненное небо. Она думает о том, что было бы здорово, если бы Марио поскорее пришёл домой, пока пирог не остыл. И она думает о три года назад покинувшей этот мир маме, которая любила выходить на балкон и провожать солнце. Ей бы понравился этот закат. Анна выходит на балкон. По другую сторону стекла закат кажется живым существом. Анна представляет, что мама стоит рядом с ней, полуприкрывает глаза и вдруг чувствует, как впервые за долгое время боль покидает её и тает в закате, а в уставшее болеть сердце вливается новая надежда.
К Анне скоро придёт Марио, и они будут пить лёгкое вино, есть пирог и любить друг друга. Машину Марио благополучно отгонят и припаркуют. Кристина и Пауль уладят все формальности и будут ещё долго гулять по городу и показывать друг другу цвета и тени, деревья и птиц, как будто они впервые видят город и торопятся поделиться всем, что привело их в восторг. А на следующий день Кристина позвонит Марио по поводу ключей, и это будет началом большой дружбы. Ивонна, не переставая разговаривать по телефону с Маргаритой, закроет кафе на два часа раньше положенного, сядет в трамвай и отправится к подруге. Даже если у них не получится встретиться до того, как закат погаснет, им обеим кажется, что встретиться сегодня вечером — это совершенно восхитительная идея.
Но у них получится. У всех всё сложится. Закат будет полыхать всю ночь.
А у нас есть ночь, чтобы наговориться. Я поворачиваюсь к Клариссе. Она любуется тем, что вышло из моей просьбы, благодарит мир и отпускает игру. Когда мы уйдём из этого мира и у нас восстановится телепатическое поле, мой друг узнает историю моей жизни от первого лица, но сейчас есть несколько слов, которые я непременно хочу проговорить.
— Спасибо тебе. Ты не представляешь, как много значил для меня твой журнал и сколько надежды я находила в себе, читая его.
Она улыбается. На фотографии её лицо всегда выглядело спокойным и бодрым, но в жизни его черты, похоже, были намного мягче.
— My dearest Amanda, — так вот как, оказывается, звучали слова, которыми начиналось каждое письмо! — Ты не представляешь, как много значила для меня дружба с тобой.
— А ты догадывалась когда-нибудь?
— Мне кажется, что с тех пор, как мы начали переписываться, я делала этот журнал для тебя. А притом, что ты присылала раз в месяц статьи, я бы сказала, что раз в месяц мы делали этот журнал вместе.
Мы молчим немного, смотрим на закат и чувствуем, как млеет мир. У нас есть целая ночь для медленного разговора — для всего, что мы хотели когда-нибудь друг другу рассказать.
Целая ночь.
Когда в конце ночи я шёпотом благодарю мир и закат всё-таки догорает, а мы собираемся уходить, Кларисса вдруг оборачивается к городу и пристально смотрит куда-то.
— Смотри, — зовёт она меня. Я подхожу, опираю подбородок на её плечо и устремляюсь вниманием туда, куда она смотрит. И смеюсь.
Оказывается, в городе живёт молодая женщина по имени Оливия. Оливия уже не первый день возвращалась к мысли о том, что нынешняя работа администратора в досуговом центре ей не подходит. Сегодня вечером она почувствовала головную боль и сильное недомогание. Подумав, что это признаки простуды, Оливия решила пораньше лечь спать и проспала весь закат, а сейчас, когда закат погас, она проснулась от самого важного в жизни сна, села в пижаме за стол, включила лампу, достала несколько листов бумаги и стала писать. Головной боли и недомогания как не бывало.
— Доброго рассвета тебе, — шепчет Кларисса ей и миру, щекочет указательным пальцем несколько ошеломлённых этой ночью звёзд и открывает портал.
Но есть ещё кое-что.
— Ты опять ушла первой, — говорю я, и голос мой звучит устало. Она поворачивается и обнимает меня. Тонкое тепло последних секунд близости её тела.
— Прости меня. В этот раз, если бы перестали приходить письма от Аманды, это было бы невыносимо. Я так и не знаю, как пережить твою смерть…
Мой порыв — горько рассмеяться на это и съязвить: «Поэтому мне всё время приходится переживать твою?» — но я думаю мгновение, и мне становится по-настоящему смешно.
— Вообще-то из этой жизни у меня есть целый архив историй и методик про то, как жить дальше после смерти близких и любимых. Сейчас будет поле — поделюсь.
Кларисса немного отстраняется — так, чтобы мы могли смотреть в глаза друг друга.
— Давай. Это ужасно страшно, но когда-то мне придётся попробовать это. Я не уверена, что моего умения мечтать хватит, чтобы понять, как мечтать после смерти, но, кажется, я знаю существо, у которого я могу этому поучиться.
Она целует меня в щёку, размыкает объятие и заходит в портал.
Через несколько мгновений у нас вновь будет телепатическое поле, и ты сможешь почувствовать, как сильно я люблю тебя.
Впрочем, ты и так знаешь.
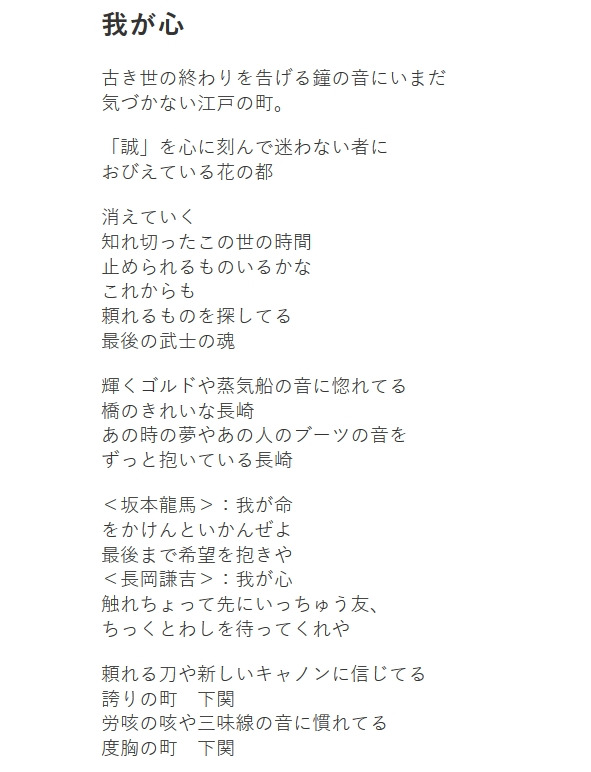
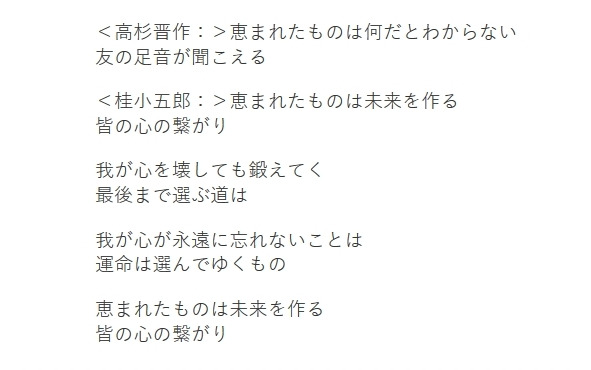
Моё сердце
(из сборника песен)
Город Эдо
Не замечает, что удар колокола провозгласил конец старого мира.
Цветочная столица
Страшится тех, кто высек на своём сердце «чистосердечную справедливость» и не знает сомнений.
Утекает сквозь пальцы
Время знакомого мира
Найдётся ли кто-то, кто сможет его остановить?
Души последних самураев
Ищут что-то, на что можно и впредь
Опереться.
Прекрасная мостами Нагасаки
Влюблёна в сверкающее золото и звук паровых кораблей.
Нагасаки держит у сердца
И никогда не забудет мечты того времени и звук его шагов.
<Сакамото Рёма:> «Чтобы что-нибудь получилось,
На это нужно поставить жизнь.
До последнего держись за свою надежду».
<Нагаока Кэнкити:> «О друг, что коснулся моего сердца и ушёл первым,
Подожди меня немного».
Гордый город Симоносэки верит в надёжные катаны и новые пушки.
Неустрашимый город Симоносэки привык к туберкулёзному кашлю и песням сямисэна.
<Такасуги Синсаку:> «Благословлены?
Я не знаю, чем. Чем я благословлён?
Дорогого друга слышу звук шагов».
<Кацура Когоро:> «Благословлены —
Связью сердец всех тех,
Кто создаёт будущее».
Путь, который я выбираю до последнего мгновения,
И ломает, и закаливает моё сердце.
Моё сердце никогда не забудет, что судьба — это то, что выбирают.
Благословлены —
Связью сердец всех тех, кто создаёт будущее.

Писарь
Посмотрев на часы — позднее утро, пора вставать, — замечаю на тумбочке у изголовья кровати книгу, которую я туда не клала, и глиняную фигурку, которую вижу впервые в жизни. Книга — альбом портретов деятелей Бакумацу и Мэйдзи, и заложена она на странице с портретами и биографической справкой об Оокубо Тосимити. Закладка — билет на сегодняшний мюзикл, посвящённый эпохе Бакумацу. Об этом мюзикле я слышала, но не припомню, чтобы я покупала билет. Также не припомню, чтобы особенно интересовалась деятелями княжества Сацума. Глиняная фигурка — это свистулька в форме птицы. Пробую дуть и зажимать отверстия — свистулька строит и выдаёт лад из пяти звуков.
«Твоих рук дело?» — спрашиваю мысленно у своего друга.
«Нет, я тут ни при чём», — я склонна ему верить.
Кто бы ни был инициатором событий, сегодня вечером они будут происходить.
Мюзикл слушаю вполуха: то, что я вижу на сцене — это чужая история. Я знаю её, но моя история происходила в то время в другом месте. Больше прислушиваюсь к ощущениям, оглядываю зрителей вокруг и жду знака. Ничего. Первый акт проходит, наступает антракт. Жду, пока часть зрителей выйдет в холл, оглядываю зал и скольжу взглядом по оставшимся зрителям. Нет, здесь ничего. Выхожу в холл. Кидаю монетки в автомат, получаю стаканчик какао и возможность, встав в стороне и иногда загораживая лицо стаканчиком, наблюдать за зрителями. Однако ничто не привлекает моё внимание, и, допив какао, я возвращаюсь в зал. Второй акт проходит для меня тяжело: как только я начинаю сопереживать происходящему на сцене или когда на сцену выносят знамя Синсэнгуми, меня охватывает страх, я чувствую себя в сердце вражеского лагеря, и, чтобы досидеть, мне приходится отвлекаться: то нырять в Интернет с телефона, то перечитывать программку, то разглядывать купленные до спектакля цветы.
После окончания выдыхаю с облегчением, выхожу в холл и жду режиссёра, чтобы подарить цветы. Благо, что знакомы. Может быть, она надоумит на что-то.
В холле застаю её беседующей с невзрачным мужчиной лет тридцати пяти, от которого несёт запахом такой боли, что я понимаю: это тот, кто мне нужен.
Останавливаюсь в нескольких шагах от них и прислушиваюсь. Речь идёт о роли Сайго Такамори в мюзикле, и режиссёр рассказывает забавные истории из-за кулис.
Сайго. То-то мне сегодня подсказали освежить имеющиеся у меня знания по Сацума. Но мне и странно: я думала, что не имею к этому никакого отношения.
— …а когда он выходит в полном обмундировании и с двумя мечами, с ним в узком проходе невозможно разойтись. Приходится прятаться в единственный угол и ждать, пока он пройдёт на сцену.
Мужчина стоит с кислым видом. Это определённо не то, что ему нужно. Режиссёр чувствует это, оглядывается в поисках выхода из плохо клеящегося разговора и замечает меня. Манит подойти поближе — я с готовностью подхожу, вручаю цветы, поздравляю с успешно прошедшим спектаклем и жду, когда меня представят.
— Георг, вот тебе собеседник. Има хорошо разбирается в теме Бакумацу, и вы сможете обсудить то, что тебя волнует. А я на этом вынуждена откланяться, извините.
Мы раскланиваемся, она уходит, и мы остаёмся с Георгом вдвоём. Выглядит он весьма непримечательно: джинсы, рубашка, пиджак, — но на его внешности сложно удержать внимание. Гораздо больше притягивает его состояние. Он чем-то терзается, и это что-то, насколько мне хватает видения, — явно нездешняя проблема.
Мой клиент, короче.
— Вы специализируетесь на Бакумацу? — он делает усилие, отодвигает в сторону то, что его мучает, и пробует завязать разговор. Для того, что мне нужно сделать, потребуются искренность в общении и некоторый уровень доверия. Я вижу этого человека в первый раз и ещё не поняла, как мне лучше себя вести. Пока отвечу, как есть.
— Да, я историк по образованию и неизменно обращаюсь к теме Бакумацу и ранней Мэйдзи… — уже на первых моих словах он подтянул свои переживания обратно и едва дослушивает меня.
— Есть одна тема, которая не даёт мне покоя. Раскол в правительстве в середине 70-х годов. Я просто не могу понять, как люди, которые были друзьями и соратниками, вдруг превратились во врагов. Так, что вели войска на своих же.
Затруднительно. До раскола в правительстве я не дожил тогда, и, хоть и представляю в общих чертах, о чём речь, на те события мой основной интерес не распространяется. На эту тему мне говорить грустно, и я не очень много могу сказать, разве что…
— У меня большой душевный отклик вызывает то, как обернулся через 10 лет союз Сацума и Тёсю. Рёма провернул нечто невероятное, дал надежду на то, что возможны чудеса сотрудничества, и я не представляю, каково было Кидо Такаёси в разгар Сацумского восстания. В случае чего быть готовым вести войска на человека, с которым они заключили союз, сделавший возможным передачу власти от сёгуната к императору… Мне кажется, что хорошо, что он не дожил до смерти Сайго.
Георг молчит пару мгновений, а потом спрашивает раненым голосом.
— А как вы думаете, каково было Оокубо Тосимити вести войска на друга?
Вот к чему была закладка про Оокубо Тосимити!
— Я думаю, что это было невыносимо, — отвечаю я, зацепившись за край приоткрывшейся боли. Георг пристально смотрит на меня, затем отводит взгляд. После паузы предлагает:
— Давайте кофе пить? — дождавшись моего кивка, он достаёт телефон. — Сейчас я вызову нам такси, а то отсюда очень сложно выбираться.
Когда он убирает телефон и объявляет, что такси приедет через пять минут, по нему уже не скажешь, что его мучает какая-то нездешняя боль. Однако в таком случае я и не знаю, о чём говорить. Мне нужно собраться с мыслями.
— Разрешите, я отлучусь на минутку? — он кивает.
— Буду ждать вас здесь.
Подставив руки под льющуюся из крана воду, долго смотрю в глаза своему отражению в зеркале. Я не знаю, как дальше сложится наше общение с Георгом. Я не знаю, как мне себя вести, чтобы всё сложилось правильно — чтобы случилось чудо. О сердце моё, будь чутким. Выключаю воду и иду обратно.
В такси мы едем недолго, до станции метро. Отвернувшись к вечернему городскому пейзажу за окном, он задаёт вопрос, как будто думая вслух:
— Скажите, а вот если бы вы жили тогда и там, куда бы вели все ваши дороги?
Мне нравится, как звучит этот вопрос, и я говорю, как есть.
— В Нагасаки. 67-й год и Нагасаки. Все мои дороги ведут в Нагасаки.
— А что в Нагасаки?
— В Нагасаки — Рёма и упоение общим делом. «Кайэнтай», если слышали о таком. Центр мира, центр событий, общая цель… и Рёма. Его пистолет, ботинки, письма, стремительность, появления то там, то здесь и его мечты. Мои дороги ведут меня туда. А ваши?
Георг молчит, взвешивая ответ, смущённо смеётся, ещё молчит, держа ответ уже во рту, и наконец говорит:
— Вы, наверное, будете смеяться, но мои дороги ведут меня в новое правительство в Токио. Для меня всё самое важное происходило там, — он погружается в раздумья, и я, видя, что мы подъезжаем к станции метро, приберегаю следующий вопрос для момента, когда мы сможем продолжить разговор в более подходящей обстановке.
Такси останавливается. Я выхожу, а Георг задерживается, обмениваясь несколькими словами с водителем. Затем он выходит и направляется ко мне, теребя рукав пиджака и смотря в сторону. Мнётся и молчит. Жду. Он поднимает взгляд.
— Има, я сейчас делаю нечто, что мне совсем не свойственно, и я в первый раз в жизни такое чувствую. Как будто мне очень нужно что-то, как будто я не могу продолжать жить, если я не получу или не возвращу себе это, и мне почему-то кажется, что вы можете мне это дать или показать. Я здесь проездом, остановился в гостинице, и я приглашаю вас составить мне компанию этим вечером. Ваше общество для меня может быть спасительно. Я не понимаю, что со мной происходит…
Ничего себе. А я как раз думала, как бы так устроить, чтобы наше общение продолжилось и после кафе.
— Хорошо, давайте.
— И вы не боитесь? — удивляется он.
— Ну, если бы вы сказали, что ваши дороги ведут вас в Синсэнгуми, то я бы ещё подумала, но новому правительству я доверяю.
Забравшись обратно в такси, мы молчим. Вспоминаю и задаю заготовленный вопрос:
— А про что для вас всё-таки эта история с новым правительством?
Георг молчит.
Когда мы приезжаем, он сильно измождён и едва стоит на ногах. Он предлагает мне кофе, и я соглашаюсь. Пью кофе и наблюдаю за ним. Он держит в руках почти полную чашку и сидит, глубоко погрузившись в свои мысли. Выглядит неважно. Похоже, история сильно разворошилась и утягивает много сил. Чем дальше погружаться в неё, ему бы лучше поспать.
— Вы не возражаете, если я на часок вздремну? — встречаю его мутный и больной взгляд. — Я всё равно сейчас ни на что не способен, даже разговаривать.
— Конечно, без проблем.
Он ложится в одежде на правую сторону большой кровати, и через несколько секунд уже спит. Я гашу свет, вынимаю из рюкзака игрушку-свистульку, ставлю на тумбочку и пальцем пишу в воздухе перед ней два иероглифа, составляющих слово «дружба». Пусть свершится то, что должно. Ложусь на левую сторону и закрываю глаза.
***
Чешется всё лицо, и я просыпаюсь. Тормошу щёки — обнаруживаю густые усы. Кожа под ними и чешется, хотя чесотка быстро проходит. Стоп, я же был гладко выбрит. Нет, у меня же обычно усы…
Сон!
Мне снился какой-то очень важный сон. Мне снилась та девушка, которая задала вопрос про правительство и смысл этой истории для меня. Она спрашивала это и во сне, только она уже не была девушкой, но я узнал её присутствие. Что-то очень важное… Она сказала что-то очень важное, и я вспомнил, что это действительно так. А потом я забыл. И чем больше я прихожу в себя, тем дальше от меня этот сон. Но мне так нужно вспомнить его…
Поворачиваюсь вправо, ожидая увидеть девушку, но её нет. Вместо неё спиной ко мне лежит мужчина, полностью одетый в традиционное повседневное платье. По ровному дыханию понимаю, что он спит.
Меч. Где мой меч?
Оглядываю себя — я в пиджаке, рубашке, шейном платке, брюках и носках. Как я мог заснуть в таком виде? Вспомнил. Меч я уже некоторое время не ношу и хожу в европейском платье. Его меча тоже нигде не видно.
Мюзикл. Сегодня вечером я ходил на мюзикл. Я встретил её, мы разговаривали… о чём? о Нагасаки и о новом правительстве, потом приехали сюда, ещё разговаривали, нет, не разговаривали, я очень устал и уснул.
Нет, стоп.
Сегодня вечером я ужинал с главой казначейства. Мы обсуждали… переход некоторых структур казначейства под прямое ведомство министерства внутренних дел.
Я прижимаю ладони к лицу, чтобы остановить путающиеся мысли и разобрать наслаивающиеся миры, и вновь чувствую ладонями пышные усы.
Ещё раз. Где я? Я в своём номере, в гостинице, где я поселился. Я узнаю этот номер. Это мой портфель, это мой ноутбук. Я приехал сюда на такси после мюзикла. С девушкой по имени Има. Однако сейчас в комнате другой человек.
Если бы он хотел меня убить, он бы не заснул рядом.
Стараясь двигаться бесшумно, встаю и начинаю обходить кровать, чтобы посмотреть, кто там. В зеркале двигается мой силуэт, и я останавливаюсь, чтобы взглянуть на отражение. Судя по длине усов и воспоминанию об ужине с главой казначейства… 73-й? Да, вряд ли позже. Делаю ещё три шага.
Лицо спящего… кажется, где-то я его видел. Во сне! Оно было в ускользнувшем сне. Но оно было и наяву, однако, чтобы вспомнить, мне нужно больше времени… Копаясь в памяти, делаю ещё шаг, и мой взгляд цепляется за небольшой предмет, стоящий на прикроватной тумбочке. Глиняная свистулька в форме птицы. Мне нестерпимо хочется взять её в руки. Я медленно протягиваю руку, касаюсь головки свистульки указательным пальцем, и в этот момент мужчина открывает глаза.
Пару мгновений он смотрит на меня, затем резко садится, трогает ладонями лицо — так же, как я, — оглядывает свою одежду, поднимает взгляд на меня и расплывается в улыбке. Вокруг его зрачков по кругу разгораются бирюзовые ободки.
— Так здорово! — говорит он. — Вы вспомнили.
И действительно: я чувствую целый слой памяти, который был недоступен раньше. Вот есть память Георга, вот есть ещё какие-то архивы с воспоминаниями, сейчас спокойно закрытые, а вот — открытый архив с моими воспоминаниями из личности, связанной с телом, которое я сейчас чувствую. Мой собеседник выжидающе смотрит на меня, улыбается, но постепенно его улыбка становится вежливо-озадаченной. Я догадываюсь, что он ждёт, что я скажу что-то в подтверждение того, что я вспомнил. Но мне нечего сказать. Я вспомнил одну из своих предыдущих личностей, да, но я чую, что это не то, что он имеет в виду.
— Вспомнил — да не вспомнил, — слышится голос из глубины комнаты, и я всматриваюсь в темноту. Вначале зажигаются два алых ободка на уровне глаз, затем проявляется остальное тело. В парадном одеянии с гербами дома Сакамото — как он любил.
— Ты же умер!
— Почти 150 земных лет назад, да. И ты умер. И он умер, — он кивает в сторону сидящего на кровати самурая, проходит мимо меня к креслу в углу у окна и устраивается в нём. Чтобы не стоять, я присаживаюсь на стул у туалетного столика с зеркалом. — И одновременно мы — точнее, вы, а я так, в гости зашёл — собрались здесь для одного дела. Помнишь, какого?
Что-то вертится, на окраине доступной памяти. Кусочек сна… Упираю пальцы в виски и пытаюсь вспомнить.
— В гости зашёл, говоришь? — тихо спрашивает самурай с кровати.
— Скучно мне, — отвечает сидящий в кресле, достаёт трубку и начинает раскуривать её.
При виде этой трубки воспоминания встают на свои места.
— Я вспомнил тебя! — я вскакиваю, обращаясь к сидящему на кровати. Лицо его озаряется. — Ты… Ты работал в казначействе!
Нагаока — я наконец вспомнил его фамилию — дважды моргает изумлённо, и они оба смеются. Я чувствую себя в высшей степени глупо и сажусь обратно.
— Что-то не так? — мой голос звучит холодно, и смех обрывается. На меня смотрят две пары внимательных, светящихся в темноте глаз.
— За личности посмотри! — как будто сообщив мне главную тайну мироздания, Рёма откидывается в кресле и затягивается. Нагаока посылает ему укоризненный взгляд. Несколько мгновений между ними висит многозначительная тишина. Общаются без слов?
— Ты всё это заварил, — я понимаю, что веду себя, как ребёнок, но не могу сдержать поднявшееся раздражение. — Я знаю, что это был единственный способ. Это не отменяет того, что всё кончилось плохо. А ещё ты умер слишком рано. Если бы ты там был, может быть, в новом правительстве не было бы раскола. Может быть, ты бы смог убедить Сайго…
Мои слова Рёма слушает, рассматривая ободок трубки. Потом он встречается со мной взглядом, и меня сносит.
Я чувствую себя в 78-м году, незадолго до смерти. Заботы, усталость и тоска. Одновременно я вижу поток времени моей нынешней жизни. Как будто мне задали вопрос: «Кем вы видите себя через пять лет?» — и мне не нужно вымучивать ответ. Я просто вижу, какое будущее творят через пять лет имеющиеся на этот момент решения. Мне не нравится то, что я вижу. И мне не нравится, что кто-то показывает мне это без моего на то запроса.
Усилием я отвожу взгляд и возвращаюсь в сейчас. Я чувствую себя вывернутым наизнанку. С меня хватит.
— Стойте! — Нагаока резко оборачивается ко мне и привстаёт, но не успевает. Я чувствую, как знаменитые усы исчезают, сшитый у лучшего в городе портного костюм уступает место джинсам, рубашке и пиджаку, и я вновь Георг. — Ну куда же вы…
Я чувствую, как подкрадывается и накрывает меня давешняя мучительная тоска, которую я пытался выразить и понять в разговоре с режиссёром, а после с Имой, которая не даёт мне покоя уже очень, очень давно.
— Здесь была девушка, Има, — говорю я. — У неё или в ней самой было что-то, что мне очень нужно. Если вы знаете, где я могу её найти, пожалуйста, скажите мне. Мне не интересно сейчас участвовать в самурайском косплее.
— Впрочем, может быть, так даже и лучше, — задумчиво произносит Нагаока. — Георг! Про что для вас на самом деле была история в правительстве?
И щёлкает пальцами. Я замираю между вдохом и выдохом, и ответ внутри меня оглушительно громок. Я могу только выпустить его наружу.
— Про разбитую дружбу.
Будто я бросил камень в озеро, на дне которого спит дракон, и от моего камня дракон пробудился, и всё озеро заволновалось.
Вспомнил. Это озеро я видел во сне и плакал. А рядом…
— Я вспомнил тебя, — обращаюсь я к Нагаоке. — Пожалуйста, помоги мне.
Он кивает, встаёт, не сводя к меня глаз, подходит к креслу и протягивает руку. Рёма вкладывает в его ладонь свою трубку, Нагаока подносит её к губам и делает глубокий вдох, но выдыхает прозрачный воздух. Я плохо вижу их. Я уже стою по колено в воде, но не иду дальше. Я боюсь встретиться с тем, что ждёт меня в глубине. «Помоги мне», — зову я мысленно.
— Подержи, пожалуйста, пространство.
— Конечно, — издалека доносятся до меня голоса.
— Георг! — на звук своего имени я оборачиваюсь. На берегу моего озера стоит Има. Трёт ладони — и из её правой ладони выходит плотный бирюзовый луч. Она улыбается совершенно счастливо, и я невольно улыбаюсь в ответ.
Она делает стремительный выпад вперёд — центр её правой ладони приходит мне в лоб. Я успеваю заметить высокое звёздное небо, а затем вода смыкается над моей головой.
До моего слуха доходит знакомая мелодия, я иду ей навстречу и прихожу в себя. Кто-то наигрывает песенку «Охарабуси». Я как будто дома. Я чувствую себя молодым, отдохнувшим и одновременно очень древним. Песенка заканчивается, я слышу вздох и шелест одежды.
— Ты хотел меня видеть.
При звуке этого голоса я поднимаюсь и во все глаза смотрю на сидящего рядом Сайго Такамори. В руках у него глиняная свистулька.
Я рад его видеть. Как же я рад его видеть ещё раз после того, как стало понятно, что мы больше никогда не увидимся…
— Я тоже рад тебя видеть, — тепло говорит он. — Так о чём ты хотел поговорить?
Накатывает огромная печаль. Обнаруживаю, что могу одновременно чувствовать и огромную любовь, и огромную печаль. Получится ли выразить это словами? Дышу, жду, пока придут слова, и они вскоре приходят.
— Мне так жаль, что наша дружба разбилась…
Я хотел бы сдержаться, но в том пространстве и состоянии, в котором мы находимся, чувства захлёстывают и переливаются через край. Я даю волю слезам и оплакиваю нашу дружбу. Сайго ждёт.
Я перевожу дух и слышу его голос:
— Но ведь теперь ты можешь вспомнить, как всё было на самом деле? Чего ты хотел, чего я хотел, и почему всё получилось именно так.
И ведь правда — могу.
— Я хотел… — из внутреннего тумана постепенно проявляются принятые когда-то решения. — Я хотел научиться чувствовать свою волю среди других воль.
— Так. А помнишь, чего хотел я?
Вспышкой образ.
— А ты хотел прожить жизнь, живя по сердцу.
— Было такое, — кивает он. — В чём была сложность для тебя?
Я жду, пока внутри проявится ответ.
— Чтобы чувствовать свою волю, нужно было вначале научиться решать за себя. Причём не по собственному решению подчиняться приказам или ослушиваться их, а решиться сойти с прямой подчинения-неподчинения и выйти на плоскость.
— Кто тебе в этом помог?
— Сакамото Рёма. Он был в таком… состоянии свободы! Он уже жил на плоскости и задавался вопросом: «Что я хочу делать, если можно делать что угодно?» Он вот хотел делать флот. И ведь делал! Но кроме этого он думал ещё над одним вопросом: «Какое место на плоскости занимают мои действия и какое влияние на неё они могут оказывать?» Я долго жил, думая, что моя воля бессильна. Сакамото Рёма навёл меня на мысль о том, что, если я смиряюсь с тем, что моя воля бессильна, она будет бессильной. Я посмотрел на него — и вдруг увидел будущее, к которому я приду, если я не начну что-то делать по-другому. Забавно… Меня так взбесило, когда он сделал то же самое только что… А он просто хотел напомнить мне о том важном, что тогда произошло со мной.
— И что тогда?
— Состоялся этот невиданный союз с Тёсю. С плоскости возможного в рамках существующей системы мы вышли в трёхмерное пространство и взглянули на систему снаружи. Оказалось, что это не абсолютный закон мира, а совокупность принятых разными людьми решений. И принадлежу ли я к тем людям, которые их принимают, — это вопрос лишь моего решения. Как только я расправляю плечи и соглашаюсь с тем, что во мне есть сила принимать решения, я перехожу из состояния слуги в состояние творца.
— А если ты не принимаешь это решение?
— Я всё равно продолжаю творить будущее — только моей партией остаётся безволие. Но я принимаю его — и мы начинаем писать историю — я, ты, Кацура. И то, что кто-то был настроен более консервативно, а кто-то — более либерально, было ровно тем, что я хотел: я чувствовал свою волю среди других разных воль — и одновременно я чувствовал наше «вместе».
— А потом?
— А потом было посольство Ивакура, и, вернувшись, я решил, что лучше всех знаю, что нужно для страны. И стал терять ощущение чужой воли и уважение к ней. Но, удалив всех противников, я как будто остался один… Я уже не мог остановиться. И поэтому вскоре ушёл. Но то, что хотел, я получил.
— Так. А моё восстание? — я морщусь при мысли об этом, но следующий вопрос Сайго удивляет меня. — Чем то, как ты повёл себя, было на самом деле хорошо для меня?
Я смотрю на свистульку в его больших руках, вспоминаю его слова о том, чтобы жить по сердцу, и понимаю.
— На фоне друг друга. Мы шли к тому, чему стремились, смотря друг на друга. Я чувствовал свою волю в присутствии твоей воли — ровно до того момента, когда уже ясно мог различить её сам, без фона. А ты… На фоне моих действий, которые были тебе не по душе, особенно когда я отклонил идею похода в Корею, ты смог различить, что для тебя значит «жить по сердцу». Ты вернулся в Сацума и жил по сердцу до самого конца.
— Самое лучшее, что ты мог сделать для меня, чтобы помочь мне в этом, — отправить на меня войска. Жить по сердцу в этих обстоятельствах было очень страшно, но только лучший друг мог сделать такой подарок. Я благодарю тебя.
Я вынимаю из его рук свистульку, кладу её рядом с собой и опускаю лицо в его ладони.
— Наша дружба никогда не разбивалась, — слышится его голос, и он сбивает преграды и перегородки внутри меня, и я могу плакать и любить его во всю силу своего сердца. — Просто мы не всегда могли разгадать, как она была упакована.
— Я так скучал по тебе… — с трудом могу выговорить я.
— Мы никогда не расставались, мой друг…
Я смотрю, как Сайго удаляется по коридору, кивает кому-то, сидящему у входа, и исчезает в свете.
Я оглядываюсь.
Потолок в этом пространстве нависает низко. Поднявшись на ноги, я почти касаюсь его головой. Поднимаю руку, чтобы дотронуться до него, но потолок уходит вверх, и я не дотягиваюсь. Когда я опускаю руку, он приходит в прежнее положение над моей головой. Насколько я могу разглядеть, потолок и стены исписаны какими-то знаками.
У моих ног лежат спящие люди разных возрастов, кто в традиционной одежде, а кто — в европейской. Из разных мест их тел выходят светящиеся ниточки, тянутся по коридору и исчезают в свете. Я наклоняюсь к одному из спящих, чтобы коснуться его.
«Ещё не время», — звучит у меня в голове мягкий голос, да и сам я понимаю, что ещё не время. Со свистулькой в руках иду к выходу.
У выхода, скрестив ноги, с кистью в руке сидит Писарь и что-то пишет в свитке, лежащем у него на колене. Он дописывает столбик знаков, и они, соскользнув с бумаги, занимают место на стене у проёма. К моему приближению он откладывает свиток и кисть.
— Оокубо-сан, — кивает он мне и жестом предлагает сесть напротив. Замечаю у моих ног подушку для сидения и опускаюсь на неё. Устроившись и убрав свистульку в карман, поднимаю взгляд — между нами уже стоит небольшой столик с кувшином сакэ и чашками.
Писарь тепло и приветливо смотрит на меня сияющими бирюзовым глазами, протягивает руку к кувшину и наливает для меня сакэ.
— Выпейте.
Я механически наливаю сакэ в его чашку — он с лёгким поклоном принимает её, подносит к губам, вдыхает аромат, делает глоток и улыбается. Медленно беру свою чашку и пробую. Подогретое сакэ. Вкусно, но ничего особенного не происходит. Писарь делает ещё один глоток и явно наслаждается происходящим. Тепло от сакэ быстро распространяется по телу, и я вспоминаю.
— Прошу прощения: я был неучтив, — он смеётся, тянется к кувшину, и я подставляю чашку.
— Момидзи 66-го года. Горы окрасились золотыми и алыми пятнами, я был молод и полон уверенности, что в моей жизни всё складывается правильно. С тех пор я пью это сакэ со всеми, кто выходит отсюда.
— Почтительно принимаю угощение, — только и могу ответить я. Делаю ещё глоток, и вдруг у меня появляется ощущение, что меня кто-то зовёт — с той стороны, со стороны света.
Там кто-то стоит. Я вглядываюсь в светящийся силуэт, но не могу разглядеть, кто это.
Писарь вновь готов наполнить мою чашку, и его взгляд проникает вглубь меня.
— Пейте. Это хорошее сакэ.
Я делаю глоток, а он откидывается к стене и прикрывает глаза.
Меня вновь зовут. Я смотрю и узнаю силуэт. Это моё нынешнее тело. Я перевожу взгляд на сакэ и допиваю его одним глотком. Когда вновь смотрю на своё тело, оно кажется плотным и настоящим. Однако приглядевшись, вижу в середине груди дыру размером с кулак, формой — с птицу.
Ставлю чашку на столик, в последний раз оглядываю зал, где провёл столько времени, мысленно желаю удачи и скорейшего возвращения всем его обитателям, обитателям других трёх залов, которые чувствую неподалёку, а также их привратникам. Сжимаю в руке свистульку и смотрю в глаза Писаря.
— Я готов. Передай и ему спасибо.
Писарь кивает и улыбается. Бирюзовый свет выливается из его глаз и заполняет всё вокруг. Я перестаю чувствовать тело. Голова сильно кружится, и я закрываю глаза.
Когда я открываю глаза, внутри меня переливы ветра и тысяча песен о дружбе. Впереди — моё гнездо, которое так давно пустовало. Оно тоскует и зовёт меня.
Я доверяюсь этому зову, отталкиваюсь и лечу.
***
«Момидзи 66-го, говоришь? — пока я сижу в задумчивости, смакуя послевкусие этой встречи, он вынимает из моей руки чашку, пробует содержимое, одобрительно кивает и садится напротив, где только что сидел Оокубо Тосимити. — Неплохо. Ещё!»
Он подставляет чашку, и притом, что мне было бы достаточно намерения, чтобы наполнить её, мне приятно воспользоваться кувшином и подлить своему другу сакэ. Он перехватывает у меня кувшин, ставит свою чашку на столик, достаёт из воздуха ещё одну, наполняет её и протягивает мне.
«Я предлагаю за дружбу».
Киваю и пригубливаю сакэ. Восхитительно.
«Представляешь, я в этом женском теле совершенно не переношу подогретое сакэ. Комнатной температуры ещё куда ни шло, а лучше всего охлаждённое. А ведь так любил! Кстати, тебе привет и почтение от Оокубо-сана».
Мой друг кивает и смотрит вглубь зала.
«Как ты думаешь, долго ещё?»
Я оглядываю спящих.
«Большинство уйдёт в ближайшее время, если, конечно, я всё правильно сделаю, а с остальными придётся разбираться отдельно. Хотя лучше бы в течение этой жизни всех отпустить, потому что больно хлопотно протаскивать память о том, что я это делаю. Я даже не знаю, смогу ли я сделать это ещё раз: в этот раз память держалась на боли от твоей смерти, но сейчас мы восстановили связь, и боли больше нет».
«Для меня удивительно, что ты это делаешь. Провожаешь этот мир, ждёшь, пока все выйдут, и пишешь о нём», — он оглядывает исписанные моими словами стены и потолок. Он не спрашивает напрямую, но я чувствую его любопытство. Подбираю слова.
«Я помню, как ты умер, и я понял, что никогда, больше никогда не увижу тебя. Больше всего я хотел бы ещё раз побыть с тобой, хотя бы немного, и сказать тебе, что я очень люблю тебя и что мне очень тяжело жить, когда тебя больше нет. Может быть, я смог бы тогда не умирать вслед за тобой, чтобы только быть вместе, а попробовать по-настоящему жить дальше. Я помню, как уже в этом женском теле я впервые вышла в пространство в сознании, в котором мы смогли встретиться и немного поговорить. Я поняла тогда, что за огромной болью оттого, что ты умер, я забыла, как сильно я тебя люблю. Но встретившись с тобой ещё раз, через много лет после того, как умерла надежда увидеть тебя вновь, я вспомнила. А потом мы встретились ещё, и я вспомнила, что в той жизни всё случилось, как мы договаривались, что там вообще не было ничего, кроме любви. И мы встретились ещё, и я вспомнила, что наша история гораздо дольше Бакумацу…
И вот сейчас — ещё один раз встретились Сайго и Оокубо. Всё поняли и дочувствовали любовь, которую не распознали при жизни. А потом мы с Оокубо пили сакэ. И вроде бы мы не были особенно близки при жизни, но, сидя здесь, я чувствую, как люблю всех, с кем мы жили тогда и столько делали друг для друга. И мне здорово встречаться с некоторыми из них ещё раз, когда мы уже оба вспомнили, как всё было на самом деле, и можем пить сакэ, праздновать и благословлять всё, что было. А потом Оокубо улетает птицей, и его дружба навсегда с ним».
Рёма смотрит на меня мягко алеющими глазами.
«За тебя».
Кажется, это сакэ стало ещё вкуснее.
Он достаёт трубку, и, сделав затяжку, передаёт её мне. Мы курим и пьём сакэ, а потом я чувствую, что пора идти.
«Спасибо, что пришёл».
Глубоко вдыхаю то особое состояние безграничности и лёгкой готовности перейти в движение, которое передаёт нам эта трубка, и закрываю глаза.
Проснувшись, я несколько секунд не могу сообразить, где я. Похоже на гостиничный номер. А. Мюзикл. Георг. Разговор о Нагасаки и правительстве. Гостиничный номер. Оокубо Тосимити. Сакэ, трубка, гостиничный номер.
Привстаю и оглядываюсь. Его нет. И хорошо: иначе это было бы очень неловкое утро.
На тумбочке вижу визитку со словом «спасибо» на обороте и старинное распятие длиной в две трети ладони. Сжимаю его в кулаке и прислушиваюсь к ощущениям. Нет, это не от Георга.
«Твоих рук дело?» — спрашиваю мысленно у своего друга.
«Нет, я тут ни при чём. Но похоже, что тебе придётся разобраться с этой историей про христианство».
Разобраться — так разобраться. Тем более, конец её мне известен: мы будем пить сакэ со старым другом, возвращающимся в мир.
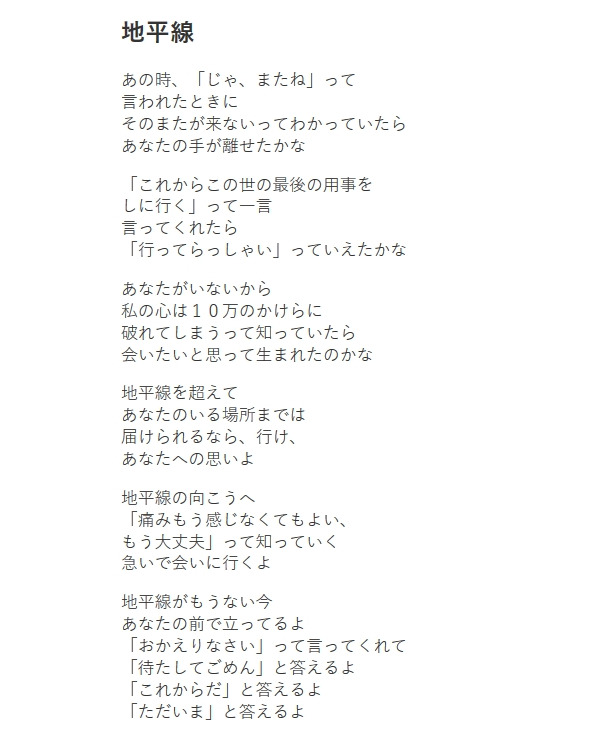
Горизонт
(из сборника песен)
Если бы — услышав твоё
«До скорого», — я знал,
Что это «скоро» уже никогда не наступит,
Смог бы я отпустить твои руки?
Если бы ты сказал тогда,
Что идёшь делать последнее в этом мире дело,
Смог бы я сказать тебе:
«Доброго пути»?
Если бы я знал, что оттого, что тебя нет,
Моё сердце разобьётся на десять тысяч осколков,
Родился бы я с желанием
Встретиться с тобой?
Горизонт
О мысли мои, обращённые к тебе!
Если вы можете, перелетев через горизонт,
Добраться до того места, где находишься ты,
То летите, летите.
За горизонт!
Зная, что можно больше не чувствовать боли,
Зная, что уже всё в порядке,
Спешу навстречу тебе.
Сейчас, когда горизонта больше нет,
Я стою перед тобой.
Когда ты говоришь мне: «Добро пожаловать домой», —
Я отвечаю: «Извини, что заставил ждать»,
Я отвечаю: «Всё только начинается»,
Я отвечаю: «Я дома».
Став светом, мы понимаем,
Что горизонты создаём и стираем сами.
Радиорубка
(из сборника молитв)
Над землёй гроза, и такие помехи, что моё внутреннее небо заволокло облаками, и связь пропала.
Такие густые помехи, так долго, что я забыла, что связь когда-то была, и я забыла, с кем была эта связь.
Как будто кроме грозы ничего нет.
Однажды я надела на глаза мягкую повязку и пошла, доверившись руке проводника. Когда я открыла глаза, я обнаружила себя в радиорубке, в центре которой стоял голографический аппарат.
Взгляд голограммы был самым родным во вселенной.
Я была в этой рубке достаточно, чтобы запомнить, где среди моих внутренних ландшафтов её искать. И достаточно, чтобы настройки приборов прописались глубоко внутри меня.
Чтобы в моём внутреннем небе появились проблески.
Большая часть приборов неисправна, или я не знаю, как ей пользоваться. Голографический аппарат работает по праздникам. По тем праздникам, когда радостно, и по тем праздникам, когда что-то хорошее уходит навсегда, чтобы уступить место такому хорошему, которое пока и представить невозможно.
Зато теперь всегда работает телефон.
Я могу поднять трубку, набрать номер и услышать голос, который жажду услышать.
Иногда в рубке включается и начинает орать приёмник.
Когда я долго=долго не слышу телефонных звонков, оставленная на автоответчике запись пропускается через усилитель и громкоговоритель.
Оглушительно. Всегда очень по делу.
А по праздникам, по тем праздникам, когда радостно, и по тем праздникам, когда что-то хорошее уходит навсегда, чтобы уступить место такому хорошему, которое пока и представить невозможно, работает голографический аппарат. Я могу почти коснуться того, кто на том конце. Аппарат сияет, как будто костёр, как будто мы сидим и греемся у костра.
Потом батарея аппарата садится, я ставлю её на зарядку, вспоминаю, где в башне включается отопление, и тянусь к телефонной трубке.
Я думаю, что при достаточном уходе за этой башней в ней всегда может быть тепло, и голографический аппарат может работать долго и надёжно. Как когда-то не было телефона, а теперь всегда есть телефон.
А потом я вспомню, что я умею переходить за край грозы, и перейду.
Он будет ждать меня там.

Амстердам
Получаю из хранилища свои ноутбук и телефон, включаю телефон.
49 пропущенных вызовов. Вначале сплошь от Оливии, потом попеременно то Оливия, то Марселла. В конце только Марселла.
9 новых сообщений.
От Оливии.
«Амстердам, Виктор умер. Не могу до тебя дозвониться. Похороны послезавтра. Позвони мне, как прочтёшь это сообщение».
Ноги подкашиваются, и я опускаюсь на пол прямо посреди холла.
«Амстердам, прощание завтра в 14. Все встречаются в полдень у нас. Ты будешь?»
«Амстердам, мать твою».
От Марселлы.
«Амстердам, мне очень жаль. Если тебе нужно будет поговорить с кем-то, ты всегда можешь позвонить мне. Оливии тяжело, но сейчас я с ней. Может быть, это шанс и для нас оставить старые обиды и вновь сблизиться».
С неизвестного номера.
«Уважаемый Амстердам Дисмор, здравствуйте. Это адвокат и управляющий делами Виктора Нортстоуна. Приношу Вам свои соболезнования в связи со смертью Вашего друга. Вы упомянуты в завещании, но оглашено оно может быть только в Вашем присутствии. Пожалуйста, свяжитесь со мной по этому номеру при ближайшей возможности. С уважением, Ричард Палмер».
Ещё четыре сообщения с соболезнованиями от общих знакомых.
Все — недельной давности.
Слышу, как меня окликают по имени. Поднимаю взгляд — куратор нашей группы доброжелательно смотрит на меня и шевелит губами. В ушах шумит, и его слова до меня не доходят. Он выжидающе смотрит на меня. Встряхиваю головой.
— Простите?
— Я спросил вас, всё ли с вами в порядке и могу ли я чем-нибудь вам помочь.
— Нет, со мной не всё в порядке. Неделю назад умер мой самый близкий друг во вселенной, а я тут сидел медитировал по десять часов в день. И если вы скажете, что на то была воля божья или что это подтверждает первую благородную истину, клянусь, я разобью вам лицо. Лучше просто отойдите.
Куратор молчит немного.
— Если вы предпочтёте ужинать и завтракать не вместе со всеми, а в своей комнате, то вам стоит только сказать мне об этом в течение дня, и ужин и завтрак будут поданы вам в комнату.
Он оказался намного более тактичным человеком, чем я ожидал, и я тронут.
— Спасибо. Я подумаю и сообщу.
— Привет, Оливия.
— Привет, Амстердам.
Я ожидал бури, но её голос звучит ровно. Я набрал её номер, особенно не готовясь к разговору — просто поднялся с пола, вышел на террасу и позвонил, и теперь я жду, когда внутри меня появятся хоть какие-то слова.
— Оливия, я… — слова виснут в воздухе, а она ждёт, что я скажу. Пока нужно сказать самое важное. — Я сожалею, что меня там не было. Я сожалею, что тебе пришлось проходить через это одной.
— Мне очень помогла Марселла. Она всё организовала и каждый день навещает меня, часто остаётся на ночь. Я думаю, что вам с ней стоит поговорить и помириться. Я думаю, что Виктор очень хотел бы этого.
Её голос звучит не ровно, как мне показалось вначале, а безжизненно. Я понимаю, что я ничего не мог сделать, но чувствую себя последней сволочью.
— Когда у тебя самолёт? И куда? В Брюссель или в какое-нибудь сафари или в полярную экспедицию на полгода? — голос её звучит язвительно, но я скорее рад этому. Давай, сердись на меня, но хотя бы будь живой.
— Мой самолёт завтра днём, но там неудачная 8-часовая пересадка в Абу-Даби, поэтому в Брюсселе я буду только послезавтра в полвосьмого утра.
— Заедешь к нам? В смысле, ко мне… — голос опять гаснет, и у меня перехватывает горло.
— Конечно. Будет ли у тебя настроение испечь блинчиков? Местная диетическая аюрведическая кухня сделала меня полупрозначным, и я мечтаю о твоих блинчиках, — Я зажмуриваюсь и втягиваю голову в плечи: не о блинчиках мы должны сейчас говорить! Слова сорвались быстрее, чем я обдумал их, и сейчас мне ужасно стыдно.
— Хорошо, — отвечает она легко. — Будет хотя бы, чем заняться.
— А, и ещё. Передай, пожалуйста, Марселле, что я позвоню ей, когда вернусь. Сейчас я больше ни с кем не хочу разговаривать.
— Поняла тебя, — и неожиданно её голос теплеет. — Обнимаю тебя, Амстердам. Мне жаль, что ты сейчас там один. Приезжай, я накормлю тебя блинчиками, и мы поплачем вместе.
— Обнимаю тебя, Оливия. — Дрогнувшим голосом говорю я, и мы заканчиваем разговор.
Я пишу адвокату короткое сообщение о том, что я свяжусь с ним после возвращения, выключаю телефон и направляюсь в свою комнату, привычным движением направляя внимание на дыхание. За три недели випассаны меня, слава богу, научили отключать мысли и проводить время. Хоть чем-то она пригодилась.
— Представляешь, он катался на коньках. Неудачно упал, ударился затылком об лёд, случилось кровоизлияние в мозг, и в больнице он умер, не приходя в сознание.
Оливия невидящим взглядом смотрит в окно, а я дожёвываю кусочек блинчика и откладываю вилку. Выглядит Оливия неважно: похудела и как-то посерела.
— Ты ешь! — она переводит взгляд на меня. — Это я так, болтаю. Тебе же всё равно интересно. Блинчики-то хоть получились?
— Да, вкусные. Спасибо, что приготовила.
— Пожалуйста, — она грустно усмехается. — Во многих делах сейчас я не вижу смысла, поэтому мне приятно было провести осмысленный час жизни за готовкой.
— Спасибо, — повторяю я и продолжаю завтрак. Оливия держит кружку двумя ладонями около лица, уперев локти в стол, и вновь смотрит в окно.
— Никто не успел с ним попрощаться. Точнее, в каком-то смысле все успели. Все когда-то попрощались с ним в последний раз, — голос её дрожит, она отворачивается, а я вспоминаю своё прощание с ним. В тот день из издательства прислали две коробки авторских экземпляров его последней — боги, теперь уже официально последней — книги, «Amsterdam without Amsterdam», и он позвал меня открывать коробки и праздновать это событие. А потом я вернулся к себе, собрал вещи и улетел на випассану в Мумбаи.
— Как прошла презентация?
— Благополучно. Ровно, продуманно. Всё, что нужно было подготовить, было подготовлено заранее, и в день презентации Виктору нужно было просто приехать вовремя, пожать всем руки, рассказать о книге, подписать несколько десятков экземпляров, сфотографироваться с желающими, ещё раз пожать всем руки — и всё. Мне очень понравилось, каким он стал в работе над этой книгой — собранным, лёгким и спокойным. И книга вышла такая, и всё вокруг неё получалось таким. А ты успел прочитать?
— Нет, я взял с собой, но там как-то было не до этого…
— На презентации Виктор говорил только о тебе, — Оливия смотрит мне прямо в глаза, и почему-то я чувствую себя очень виноватым, как будто это я совершил нечто непоправимое. — Говорил не о книге, а о тебе.
Я не знаю, что ответить на это. Головой я понимаю, что она, Марселла и другие уже неделю живут в мире без Виктора и уже хотя бы немного свыклись с этой мыслью и проходят разные стадии горя, а я пока ещё не могу осознать, как это: когда нет Виктора.
— Вечером придут Марселла и Ричард, адвокат. Останешься до вечера? — меняет тему Оливия.
— Да. Я бы в таком случае принял душ и вздремнул — всё-таки больше суток в дороге. Ты не против?
Оливия встаёт и начинает собирать со стола пустую посуду.
— Амстер, я могу ревновать или не принимать этого сколько угодно, но это не отменяет факта, что этот дом настолько же твой, насколько мой. И ты тоже это знаешь. Поэтому иди спи, мойся, приходи в себя — только не умирай, пожалуйста, ладно?
Я допиваю последний глоток кофе, отдаю ей чашку, киваю и иду приводить себя в порядок.
Поднимаю было руку, чтобы по привычке постучать в дверь кабинета Виктора, но понимаю, что в этом больше нет необходимости. Прислоняюсь горячим лбом к прохладной двери на несколько вдохов и выдохов и открываю дверь.
Почти ничего не изменилось. Только из двух коробок «Амстердама без Амстердама» осталась одна, и Виктор передвинул её к подоконнику. Цветы выглядят вяло. Беру из угла подоконника бутылку с водой и поливаю их. Надо будет и остальные в доме полить: Оливия вряд ли думала в цветах в эти дни.
Я знаю этот книжный штамп, «всё выглядит так, как будто он только что вышел на несколько минут и вскоре вернётся», и я ничего не могу с собой поделать, потому что меня охватывает именно это ощущение.
На столе — листочек со списком дел на 30 января, день, когда его уже не было в живых. Позвонить в издательство, оплатить счета, написать несколько электронных писем… Касаюсь букв, написанных его рукой.
Сажусь в его кресло, где больше всего ощущается его присутствие, и пытаюсь объяснить себе, что его больше нет. Что все эти книги, эти стол, кресло, диван теперь принадлежат не ему, а то ли мне, то ли Оливии, смотря что в завещании, и теперь это просто вещи, которыми нужно распорядиться. И теперь кто-то, и уже вечером мы узнаем, кто, является наследником авторских прав, а писателя, большого любителя слушать истории людей и самого-самого для меня человека, Виктора Нортстоуна больше на этой земле нет.
Поднимаю крышку его ноутбука. Экран показывает имя пользователя, Victor North, и предлагает ввести пароль. Я не знаю пароля. Поднимаю руку, чтобы закрыть ноутбук, и взглядом цепляюсь за коробку книжек. Вообще-то, может быть, я знаю пароль. Набираю:
«Amsterdam1979». Год нашего знакомства.
Ноутбук показывает мне рабочий стол. На рабочем столе — фотография. Он, Оливия, я, Марселла, с горящими глазами, у каждого — по сложенному листу бумаги с пожеланиями себе. Рождество пять лет назад.
Меня накрывает. Обхватываю руками живот и сижу, непроизвольно раскачиваясь туловищем вперёд-назад. В голове пусто, а потом вспышками возникают слова. Я смотрю на коробку с книгами и говорю вслух.
— Я обещал тебе, что мы поедем в Амстердам. Ты ждал и, хоть и никогда не был в Амстердаме, написал книгу об Амстердаме. Об Амстердаме без Амстердама. Я думал предложить тебе поехать туда весной…
Тишина кабинета впитывает мои слова. Я перевожу дыхание.
— А ещё ты обещал, что будешь со мной, когда я буду умирать.
Оливия была даже ближе к истине, чем мы оба думали, когда она сказала, что этот дом настолько же мой, насколько её. Виктор оставил свою долю дома мне. Держателем авторских прав на все его книги, кроме последней, становилась Оливия, а права на «Амстердам» и все доходы с продаж переходили мне.
Ричард Палмер, спокойствием, аккуратностью и элегантностью костюма похожий на самого Виктора, сказал, что завещание было дополнено после того, как книга поступила в продажу. То есть, когда я уже был в Индии. Может быть, Виктор чувствовал приближающийся конец?
Марселла, усталая и время от времени направляющая в мою сторону вопросительно-печальные взгляды, была весьма удивлена, что Виктор оставил ей некую «коробку с воспоминаниями».
— Виктор сказал, цитирую, «Амстердам знает, о чём идёт речь, и где её искать», — адвокат вопросительно смотрит на меня. Я думаю секунду, киваю и перевожу взгляд на Оливию. Она поджимает губы. Я вздыхаю. Она наверняка опять думает что-то в духе «он любил своего друга больше, чем меня». За столько лет я пришёл к мысли о том, что бесполезно что-то доказывать, пока она не будет готова допустить, что это не так или не совсем так, что в сердце Виктора было достаточно любви для нас всех. Но мне всё равно грустно, что внутри неё продолжается эта драма.
— А ещё Виктор оставил по письму для каждого из вас.
Ричард достаёт из большого конверта три конверта поменьше и, сверившись с надписями, раздал их. Беру свой и немедленно хочу уйти в кабинет и побыть с Виктором.
— Амс? — Марселла окликает меня, направляющегося к лестнице и распечатывающего письмо. Я невнятно машу рукой.
«Друг мой,
Вот я и ушёл первым. Надеюсь, что эта смерть произошла вдали от тебя, и тебе не пришлось меня хоронить.
Я не представляю, каково сейчас тебе. Будь я на твоём месте, у меня, наверное, разорвалось бы сердце.
Если бы ты умер, то о твоей смерти я больше всего хотел бы поговорить с тобой. Мне больше всего не хватало бы тебя, чтобы разделить и понять это горе. Поэтому я здесь, чтобы поговорить с тобой о моей смерти и о том, как жить дальше. И вот, что я хочу тебе сказать.
Я умер, а ты жив и продолжаешь своими поступками участвовать в жизни и строить будущее.
Ты любишь новые технологии, гаджеты и новости о создании новых. Ты любишь инвестировать в то, что, на твой взгляд, создаёт будущее. Ты любишь собирать и сплачивать талантливых людей, и пусть ещё много стартапов взлетят с твоей помощью. Пусть от этого в мире появится много доброго.
Ты любишь находить новые возможности для себя, и ты любишь ощущение, что сейчас, в шестьдесят, для тебя возможно даже больше, чем в тридцать или сорок. Ты любишь стильно одеваться и пробовать новые стрижки.
Ты любишь движение и стихии. Парапланы и велосипеды, верховую езду и мотоциклы, кайтинг и каноэ, спуск с аквалангом и фридайвинг. Ты любишь итальянскую и китайскую кухню, а также блинчики, которые делает Оливия, свекольный суп, который готовит Марселла, и сидр, который делаю я.
Ты любишь Марселлу. Ты не можешь видеться с ней в последнее время именно потому, что ты очень любишь её, и тебе больно видеть её, зная, что ваша совместная жизнь разладилась. Может быть, вы уже не сможете быть мужем и женой, но я верю, что вы можете стать хорошими друзьями. Амстер, столько лет мы все вместе! Такие связи, такая долгая и глубокая близость — это главное, что есть у нас сейчас.
Ты любишь Оливию и печалишься, чувствуя, что происходит внутри неё по поводу нас с ней и нас с тобой, и что с годами ничего не меняется, но я попробовал в письме ей сказать нечто, что поможет ей отпустить своё беспокойство. Вдруг сработает?
А ещё ты любишь меня, наш дом, мои книги, диван и плед в моём кабинете, вместе курить трубку, разговаривать до глубокой ночи, работать за ноутбуками в одном пространстве и проводить вместе время жизни.
А я, мой друг со страннейшим именем Амстердам, всем сердцем и навсегда люблю тебя.
До новой встречи,
Виктор
P.S. Если вдруг ты захочешь говорить со мной ещё или примешь решение уходить, приезжай на край света».
Свернувшись калачиком на диване в его кабинете и натянув край пледа на голову, я прижимаю письмо к груди и плачу.
Отдышавшись, я вылезаю из-под пледа, открываю один из шкафов с незастеклёнными дверцами и вытаскиваю оттуда коробку, которую Виктор имел в виду, говоря о коробке воспоминаний. Он всё увидел правильно. Теперь, когда он ушёл, роль помнящего, кто мы есть на самом деле, и любящего нас такими, переходит к Марселле.
Марселла сидит на диване, Оливия лежит, положив голову ей на колени. Адвоката уже нет, на столе — большой прозрачный чайник чая с листьями мяты, три чашки, одна из которых пустая, и распечатанные письма.
— Спасибо, что приготовили чай, — я наливаю чай, освобождаю место на столе и ставлю коробку. Оливия приподнимается, и мы рассматриваем содержимое.
Фотографии. 70-е. Виктор с Оливией, свадьба, вот на фотографиях появляюсь я, вот наша велосипедная прогулка втроём, вот мы с Виктором в выпускных мантиях.
— А это когда? — спрашивает Марселла. — И почему у него рубашка рваная?
Фотография, которую сделал я, — Виктор сидит за печатной машинкой и с горящими глазами печатает первый рассказ.
— Вскоре после выпуска. Он ныл: «А, может быть, миру будет лучше, если я не буду писать?» Меня страшно взбесило это, и я швырнул в него пишущей машинкой. Виктор не уклонился, а поймал её. Не удержался на ногах, упал и ушибся, рубашка порвалась от падения и острых деталей машинки, но, вставая, Виктор прижимал машинку к груди, как младенца. Поставил её обратно, зарядил листок бумаги и стал яростно стучать по клавишам. А я сфотографировал его.
Вот мы распечатываем коробку авторских экземпляров первой книги. Вот вечеринка по поводу моего первого взлетевшего проекта.
— А это?
— Это я после первого крупного провала. Виктор тогда вывез меня на природу, я лежал на берегу моря и изображал выкинутую на берег морскую звезду. Я думал, он следит за костром и готовит еду, а он фотографировал меня, оказывается.
Вот мы с Марселлой в день знакомства: я сижу со смущённым, суровым и торжественным видом, готовясь спросить у неё номер телефона, она краем глаза смотрит на меня и тонко улыбается, и Виктор, сидящий напротив, это фотографирует. Оливия с лопатой и шлангом в саду недавно купленного дома. Я в новом костюме, отправляющийся на вечер в честь запуска объединённого проекта двух крупных компаний, которых я уговорил работать вместе. И так далее. Десятки фотографий памятных моментов нашей жизни, а ещё — мои открытки ему, камни, листья и цветы, шишки и другие милые ему мелочи.
— Что мне с этим делать? — спрашивает Марселла, обращаясь ко мне.
— Наверное, если можешь и хочешь, продолжай любить и собирать это — моменты, в которых мы настоящие. И, когда мы будем забывать об этом, просто напоминай, кто мы есть на самом деле.
Оливия медленно выдыхает, тянется к письму и перечитывает несколько строчек.
— Я почему-то думала, что Виктор умрёт последним из нас. Что-то в нём было такое, что я думала, что я могу умереть, будучи спокойной за него, что ему будет нелегко, но он справится. Или даже если ты умрёшь раньше, — она косится в мою сторону. — То Виктор будет срубленным посередине ствола деревом, как эти бедные городские деревья, но он постоит так зиму или две, а весной всё равно выпустит новые ветви и листья. Это ощущение, что Виктор — переживёт, что Виктор может пережить вообще всё, что угодно. А получилось наоборот.
— Может быть, поэтому он и ушёл первым, что ему не нужно учиться переживать смерть. Это мне нужно… — говорю я и морщусь, пытаясь унять подступающие слёзы. — И ведь этот чёртов гений сделал в письме самое главное: он отделил себя умирающего от меня живущего. Он напомнил мне о том во мне, что не должно умирать вместе с ним…
Горло перехватывает, я резко встаю, иду к бару и достаю бутылку сидра минувшего года. Виктор сделал, а всё никак не выпадал случай опробовать, что получилось. Пока вожусь с бутылкой, Оливия достаёт стаканы.
От этого сидра хочется смеяться и благословлять то мгновение, в котором я живу. Я ничего не могу с собой поделать. Я смеюсь и дышу блаженством жить, рыдаю, потому что в мире больше нет человека, присутствие которого составляло половину моего счастья, и опять смеюсь, потому что вот оно, его руками сделанное и его любовью закупоренное доказательство того, что счастье есть.
— За Виктора и за то в нас, что продолжает жить, — подойдя к нам, предлагает Марселла. Достаёт из кармана телефон — и вот у нас уже есть фотография. Первая фотография эры «после Виктора».
То в нас, что продолжает жить.
Спать я опять иду в кабинет Виктора.
Перед сном достаю из чемодана «Амстердам без Амстердама», включаю торшер, укрываюсь пледом и устраиваюсь поудобнее.
Посвящение: «Сердцу, что бьётся в том же ритме». И автограф Виктора под ним. Выдыхаю, переворачиваю страницу и начинаю читать.
В три часа ночи, прочитав где-то две трети, я не выдерживаю.
Откладываю книгу, пересаживаюсь за стол, включаю его ноутбук, прикидываю, где могла бы находиться папка с материалами к книге, угадываю и начинаю изучать её содержимое. Открываю закладки браузера, и вижу двенадцать подкатегорий в папке «Амстердам», и в каждой из них — десятки ссылок. Я ввожу слово «Amsterdam» в строке поиска в его электронном почтовом ящике — и почта выдаёт семь страниц писем с этой темой.
Я, конечно, знал эту эпопею. Я видел, как Виктор часами просматривает Instagram по тегам #iloveamsterdam #iamsterdam и прочим по теме, чтобы посмотреть на город глазами тех, кто хочет запечатлеть увиденное, потому что оно как-то отозвалось в их сердце. Я внимательно слушал избранные посты, которые Виктор зачитывал из группы «Humans of Amsterdam» на Facebook. Я допускаю, что Виктор изучил карту города так, что мог объяснить, как куда пройти.
Но почему-то я был уверен, что у него не получится сделать город живым. Я думал, что для этого нам придётся поехать в Амстердам весной, и только тогда книга будет закончена. Я недооценил его. Виктор побывал в Амстердаме. Без меня.
Что, собственно, и значится на обложке.
Вот ведь гад.
Но.
А если он предчувствовал, что не доживёт до этой весны? И заранее внёс посильный вклад в нашу дурацкую неосуществлённую мечту?
Вытаскиваю листок бумаги, складываю его пополам, пишу:
«Оливия, пожалуйста, любой ценой разбуди меня утром, когда сама встанешь. И давайте печь блинчики вместе».
Отношу листок в гостиную, ставлю «домиком» на видное место, возвращаюсь, накрываюсь пледом и проваливаюсь в сон.
— Я еду в Амстердам, — торжественно объявляю я в конце завтрака.
— И ради этого объявления ты всё это устроил? — Оливия обводит жестом стол, и глаза её улыбаются. Хотя бы поэтому это было не зря.
— А вы читали?
Обе кивают.
— Я опять тормоз, да?
Обе кивают. Я цокаю языком и любуюсь ими. Иногда мне кажется, что мы не заслужили таких женщин.
— А кроме этого? — спрашивает Марселла. — Чего ты хочешь кроме этого? Амстердам — это всё же про Виктора и вас с ним. Чего ты хочешь сам для себя?
Она невероятна.
Я встаю, и стул гремит по полу. «Ещё одно объявление?» — говорят их взгляды, и я смеюсь.
— Мне нужно работать.
Я знаю, что я не провёл их, но иду к лестнице, расправив плечи.
— Вот таким я тебя и люблю больше всего, — у подножия лестницы меня настигает голос Марселлы.
Я останавливаюсь и позволяю её словам проникнуть глубоко внутрь меня.
— Может быть, у нас впереди не всё, потому что, будем честны, возраст уже не тот, но впереди точно что-то есть, — отвечаю я и поднимаюсь.
В кабинете решительно отодвигаю в сторону его ноутбук, ставлю, подключаю и включаю свой. Беру листок бумаги, пишу заголовок «Идеи», подчёркиваю его и замираю с ручкой. В голове пусто.
«Вот таким я тебя и люблю больше всего».
Всё, что мне нужно, — это немного времени.
Вечером меня всё же опять накрывает.
Мой ноутбук на его столе, а его — отставлен в сторону, и он больше никогда не воспользуется им. Вместо заметок об Амстердаме или чём угодно другом, что привлекло бы его внимание и стало бы основой для нового произведения, — его ручкой, на его бумаге моим почерком сделанные заметки. От «идеи» до «идеи 7» — весь день я узнавал, что нового появилось в мире, пока я был в отрыве от цивилизации, и что нового принесли к нам в бизнес-инкубатор. Кабинет постепенно обрастает вещами, которые я вытаскиваю из чемодана, но Виктор больше никогда не войдёт в кабинет и не посмотрит на меня выразительно, чтобы я огляделся, признал наличие нетворческого беспорядка и прибрал бы свой хлам. Или хотя бы локализовал его на диване.
Наша жизнь продолжается, «I get by with a little help from my friends», а его — закончилась. В ней больше не будет никаких изменений. Сейчас я чувствую себя как никогда ближе к нему и к себе, но далее с каждым шагом я буду меняться, со мной будет что-то происходить, а я не смогу поделиться этим с ним. Я буду всё дальше от него.
Меня мутит, и я иду вниз. В гостиной застаю Оливию с серым лицом и пустым взглядом заплаканных глаз. Я, наверное, тоже выгляжу неважно, но при взгляде на неё сердце сжимается. Сажусь рядом и обнимаю.
— Слушай, давай договоримся: если будет сильно накрывать, давай идти друг к другу. Хотя бы первое время.
Она кивает.
— На самом деле, я даже не про него сейчас, а про себя. Прочитав его письмо вчера, я стала кое-что понимать про нас с ним и вас с ним, — она подбирает слова и продолжает. — Я поняла только что, что я всю жизнь, почти сорок лет совместной жизни с ним не могла принять в нём его любовь к тебе. Что все его книги посвящены тебе, и ни одной — мне. Что если бы вдруг перед ним встал выбор, кого спасать, тебя или меня, или за кого отдать жизнь, он бы не раздумывал ни мгновения.
— Да ладно, перед ним бы не встал такой выбор, — отмахиваюсь я от этой идеи.
— Вот именно… — она горько усмехается, и я наконец понимаю, что она имеет в виду. — Ты бы видел, как он начинал сиять, когда ты ехал к нам. И одновременно он в твоём присутствии всегда вёл себя естественно. Я наблюдала много раз, как он, может быть, от смущения напускал на себя какой-то вид, общаясь с разными людьми, а при тебе он полностью расслаблялся. Я осознала сейчас, что я ненавидела это в нём. И получается, что мои слова о том, что я люблю его, были ложью, потому что я не принимала и не любила его в любви к тебе, а любила свой образ того, каким он должен быть.
Признаться, я поражён. Но, похоже, это ещё не всё. Она невесело улыбается и продолжает.
— И когда я не любила его, я в то же время не принимала его любовь ко мне. Я желала какой-то особенной любви и не желала принимать ту любовь, которую он был готов мне дать и давал. А он, сейчас я уже понимаю это, дарил мне очень много человеческой любви. Пусть он любил тебя совершенно нечеловечески, в самом лучшем и полном смысле этого слова, он очень сильно по-человечески любил меня. И я, похоже, давала ему что-то, ради чего он выбирал жить со мной, а не с тобой все эти годы. У вас была какая-то другая связь… Вы каждый познавали своё в мире, а потом встречались, чтобы самым ценным поделиться друг с другом и побыть вместе. Но при этой волшебной совместности у каждого из вас была отчётливо своя жизнь. И, похоже, Виктору был нужен спутник этой жизни, пока вы были отдельно друг от друга, и этим спутником была я, а я этого никак не понимала все эти годы. Вместо того, чтобы любить его таким, какой он есть, я ненавидела то, что он любит тебя. Вместо того, чтобы принимать его любовь, я требовала от него, чтобы он любил меня определённым образом. И вместо того, чтобы узнавать и любить тебя, Амстердам… в общем, ты сам знаешь.
Я усмехаюсь и киваю.
— Но ведь, — она смотрит на меня глубокими ясными глазами. — Ещё ведь не поздно для меня начать узнавать тебя?
Внутри разворачивается что-то тёплое, и я с удовольствием отвечаю:
— Здравствуй, Оливия.
— Здравствуй, Амстердам.
Мы обнимаемся. Когда отстраняемся, она говорит:
— Представляешь, поняв это всё, я чувствую сейчас, что, несмотря на то, что мне шестьдесят, что мой муж, с которым я прожила почти сорок лет, умер неделю назад, — я могу полюбить ещё. По-настоящему полюбить человека и принять ту его любовь, которую он сможет мне дать. И это так здорово…
Она улыбается и несколько мгновений задумчиво смотрит куда-то вдаль, а потом опять поворачивается ко мне.
— Я думаю, что ты прав, Амстердам. Впереди точно что-то есть.
Боль, которая погнала меня из кабинета вниз, отступила, и мне тепло.
— Вот теперь можно, — говорит Оливия, достаёт из кармана флеш-карту и протягивает мне. Я машинально беру и поднимаю на неё вопросительный взгляд. Она делает глубокий вдох и медленно произносит. — Виктор надиктовал «Амстердам». 8 часов 52 минуты его голоса. В письме мне он попросил передать тебе эту флешку, когда мы с тобой помиримся.
Внутри всё сжимается и опять расправляется. Ещё 8 часов и 52 минуты его присутствия. У меня есть ещё немного времени побыть с ним. О боги. Если хочет, Виктор умеет быть эффектным. То есть, умел.
Глубокий вдох и выдох.
— Себе-то скопировала?
— Нет, — коротко отвечает она, смотря в сторону. Мне становится смешно.
— Дурёха. Виктор — писатель. Он умеет ставить сцены. Если бы он хотел передать что-то лично мне, он бы нашёл несколько способов сделать так, чтобы никто об этом не узнал. Если бы он оставил запись мне с просьбой передать тебе, ты бы оскорбилась, и мы бы больше никогда не разговаривали. Он мог бы оставить нам по флешке, но он слишком любил нас обоих и слишком хотел, чтобы мы увидели друг друга и стали нормально общаться. Поэтому такая просьба.
— Теперь, когда ты это сказал, звучит похоже на правду… — пробует улыбнуться она.
— Я скопирую себе и верну тебе флешку.
Она кивает. Слышу стук входной двери: похоже, пришла Марселла. Дожидаемся её появления в дверях.
— Давайте я сделаю свекольный суп на ужин? — предлагает она, проходя с пакетами. — Я всё купила.
Мир балует меня любимыми блюдами и увеличением количества любви, которую я чувствую. Мой ход.
— Марселла, я… — она останавливается на полпути. — Я помогу тебе с супом, а ещё я хочу предложить тебе участвовать в одном деле, которое провалится без твоей интуиции. За ужином расскажу.
***
«Виктор,
Ты был гениально прав, оставив письма и объяснив в них, что значит то, что ты умер. А именно, что ты — умер, но мы втроём — продолжаем жить, а также продолжает жить наша любовь к тебе и твоя любовь к нам.
Но не о твоей смерти я хотел бы говорить сейчас, когда прошло уже больше года.
Я хотел бы рассказать тебе о той жизни, которая происходит с нами. Я так скучаю по тому, чтобы развлекать тебя историями, а потом находить их в твоих книгах, слово в слово — или едва узнаваемыми. Ты бы знал, как я скучаю по живому тебе…
Оливия с осени в Амстердаме. В первое время после твоей смерти она, цитирую, «наблюдала за жизнью в себе и в мире», и делала это, ухаживая за садом. Через полгода она продала мне свою половину дома, оплатила первый уровень обучения в школе флористики и переехала в Амстердам. Недавно прислала Марселле фотографию, на которой они с каким-то пожилым господином в костюме и шляпе катаются на велосипедах. Кататься на велосипеде в костюме и шляпе! Я за них спокоен.
Марселла стала самым важным членом инвестиционного совета. Я не могу так, как она. Я могу послушать человека, почитать его тексты, послушать презентацию и оценить, насколько жизнеспособен предлагаемый им проект, взлетит-не взлетит, а если взлетит, то как долго продержится. Ты бы обращал внимание на слова и показывал, где человек отвечает за свои слова, а где — декларируя что-то одно, старается на самом деле достичь чего-то другого, пусть даже он это не осознаёт. А Марселла невероятна по-другому. Она каким-то образом чует, можно ли человеку, который представляет нам свой стартап, доверить то дело, которое он хочет на себя взять. Она смотрит на любовь, заботу и ответственность человека. Можно сказать, что это непрофессионально, потому что она оценивает личность, соответствие личности проекту, но она ещё ни разу не ошибалась. По каждому проекту, которому мы в итоге отказываем, она записывает видео для кандидата с подробной, очень бережной и сердечной обратной связью. И я думаю, что эти ребята, получившие от неё обратную связь, ещё вернутся.
Я не знал, что выбрать, поэтому последовательно вложил деньги во всё, в чём я хотел участвовать. Три технологии переработки пластиковых отходов, и эти заводы работают на солнечной энергии. Мне пришлось изрядно побегать и выйти на новый уровень в умении сподвигать людей делать большие и красивые дела, но это того стоило. Перевёл два миллиона тем ребятам, которые собираются чистить Мировой океан. Миллион — на совершенствование технологии коммуникации людей с различными формами паралича. Все доходы от «Амстердама» идут в институт, который занимается строительством светских школ в центральной Азии. Марселла тогда спросила: что бы я хотел сделать для себя? Когда хочу, могу и за год всё сделать.
Если бы ты был жив, я бы поехал к тебе, рассказал бы всё это, и внутри меня появилось бы место для новых идей. Но тебя нет.
Сегодня утром я доехал на велосипеде из Эрисейры, небольшой португальской деревушки, до мыса Рока, самого ближайшего к нам края света. Дальше — только Америка за океаном. Я стоял и орал твоё имя. Я целый год не называл тебя по имени, во мне накопилось его много и громко. Потом ради подвига я забрался в Синтру, посмотрел дворец и скатился вниз. Сейчас сижу на балконе в отеле, ноги приятно гудят, и пишу тебе это письмо.
Ты приглашал, если я захочу поговорить с тобой или уходить, приехать на край света. Я приехал, Виктор.
Твой уставший друг,
А.
P.S. Завтра вечером я гружу велосипед в самолёт и лечу в Амстердам. До встречи в Амстердаме».
«Привет всем!
Меня зовут Амстердам (хотя, если вы читаете это, то вы, скорее всего знаете, как меня зовут). Мои родители познакомились в Амстердаме и решили, что будет весьма романтично назвать ребёнка в честь города. У меня есть друг, Виктор Нортстоун, с которым мы мечтали вместе поехать в Амстердам. Мой друг умер больше года назад, но перед смертью написал для меня книгу, «Амстердам без Амстердама», и завтра я наконец-то лечу в Амстердам. Я создаю этот канал, amsterdam_with_victor, чтобы эта история, о том, как мы с Виктором ходим по Амстердаму, была рассказана. Подписывайтесь!»
Фотографирую на телефон книгу с лежащим поверх неё паспортом, прикрепляю фотографию к тексту, несколько минут делаю репосты и другие необходимые действия, пишу сообщение Марселле, ставлю телефон на авиарежим и ложусь спать.
«Ты уверен, что хочешь уходить?» — слышу я его голос и оборачиваюсь.
Виктор. За столом в кабинете, смотрит задумчиво в экран моего ноутбука, улыбается и поднимает глаза на меня. Виктор!
«Виктор».
Он улыбается ещё шире. Меня окутывает волна сияющего тепла. Наконец-то мы вместе, и всё правильно.
«Я умер?»
«Нет. Ты написал мне трогательное письмо, создал новый аккаунт в Instagram, рассказал о нём десяти тысячам своих друзей и подписчиков, позвал Марселлу в Амстердам и лёг спать. И теперь видишь меня во сне, и я спрашиваю тебя: не рано ли ты собрался уходить?»
«Я собрался уходить?»
«Ну, посмотри своё будущее».
«В смысле — посмотри своё будущее?»
Он недоумённо смотрит на меня, потом поднимает палец вверх и говорит: «А!» — достаёт из ящика стола трубку и начинает её раскуривать.
«Ладно, мы потом вдоволь посмеёмся, над тем, как я рассказывал тебе, как смотреть будущее, но пока… Представь свою жизнь как некий проект. И тем же самым движением, как ты оцениваешь, сколько продержится стартап, посмотри на свою жизнь».
«Заканчивается в Амстердаме», — понимаю я ясно и спокойно.
«Вот и я спрашиваю: не рано ли? Может быть, есть что-то, что ты ещё хочешь сделать? Ведь сейчас такое время бурного появления всего — как раз, как ты любишь…» — он пристально смотрит на меня, курит, комната постепенно наполняется дымом, я вдыхаю дым, и мне становится легче обозревать свою жизнь.
«Время хорошее, да, но у меня есть ощущение достаточности. Я много сделал за этот год, и у меня осталось всего одно по-настоящему сильное желание: Амстердам. Ходить по Амстердаму и слушать твой голос в наушниках… И пока я могу сказать это, спасибо тебе за письмо и за запись книги. Спасибо тебе, что ты сделал наше прощание долгим».
«Прощание? — с каждой минутой нашего разговора в его глазах всё больше весёлых искорок. — Друг мой, „тебе стоит только позвать меня, и я примчусь отовсюду“. Помнишь, откуда эти слова?»
«Из песни», — вдруг появляется в голове ответ.
«Верно. Помнишь, какая строчка следующая?»
И я помню, хотя понятия не имею, откуда во мне это знание.
«Глядя в твои глаза, я вспоминаю, кто я есть на самом деле».
«Помнишь, чьи это слова?»
«И твои, и мои».
«Именно», — он затягивается, его зрачки приобретают бирюзовый цвет, и, когда их сияние и дым трубки окутывают меня, я вспоминаю:
«Как я найду тебя?» — «У меня будет запоминающееся имя. Впрочем, как обычно».
Он улыбается мне и сияет, и что-то во мне, что целый год мёрзло и молчало, отогревается и возвращается к жизни.
«То есть, чтобы увидеть тебя во сне, мне нужно было приехать на мыс Рока и написать тебе письмо?»
«Ну… — его улыбка выглядит хитрой. — Вообще-то, чтобы мы поговорили, было достаточно твоего намерения это сделать. Первая строчка из песни: „Тебе стоит только позвать…“ Но я хотел показать тебе мыс… И ещё было важно, чтобы ты нашёл и исполнил свои смыслы продолжать жить после моего ухода».
«Я нашёл и исполнил их».
«Может быть, тебе будет интересно что-то из этого продолжить? А то ты обычно многое начинаешь, а подхватывают другие».
Я ещё раз оглядываю свои текущие дела.
«Не в этот раз. В этот раз достаточно».
«Тогда хорошего тебе Амстердама», — мягко улыбается он.
«Подожди! Что нужно сделать, чтобы мы могли общаться?»
«Вспомнил — да не вспомнил, — усмехается он. — Но ладно, видимо, не всё сразу. Всё, как обычно: если ты считаешь, что это невозможно, то это невозможно. Если ты помнишь, что эта связь есть, то мы можем общаться. Попробуй, когда проснёшься».
Дым заволакивает кабинет, скрывает его фигуру, и я просыпаюсь. В слезах, мокрый и горячий, как будто меня долго тёрли жёсткой мочалкой, пока я не понял, что живой.
Самое важное.
«Виктор?»
«Я здесь», — и я чувствую его улыбку. Моя жизнь заканчивается, но под конец в ней опять становится всё хорошо.
Ай да Виктор.
В книге он пригласил читателя в игру. В каждом из двенадцати рассказов он разбросал детали, из которых можно предположить, в каком именно месте Амстердама происходит действие, хотя слово «Амстердам» присутствует только на обложке, и я видел в результатах поиска по хэштегам, что читатели и любители города выкладывали коллажи фотографий упомянутых деталей, иногда даже споря друг с другом, какое место имелось в виду. Самым активным издательство дарило кодовое слово, дающее скидку на будущую покупку.
Но для нас Виктор подготовил другую версию. Прежде, чем начитывать рассказ, он называл место, откуда он приглашал нас слушать рассказ, и говорил, как туда лучше добраться. Если не на велосипедах, а на такси или общественном транспорте, то мы с Марселлой по дороге слушали историческую справку, а в конце её Виктор говорил, куда сесть, куда смотреть, на что обратить внимание. И потом начиналась история.
— Как тебе? — спрашиваю я у Марселлы, вынимая из уха маленький наушник. Мы сидим на площади Дам, на веранде модного кафе. Я бы сюда, наверное, не пошёл, да и Виктор, насколько я его знаю, тоже бы не пошёл, но, похоже, в этом и был его интерес: побыть в месте, в котором он бы при обычных обстоятельствах не очутился, и понаблюдать, как выглядит мир оттуда. Это предпоследняя история книги.
Марселла не торопясь также вынимает наушник и делает глоток уже остывшего кофе.
— По-моему, у Виктора получилась замечательная книга. В эти истории легко верить, а в этих героях легко узнать себя. Просто люди, которые встречаются с жизненными трудностями и решают их, то успешно, то не очень.
— Да! — подхватываю я. — В этой книге он как будто самоустранился как автор и создатель истории и остался просто как наблюдатель происходящей жизни.
— Как фотограф, — вставляет Марселла, и она опять проницательна и точна.
— Да. И я же видел его заметки на компьютере: он тщательно прорабатывал каждого персонажа, — но при чтении кажется, что это просто люди.
— И ещё от книги остаётся лёгкое и воодушевляющее ощущение, что каждая жизнь, какой бы она ни казалась обыкновенной, на самом деле достаточно особенная и достойна книги…
У неё вибрирует телефон, и она смотрит на экран.
— Оливия подтверждает, что они с Фредериком ждут нас к 7 на ужин. Пойдём в номер, отдохнём и приведём себя в порядок?
— Сначала селфи, — напоминаю я, пододвигаю свой стул к её стулу и достаю телефон.
Фредерик оказался преподавателем истории искусств из Франции, который переехал в Амстердам ради Ван Гога. Оливия за год выучилась разговаривать по-французски, и, накрывая на стол, они переговаривались по-французски. А мы с Марселлой переглядывались и улыбались. Я думал, что мне будет странно видеть Оливию с другим мужчиной, однако нет. К моменту, как мы разобрались с горячим, я обнаружил, что искренне рад, что её личная жизнь так быстро сложилась. Кстати.
— А как вы познакомились?
— Последний рассказ Виктора, про медленное рассматривание картин. Я долго сидела перед этими подсолнухами, несколько раз подходила ближе, рассматривала, а потом садилась на место. И вот в очередной раз, возвращаясь к скамейке, я обнаружила, что рядом сидит интеллигентного вида пожилой господин, — Фредерик, слыша эти слова, улыбается. Общий разговор мы ведём по-английски, который он понимает и на котором он изъясняется с сильным французским акцентом, но вполне сносно. — Когда я села рядом с ним, я вдруг почувствовала… волну уюта, что ли. Как будто это и есть моё место, как будто так было всегда и так должно быть. И мы познакомились.
Оливия изменилась. Постриглась и покрасилась в блондинку, встретила нас в строгом и стильном костюме с тонкой вышитой цветочной линией вдоль лацканов пиджака и манжет, в туфлях на каблуках. Я бы сказал, что она помолодела. И выглядит очень счастливой.
— Вспомнила! — она встаёт из-за стола, подходит к бару и достаёт бутылку сидра. Похоже, что того самого. — Последняя. Приберегла для Амстердама в Амстердаме. Это наконец-то свершилось
Они смотрят на меня, ожидая тост.
— Я вспоминаю твой прошлогодний тост, Марселла. Я повторю его почти в точности. За то, что делает нас живыми.
Мы чокаемся, я делаю глоток и позволяю магии этого напитка вскружить мне голову и возвеселить сердце. Будь благословенно всё.
«В такие моменты, мой друг, я готов благословить даже твою смерть».
«Скажи всем, что я очень вас люблю».
— Виктор говорит, что очень любит нас, — не задумываясь, говорю я, уставившись в стакан. Сглатываю подступивший к горлу ком и поднимаю взгляд. Фредерик, вежливо улыбается, а женщины смотрят на меня блестящими глазами.
— Я бы попросила тебя передать ему, что мы его тоже навсегда любим, но я думаю, что он знает, — улыбается Марселла.
— Марселла говорила, что вам остался последний рассказ? — спрашивает Оливия. Она смотрит мне в глаза, и взгляд её полон любви и грусти
— Да. Завтра думаем пойти к «Подсолнухам».
Она прикрывает глаза и молчит немного. Улыбается и открывает глаза.
— Тогда лучше пораньше, а то там обычно толпа. Да! — она отодвигает стул и встаёт. — У нас ещё есть яблочный пирог и мороженое. Мне кажется, что они составят отличную компанию сидру. Фредерик, давай уберём лишние тарелки и поставим десерт.
Провожая нас, Оливия долго-долго обнимает меня. Отстраняется:
— Спасибо за столько времени жизни, проведённого вместе. В добрый путь.
Я утыкаюсь лицом в её плечо и глубоко дышу. Подняв голову, замечаю два мокрых пятна на ткани пиджака.
— Будь очень-очень счастлива, — от всей души желаю я, обнимаю её напоследок, пожимаю руку Фредерику, и мы с Марселлой идём к такси.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
