
Бесплатный фрагмент - Российский институт местного самоуправления
Предыстория, история, проблемы и перспективы
Б. Хачатурян, Е. Шишкина. Российский институт местного самоуправления: предыстория, история, проблемы и перспективы: преимущественно на материалах дальневосточных субъектов РФ и Республики Саха (Якутия). Учебно-монографическое исследование. 2025 г.
Рецензенты:
М. И. Никулин, доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист РФ
М. А. Ковальчук, доктор исторических наук, доцент
Е. Н. Чадаев, кандидат исторических наук, доцент
Со второй половины XIX в. российскими научными кругами высказывается большое количество гипотез, теорий и мнений о причинах развала Российской империи в 1917 г. и Советского Союза в 1991 г., но ни в одном из них, как правило рассматривающих отдельно события начала и конца XX столетия, не выводятся общие причин этих трагедии. В данном издании делается попытка исправить этот исторический пробел и через изучение истории проникновения в российский лексикон предложенной в середине XIX в. российской либерально настроенной интеллигенцией идеологемы «самоуправление» и производного от неё словосочетания «местное самоуправление» закреплённых в конце XX в. в российское правовое пространство теперь уже либерально настроенной партийно-государственной верхушкой СССР в виде правового института, формулируется гипотеза причин их несовместимости с российским менталитетом приведших в течении одного столетия к развалу обоих российских государств.
На основе проведённого анализа в работе делаются вывод о том, что, во-первых, словосочетание «местное самоуправление» в виде системы управления на местном уровне — это масштабный социальный обман, «раковая опухоль» в теле российского государства, в течение десятилетий разъедающая его изнутри, что в связи с этим требует немедленного её удаления из российского правового пространства. Во-вторых, высказывается ещё одна точка зрения на причины, приведшие к развалу Российской империи и СССР, а именно появление в российском лексиконе в течении десятилетий никем не понятной, но агрессивно пропагандируемой идеологемы «самоуправление» главная задача, которой под разговоры о демократии и гражданских свободах, возбуждение у населения сепаратизм. В-третьих, формулируются соответствующие выводам предложения.
Книга рассчитана на научных работников, специалистов в области государственного и регионального строительства, депутатов представительных органов, должностных лиц и работников органов государственной власти и местного самоуправления, преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов всех, кто интересуется вопросами государственного и муниципального строительства.
Таблиц — 13, схем — 2
ОГЛАВЛЕНИЕ
«Не существует на Западе ни одного интереса, ни одного стремления, которые бы не злоумышляли против России, в особенности против её будущности, и которые бы не старались повредить ей».
Ф. И. Тютчев. Неопубликованное письмо дочери Анне. 26.06.1864 г.
Введение
Актуальность исследования объясняется тем, что среди сложного комплекса факторов, обусловивших специфику хозяйственного освоения россиянами территорий вошедших в середине XIX столетия в состав Российской империи и включённых в 2000 г. в состав Дальневосточного федерального округа, наименее изученным остаётся история реформирования института местного управления в России с середины XIX в. с появления журнально-публицистических размышлений о самоуправлении и производного от него словосочетания местное самоуправление в российском лексиконе до закрепления в постсоветском правовом пространстве института местного самоуправления (далее — МСУ).
Разобраться в истинном положении дел позволяет ретроспективный анализ истории формирования российского института местного управления рассматривающий в связке и опыт дореволюционного земства и опыт советского местного управления и постсоветский институт МСУ. При этом ставя такую задачу, авторы исходят из того, что «наука требует преемственности, и не только чаяния перспективы, но и знания ретроспективы» тех или иных общественных отношений. Исходя из такого понимания предыстории российского местного управления и истории института МСУ авторы (Б.Х. и Е.Ш.) предлагают своё видение, истории, причин и итогов появления в российском лексиконе в середине XIX в. идеологемы «самоуправление» и производного от неё словосочетания «местное самоуправление», формирования в конце XX — начале XXI вв. в России нового правового института — института местного самоуправления и делают свои выводы и предложения.
Необходимость исследования предыстории российского института местного управления и формирования в конце 1980 — начале 1990 гг. в СССР института МСУ объясняется также и тем, что в конце XX столетия в России в результате проводимых реформ вновь произошла коренная ломка основ всей жизни её граждан. Прежде всего, преобразования изменили государственность страны и её составляющих — союзных республик, в том числе и РСФСР, и их экономический уклад.
Создание общества с частной собственностью на средства производства и рыночной экономикой поставило на повестку дня вопрос о роли и месте местного управления в системе органов публичной власти. В свою очередь, степень и характер институализации общественных отношений, в том числе возникающих в нём институтов и лёгкость их образования, свидетельствуют об уровне развития и типе общества, его политической системе и ассоциативной жизни, свободе образования политических и иных группировок. В связи с этим, одна из задач позднесоветской административной реформы — реформирование местных органов государственной власти и управления в РСФСР на новых принципах и основах, а задача научных кругов, изучив эти преобразования дать им оценку и показать перспективы.
Ретроспективный взгляд на историю реформирования государственного управления показывает, что на протяжении нескольких десятилетий российская либеральная элита пытается внедрить в России различные западные системы власти и управления, как правило направленные на децентрализацию российского единого государственного управления, как на уровне федерации и субъектов Российской Федерации, так и ниже, на уровне — район, город, село.
В результате были созданы новые системы власти и управления: федеральный уровень государственной власти, государственный уровень власти субъектов Федерации (по примеру США), для формирования местного уровня управления были вытащены из небытия смутные либеральные церковно-философские рассуждения XIX в. о местном самоуправлении оформленные в конце XX в. в правовой институт — институт местного самоуправления, зачастую обрастающий различными мифологемами к тому же на протяжении длительного времени не имеющей единого общепринятого понятия, а потому требующей всестороннего изучения обществоведами, в том числе историками. В тоже время, как показывает история, развитие любого государства во многом зависит от состояния местного управления, его правового, экономического и идеологического обеспечения. Особенно наглядно эту зависимость проявили события после 24.02.2022 г., анализируя которые российские граждане, в большинстве своём, соглашаются с тем, что они (события) в очередной раз поставили на грань существования Российское государство.
Прошедшие после принятия Конституции РФ годы показывают, что процесс поиска оптимальных форм и методов управления как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях продолжается и в третьем десятилетии XXI в., приходит осознание, что управлять по одним и тем же лекалам в европейской части России, в Зауралье, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке невозможно поэтому вопросы, связанные с реформированием управления этих уровней, весьма актуальны в условиях современной России. При этом, ключевым словом в сегодняшней политической риторике является слово — суверенитет и не только в экономике, но и в политической жизни, в том числе и в государственном строительстве и в системе управления на местах. Причём как выразился 19.12.2024 г. подводя итоги года В. В. Путин «Мы становимся по настоящему суверенной страной», тем самым подтвердив, что на пути суверенизации у нас ещё много препятствий которые тормозят укрепление нашего суверенитета. Но вот что интересно, в связи с суверенизацией России на современном этапе госстроительства, всё чаще и чаще Путин говорит, что нам от наших предков досталось государство с прочным фундаментом и мы его должны только укреплять, а не расшатывать. Но в том фундаменте не было никакого самоуправления, его привнесли в наш язык, как покажет далее наше исследование, либералы, вдохновлённые фейками о его роли в зарубежных обществах и сейчас всеми силами, пытающиеся впихнуть его в этот фундамент вытесняя из него всё национальное.
Кроме того, появление в российском правовом пространстве в конце XX в. института МСУ регламентирующего постсоветское российское местное управление ставит перед исторической наукой вопрос об истории появления понятия «самоуправление» и производного от него словосочетания «местное самоуправление», его целях, природе, сущности, признаках и перспективах формирования как нового института публичной власти, практика строительства которого требует раскрытии его отличительных признаков, особенностей деятельности, по сравнению с земством пореформенной России, системой местных советских органов управления и причин замены последних местным самоуправлением.
Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что реформирование институциональной структуры, трансформация форм и методов управления, динамика общественных отношений обусловливают потребность в уточнении понятия «местное самоуправление» как одной из составляющей системы российской публичной власти, в знании её властных полномочий и принципов функционирования на муниципальном уровне и необходимости его (самоуправления) наличия в правовом поле России. На наш взгляд, развитие международных событий вокруг РФ после 24.02.2022 г. показывают, что история на постсоветском пространстве никогда не была так актуальна, в том числе и история строительства государственного и местного управления, как сейчас. В итоге, необходим ответ на ряд важных вопросов, которые сформулированы в целях и задачах данного исследования.
Проблемы определения места и роли местного управления в общественной и политической жизни, а также обнаружение рациональных форм согласования направлений и методов деятельности государственного и муниципального уровней, адекватных происходящим преобразованиям в институциональной сфере, требуют объединения усилий учёных, прежде всего, историков, юристов и политологов.
Особенно всё выше сказанное злободневно для Дальнего Востока России и Сибири с их огромными малозаселёнными территориями, создающими затруднения в решении местных вопросов. К тому же сами дальневосточные и сибирские субъекты РФ имеют существенные различия не только в природно-климатических, но и в экономических, этнодемографических и прочих условиях. Нельзя не учитывать также приграничное расположение всех дальневосточных российских субъектов, которое требует особого и осторожного подхода к внедрению общероссийских методов и форм организации местного управления. Российскому политикуму в связи с этим необходимо помнить судьбу всех приграничных союзных республик СССР, в одночасье пожелавших расстаться с этим государством.
Актуальность данного исследования объясняется также тем, что оно способствует более полному изучению российского института местного управления и постсоветского института МСУ, помогает воссоздать объективную картину их развития как в целом по России, так и в отдельных административно-территориальных образованиях — субъектах Федерации, включённых в 2000 г. в состав Дальневосточного федерального округа.
По нашему мнению, организация МСУ в каждом исторически сформировавшемся регионе, в том числе и в субъектах РФ, включённых в состав ДФО, должна осуществляться с учётом их географических, демографических, исторических особенностей и традиций.
Сегодня имеется достаточное количество нового материала, позволяющего исследователю рассматривать с различных точек зрения устоявшуюся историю строительства местного управления как в России в целом, так и на различных её административных территориях, но в большинстве случаев этот процесс рассматривается на его отдельных этапах: пореформенного — с принятием положений о губернских и уездных земских учреждениях и городового (1864, 1870 гг.), периода «революционной демократии» (февраль — октябрь 1917 г.), советского периода государственного строительства (1917—1991 гг.), постсоветского периода МСУ (1992 г. — настоящее время). Комплексных работ, обобщающих процесс строительства института местного управления с момента появления в российском лексиконе понятия «самоуправление» и словосочетания «местное самоуправление» и формирования института МСУ в России, нет. История же показывает, что легко запутаться в фактах, когда видишь лишь часть общей картины, что и происходит с постсоветскими исследователями, изучающими институт постсоветского МСУ в его разных ипостасях, а не целиком: от появления слова «самоуправления» в российском лексиконе до создания постсоветского института МСУ.
Вследствие этого, в практическом смысле наиболее актуальным видится анализ целей, характера и последствий земской и городской реформ, земского управления, советской системы местного государственного управления и постсоветских институтов регионального и местного самоуправления на российских дальневосточных территориях. Этот анализ может способствовать разработке такой дискуссионной проблемы, как история власти и административных реформ на Дальнем Востоке России на протяжении последних полутора веков. Обращаясь к истории российских дальневосточных территорий, мы можем проследить основные этапы становления и развития здесь управления для учёта и дальнейшего использования исторического опыта при определении и уточнении целей и задач, которые должны быть решены государством и обществом.
Исходя из всего вышесказанного, по нашему мнению, реконструкция дореволюционной российской модели местного управления, советской системы местного государственного управления, в том числе и местного уровня, и изучение постсоветской системы местного самоуправления под новым углом зрения представляют не только научный, но и практический интерес, тем боле, что в современном мире, под воздействием идеологических предпочтений нередко возникают различного рода фальсификации.
Поэтому сегодня, когда в стране идёт очередная реформа местного управления, предложенная проектом Федерального закона №40361—8, в пояснительной записке к которому авторы, обосновывая его необходимость, объясняли, что он принимается «В целях обеспечения стабильности системы публичной власти» тем самым признавая, что созданная ранее (пятью предыдущими законами СССР, РСФСР и РФ о местном самоуправлении) система публичной власти в РФ была нестабильной, отечественный опыт формирования местного управления России, накопленный за последние 150 лет, востребован и должен быть изучен и проанализирован.
Именно на это и нацеливает обращение Президента РФ В. В. Путина к российским законодателям, высказанное им ещё в апреле 2002 г. в ежегодном Послании российскому парламенту и сформулированное как необходимость уточнения самого понятия и перечня вопросов местного значения, структуры местного самоуправления, его доходной базы. При этом, по словам президента: «Нелишне вспомнить и наш собственный, ещё дореволюционный исторический опыт», добавим сюда и советский опыт.
На этом фоне совершенно справедливо смотрится решение российских законодателей о денонсации договоров заключённых Россией с Советом Европы (далее — СЕ) в разные годы, в том числе и Европейской хартии местного самоуправления (далее — Европейская хартия, Хартия и производные от них), так как по мнению большого числа постсоветских исследователей её назначение как записано в самой хартии состоит в:
— «достижение большего единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием». То есть лишение суверенности отдельных государств в определении, принципов, способов и методов в организации управления на территории государств, вступивших в СЕ, что позволяет говорить о том, что страны, подписавшие Хартию, после её подписания становятся далеко не суверенными государствами, строящими не суверенное государственное управление, в том числе и на местном уровне;
— строительство самоуправления на принципах «демократии и децентрализации власти». То есть разрушение национальных систем управления руками самих жителей этих стран так как либерализм не подразумевает национальных интересов и усиление роли центра управления;
— обзывании государств, желающих присоединиться к СЕ, к закреплению в национальном законодательстве и применению на практике совокупность юридических норм, установленной ею. То есть политико-юридического давления со стороны либерального Запада на суверенные страны.
Именно с этой целью, на наш взгляд, и разрабатывалась Хартия. А потому, мало заявить о денонсации того или иного договора, необходимо проанализировать итоги внедрения принципов этого документа в практику, чему и посвящена данная работа.
Таким образом, актуальность предпринятого исследования определяется научно-теоретическим и практическим значением, на первый взгляд устоявшейся темы, но большое количество новых источников поваляет рассмотреть её с новых позиций и сделать новые выводы и предложения.
Территориальные рамки исследования включают границы Дальневосточного федерального округа по состоянию на 13.05.2000 г., который, не являясь административно-территориальной единицей, объединяет несколько субъектов РФ, имеющих территориальную близость друг к другу, общую историю освоения, общность национально-культурных традиций, схожий социально-экономический уклад.
Установление таких территориальных рамок исследования объясняется историей освоения российских дальневосточных территорий и тенденциями их социально-экономического развития.
История показывает, что, начиная c XVII столетия русские служилые люди в погоне за драгоценной пушниной и другой «государевой выгодой» осваивали сибирские и дальневосточные земли через Мангазею и Енисейск, и присоединённые земли входили в состав сибирских административно-территориальных единиц. Несмотря на многолетнее вхождение территории Якутской области в состав Иркутского, Сибирского, Восточно-Сибирского (так термин писался в то время) и вновь Иркутского генерал-губернаторства, именно в XX в. данные территории всё больше и больше экономически стали связываться с дальневосточными землями. В середине 1960 гг. Якутия вошла в состав Дальневосточного экономического района, в начале 1990 гг. стала членом Межрегиональной ассоциации по экономическому сотрудничеству Дальнего Востока и Забайкалья (создана по инициативе администрации Хабаровского края), затем — Ассоциации законодательных (представительных) органов Дальнего Востока и Забайкалья (создана по инициативе депутатов Хабаровской краевой Думы первого созыва) и, наконец, в 2000 г. Указом Президента Российской Федерации была включена в состав ДФО.
В 1970—1980 гг. Дальний Восток России был быстро развивающимся районом, но в конце XX — начале XXI вв. стал депрессивным. В 1991 г. впервые на российских дальневосточных территориях было зарегистрировано снижение общей численности населения, которое продолжается до настоящего времени. Депрессивность сказалась и на муниципальных образованиях (далее — МО), общее количество которых с 2006 г. (1418 МО) к 2012 г. сократилось до 1378. В 2023 г. по данным Росстата их уже было 1069, что очень красноречиво говорит о неэффективности формируемого в РФ института МСУ и апатии населения к их (МО), существованию на тех или иных территориях, а в общем то и к самому институту МСУ.
Хронологические рамки исследования охватывают три временных периода: со второй половины XIX в. до третьего десятилетия XXI в.: период пореформенного государственного строительства, советский период государственного строительства и современный — постсоветский период формирования института местного самоуправления.
Нижняя граница исследования (1864—1870 гг.) определяется, во-первых, началом реформы российского местного управления, предложенного российским правительством в лице Министерства внутренних дел и почти одновременным появлением первоначально в российской журнально-публицистической прозе и делопроизводственном лексиконе слова «самоуправление» и производное от него словосочетания «местное самоуправление» как перевод английских терминов self-government и local self-government; во-вторых, присоединением к России в середине XIX в. обширных дальневосточных территорий населённых народами имеющими свои системы управления.
Верхний рубеж исследования (2023 г.) связывается с принятием 28.02.2023 г. Федерального закона о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы, в том числе, как устанавливает Федеральный закон и Европейской хартии. Авторы надеются, что это будет началом конца самоуправленческого этапа в истории местного управления в России. На наш взгляд обозначенный период позволит комплексно осмыслить суть, значение и влияние импортных терминов self-government и local self-government переводимых как «самоуправление» и «местное самоуправление», внесённых в российский научный лексикон в середине XIX в. и оказавших, по-нашему мнению, отрицательное влияние на государственное строительство в Российской империи, СССР и Российской Федерации и сделать новые выводы и предложения.
Объектом исследования является российский институт местного управления.
Предметом исследования являются исторические формы и содержание процесса становления местного управления на Дальнем Востоке России со второй половины XIX по второе десятилетие XXI вв. Это предопределило выбор цели, задач и структуру работы, позволило сформировать гипотезу исследования о враждебности института местного самоуправления для России и российских граждан.
Степень научной разработанности проблемы.
Длительный исторический период исследования процесса формирования института местного управления на российских дальневосточных территориях заявленный в названии исследования потребовал специального анализа историографии и источниковой базы вопроса. Было изучено более 800 источников, а итоги отражены в научных статьях, отдельных изданиях, вышедших в 2000—2020 гг. и в монографическом учебном пособии подготовленном Б. Хачатуряном, Б. Шишкиным и Е. Шишкиной в 2022 г. В связи с этим в данном разделе авторы ограничились упоминанием некоторых выводов из указных выше произведений. Что касается источников, появившихся после указанных выше изданий, то их анализ будет проведён ниже в специальной главе данного исследования.
Проведённый авторами анализ источников рассматривающих процесс становления и развития российского института местного управления на российских дальневосточных территориях позволил провести периодизацию процесса формирования органов управления на этих территориях, которая шла в русле общероссийской историографии и имеет три периода: досоветский, советский и постсоветский, подробно этот вопрос будет рассмотрен в главе I. Причём, каждый из этих периодов имеет как общероссийские черты, так и особенности, характерные для данных территорий:
во-первых, досоветский период (1864—1917 гг.) развития местного управления на российских дальневосточных территориях имеет значительные отличия от становления местного управления в её центральных районах, заключающиеся в том, что здесь малая плотность населения, очаговое его расселение способствовали формированию городского управления как чисто государственного (властного) института; кроме того население дальневосточных территорий было более политически инертно, а коренное население имело свои системы решения местных проблем. Отношение к полемике, о самоуправлении активно проходившей в европейской части России, на её дальневосточных территориях было достаточно холодным.
Кроме того, научая литература этого периода на Дальнем Востоке России не отличается изобилием и в большинстве своём носит не столько научный, сколько публицистический характер. Тем не менее, рассматривая систему местного управления на этих территориях, дореволюционные исследователи (в отличие от большинства постсоветских) одновременно обращали своё внимание на регламентацию ответственности органов и должностных лиц местного управления и низовую юстицию, в том числе и национальную, как составляющие местное управление.
Главный вывод этого периода касаемый всей империи, заключается в том, что, во-первых, царское и Временное правительства сделав ставку на создание единой системы государственной власти и управления не пустили либеральное местное самоуправление с его принципами и прежде всего децентрализацией в российское правовое пространство. Несмотря на это многие исследователи в последующем называли системы местного управления, установленные князьями, царями, императорами и Временным правительством — местным самоуправлением; во-вторых, учёным удалось создать целостную картину местного управления как в целом по России, так и на её восточных территориях, включающих Якутию и дальневосточные губернии и области. Сегодня это наиболее изученный историками этап строительства местного управления; в-третьих, дальневосточными и сибирскими учёными XIX — начала XX столетий при характеристике основ местного управления во внимание брались не только земские и городские органы управления, но и национальное управление, корпоративное общественное управление как составляющие российского института местного управления;
во-вторых, историография советского периода (1917—1991 гг.) показывает, что исследования советскими научными кругами земства и западных либеральных церковно-философских размышлений обозначенных в России как «самоуправление» и производного от него словосочетания «местное самоуправление» позволяет сделать вывод о том, что придя к власти в 1917 г. большевики первоначально попытались использовать либеральные самоуправленческие принципы, предложенные либеральной оппозицией, но в ходе их применения быстро поняв их направленность на разрушение существующих систем управления, от них отказались и перешли к формированию собственной системы — системы Советов хорошо себя зарекомендовавшей в ходе революционных событий в 1905—1907 гг., соединив её в последующем с коммунистической идеологией.
Что касается историографии строительства советских органов местного управления на дальневосточных территориях, то она, как и сам институт советского местного управления, так же имеет свою специфику. Это связано, прежде всего, с тем, что организация здесь Советской власти началась значительно позже нежели в европейской части России, так как, во-первых, прерывалась Гражданской войной, во-вторых, созданием на Дальнем Востоке буферного государства — Дальневосточной республики (ДВР), в-третьих, присоединением, по итогам войны с Японией (1945 г.), новых территорий (Южный Сахалин и Курильские острова) на которых необходимо был внедрять советскую систему управления установленную к тому времени на всей территории СССР.
В довоенное время литература, посвящённая местному самоуправлению, в СССР практически исчезает. Либеральные деятели, занимавшиеся этой проблемой, или переключаются на другие виды деятельности или арестовываются.
В послевоенное время партийные (КПСС) функционеры начинают использовать понятие «самоуправление» вкупе с термином демократия первоначально в партийных документах, а затем в 1990 г. запускают в правовое пространство СССР. На этом фоне в научных кругах происходит всплеск интереса к досоветскому литературно-публицистическому самоуправлению. Авторы статей, монографий, которые ещё вчера взахлёб расхваливали советскую систему управления, теперь уничижительно высказываясь о ней, пытаются преподнести дореволюционные рассуждения о МСУ как самую демократическую возможную систему, о которой российский народ мечтал веками.
Работа неолибералов и перерожденцев в рядах КПСС в конце 1980 гг. по разложению советской системы управления принесла свои плоды: после принятия закона о местном самоуправлении в СССР и союзных республиках советская система путём децентрализации управления прекратила своё существование, что привело в конечном итоге к исчезновению СССР как государства и появлению на его просторах 15 самостоятельных государственных образований с разной степенью суверенности;
в-третьих, постсоветский период (1991 г. — настоящее время) характеризуется «научным» обоснованием и на этой основе формированием правовой базы института МСУ предложенного неолибералами и неокоммунистами. При этом, несмотря на то, что «научные» изыскания в области МСУ расцвели пышным цветом, российские исследователи совместно с законодателями в течение нескольких десятилетий погружены в бесплодные попытки дать ему определение. В результате граждане России более 30 лет живут в неведении того, что же такое МСУ, на чём оно зиждется, а система управления тем временем разваливается. Проведённый авторами анализ позволяет к существующим на сегодняшний день характеристикам предпосылок, периодов и этапов становления и развития местного управления как в целом в России, так и на российских дальневосточных территориях, добавить положение о том, что строительство института МСУ в постсоветской России идёт с большим напряжением, оно оказалось малоэффективным, не встречает поддержки населения, которое относится к процессу его формирования равнодушно, оставаясь пассивным наблюдателем за действиями властей. Кроме этого очень тихо звучат голоса о тем, что созданная в 1990 гг. либералами система управления закреплённая в Конституции РФ оказалась мало эффективной, не способствующей суверенизации страны, а наоборот ставит на грань разрушения страну, но об этом научные круги предпочитают молчать. Именно об этом и говорил В. В. Путин на 19.12.2024 г. на подведении итогов года.
В целом источниковая база, находящаяся в распоряжении авторов достаточно обширна и позволяет к выводам, сделанным в 2013 г. сделать новые выводы и предложения. В частности, сформулировать гипотезу о несовместимости с российским менталитетом либерального института местного самоуправления.
Как показывает анализ источников представленная тема исследования ранее практически на серьёзном или монографическом уровне не изучалась и может быть интересна исследователям российского местного самоуправления.
Целью исследования является комплексное исследование эволюции института российского местного управления в систему постсоветского местного самоуправления и механизма закрепления этой системы в правовом пространстве РФ, выяснение его (МСУ) роли и места в развитии российской государственности, формулировании этапов его становления, дачи ему оценки на всех этапах.
Исходя из цели, авторами определены следующие исследовательские задачи:
— провести историко-правовой анализ предыстории и причин (целей) появления земской системы управления в пореформенной России, её сути и задач. Выяснить, кто инициировал этот процесс, и какие политические силы стояли за ним;
— на основе комплексного анализа системы законодательства Российской империи, СССР и Российской Федерации проанализировать предысторию и причины (цели) появления в русском языке рассуждений о самоуправлении и производном от него словосочетании «местное самоуправление», природу и культурные коды, позволяющие их использование в анализируемых источниках и литературе в рассматриваемые исторические периоды, их соотношение с земской системой, выявить инициаторов подобных рассуждений в России. То есть данная работа — это попытка обратиться к истокам российского местного самоуправления;
— выяснить почему продискутировав десятилетия на тему self-government и производную от неё local self-government англичане не включили эти словосочетания в свои нормативные правовые акты (далее — НПА), а использовали для обозначения национальных систем местного управления другие термины;
— сделать заключение о выводах современных российских либералов, о значимости взятых из-за рубежа размышления self-government и local self-government переведённых в России как «самоуправление» и «местное самоуправление» и оформленных в российском постсоветском правовом пространстве в виде конституционного института «местное самоуправление», в решения вопросов местной жизни и направленности на разрушение предыдущих российских систем управления (земство и Советы);
— осветить роль и место советской системы местного государственного управления в РСФСР и СССР в процессе государственного строительства;
— найти ответ на вопрос — почему многолетние рассуждения европейцев о self-government и local self-government как «самоуправление» и «местное самоуправление», подхваченные российскими либералами в середине XIX в. нашли своё отражение и закрепление в Конституции СССР только в 1991 году;
— установить механизм и итоги внедрения системы МСУ в практику государственного и муниципального строительства в постсоветское время, его соотношение с системой местного управления в западных странах;
— на основе объективного анализа вскрыть исторические корни российского муниципализма как в России в целом, так и в отдельных субъектах РФ, выявить его цель, движущие силы и социальные группы населения, заинтересованные в реформировании местного управления в России;
— рассмотреть особенности и проблемы формирования: а) системы местного управления, возникавшие в ходе освоения и заселения российских дальневосточных территорий в дореволюционный период (вторая половина XIX — начало XX вв.); в период «революционной демократии» и Гражданской войны (февраль 1917 — октябрь 1922 гг.); б) института местного самоуправления в последнее десятилетие XX — первые годы XXI столетий. Сравнить модели местного управления в указанные периоды с учётом особенностей социально-политической ситуации в стране;
— изучить процессы формирования территориальных, организационных и финансово-экономических основ советского местного управления в российских дальневосточных территориях, выделить и обосновать основные этапы, принципы, тенденции и особенности эволюции местного управления в рассматриваемый период, выяснить его соотношение с постсоветским местным самоуправлением;
— проанализировать механизм имплементации системы МСУ на российском постсоветском пространстве. Причины принятия Европейской хартии, причины и итоги её денонсации;
— определить эффективность деятельности органов местного управления и самоуправления в различные периоды государственного и муниципального строительства на основе анализа участия местных органов в строительстве жилья и развитии сельского хозяйства на российских дальневосточных территориях. Авторы считают, что стройиндустрия и сельское хозяйство не только стимулируют развитие других отраслей, но и являются драйверами экономического роста при нормальной системы управления;
— сформулировать с учётом исторических особенностей развития местного управления на Дальнем Востоке России некоторые концептуальные подходы к проблемам местного управления, к пониманию его природы и перспектив развития в условиях новой российской государственности;
— на основе изучения архивных материалов опровергнуть высказывания отдельных исследователей о повсеместном игнорирование органами МСУ разработки и принятия уставов (положений) о местном самоуправлении на подведомственной территории после принятия Закона РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» 1991 г.;
— перевести рассматриваемую проблему в плоскость публичного обсуждения и принятия конкретных мер и сформулировать выводы и предложения по совершенствованию правового регулирования российского местного управления.
Цель и задачи исследования, а также анализ постсоветского российского МСУ позволили авторам сформулировать гипотезу исследования, заключающуюся в неприемлемости для России европейских церковно-философских рассуждений на тему self-government и производного от них local self-government некорректно переведённых на русский язык как «самоуправление» и «местное самоуправление» чуждых российскому менталитету и не воспринимаемых российским населением на протяжении более 150 лет. Более того рассматриваемые им (населением), во-первых, как пустые разглагольствования спровоцировавшие в начале XX в. развал Российской империи, во-вторых, как систему являющуюся одной из причин развала советского государства в конце XX в. и грозящую развалом теперь уже Российской Федерации, находящейся под мощнейшим давлением объединённого Запада который более ста лет всякими путями, пытается навязать нам (императорской России, СССР) своё видение системы управления, в том числе и местного (направленного на их разрушение) и наконец в конце XX в. ей это удалось с помощью верхушки либерального руководства КПСС.
Методологическая основа исследования.
В методологическую основу исследования входит комплекс научных методов познания, включающий в себя как специальные методы познания (проблемно-хронологический, системный, компаративный, формально-юридический, институционный, информационный), так и общенаучные (анализ синтез, дедукция, индукция) и др.
Научная новизна исследования заключается в том, что работа, являясь первым комплексным исследованием процесса формирования МСУ на российских дальневосточных территориях, создаёт в исторической последовательности модели местного управления одной из обширных российских территорий в период формирования его главных компонентов.
В работе предпринято комплексное исследование основных причин ухода с исторической сцены самобытных органов местного управления у народов, населяющих дальневосточные территории, городского общественного управления, местных Советов, появления в российском научном лексиконе понятия самоуправления и закрепления в российском правовом пространстве института местного самоуправления.
На основе широкого круга источников, часть из которых впервые вводится в научный оборот, раскрыты основные принципы, тенденции и особенности становления городских органов общественного управления на российских дальневосточных территориях и история появления в дореволюционной российской научной литературе словосочетания «местное самоуправление».
Впервые обобщён уникальный опыт создания органов местного управления на российских дальневосточных территориях в широких хронологических рамках, рассмотрены территориальные, финансово-экономические и правовые основы организации местного управления и их особенности применительно к сибирским и дальневосточным российским территориям. Сформулированы теоретические и практические выводы, даны конкретные рекомендации практикам, занимающимся вопросами местного управления в России в XXI в.
Проведённый анализ исследовательской литературы позволил выделить исторические этапы становления представлений о местном управлении на Дальнем Востоке России и рассмотреть историографию каждого из этих этапов. Изучение научных работ, посвящённых российскому муниципализму, дало возможность выявить основные исследовательские подходы к рассмотренному комплексу проблем, связанных с описанием, анализом и осмыслением проявления такого важного социально-политического феномена, как местное управление.
Изученный опыт функционирования местных органов управления, на территориях, включённых в состав Дальневосточного федерального округа, позволил прийти к выводу о том, что местное управление в России имеет глубокие многовековые корни и исторические традиции, а социальным слоем, заинтересованным в становлении и развитии данного института, является социальный слой «среднего собственника».
Впервые обоснованы и выделены наиболее важные в методологическом и теоретическом плане исторические вопросы сущности и содержания проводимых в субъектах РФ муниципальных реформ в конце XX — начале XXI вв. Дана характеристика систем управления на Дальнем Востоке России в разные периоды формирования местных органов власти и управления, что позволило выполнить периодизацию данного исторического процесса.
В результате сравнительно-исторического исследования выявлены особенности процессов формирования и эволюции систем местного управления в российских дальневосточных субъектах. Полученные данные могут быть использованы при строительстве постсоветского местного управления как на Дальнем Востоке, так и в целом в Российской Федерации.
В работе на примере отдельных дальневосточных муниципалитетов впервые подробно рассмотрена история разработки и принятия уставов муниципальных образований с момента их появления в 1991 г. и до третьего десятилетия XXI столетия. Сделана периодизация истории их разработки и принятия. На основе анализа содержания уставов делается вывод о том, что они занимают особое место среди муниципальных нормативных правовых актов и их необходимо рассматривать как совершенно новый для России муниципальный документ.
Материалы исследования имеют как теоретическое, так и практическое значение. Проведённое исследование всех основных периодов становления института местного управления на территориях, включённых в состав ДФО, поможет преодолеть сложившуюся в общественном сознании тенденцию представлять историю российского самоуправления как новую и прогрессивную форму решения вопросов местной жизни в России.
История местного управления на Дальнем Востоке России представлена в контексте мировой политической истории, выявлены тенденции исторического процесса в данных хронологических и территориальных рамках, позволяющие показать историческую принадлежность этих территорий России.
Анализа впервые вводимых в исторический исследовательский оборот малоизвестных документальных материалов позволил на основе научной импровизации определить варианты поведения земских, городских общественных и советских органов управления в процессе их ликвидации, уточнить причины данной политики со стороны центральной власти.
Теоретические выводы исследования и практические рекомендации могут быть использованы при совершенствовании нормотворческой деятельности как органов власти Российской Федерации и её субъектов, так и органов современного МСУ. Учёт высказанных авторами предложений может способствовать повышению качества нормативных правовых актов, издаваемых как органами государственной власти, так и муниципальными.
Вычленение оптимальных моделей взаимоотношений центра, субъектов Федерации и муниципалитетов (а также дестабилизирующих факторов в формировании местного управления) будет полезно учёным и практикам, занимающимся муниципальными проблемами, при разработке курса лекций и в преподавании истории, конституционного и муниципального права, для подготовки учебно-методических пособий по этим предметам с учётом компонента конкретных субъектов РФ, при принятии решений государственными и муниципальными служащими.
В работе использован широкий круг неопубликованных источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот и будут интересны широкому кругу читателей, а также могут быть использованы в преподавательской работе и составлении спецкурсов для студентов, обучающихся на исторических и юридических факультетах. Основные положения работы могут оказаться востребованными при создании обобщающих трудов, касающихся истории субъектов РФ, включённых в состав ДФО.
В условиях, которые переживает российская государственность после 24.02.2020 г., представленный в работе анализ строительства постсоветского МСУ приобретает актуальное значение, и может быть использован при формировании нового российского института МСУ как одного из институтов гражданского общества в современной России.
Фактический материал монографии, выводы и рекомендации, содержащиеся в ней, позволяют скорректировать муниципальную политику как в ДФО, так и в целом в России с учётом не только сложившейся на сегодняшний день конъюнктуры, но и исходя из имеющегося исторического опыта.
Материалы монографии используются в вузах России в качестве учебных пособий для студентов исторических и юридических факультетов, а с 1998 г. автор читает по разработанной им программе «История Дальнего Востока» специальный курс лекций на экономических факультетах вузов Хабаровского края, на семинарах и курсах повышения квалификации государственных и муниципальных служащих российского Дальнего Востока, преподавателей истории средних школ и техникумов.
Материалы исследования и содержащиеся в работе выводы и рекомендации могут послужить основой для последующих научных исследований в данной области и помогут формированию правосознания у населения не только Дальневосточного федерального округа, но и России.
Достоверность и обоснованность выводов исследования обеспечена комплексным исследованием обширного спектра привлечённых источников, на основе которых формировался институт управления на различных этапах его строительства, которые тщательным образом освещены, а также многочисленными экспертными оценками, связанными с предметом нашего исследования.
Главным критерием достоверности выводов по исследуемой теме является практическая деятельность местных органов власти и управления и её итоги, отображённые в примерах, приведённых в работе, позволившие сделать соответствующие выводы и предложения.
Апробация работы. Результаты и концептуальные подходы исследования были изложены и обсуждены на парламентских слушаниях, более чем в 40 международных, всероссийских, региональных, республиканских и межвузовских конференциях, симпозиумах и конгрессах, семинарах и «круглых столах» в городах: Москва, Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан, Воронеж, Владивосток, Иркутск, Пенза, Анапа, Улан-Уде.
По теме исследования опубликованы: 6 монографий общим объёмом 103,13 усл. печ. л.; научное и практическое пособие (курс лекций) объёмом 14,1 усл. печ. л.; 38 научных статей общим объёмом более 50 усл. печ. л. из них 17 статей объёмом более 10,13 усл. печ. л. в журналах, внесённых в перечень ВАК и 25 в иных изданиях.
Опыт работы одного из авторов (Б. Г. Хачатуряна) депутатом Хабаровской краевой Думы, начальником отдела Главного управления Минюста РФ по ДФО по экспертизе и регистрации региональных нормативных правовых актов и регистрации уставов муниципальных образований и директором Дальневосточного научного центра муниципального права позволил апробировать выводы исследования и реализовать их в процессе участия в подготовке ряда законов Хабаровского края по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (Устав Хабаровского края, законы о краевых государственных органах, органах местного самоуправления, Устав муниципального образования г. Хабаровска и т.д.), автором и соавтором которых он являлся.
Структура исследования построена по проблемно-хронологическому принципу, соответствует цели и задачам исследования и служит углублённому анализу рассматриваемых проблем. Монография состоит из введения, пяти глав, заключения, глоссария и библиографии.
Глава 1 Историографические и источниковедческие основы исследования
§1 Историография строительства института местного управления в России, на её Дальнем Востоке и Якутии
Классификация исторических источников в российском источниковедении на протяжении многих лет является одной из сложных научно-теоретических проблем и отличается большим разнообразием. Так Л. Н. Пушкарев в 1975 г. выделял следующие типы исторических источников: письменные, вещественные, устные (фольклор), этнографические, данные языка (лингвистические), кинофотодокументы, фотодокументы. С. О. Шмидт в 1985 г. предложил свою квалификацию включив в неё: 1. Вещественные источники. 2. Изобразительные источники: a) художественно-изобразительные (произведения искусства, кино и фотографии); b) изобразительно-графические (карты, схемы и т.д.); c) изобразительно-натуральные (фотографии и кинокадры). 3. Словесные источники: a) разговорная речь; b) фольклор; c) письменные памятники; d) письменные памятники и фонодокументы. 4. Конвенциальные источники (все системы «условных обозначений графическими знаками» и «информацию, записанную на машинных носителях», то есть современные электронные источники). 5. Поведенческие источники (обычаи, обряды). 6. Звуковые источники. Есть и другие классификации.
В связи с отсутствием единой точки зрения на классификацию исторических источников авторы предложили своё видение этой проблемы применительно к истории МСУ.
1.1 Исследование источников строительства местного управления в пореформенный период и в начале XX в., истории появления в российском лексиконе идеологемы «самоуправление»
Исследования, проведённые Б. Хачатуряном Е. Шишкиной на протяжении ряда лет, позволяют сказать, что при схожести событий второй половины XIX и конца XX вв. историографами даются различные оценки изменениям в государственном устройстве России этих периодов. Так, если вторая половина XIX в. в России большинством исследователей характеризуется как время реформирования государственного управления с целью укрепления российского государства, то конец XX в. — как время разрушения российской государственности и самого российского государства (СССР) и появления на его просторах 15 самостоятельных государств, в том числе и РСФСР-Российской Федерации. Заметное место в этих разрушительных процессах занимает механизм изменения систем управления, в том числе и местного.
Однако, несмотря на большой исторический отрезок времени освоения дальневосточных территорий, специального комплексного исследования проведения таких изменений, в границах обозначенных территориальных и временных рамок, нет. При этом дальневосточные территории имеют черты, отличающие их от европейской России, начиная от особенностей их освоения россиянами и заканчивая системами управления, существовавшими у народов, населяющих эти территории как в досоветское, советское, так и в постсоветское время.
Кроме того, обширность российских территорий, их богатство природными ресурсами порождают у многих стран желание аннексировать их, и она вынуждена на протяжении столетий вести постоянное вооружённое сопротивление этим агрессивным планам. При этом и в XIX и в XX и в XXI вв. Россия всё-таки теряла часть территорий на своих европейских и среднеазиатских окраинах, зачастую под впечатлениями разговоров о самоуправлении переходящими в национально-территориальный сепаратизм. Поэтому если Россия хочет сохранить дальневосточные территории и их богатства за собой, то ей необходима особая стратегия их развития, в том числе и в управлении, которое должно разительно отличаться от европейской России, в том числе и в устройстве местного управления и прежде всего во взаимоотношении между органами власти и управления. Государство должно брать на себя большую часть местных забот, что позволит выровнять, и даже больше — повысить жизненный уровень на Дальнем Востоке выше уровня жизни населения европейской части России, а это в свою очередь позволить прекратить отток населения, а в будущем его увеличение. При этом необходимо учитывать, что времени для выработки такой стратегии у России всё меньше и меньше, история же освоения дальневосточных земель и формирования здесь системы управления показывает, что подобный опыт как положительный, так и отрицательный Россия имеет.
Так, ретроспективный анализ источниковой базы позволяет сказать, что реорганизация местного управления в России во второй половине XIX в. проведённая Александром II, способствовали преобразования, начавшиеся с освобождением крестьян из крепостной зависимости в 1861 г. Отмена крепостного права потребовала проведения целого ряда преобразований. В результате были проведены реформы: финансовая (1863), высшего образования (1863), земская (1864), судебная (1864), цензурная (1865), городского управления (1870), благодаря чему к концу XIX в. Россия вышла на одно из передовых мест в мире начав новую историческую эпоху.
Своё переустройство Россия начала будучи аграрной страной, население которой в основном было сельским. Настроения, царящие к этому времени в сельском сообществе, прекрасно передал художник С. Коровин в своей картине «На миру» (фото 1), где отобразил сход жителей деревни. Картина является откликом на события, происходящие в крестьянской среде после реформы 1861 г. и показывает сложные процессы расслоения крестьянства в современной ему капитализировавшейся деревне — кто-то обеднел ещё больше, кто-то стал зажиточным и у каждого из них своя правда. На селе появляются свободные рабочие руки, наличие которых позволило начать не только капитализацию экономики но и заселение дальневосточных территорий свободными людьми.
Положение дел в стране требовало коренного изменения во всех сферах жизни, в том числе в государственном и местном управлении. В российских научных ругах начинаются обширные дискуссии о системе управления в том числе и на уровне губернии, уезда.
По мнению авторов данного исследования, историография пореформенного местного управления начала интенсивно развиваться с опубликования и обсуждения двух документов: Положения о губернских и уездных земских учреждениях от 01.01.1864 г. и Городового положения от 16.06.1870 г., разработка которых была поручена императором Александром II МВД России.
Изученные источники позво-ляют сделать вывод о том, что Положение о губернских и уездных земских учреждениях закрепило переход к системе местного цензового (имущественного) представительства посредством курий, формируемых на основе имущественного ценза и введения системы прямого и косвенного избрания в состав выборных (представительных) органов. В результате были созданы земские органы управления: выборные земские собрания (губернские, уездные), состоящие из гласных и избираемые ими соответствующие земские управы — исполнительные органы.
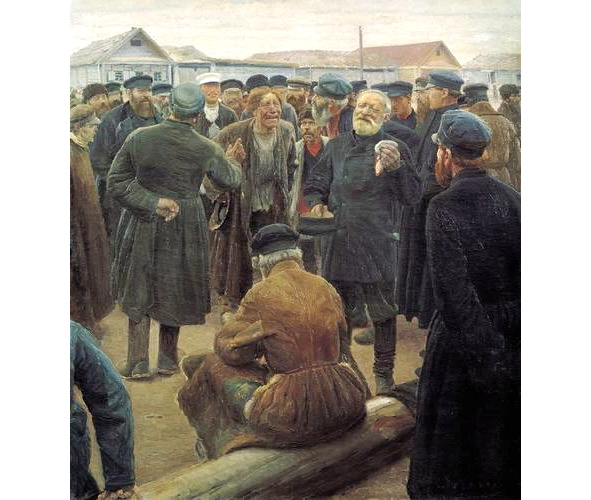
Правом голоса пользовались исключительно мужчины. Избиратели распределялись на 3 курии (разряда): землевладельцев, городских избирателей и выборных от сельских крестьянских обществ.
Земские органы делились на распорядительные и исполнительные. Распорядительные земские собрания — состояли из представителей всех без исключения сословий в лице избранных гласных (депутатов). Гласные как в уезде, так и в губерниях избирались на 3 года.
Земские собрания выбирали исполнительные органы — земские управы, которые также функционировали 3 года. Председателем земского собрания был предводитель дворянства.
Земства были лишены каких-либо политических функций, область задач, которые решали земские учреждения, были ограничены местными делами: содержанием путей сообщения; постройкой и содержанием школ и больниц; наймом медицинских работников и фельдшеров; устройством курсов для обучения жителей и устройством санитарной части в городах и деревнях; «попечением» о формировании местной торговли и промышленности, обеспече-нием народного продовольствия (устройством хлебных складов, семенных депо); заботой о скотоводстве и птицеводстве; взиманием налогов на местные потребности и т. п.
Материальной базой работы земств был специальный налог, которым облагалось недвижимое имущество: земля, дома, фабрично-заводские предприятия и торговые заведения.
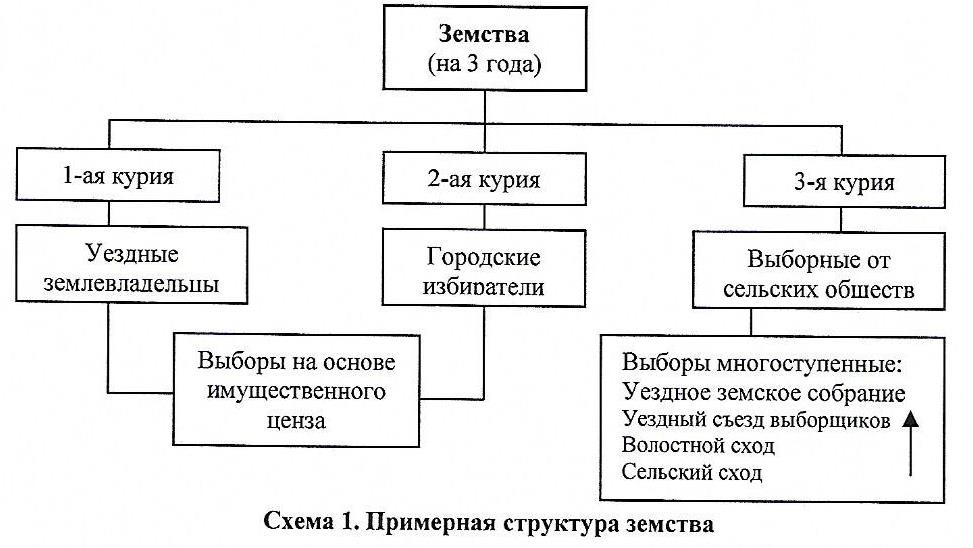
В целом, анализ Положения 1864 г. позволяет сделать вывод о расширении общественных начал в управлении губерниями и уездами. Структуру, основные принципы, состав электората наглядно показывает схема 1.
Но положение о губернских и уездных земских учреждениях на территорию Восточно-Сибирского генерал-губернаторства распространено не было. По мнению российских исследователей правительство неведение его здесь объясняло тем, что население территорий не было готово взять на себя функции местного управления, поскольку, во-первых, прошло всего несколько лет с тех пор, как к России были присоединены приамурские и приморские земли, малоизученные, со слабым укоренением славянского населения, с протяжной «прозрачной» границей с сопредельными странами, что требовало от центральной власти особых решений в их управлении, во-вторых, отсутствовало крупное (помещичье) землевладение, а именно — на помещика опиралась власть, проводя земскую реформу. Но сибирские территории имели более длительную историю их освоения русскими и, по-видимому, не только вышесказанное было причиной неведения здесь земского управления.
Именно отсутствием данной системы управления на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири объясняется кратки общий её анализ, проведённый выше.
Городовое положение с момента его принятия вводилась в жизнь постепенно и избирательно. В 1870 г. новая форма была введена лишь в 46 губернских и иных городах. В городах Санкт-Петербурге и Москве городовое положение вводилось по заключению общих городских дум. Относительно западных губерний (кроме городов Киева и Кишинёва, где новая система была введена сразу же — в 1870 г.), включая и прибалтийские губернии, министр внутренних дел совещался с генерал-губернаторами для подготовки совместных, направляемых в законодательный орган предложений. В городах и посадах остальных губерний новации вводились с учётом сложившихся обстоятельств на основе предложений министра внутренних дел. Таким образом, можно сказать, что введение положения 1870 г. во многом зависело от влиятельности и активности общественности в конкретной местности.
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Городовое положение вводилось сразу.
В положении было прямо записано, что городское общественное управление в пределах представленной ему власти действует самостоятельно и, по сути, основано на тех же принципах, что и земское управление. Территории полномочий органов городского общественного управления были ограничены границами населённого пункта. Но в отличие от земства Городовое положение заменило городские сословно-бюрократические органы управления всесословными (органы городского общественного управления решали территориальные и сословные проблемы одновременно).
Учреждениями городского общественного управления были городские избирательные собрания, объединившие горожан, включённых в списки избирателей; городские думы (введённые ещё Екатериной II) — представительные органы, состоявшие из гласных (т.е. имевших право голоса), избираемых сроком на четыре года, и городские управы, осуществлявшие функции исполнительного органа, формируемые представительными органами и им подотчётные.
В соответствии с первым параграфом городового положения властно-управленческие взаимоотношения в новой системе определялись как «общественные отношения» но не как «самоуправление», то есть система понималась более широко.
Более подробно история внедрения Городового положения рассмотрена авторами (Б.Х. и Е.Ш.) ниже, в специальном параграфе.
На земские и городские органы возлагались задачи: управление местным бюджетом, строительство дорог, строительство и содержание земских школ, строительство и содержание земских больниц, развитие местной промышленности, сбор статистических данных, оказание продовольственной помощи населению в годы неурожая, агрономическая и ветеринарная помощь крестьянам и ряд других. Им запрещалось заниматься политической деятельностью.
Исследователи различных научных направлений с воодушевлением принялись обсуждать новые веяния в формировании местного управления. В обсуждение земской системы включились широкие научно-политические круги. Большинство авторов, анализирующих нормативные документы рассматривали взгляды общественных деятелей того времени на различные проблемы в области развития земских учреждений, в частности, на вопросы земского устройства, результатом чего стало издание значительных по объёму произведений общего характера, в разные периоды государственного строительства империи с анализом деятельности как в целом по России, так и по отдельным административно-территориальным образованиям. Основным, обобщающим место земства в системе публичной имперской власти, был четырёхтомный труд Б. Б. Веселовского «Истории земства за сорок лет». Эта работа является, пожалуй, самой полной по истории всего земского движения в России.
Для понимания сути той или иной системы управления предлагаемой в разные исторические эпохи важным является определение её цели. Именно группа ниже перечисленных источников (научная литература, СМИ, архивы, нормативные правовые акты и т.п.) позволяет сделать вывод о том, что цель новой системы (земство и городское общественное управление) разработчикам виделась в объединении различных исторически сложившихся общественных форм решения местных проблем существовавших на тот момент и созданных по социальному, профессиональному, национальному признакам, имевших свои сословные представительские учреждения и исполнительные органы в единую систему управления посредством организации новых учреждений, заведующих местными хозяйственными делами основной задачей которых было решении социально-экономических вопросов через привлечение к управлению широких масс населения.
Одним из краеугольных вопросов любой системы управления является вопрос ответственности за порученные дела. Оба положения, возлагая её на органы местного управления, устанавливая, что «Учреждения подвергаются законной ответственности, порядком, ниже сего указанным, за превышение власти, за действия, противныя существующим законам, за неисполнение основанных на законе требований местных начальств, за неправильные распоряжения по вверенным им хозяйственным делам и за всякий ущерб или стеснение, нанесённые обществам или частным лицам».
Органы надзора состояли из представителей губернских учреждений, вице-губернатора и лиц местного прокурорского надзора под председательством губернатора. Упразднены в 1917 г.
Как показывает анализ источников предложенная правительством система местного управления на уровне губернии, уезда, города, строилась на следующих принципах: всесословного представительства, участие населения в управлении в общине, хозяйственно-финансовой самостоятельности, законной ответственности и контроля со стороны правительственных властей (именно этот принцип наиболее беспощадно критиковался оппозицией и, по её мнению, требовал изменения).
Оценивая земскую систему, большинство исследователей в последующем сходятся во мнении, что земская реформа совместно с другими реформами второй половины XIX в., заложила основу развития экономики, благодаря чему Россия к началу XX в. вышла на лидирующие позиции по многим показателям став четвертой экономикой мира и, по всей видимости, это был не придел.
Но, как показывает история, такая перспектива и такие результаты не устраивали отдельных членов российского общества, находящихся под влиянием различных зарубежных политических теорий, течений, партий и они начали искать альтернативу национальной государственной системе власти и управления исходя из своего понимания возможного госустройства России и будущего её развития.
Основными противниками правительственной земской реформы во второй половине XIX — начале XX вв. были представители либеральной оппозиции, корни которой были связаны прежде всего с преклонением российских либералов перед Западом, а так же с непоследовательностью правительства в осуществлении государственной экономической политики заключающейся в принижении роли дворянства и предпочтении индустриализации, чрезвычайные меры против политических агитаторов всех мастей. Такая направленность в действиях правительства побудила либерально настроенных представителей российских общественных и научных кругов первоначально развернуть легальную борьбу с произволом (по их мнению) властей и органами управления на всех уровнях.
Задавшись целью разрушения авторитарной российской системы управления, прикрываясь обещаниями сделать Россию демократическим правовым государством, отвечающим западным взглядам на госустройство, российские либеральные круги занялись поиском альтернативы развития России способной изменить вектор движения страны, который они зачастую называли периодом «реакции в российской истории».
Будучи не в состоянии предложить что-нибудь своё национальное и по идеологическим соображениям отказываясь от устоявшихся к тому времени в русском языке таких понятий как народоправие и народовластие, самостоятельность — как качество, свойство или автономия, российская либеральная интеллигенция в третьей четверти XIX в. остановила свой взгляд на дискутируемом в течении столетий в английских церковно-философских кругах аморфном выражении — Selfgovernment предложив для его перевода очень интересную интерпретацию граничащую с некорректностью — «самоуправление», наивно подразумевая под ним систему местного управления коей она ни в Англии, ни в других странах ни когда не являлась. Так как это были п р о с т о многолетние церковно-философские рассуждения о возможных путях развития английского общества (как социализм, коммунизм и т.п.). В последующем присовокупив к этому термину слово local создав новое словосочетание — local self-government переведя его как «местное самоуправление».
С появлением в российском лексиконе нового слова в российских кругах под влиянием широкого кругу представителей либеральной журнально-публицистической прозы, начинается эдакое фрондирование в форме лёгкого флёра, в противовес правительственной системе управления (земства), обсуждение непонятного, но красиво звучащего слова «самоуправление», одновременно делаются попытки охарактеризовать и определить его (самоуправления) место в общественной жизни.
Так К Н. Лебедев, один из деятелей 1850—1860 гг., в своём дневнике в 1863 г. писал: «У нас, по западной моде, теперь в ходу мысли о самоуправлении. Англичане не выходят из моды, selfgoverment. Оно нигде не удалось в той мере, как действует в метрополии и как желали бы привить его подражатели и поклонники (…) Самоуправление есть право, возможное и действительное при известном развитии общества», (курсив наш — Б.Х., Е.Ш.)). И. С. Тургенев в своём произведении с говорящим названием «Дым» вкладывает в уста одного из своих героев фразу: «Не забудьте, ведь у нас никто ничего не требует, не просит. Самоуправление, например, — разве кто его просит?», (курсив наш). Как показывает история весьма сомнительный вывод. Не то что просят, а навязывают его России последние 150 лет. Н. Г. Чернышевский, говоря о жизни племён, составлявших общий союз и в то же время самостоятельно управлявшихся, заявляет: «Учёным образом подобное состояние называется самоуправлением и федерациею», (курсив наш). Вот, наверное, от куда «растут ноги» желающих привязать общинное управление к самоуправлению.
Делаются попытки внести журнально-публицистическое выражение «самоуправление» в российский делопроизводственный оборот. Как пишет В. П. Безобразов одна из первых таких попыток зафиксирована в «Объяснительной записке к проектам Положения о земских учреждениях и временных правил для сих учреждений внесённых при этом проекте в Государственный Совет 26.05.1863 г. министром внутренних дел П. А. Валуевым». Но в текст самих Положений слово самоуправление не попало.
Возникает вопрос: почему российскими либералами для обозначения предлагаемой ими системы управления не воспринимались как русские термины, так и известный в то время на западе термин автономия? Как бы отвечая на этот вопрос Б. Н. Чичерин в книге «Несколько современных вопросов», характеризуя словесные «ярлычки» 1850—1860 гг., указывает, что в ту эпоху «Похвалу означали ярлычки: община, мир, народ, выборное начало, самоуправление, гласность, общественное мнение и т.д.» (курсив наш) и, наоборот, «мрачными демонами назывались: централизация, регламентация, бюрократия, государство». Примерно в такой же тональности (с такими же ярлычками) начнётся критика советской системы управления в конце 1980 — начале 1990 гг.
С высоты сегодняшнего дня мы можем сказать, что русские термины, в отличии от self-government, чётко указывали место территорий с такой системой управления в государственном устройстве России, и не подразумевали децентрализацию единого госуправления. Термин «автономия» понимался в то время именно как системе госуправления, предоставившая территориям право на самостоятельность в решении своих задач, а не на децентрализацию и сепаратизм. В России же в последующем, с появлением в русском лексиконе выражения «самоуправления», эти понятия («самоуправление» и «автономия») российскими исследователями, для того чтобы затушевать смысл первого, зачастую смешиваются и в таком понимании закрепляются в научном обороте.
Сформировавшаяся ко второй половине XIX в. ситуация в российском обществе описанная выше показывает, что в обществе на фоне снисходительного отношения к своей стране к своей истории на фоне многолетней тяги россиян ко всему западному сложилось понимание своей вторичности и на этом фоне начинается «глубокомысленны» обсуждение бестолкового для русского уха зарубежного слова.
В связи с этим представляет интерес история появления в английском лексиконе словосочетаний self-government и local self-government рождённых в ходе многолетних церковно-философских рассуждений, их понимание и перипетии в употребление как в английской, так и в российской научно-публицистической литературе, закрепления их в европейском правовом пространстве так как этому вопросу на всём протяжении их использования исследователями уделяется незначительное место.
Первые размышления о self-government по мнению отдельных как зарубежных, так и российских исследователей, в том числе и авторов данного исследования, появились в текстах протестантских священнослужителей в средние века в понимании как «самолюбие», «самообладание», «самовластие» т.е. что-то вроде русского слова — самостоятельный и производные от него и как прилагательное, относящееся к лицам, «отмеченным самообладанием», до существительного в XVI в. как «управляющая власть» или «системы, с помощью которой управляется вещь», как право индивида на личную свободу, одним из критериев которого указывалось предоставление широкому кругу подданных английской короны различных прав и свобод. Итогом многовековых разговоров на тему self-government стало разрушение единой римско-католической церкви и появление в средние века в Англии самоуправляемой от Рима протестантской Англиканской, сегодня имеющей несколько направлений.
В XVII в. в Англии появляется первое политическое движение несущее либеральные идеи — партия вигов, члены которой из-за разнообразия в понимании self-government и его расплывчивости в толковании, что позволяло ему (слову) нести различную смысловую нагрузку, о чём указывалось выше, предложили его как возможность под прикрытием мифов о демократии улучшить положение индивида, понимая self-government как право индивида на личную свободу, прежде всего, в экономической сфере.
В это же время английские богословы и светские философы начинают переносить self-government на систему государственного управления. Представители нарождающейся английской буржуазии под разговоры о self-government начинают претендовать на своё участия в решении государственных вопросов через создание специального органа, то есть через децентрализацию единой государственной власти, который представлял бы их интересы в высших эшелонах власти имеющего право формировать бюджет государств и контролировать его исполнение через приятия специальных нормативных правовых актов — з а к о н о в, получившего название парламент.
Например, в книге Ф. Либера (1883 г.) «On Civil Libertyand Self-Government», автор (Ф. Либер), приводит цитату, высказанную Т. Джефферсоном (1798 г.): «The residuary rights are reserved to their (the American states’) own selfgovernment» (курсив наш), которую можно перевести как «остальные права сохраняются за их (штатов Америки) собственным самоуправлением». Причём как мы видим, здесь термин selfgovernment характеризует не систему управления на уровне государства или город-село, а именно систему по децентрализации власти и управления на уровне государство — штаты (в современном российском лексиконе — субъектов Федерации), их борьбу за суверенность — сепаратизм. Итогом чего стал выход 13 колоний из состава британской Северной Америки, их война с Великобританией за свою независимость и создание самостоятельных административных единиц — штатов, в последствии объединившихся в единое государство — США.
Но вот что интересно, часто встречающееся в трудах английских богословов и светских философов XVI — XIX вв. выражение self-government не фиксировалось в английских НПА как норма права, по крайние меры такого авторы (Б.Х., Е.Ш.) не обнаружили. Кроме того, как отмечал 1893 г. Ф. Либер, он не нашёл понятие self-government «Ни в одном из английских словарей, хотя в них приводится длинный список слов, сложенных с self, и среди них много таких, которые в настоящее время совершенно вышли из употребления». То есть, первоначально это были именно церковно-философские рассуждения, провоцирующие англичан к сепаратизму с целью получения английской церковью независимости от римско-католической в виде права на самоуправление в решении церковных дел под разговоры о self-government, и отдельные английские территории к самоуправлению в последующем с претензией на научность, что в конце концов достигло положительных результатов.
Говоря о времени появления существительного self-government как самоуправление, то как отмечают английские электронные источники, первое упоминание существительного self-government как самоуправление произошло вначале XVII в., в сочинениях Джозефа Холла, епископа Норвича, религиозного писателя и сатирика.
Примерно такого же мнения придерживается и наш современник Н. Старжински считающий, что «Термин „самоуправление“ (self-government) появился в Англии в конце XVII века, после Английской революции, и означал, прежде всего, состояние английского народа, самоуправляющегося с помощью парламента и местных представительных органов, не знающих административной опеки со стороны правительственного аппарата и его чиновников».
По всей видимости ни Джозеф Холл ни Н. Старжински не связывают многовековую борьбу английской церкви и английской буржуазии с правом самостоятельно решать свои вопросы с борьбой за самоуправление на уровнях церковной иерархии и буржуазии.
На наш взгляд, такое поверхностное отношение к истории появления self-government не даёт нашим современникам понять скрытый смысл этого термина, а потому они его даже не исследуют. Скрытый же смысл церковно-философского либерального понимания, по нашему мнению, заключался в стремлении английской протестантской церкви к реформированию на своей территории римской католической, и децентрализации авторитарной монархической государственной системы управления путём: создания самоуправляемой церкви и превращение абсолютной монархии в парламентскую, то есть разрушение существующей на тот момент системы феодального государственного устройства и замены её капиталистической в интересах нарождающегося слоя буржуазии. Именно в этом понимании он и был воспринят либералами по обеим сторонам Атлантического океана. Причём либералы допускали для достижения подобных целей применение силы, чем и занимается Великобритания, с тех пор насаждая по миру самоуправление с целью разрушения государства — соперника.
В результате многолетнего дискурса о self-government в английских как церковных, так и светских структурах произошли революционные изменения: церковь была разделена, абсолютизм был свергнут, но королевская власть хоть и ограниченная парламентом сохранилась. Буржуазия получила своё: доступ к решению государственных вопросов, поскольку могла избирая в парламент своих депутатов участвовать в распределении госбюджета и контроле за его исполнением. В стране появилась свобода торговли и предпринимательства, но главное страна смогла на тот момент ограничиться self-government на уровне общественного обсуждения и не перешла к его крайней и радикальной форме — сепаратизму.
Авторы провели этот экскурс в историю употребления в английском языке церковно-философских рассуждений self-government для того, чтобы показать, что к XIX в. он был хорошо знаком для обывателя Англии в разных ипостасях, а вот для россиян рассуждения о самоуправлении предложенные российскими либеральными кругами во второй половине XIX в. были совершенно новым и непонятным явлением.
В ходе буржуазных преобразований в английском обществе в Англии появляется новый слой — слой средних собственников, который так же начал выражать свои претензии на участи в решении теперь уже местных вопросов. Начинаются разговоры о local self-government, которые в России воспринимаются как «местное самоуправление».
Причём если первоначально оба термина и self-government, и local self-government связывались прежде всего с децентрализацией органов власти и управления, то позже стали ассоциироваться с демократией, то есть — есть в государстве самоуправление и местное самоуправление — значит государство демократическое, нет — авторитарное.
Но как показывают источники в отличии от разговоров о self-government приведших к изменению церковного и государственного устройства в Англии, разговоры о local self-government были менее успешны.
В последующие годы церковно-философские рассуждения о self-government как о самоуправлении и local self-government как о местном самоуправлении в Англии начали выходить из общественного употребления. Можно предположить, что содержание обоих понятий англичан перестало удовлетворять, так как многолетние дискуссии на эту тему спровоцировавшие децентрализацию как церковной, так и светской власти и управления, свою скрытую задачу выполнили, и теперь концепция угрожала единству английского государства и провоцировала дальнейшее дробление англиканской церкви. И чтобы не искушать в будущем население страны призраком self-government и не допустить окончательного разрушения управляемости в стране, англичане отказались от употребления обоих словосочетаний в своих дискуссиях.
Как пишут историки к середине первой половины XIX в. в официальном английском делопроизводстве появляется термин local government без self, (где local — местный, government — администрация, управление, правительство, власть) в прямом переводе как местное управление, местная власть. Одним из первых таких документов, по мнению английского историка Б. Кейт-Лукаса, был Доклад комиссии по муниципальным корпорациям (1835 г.), который и стал первым правовым актом, заменившим для достижения подобных целей партикулярные нормы грамот и хартий, регулирующих городское управление и введший новое правовое понятие.
Напрашивается вывод о том, что, в те годы (конец второй половины XIX в.) англичане не хотели связываться именно с self-government — самоуправлением, грозящим сепаратизмом, а потому поговорив на эту тему не пустили ни self-government, ни local self-government, в своё правовое пространство, удовлетворившись в последующем словосочетанием local government.
Как показывают источники, дискуссии о self-government как о самоуправлении в английских научных кругах закончились в 1888 г. с принятием в Англии закона «Local Government Act 1888» — «О местном управлении 1888» отбросившим в своём названии и содержании смутные рассуждения о самоуправлении, не пустившим в английское правовое поле термин self-government и давшим новое определение системе английского местного управления — local government переводимом как «местное управление». Основные составные части закона предусматривали, что, во-первых, при формировании муниципальных органов избирательный корпус был ограничен населением, имеющим собственность в виде недвижимости; во-вторых, муниципальные органы ставились под правительственный надзор в целях подчинения местных и групповых интересов общегосударственным интересам, права органов устанавливались законом.
Этот факт говорит о том, что развитие местного управления при классическом капитализме (XIX — начало XX в.) началось под знаком отступления от провозглашённых ранее в ходе рассуждений о self-government, демократических лозунгов о свободе и равенстве.
И ещё, как показывает история понятие «местное управление» в отличии от понятия «местное самоуправление» пришло к нам не из разговоров, а из англосаксонской правовой системы, которая в настоящее время действует в Ирландии, США, Канаде, Индии, Австралии, Новой Зеландии, Зимбабве, на Ямайке и в ряде других государств.
Казалось на этом должна была закончиться история терминов self-government и local government воспринимаемых в России как самоуправление и местное самоуправление. Однако несмотря на отказ Англии в течении десятилетий от использования self-government как нормы права и в конце концов замены его новым термином local government включённым в английское правовое пространство, российские либералы продолжали упорно муссировать именно словосочетание self-government и продолжали на все лады растолковывать не толкуемое самоуправление.
Таким образом, не имея за душой ни чего национального, не способные предложить, что-то своё институциональное для укрепления своего отечества, но жаждущие его разрушения, российские либералы ухватились за рассуждения о self-government представляя их как нечто хорошо себя зарекомендовавшее за рубежом, передовое, способное изменить в лучшую сторону российскую систему управления, прежде всего под лозунгами децентрализации и демократизации видя в них по преимуществу механизм формирования органов управления путём выборов. Под этот словесный шум в России начинаются многолетние бесплодные попытки сформулировать суть и принципы для большинства россиян непонятного зарубежного феномена привнесённого на российскую почву.
Одними из первых россиян, откликнувшихся на либеральные призывы растолковать не толкуемые для русского языка расхожие за рубежом церковно-философские термины были князь А. И. Васильчиков и академик Санкт-Петербургской академии наук, тайный советник В. П. Безобразов. Именно они попытались раскрыть историю поисков российскими либералами подходящего, по их мнению, определения системы управления способной разрушить «закостеневшую» имперскую систему и начать строительство демократической.
Соображения по этому вопросу они изложили в своих трудах: А. И. Васильчиков в опубликованном в 1869 г. первом томе дискуссионной работы «О самоуправлении…», а В. П. Безобразов в работе «Земские учреждения и самоуправление» опубликованной в 1874 г. Правда, иногда с совершенно разными подходами к вопросу и выводам, и что самое интересное употреблением термина администрация и производные от него.
Князь А. И. Васильчиковым, воодушевлённый победами self-government, в разрушении феодального управления в Англии и главное успехами в экономическом развитии привнёс в российский лексикон английские церковно-философское рассуждения о self-government некорректно переведённые на русский язык таким же малопонятным выражением как «самоуправление» и производным от него словосочетанием local self-government как «местное самоуправление» для обозначения предлагаемой либералами для России системы местного управления.
Некорректность перевода, по нашему мнению, заключается в том, что английское выражение self-government (где self — я, личность, сам, себя, самость, самооценка, government администрация, управление, правительство, власть) в России перевели как «самоуправление», а не собственное управление или собственная администрация, или собственное правительство и т. п. и производное от него local self-government (где: local подразумевал различные переводы такие как — автономный, локальный, частный, местный …; self как — я, личность, сам, себя, самость, самооценка … (из большого количества толкования терминов для россиян был предложен именно перевод как сам), government — автономия, правительство, управление, правление, форма правления был предложен термин управление), был переведён как «местное самоуправление», а не как автономное правительство и т. п.
Говоря об исторических корнях российских журнально-публицистических рассуждений о самоуправлении А. И. Васильчиков, писал, что они были рождены от церковно-философских размышлении на тему self-government воспринимаемого как «самоуправление» и были взяты им из западной литературы, а не из российского истории, законодательства или практики. С этим выводом согласны многие последующие исследователи и XIX, XX и XXI вв. которые к тому же как правило связывают его с «национальной самобытностью» и «интернациональными чертами этого правового понятия». На наш же взгляд рассуждения отражают не «национальную самобытность» как писал в 1999 г. В. В. Виноградов, а «интернациональные черты этого правового понятия» предназначенного, по мнению либералов, для разрушения государства, что наглядно показала история СССР конца 1980 — начала 1990 гг.
Такое разночтение в определении исторических корней рассуждений о самоуправлении говорит о том, что выражение появившееся в русском лексиконе в средине XIX в., было непонятно как самим её авторам, так и большому кругу исследователей того времени.
Кроме того, сами авторы «самоуправления» отрицают факт широкого использования термина self-government в европейских государствах того времени как самоуправление и его «заслуг» в их развитии.
Например, А. И. Васильчиков анализируя системы местного управления в Германии, Франции, Англии и частично США, Швейцарии и Бельгии сделал на наш взгляд, спорные на тот момент, даже с позиции либералов, выводы и предложения, во многом идущие в разрез о вышесказанных корнях российского самоуправления.
Так рассмотрев немецкую систему А. И. Васильчиков отмечал, что для нас, русских, изучение немецкой общественной организации представляет тот интерес, что мы находим в этой организации, доживающей последние свои дни в Германии, следы всех тех воззрений и предположений, которые блудные сыны этой учёной страны предлагают нам в России как лучшие, самые зрелые плоды своей высокой цивилизации, плоды действительно перезрелые и неспособные вывести Россию к демократии, в которую мы погружаемся. Кроме того, он отмечает, что немцы видели задачу новой системы управления в достижении «Главной цели, к коей единодушно стремились правительство и народ — для объединения германского племени, собирания немецких земель», что в корне расходилось и расходится с воззрениями российских либералов о сути самоуправления — децентрализации власти и управления.
Совершенно противоположную характеристику немецкой системе местного управления давал В. П. Безобразов, отмечавший в работе «Земские учреждения и самоуправление», что немецкий закон 1872 г. (по видимому Безобразов говорит о Положение о прусских местных учреждениях — Б.Х., Е.Ш.). удовлетворяло всем разумным либеральным требованиям относительно преобразования местной администрации в духе самоуправления. При этом в самом Положении (в переводе П. Н. Семеновым) слово самоуправление не употребляется, а употребляется термин «земство» взятого из России. Этот пример ещё раз говорит, что ни о каком английском self-government — «самоуправлении» немцы в 1870 — 1880 гг. не помышляли, а брали нашу систему как образец.
Что касается немецкого термина Selbstverwaltung о котором говорил в 1928 г. Л. А. Велихов то в Конституции Германии 1871 г. от отсутствовал. В Конституции Германии 1919 г. его так же нет, как нет и термина Selbstverwaltung предложенного Л. А Велиховым в 1923. и повторённом в 1999 г. В. В. Виноградовым, но зато употребляется термин self-administration где self — местный, administration — администрация, руководство, правительство, власть, который россиянами переводится как самоуправление и упоминается трижды. На наш взгляд такое словосочетание больше соответствует определению органов управления, чем системы управления.
Говоря о французской системы местного управления А. И. Васильчиковым сделан вывод, что она для России не подходит, так как Франция отстаёт от современного движения и что другие народы, руководимые другими началами и, по-видимому, оставшиеся в стороне от философии и революций XVIII в., опережают её в свободе и благосостоянии народных масс.
В свою очередь В. П. Безобразов, характеризуя французскую систему местного управления в 1874 г. отмечал, что «Франция не может постигнуть местного самоуправления, иначе как в дикой форме Парижской коммуны 1871 года». И надо сказать это была не единственная отрицательна оценка французского «самоуправления». Так в 1928 г. Л. А. Велихов скажет, что «Во Франции соответствующего термина, — (самоуправление — Б.Х., Е.Ш.), — вовсе не существует, и он заменён там понятиями «децентрализация», или «муниципальная власть» (pouvoirmunicipal)», где под децентрализацией понимается передача части полномочий одних органов управления другим, а не создание ещё одного уровня управления. В 2008 г. Т. А. Свиридова писала: «В 1892 г. в «Русском вестнике» отмечалось: «Франция, считающаяся родоначальницей либеральных идей, центром, из которого они распространяются по материку всей Европы, отстала в их практическом применении почти от всех европейских стран… Вместо гражданской свободы и местного самоуправления мы находим во Франции всепоглощающее начало правительственной централизации».
Необходимо отметить, что на протяжении десятилетий, в том числе и на постсоветском пространстве отдельные исследователи отмечают несоответствие западных систем местного управления понятию самоуправления. Так Я. Ю. Старцев характеризуя систему французского управления уточняет: во Франции, основы правового регулирования статуса органов местного управления заложены в действующей Конституции 04.10.1958 г. в разделе ХII «О территориальных сообществах». Статья устанавливает, что эти сообщества свободно управляются избранными советами на условиях, предусмотренных законом. Сообщество в данном случае обозначает особое социально-политическое образование, включающее в себя как население, так и органы управления. Муниципальный совет должен сам выполнять свои полномочия и не имеет права (за редкими исключениями, предусмотренными законом) передавать их ни мэру, ни государству, ни избирателям путём референдума. Мэр избирается муниципальным советом из своего состава на срок, равный сроку полномочий совета, т.е. на 6 лет. Мэр коммуны обладает двойным качеством главы исполнительной власти коммуны и представителя центральной власти в коммуне, однако совет может реально воздействовать на мэра, в отсутствие права отзыва, лишь путём обращения в суд, тогда как дисциплинарная власть государства гораздо более велика. Мэр может быть временно отстранён префектом от исполнения своих полномочий представителя государства, если он с ними не справляется; мэр может быть временно отстранён от всех своих обязанностей решением министра внутренних дел либо снят с должности декретом Совета министров.
В последующем местную систему во Франции обозначали понятиям «муниципальная власть» (pouvoir municipal). И как писал в 1995 г. Н. В. Постовой «Во Франции традиционно существует высокая степень централизации местного управления, что проявляется в системе административного контроля центральной власти за местными органами. Проведённая во Франции в начале 80-х годов реформа несколько снизила такую централизацию, расширила полномочия территориальных коллективов, обеспечила им большую самостоятельность, но сохранила за центральной властью сильные позиции на местах» (курсив наш).
И такое положение, не включение основных принципов самоуправления и прежде всего принципа децентрализации управления, в национальную систему с одновременным определением ответственных за дела в муниципалитете, в правовых актах большинства западных стран.
Не изменились подобные характеристики западного местного управления, как далёкого от самоуправления, и в наше время. Так Н. С. Тимофеев в 2002 г. отмечал: «То, что для многих опыт США представляется идеальным местным самоуправлением, для которого в Конституции США не нашлось места, на самом деле называется „местное управление“. Коммунальное самоуправление (опыт ФРГ) напрямую связано с государственным управлением. Децентрализация управления во Франции настолько плотно вписана в столь страшную для многих пресловутую „вертикаль“ власти, что французским муниципалам следовало бы постоянно пребывать в России с целью усвоения опыта советской и современной российской местной демократии».
Интересен и ещё один факт. В 1999 г. В. В. Виноградов, как уже отмечалось выше, писал, что русское слово самоуправление соответствует французскому термину — self-government, не указав из какого французского НПА взято это словосочетание в отношении характеристики французской системы местного управления. На наш взгляд (Б.Х., Е.Ш.) это ещё один пример желания российских исследователей подтащить непонятное для россиян словосочетание под ложный имидж европейского авторитета как пример для подражания и вторичности российской недемократичной системы местного управления целью её унижения и навязывания населению России европейского малопонятного слова, употребляемого в то время только в литературно-публицистических изданиях под видом правового института.
Не восприятие российскими либералами французской системы указывает так же на то, что они в это время надеялись на реформирование земства, а не на революционные преобразования.
Таким образом, проведённый анализ зарубежных правовых актов в области местного управления позволяет сказать, что децентрализация управления в западных странах происходила не путём передачи части полномочий одними органами другим, о чём писал в 1928 г. Л. А. Велихов, характеризуя французскую систему местного управления децентрализованной, а разрывом единого правового пространств с созданием самостоятельного независимого уровня управления склонного к сепаратизму названного местным самоуправлением.
То есть большинство российских адептов самоуправления понимало его как способ разрушения государственной системы управления под флагом либеральной демократии и децентрализации, а все объяснения были просто ширмой, скрывающей истинное предназначение идеологемы «самоуправление», именно идеологемы, а не термина который, как об этом говорилось выше, имеет строго определённое (ограниченное) значение.
Но вот что интересно, характеризуя по-разному МСУ исследователи этого общественного явления не задаются вопросом: почему ни в Англии, ни в Германии, ни во Франции законодатели не пустили в правовое пространство своих стран понятия, которые обсуждались во многих европейских сообществах много лет, а придумывали и использовали совершенно новые определения для характеристики своих систем местного управления?
Что касается употребления self в связке с термином government в российской литературе, то на наш взгляд употребление этого импортного понятия больше говорит об управленческом трансвестизме его авторов, чем о самостоятельности управления. И судьба постсоветского местного самоуправления, которому не могут найти всеми понятную формулировку в течении десятилетий тому прекрасное подтверждение.
Таким образом, по мнению А. И. Васильчикова и В. П. Безобразова ни немецкая, ни французская системы в то время, во-первых, не являлись системами местного самоуправления, во-вторых, не обозначались в своих странах как местное самоуправление, в-третьих, по их мнению, были непригодны для российского государства. С чего уж тут можно было брать пример!? Непонятно.
Истрия показывает, что в отличие от России переход западных стран на новую систему местного управления при трансформации феодального общества в капиталистическое происходил в течение длительного времени, что закреплялось в различных формах исходя из конкретных исторических общественных отношений и зачастую в ходе революций и гражданских воин, иногда приводивших к разрушению государств.
Смеем утверждать, что термины home rule, self-administration, selbstverwaltung и т.п., воспринимаемые российскими исследователями как системы самоуправления хотя и не несут этот смысл в своих названиях, в отличии от английского self-government, что говорит о желании скрыть их истинную суть и представить этакими нейтральными, но многолетние научные диспуты о их сути в научных кругах и практическая деятельность по претворению самоуправленческих принципов в жизнь, прежде всего принципа децентрализации власти и управления посредством создания самостоятельного властно-управленческого уровня, раскрывает их истинный смысл: разлад в управлении ради изменения государственного устройства.
В итоге, характеризуя крайне уничижительно русскую национальную систему — земство, как недемократическую и централизованную А. И. Васильчикова и В. П. Безобразова делают вывод, о том, что земская система якобы мешает развитию российской государственности. По-нашему мнению, (Б.Х., Е.Ш.) несколько поспешный вывод, так как земство было введено только в 1864—1870 гг. Естественно встаёт вопрос о том, когда оно успело начать мешать развитию российской государственности. А вот последующая его (самоуправления) история, в постсоветское время, как раз и говорит о его вредности для российского государства.
Всё вышесказанное позволят сказать, что, взяв за основу некое надуманное, ни о чём не говорящее смутное выражение self-government используемое в Англии только в литературно-публицистических изданиях, то есть в разговорах, и переведённое для России как «самоуправление» переводчики сыграли с нами в «испорченный телефон». По-нашему мнению именно эта надуманность и некорректный перевод не позволяют выстроить российскую систему МСУ и как результат вот уже более 150 лет в России и на постсоветском пространстве идут безрезультатные сражения в научном мире о его сути.
Кроме того, несмотря на почти единодушие учёных XIX и XX вв. в определении исторических корней «самоуправления», исследователи XXI в. пишут что «Учёные не пришли к единому мнению по поводу появления местного самоуправления в России» и исходя из такого понимания истории пытаются в XXI в называть этим выражением (самоуправлением) местное управление начиная с общинных времён.
Одновременно признавая за Великобританией первенство в развитии, прежде всего в экономике в XIX в. и рассматривая систему английского управления как безусловный авторитет и предмет для подражания, российские либералы игнорируют два важных фактора, во-первых, что экономический рост Великобритании, позволившей ей к тому времени выйти на передовые позиции в мире, в первую очередь был обусловлен ограблением колоний чем, вообще-то Россия ни тогда, ни после не занималась, то есть не имела в перспективе такой экономической базы. А это значит, что в основе экономического могущества Великобритании лежал «кривой» фундамент, а на кривом фундаменте не построишь красивое здание (сооружение). Именно этим и объясняется вся многолетняя кривизна сооружения под названием «местное самоуправление», которым восхищались и восхищаются российские либералы, навязывая нам об этом всевозможные мифы; во-вторых, что английские научно-политические круги, поняв к середине XIX в., что разговоры о «self-government» свою задачу [разрушение предыдущей системы управления (феодальной) и формирование новой — (капиталистической), причём зачастую с помощью оружия] выполнили, определение системы управления как self-government в английской научно-политической литературе, как увидим ниже, постепенно выводят из употребления и к середине XIX в. в английской практике закрепляется новое определение: «local-government» где local — локальный, местный, government — управление, дословно переводимое как «местное управление», «местное правительство», «местная власть», с совершенно иными принципами, но для россиян вновь предлагается некорректный перевод уже и этого термина как «самоуправление».
Аналогично поступили и немецкие законодатели. Так в Конституции Германии принятой в 1919 г. термин Selbstverwaltung (где Selbst — сам, Verwaltung — управление) отсутствует, а употреблялся термин self-administrative который россиянами вновь переводится (видится) как самоуправление.
Немного погодя европейскую позицию на возможность мирной смены системы управления через пропаганду самоуправления заняли все левые партии, в том числе и российские социалисты включая и социал-демократов (РСДРП), которые первоначально нацеливали свои партии на мирное разрешения сложившейся ситуации в стране видя в самоуправлении возможность разрушения государственного управления руками граждан своего государства.
То есть позиции на действующую и подходящую, по их мнению, систему местного управления у партий, казалось бы, с противоположенными взглядами в данной области, со временем сошлись — действующая система должна быть разрушена во имя «демократического будущего» и формирования под сенью демократии «гражданского общества», для чего все пути хороши. Либералы продолжали ратовать за самоуправление. Большевики предложили для этого свою систему управление в форме Советов, рождённых в ходе революционных событий 1905—1907 гг., которая, на их взгляд была способная это произвести, со временем соединив её с коммунистической идеологией (социальное равенство, бесклассовое общество, диктатура пролетариата, общественная собственность на средства производства и т.п.). При этом на первых порах для скорейшего достижения главной цели, разрушения царской системы, предлагают обе системы объединить.
На предложение, рассмотреть новые понятия: самоуправление и местное самоуправление, как альтернативу земству, откликается большое количество представителей российской оппозиционной журнально-публицистической прозы, ухватившихся за понимание словосочетания как более демократичную концепцию, но игнорирующую: а) скрытый в философских рассуждениях смысл терминов, спрятанный за децентрализацией управления; б) конкретные результаты английского дискурса: не включение понятий в правовое пространство страны, ограничившись их многолетним обсуждением.
История употребления английского self в словосочетании local self-government, его этимология показывают, что они будоражат умы лингвистов в течение десятилетий, и замено влияли на внутреннюю политику многих западных стран. Но большинство из этих стран, в том числе и Англия, не пустили его в своё правовое пространство, ограничившись общими церковно-философскими рассуждениями, создавая собственные национальные системы управления, принимая всё новые и новые словесные выражения, скрывающие их суть. Но российской оппозицией эти рассуждения были восприняты именно как система местного самоуправления. А это даёт возможность, во-первых, как отмечалось выше говорит о некорректном перевод исходного термина специалистами типа современных руководителей Украины пытающихся изъясняться на корявом английском языке в разговорах с иностранными представителями с целью поднятия своего престижа и престижа своей страны; во-вторых, о расплывчивости рассуждений в англосаксонских церковно-философских кругах о его сути, что мешает теперь уже нашим современникам-законотворцам дать чёткое правовое определение институту МСУ; в-третьих, разрешает российское понятие «самоуправление» рассматривать как идеологему а не термин.
Вот в такой «мутной воде» россияне начинают искать исторические корни, юридическое определение предлагаемому заграничному самоуправлению, причин его введения в российский лексикон. Наиболее яркими приверженцами новых веяний стали А. И. Васильчиков и В. П. Безобразов попытавшиеся из никому не понятного, но усиленно муссируемого в 1860—1870 гг. в обществе слова, создать термин определяющий его сущность.
Так объясняя причину введение в российский лексикон слова самоуправление А. И. Васильчиков ссылался на необходимость исследования «Тех порядков внутреннего местного управления, которые входят в круг действий крестьянских, земских и мировых учреждений. Отыскивая общий смысл и разум этих законоположений, мы свели их в одно общее понятие, — (для кого оно на тот момент, да и как увидим далее и позже, было понятным, непонятно — Б.Х., Е.Ш.), — и под одно руководящее начало, которое называем самоуправление» (курсив наш).
Говоря о направлениях деятельности предлагаемого им самоуправления А. И. Васильчиков формулирует следующие: установление местных налогов, их распределение местным представительным органом и передача функций по разрешению спорных вопросов по раскладке повинностей и их расходованию мировым судам. Но ведь ради этого и создавалось земство с его новыми органами управления и мировыми судами, о чем мы говорили выше.
В чём же отличие предложений А. И. Васильчикова от предложений правительства? Оно заключается в том, что Васильчиков предлагал разорвать единую систему государственной власть и управления на два уровня: отдельно государственное управление и параллельно с ним независимое местное самоуправление со своими органами, не входящими в систему государственного управления, своими финансами и своей юстицией и отсутствия контроля со стороны государства. Причём особо обращал внимание на то, что разделение это должно быть не по предметам ведомств, а по уровням власти между государством и самоуправлением. При этом государственные органы, на его взгляд ни под каким соусом, не имеют право вмешиваться в деятельность предлагаемых им органов местного самоуправления.
То есть, по мнению А. И. Васильчикова МСУ это: объединение трёх составляющих местного управления и через децентрализацию существующей единой национальной системы управления создание самостоятельного демократического нижнего уровня, названного им самоуправлением и прежде всего в области финансов. Таким образом как и любой уровень управления предлагаемое самоуправление должно иметь свой бюджет самостоятельно пополняемый, самостоятельно расходуемый и находящийся под защитой судебных органов. И далее идут многостраничные фантастические рассуждения о превосходстве предлагаемой системы управления перед существующей на тот момент — земством.
Таким образом по мнению А. И. Васильчикова главные принцип его МСУ — децентрализация местного управления по уровням власти с целью разрушения существующей на тот момент единой системы управления.
Что касается взглядов В. П. Безобразов то последний исследуя эти три составляющие характеризовал их следующим образом:
— крестьянское управление по его мнению «Как бы ни были значительны его недостатки, — и мы готовы их признать, — не страдает в своей организации изложенным нами пороком земских учреждений; оно нисколько не было разлучено с местным государственным управлением, а составляет с ним и в узде, и в губернии, чрез посредство мировых посредников, до съездов и губернских присутствий по крестьянским делам, одно нераздельное целое». И далее характеризуя крестьянское управление, писал, что «Простое подчинение крестьянских учреждений единоличным бюрократическим властям, как оно ни просто, также невозможно, потому что оно противоречить началам самоуправления, — (т.е. по А. И. Васильчикову: одному общему понятию… и одному руководящему началу, — Б.Х., Е.Ш.), — положенным в их основание; сверх того, должностные лица которым могли бы быть подчинены крестьянские учреждения в уездном управлении имеют чисто полицейское назначение, а эти учреждения обнимают собою все без изъятая отрасли местной администрации».
— «Земские учреждения бесспорно принадлежать к важнейшим государственным созиданиям нынешнего царствования. Но их главное значение только в будущем, а в настоящем они ещё не дают, да и не могут дать всех тех практических результатов для государства и для общества каких от них ожидали и на какие мы в праве возлагать наши упования». Хотя на тот момент «Правá предоставленные нашему земству покажутся, пожалуй, гораздо более широкими, свобода его действий гораздо менее ограниченною. Кроме указанных выше способов назначения к земским должностям, находящихся в полном распоряжении нашего земства, и самая его деятельность поставлена несравненно независимее по отношению к общей государственной администрации центральной и местной (губернской и уездной)». Иначе говоря, самостоятельности местным органа вполне хватало, но либералам нужно было с а м о у п р а в л е н и е, а именно та путанная триада о которой говорил А. И. Васильчиков объясняя зачем он предлагает идеологему «самоуправление».
— мировые судьи «Хотя и представители особой власти, судебной, но едва ли они не составляют ныне, в особенности с упразднением мировых посредников, центр тяжести государственной власти в уезде».
Говоря о децентрализации отмечал, что «Если начало децентрализации может прилагаться где-либо с пользою, то конечно всего более ъ сфер местных хозяйственных интересов».
Таким образом, и А. И. Васильчиков и В. П. Безобразов понимали под самоуправлением единую триаду общественных отношений, направленную на демократическую децентрализацию управления через создание самостоятельного уровня управления, то есть под децентрализацией управления они понимали не передачу отдельных полномочий от одного уровне управления другому как это происходило на Западе, а создание особого независимого уровня управления.
Наши современники соглашаясь с тем, что «Местные самоуправления в России формировались в результате децентрализации власти в ходе земской и городской реформ 1860-1870-х годов» в отличии от А. И. Васильчикова и В. П. Безобразова воспринимают децентрализацию как, во-первых, делегирование части государственных полномочий на более низкие уровни, во-вторых, объединение низовых локальных сообществ (общин) в целях повышения эффективности управления посредством их взаимодействия друг с другом. Что совершенно не соответствует сказанному выше о взглядах авторов «самоуправления» и как увидим ниже содержанию ст. 12 Конституции РФ суть, которой: создании особого самостоятельного уровня управления, органы которого «не входят в систему органов государственной власти».
То есть, цель российского самоуправления XIX в., по мнению оппозиции: под прикрытием разговоров о глубоких корнях демократического самоуправления — разрушение авторитарной феодальной российской системы управления в лице земельных феодалов, формирование капиталистических отношений во главе с буржуазией и постановка власть предержащих (исполнительных органов) под контроль представительных посредством децентрализации власти и управления как по вертикали, так и по горизонтали, то есть разбивка единого государственного управления на два уровня: уровень государственной власти и уровень самоуправления на основе демократических принципов.
Понимали это и отдельные российские чиновники того времени. В частности, пессимистично оценивая либеральные формы управления, достаточно сочувственно относясь к местному самоуправлению как этико-социальной идее, анализируя политические аспекты деятельности земства, С. Ю. Витте в 1899 г. сделал вывод, что политическая идея самоуправления находится в антагонистическом противоречии с идеей централизованного самодержавного государства; это порождает конфликты и коллизии в реальной практике земских учреждений России, «Для России местное самоуправление несёт в себе угрозу существующей государственной власти». Но тема самоуправления стала выгодным политическим брендом в борьбе за власть, а потому усиленно муссировалась в обществе и в досоветское и в постсоветское время.
Не получив поддержку от официальных российских органов, либералы начинают атаку на земскую систему и «промывание мозгов» россиянам рассказывая о достоинствах западного самоуправления. И как отмечают уже наши современники в России в XIX в. появляются целые школы, пытающиеся растолковать не толкуемые английские церковно-философские размышления — self-government и производное от него local self-government, предлагаемые в виде главного оплота демократии, публикуются статьи, монографии и т. д. Начинается интенсивная обработка населения в духе «Окон Овертона».
В частности, сторонники хозяйственной (общественной) теории местного самоуправления, в дореволюционное время, исходя из взглядов А. де Токвиля рассматривающего общину как независимое и абсолютно самоуправляемое явление (в России А. И. Васильчиков, В. Н. Лешков и др.) считали, что ключевым является принцип приоритета общины и её прав над государством, поскольку первая возникла раньше: именно на заложенных ею основах происходило потом оформление государственного организма. «С точки зрения этой теории самоуправление является такою же самостоятельной, органически единой формой общежития, как само государство. Самоуправление существует рядом с государством — два самостоятельных круга, две самостоятельных сферы общежития, имеющие особое, специфическое содержание — местные интересы, с одной стороны, и национальные, — с другой». А потому, органы местного самоуправления должны быть выделены из системы общей государственной администрации, чиновники же, занимающие управленческие должности в общине, не относятся к государственным служащим, так как представляют не государство, а общество. По их мнению, самоуправление есть результат самоорганизации общества и продукт общественной свободы, в отличие от навязанной государством земской системы. И главное, члены общины сами отвечают за дела в общине. То есть по мнению сторонников хозяйственной (общественной) теории МСУ децентрализация управления заложена самой природой общины.
В отличие от сторонников хозяйственной (общественной) теории приверженцы государственной теории (В. П. Безобразов, А. Д. Градовский и др.), напротив, доказывая несостоятельность аргументов «общественников» считали что «Органы самоуправления, возникнув на общественной почве, под влиянием общественных интересов, тем не мене не перестают быть государственными и для этого должны входить как звенья в общую систему власти и управления в государстве». Они считали, что все полномочия в области местного самоуправления даны государством, имеют источником государственную власть и осуществляются при помощи местных жителей, заинтересованных в результатах местного управления.
Один из сторонников государственной теории Н. И. Лазаревский определял местное самоуправление как систему децентрализованного государственного управления. По его мнению, «государственная власть — это совокупность полномочий и монарха, и коронной администрации, и парламента, и органов самоуправления».
Государство возлагает на местные органы выполнение определённых задач государственного управления. Таким образом, самоуправление, по их мнению, есть государственное управление — вот их откровенный вывод. А потому, чиновники, занимающие управленческие должности в местных органах являются государственными служащими. Именно эти понятия больше всего импонировали большевикам.
Согласно Положению о губернских и уездных земских учреждениях 1890 г. и Городовому положению 1892 г., выборные лица, занимающие должности в коллегиальных органах земского управления, стали считаться состоящими на государственной службе. Они имели право на чинопроизводство, на получение орденов и ношение мундира.
По мнению А. Д. Градовского способность населения осуществлять ведéние местных дел под свою ответственность выглядит умозрительно и не подкреплена социологическими фактами. Если же население не имеет возможности и готовности осуществлять местное самоуправление, создавать и контролировать местные органы власти, то ничего, кроме чиновничьего произвола, прикрытого идеологией самоуправления, сформироваться не может. На этой же позиции стоял и Б. Н. Чичерин.
На взгляд же авторов данного исследования (Б.Х., Е.Ш.), наличие всех этих школ, после предложения идеологемы «самоуправление», уже указывает на искусственность как самой идеологемы, так и созданного на её основе словосочетания «местное самоуправление», т.е. предложение выросло не внутри российского общества, а было привнесено из вне, требовало толкования, разъяснения, но российских теоретиков это не насторожило и не настораживает.
Имеются и другие определения МСУ идущие не в русле определения А. И. Васильчикова. Так В. В. Ивановский писал в 1881 г., что «Самоуправлением называется внутреннее управление, поскольку оно управляется и осуществляется самим народом; говоря другими словами, это есть народная деятельность, имеющая своей целю выполнение задач внутреннего управления». Так начиналась тавтология и неразбериха с понятием русского самоуправления, продолжающаяся десятилетия.
С публикаций вышеперечисленных авторов в России начинается критика национальной правительственной земской системы и восхваление непонятных для россиян в течение десятилетий размышлений на тему самоуправления. Причём к критике подключаются и представители государственной власти. Так В. В. Водовозов приводит слова министра МВД Российской империи В. К. Плеве, о том что он видит «в „земцах“, т.е. в гласных земства, и в „третьем элементе“, т.е. в служащих в земствах, опасную в политическом отношении группу».
Тот же В. В. Водовозов характеризуя самоуправление в 1900 г. отмечал, что, во-первых, к началу XX в. самоуправление стало институтом государственного права (правда не уточняя в каких государствах идеологема в тот момент из абстрактных рассуждений стала институтом права, — Б.Х., Е.Ш.), во-вторых — термин «обозначает управление каким-либо кругом дел самими заинтересованными гражданами (непосредственно или через посредство избранных ими органов), без вмешательства посторонней власти» (как покажет дальнейшее исследование даже англичане до сих пор, третье десятилетие XXI в., не могут уйти от вмешательства «посторонней власти). Подобные рассуждения, на наш взгляд, как и многие другие его современников, совершенно не входит в ложе определения данного ранее кн. А. И. Васильчиковым. Кроме того, вызывает недоумение и его утверждение, когда он заявляет, что «правом самоуправления в России, — (на момент написания им статьи — Б.Х., Е.Ш.), — пользуются — губернии, уезды, волости и сельские общества» (опять не уточняя как можно пользоваться тем, что не прописано в НПА, — Б.Х., Е.Ш.). Возникает естественный вопрос — если МСУ существует при земской системе управления, то зачем нужно было его (земство) ломать к чему постоянно призывали либералы?
Так начиналась многолетняя борьба российских акторов МСУ по развенчанию положительных свойств земской, а затем и советской систем местного управления и превращению идеологемы «самоуправление» в российский институт местного самоуправления.
Но, чтобы не оттолкнуть от себя население, приверженцы самоуправления длительное время продолжали употреблять термин «земство». Позже либералы стали настраивать земские органы заняться политической деятельностью проводя «Земские съезды» создавая общественные организации, среди которых особое место занимали Всероссийский земской союз (ВЗС) и Всероссийский союз городов (ВСГ) учреждённые оппозиционно настроенной общественностью.
Черту под всеми этими псевдонаучными изысканиями в течение 69 лет вынужден был подвести Л. А. Велихов, с горечью отметивший в 1928 г., что «Самый термин „самоуправление“, как и большинство терминов в социальных науках, не имеет вполне точного и единого научного значения. В разных странах и разными авторами он понимается различно». Теперь уже возникают вопросы к позднесоветским и постсоветским российским законодателям: читали ли они это предостережение Велихова? А если читали, то, как можно было включать в закон норму права, смысл которой даже наука не может чётко и однозначно сформулировать в течение десятилетий?
Но российские так называемые научные круги и словосочетание local government (в понимании отцов российского «самоуправления» А. И. Васильчикова и В. П. Безобразова) и созданную в XX в. в Англии систему местного управления, ни чего общего не имеющую ни в названии, ни в содержании с самоуправлением для оправдания своих взглядов о местном самоуправление предлагают россиянам и local government рассматривать как «местное самоуправление». Мало того, словосочетанием «местное самоуправление» стали называть системы российского общинного управления, российских княжествах, царской Россией, в том числе и земство Временного правительства.
Что примечательно так это то, что никто из наших современников, рассуждая об этих «школах», не задаётся вопросом: почему «школы» о местном самоуправлении в России появились, а вот «школы» о земстве нет? На наш взгляд ответ простой: земская система россиянам была понятна и не требовала таких разъяснения, а вот самоуправление было не понятно. Непонятно оно остаётся и сегодня.
Недоумение вызывает и тот факт, что, предлагая проведение реформы в духе local self-government российские либералы ни в XIX в., ни в конце XX в. совершено не задавались вопросом о причинах отказа англичан к середине XIX в. от терминов self-government и local self-government даже в церковно-философских рассуждениях. Этот нюанс позволяет авторам данного сочинения в настоящее время предполагать, что в уме они (российские либералы) всё это время держали возможность через децентрализацию управления на манер английских размышлений, попасть в «европейский рай», не страшась при этом ни разрушения управления, ни разрушения самого государства. Причём к началу XX в. российские и либералы, и социалисты допускали возможность революционной реконструкции власти даже с оружием в руках по примеру ряда европейских государств. По этой же причине (подспудная надежда в успехе развала государственного управления с помощью самоуправления) толкала многие политические партии в поддержке разговоров о российском самоуправлении.
Интересным является и то, что ни один закон о местном управлении в Англии не содержит статьи, дающей понятие (толкование) ни местного самоуправления, ни местного управления. Такое положение Л. А. Велихов в 1928 г. попытался объяснить тем, что «Принцип самоуправления и общности настолько въелся в плоть и кровь англичан, что они не находят нужды ни в определении его, ни говорить о том, ни даже устанавливать его в нормах в законодательстве».
О каком английском самоуправлении «въевшемся в плоть и кровь» говорил Л. А. Велихов в 1928 г., (особенно в понимании А. И. Васильчикова и В. П. Безобразова) когда к тому времени в английском законодательстве уже несколько десятилетий употреблялся термин local government, непонятно. Термин же local self-government в переводе как «местное самоуправление», как пишут наши современники, зародившись в XVII в., отсутствовал в английских нормативных актах в XIX вв. и не имел широкого распространения ни в прошлом (XX) столетии, ни в нынешнем (XXI) и даже не остался в языке англичан, говорящих просто — local government — «местная власть», «местное управление». То есть, столетиями Европа не может юридически объяснить термин self-government. Мало того она на долгие годы от него отказалась, придумывая всё новые и новые термины, несущие это понятие и в конце концов, просто запуталась в них, но Россия жёстко стоит на своём — наличие МСУ позволяет говорить о демократичности российского государства, вместо того что бы просто делать систему местного управления без всяких «само» во благо российского населения.
На наш взгляд в «плоть и кровь» англичан въелся не «принцип самоуправления», а термин self-government употребляемый в течение столетий в различных ипостасях, но не попавший в нормативные правовые акты, так как английские законотворцы просто прекрасно представляли, что начни они его устанавливать в правовых нормах как «самоуправление» и давать в них ему определение, они посеяли бы такую смуту, которая могла бы привести к сепаратизму, как это произошло в СССР после введения института местного самоуправления в советское правовое пространство (1990 г.). Именно эту угрозу и не уловили депутаты Верховного Совета СССР (большинство из которых составляли члены КПСС), а позже и союзных республик во многих из которых, после дебатов о самоуправлении, началась борьба за суверенитет этих территорий увенчавшаяся успехом: выходом союзной республики из состава СССР. Подобное попытались произвести и некоторые АССР в составе РСФСР/РФ. Наибольшее стремление к самоуправлению через сепаратизм проявил Татарстан, а Чеченская республика добиваться самоуправления стала с оружием в руках развязав очередную войну на российском Кавказе. К сожалению, не понимают этого и многие адепты МСУ работающие сегодня в сфере самоуправления.
Что касается обширного толкования self в английском языке и переводе на русский как «само» то об этом неоднократно указывали не только авторы данного исследования, но и иностранцы. По всей видимости, этот тезис нужен был русским «политологам» для того, чтобы принцип самоуправления, в конце концов «въелся в плоть и кровь» теперь уже россиян, что со временем дало бы возможность российским законодателям по примеру англичан прекратить многолетние бесплодные попытки дать правовое обоснование идеологемы под названием «самоуправление» и производному от неё словосочетанию — «местное самоуправление». Именно к такому выводу подталкивает содержание проекта нового закон о местном самоуправлении №40361—8
Говоря о Великобритании необходимо отметить, что несмотря на отказ к 1888 г. английских законодателей от self в написании термина local government и отсутствия толкования местного самоуправления в английских законах и дебатов а эту тему в английских научных кругах, о чём писала Т. А. Свиридова в 2001 г., в литературе предназначенной для других стран, англосаксонское словосочетание — local self-government в течение десятилетий продолжает обсуждаться. Это позволяет сделать вывод о том, что: во-первых, для себя англичане не признают никакого местного самоуправления, но для других, прежде всего «недоразвитых» «варварских» стран, впихивают его, куда только можно; во-вторых, в России этого «не заметили» и продолжали пространные бесплодные дискуссии о сути и принципах непонятной для русского языка импортной идеологемы «самоуправление» и даже в конце XX в. включили словосочетание «местное самоуправление» в российское правовое пространство как правовой институт, в результате и это, в-третьих, находится достаточно большой круг «исследователей» в ранге академиков, докторов наук, пытающихся, исходя из «линии партии», разъяснить тёмным россиянам смысл и значение зарубежного понятия.
По поводу ответственности в английском муниципальном праве Я. Ю. Старцев в 2003 г. писал, что «В отличие от континентальной Европы, юридическим лицом, которое наделено полномочиями по местному управлению, — (в Англии — Б.Х., Е.Ш.), — является не сообщество, а совет <…> но члены местных советов выполняют свои функции бесплатно; их деятельность — добровольное участие граждан в управлении. Поэтому парламентские акты разрешают местным советам предпринимать те или иные действия, но не обязывают их к этому. Обязанность заниматься той или иной деятельностью может лежать только «на местных чиновниках». За что они и несут соответствующую ответственность…
Незавидная судьба self-government в англосаксонском понимании как «самоуправление» и тенденция не пускать в правовое пространство что-то схожее с самоуправлением, но без использования термина self-government, прослеживается и в других попытках закамуфлировать истинное предназначение отдельных терминов, преподносимых россиянам как самоуправление и под благовидным предлогом выдать желаемое за действительное.
Наиболее показательным примером такого иносказания с целью камуфляжа принципов самоуправления и главного из них — демократической децентрализации управления, является движение за автономное управление Ирландии названное как home rule (гомруль) — термин ни чего общего не имеющее с самоуправлением, но провоцирующий в перспективе сепаратизм. То есть этим термином россиян вновь вводят в заблуждение в отношении отторгнутого в Великобритании «самоуправления» и прежде всего его либерального гена — разрушения всё и вся под лозунгом демократической децентрализации, но рекомендуемого россиянам именно как самоуправление.
Как пишут Большая Российская Энциклопедия, Е. Ю. Полякова и др., термин гомруль — был введён Г.-И. Баттом в 1870 г., основателем «Home Government Association», в русском переводе звучащей как «Ассоциации местного управления». Как видим ни о каком местном самоуправлении, ни в названии ассоциации, ни в содержании документа речь не идёт. Смысл документа заключался в требовании сторонниками движения (гомрулерами) создания собственного ирландского парламента и своих органов управления, при сохранении британского суверенитета над Ирландией, иными словами придания Ирландии, на тот момент, статуса доминиона, со своими государственными атрибутами, прежде всего органами и государственными символами, с прицелом в будущем на создание суверенного ирландского государства, то есть основное предназначение гомруля, как показывает его история, через рассуждения о местном управлении, без упоминания «самоуправления», борьба за власть вылившаяся в сепаратизм.
В результате многолетних разговоров о гомруле как о местном управлении, но держа в голове конечную цель движения — самоуправление территорией, сепаратистская борьба ирландцев за независимость от Великобритании (за децентрализацию управления) в последующие годы привела к тому, что Ирландия была раздроблена на две части. Одна часть — южная 06.12.1922 г. провозгласила себя независимым государством — Ирландским Свободным государством со своими органами власти, управления, конституцией и государственными символами, а вторая, северная, — вошла в состав Великобритании как Северная Ирландий и стала жить по её законам.
В последующем рассуждения о home rule распространились и на другие территории Великобритании.
Так в годы первой мировой войны движение за — гомруль развернулось на территории Британской Индии. Здесь первоначально термин гомруль, заимствованный из Ирландии, понимался как достижение территорией автономности конституционными методами в рамках Британской империи. Однако движение закончилось, как и в Ирландии приобретением, независимости этой территорией и созданием на ней двух самостоятельных государств: Республики Индия и Исламской Республики Пакистан (в 1971 г от Пакистана отделилась его восточная часть, ставшая Народной Республикой Бангладеш). Использовался этот термин в таком же понимании и в ряде других английских колоний, с таким же результатом — приобретением ими независимости. у
Новое прочтение и закрепление в нормативном правовом акте термин home rule получил в отдельных штатах США, где он в трактовке словаря «English-Russian dictionary of regional studies» понимается как «Вид управления муниципальной корпорации при котором устав муниципальной корпорации разрабатывается непосредственно в городе или посёлке специально избранной комиссией и утверждается (здесь имеется ввиду — принимается — Б.Х., Е.Ш.) не властями штата, а избирателями жителями города, — (то ест, опять, как и в Ирландии: решение внутренних проблем через создание представительного органа и собственных органов управления, теперь муниципалитета, с закреплением этого права в муниципальном уставе (charter — Б.Х., Е.Ш.). Примерно половина муниципалитетов в США получили от властей своих штатов такое право».
При этом в соответствии с правилом Диллона муниципальное образование «Может пользоваться только теми правами, которые перечислены в его уставе, зарегистрированном властями штата, и теми, которые прямо вытекают из прав, предоставленных властями штата» (курсив наш). Именно в этом понимании он и закрепляется в муниципальных хартиях США. Т.е. правá МО делегируются властями штата, закрепляются в уставе МО, который регистрируется опять же властями штата.
Вот и всё самоуправление по-американски!? Нет конечно, иначе англосаксонские либералы не скрывали бы в своих правовых актах своё желание о разрушении всё и вся за различными литературными словосочетаниями. По нашему мнению, взяв систему home rule на вооружение американские либералы запустили механизм разрушения страны изнутри, так как это главная задача либералов. И подтверждение этому выводу мы находим в росте сепаратистских тенденций (борьба территорий за самоуправление) в отдельных американских штатах. То есть разговоры о home rule в американских штатах дают свои плоды: на территории США, несмотря на словесный камуфляж в правовых актах, всё чаще и чаще, ведутся разговоры о сепаратизме. Наиболее подвержены этой тенденции штаты: Техас, Небраска, Южная Дакота, Северная Дакота, Монтана и Вайоминг, что отмечают многие российские исследователи.
Примерно такое же отношение к восприятию самоуправления мы видим в большинстве европейских конституций, действовавших до четвертой четверти XX столетия.
Наиболее интересен в связи с этим опыт конституционного регулирования местного управления в Австрии после принятая в 1920 г. Конституции и процесс её изменений в последующие годы.
Так Конституция Австрии в редакции 1920 г. опубликованная в России в 1924 г. в разделе «В. Общины» (статьи 115—120) устанавливала, что «Общее государственное управление в землях будет осуществляться на началах самостоятельного управления…». То есть российский перевод начала XX в. в понятие общины не вкладывал ни понятия муниципалитета, ни самоуправления. В последующие годы перевод этих статей зазвучал совершенно иначе. Многими переводчиками раздел стал называется «Муниципалитеты», под которыми в соответствии со ст. 115 понимались «местные сообщества» («local community») имеющие право на своё самостоятельное управление («self-administration»).
Нет в тексте 1920 г. и ссылок на децентрализацию управления. Так ст. 118, устанавливалось, что «Местные и областные общины образуют самостоятельные хозяйственные единицы; они имеют право приобретать и владеть имуществом всякого рода; распоряжаться им в пределах законов Союза и земли, организовывать и самостоятельно вести хозяйственные предприятия и взимать налоги». По нашему мнению, самостоятельность в хозяйственной деятельности и децентрализация управления совершенно разные вещи.
В более поздних редакциях конституции Австрии, россияне при переводе оперируют уже словом самоуправление. При этом в последующих редакциях отмечается что «Органы самоуправления уполномочены выполнять свои задачи под свою ответственность… Федерация или земля имеют право осуществлять надзор за ними… На органы самоуправления могут быть возложены задачи по управлению государством», то есть современная Австрия не предусматривает децентрализации, но «самоуправление» по мнению россиян в Австрии есть.
Интересным изменением внесённым в последующие редакции конституции является закрепление в них положения о том, что «Муниципалитет осуществляет свою компетенцию в рамках законов и постановлений Федерации и земли под свою тветственность…». Вот по-видимому откуда «растут ноги» ответственности российского населения за дела в муниципалитете.
Что касается российской идеологемы «самоуправление» и производного от неё понятия местного самоуправления, то, по нашему мнению, они, во-первых, нужны были российским либералам XIX в. для популяризации в научных кругах идеологемы «самоуправление» способной, по их мнению, к разрушению существующей российской системы управления, для выполнение политико-идеологической установки либералов и социалистов; во-вторых, СССР, РСФСР, а так же ряде бывших колоний Великобритании (США, Ирландия, Индия) демонстрируют прекраснейший пример сепаратистских тенденций общественного движения именуемого или self-government (США, СССР, РСФСР/РФ) или home rule (Ирландия, Индия, США и др.) (в русском переводе как самоуправление) в которых принцип самоуправления — децентрализация управления (сепаратизм) в сути предлагаемых систем управления сохраняется, что зачастую приводить к провоцированию сепаратистских тенденций на территориях где он обсуждается общественностью и в большинстве случаев воплощается в жизнь в виде формировании обособленных децентрализованных административных территорий, в худшем варианте — разрушении управляемости и даже государства; в-третьих, объяснение навязыванию российскими адептами МСУ идеологемы в течении более 100 лет банально и заключается в том, что хоть слово и непонятно, но акторы этой талмудистики уже тогда надеялись с его помощью попасть из «джунглей» в «европейский сад», а для этого готовы были на всё, вплоть до разрушения своей национальной системы управления, внедрения импортной в угоду западным тенденциям и даже разрушения самого государства (прекрасный пример: М. С. Горбачёв, Б. Н. Ельцин и другие руководители бывших союзных республик и стран народной демократии).
На наш взгляд современное российское МСУ это очередной политический культ, как либерализм, коммунизм, демократизм, гражданское общество и т.п., привнесённые в наш лексикон и навязываемый миру, а в последующем оформленный Советом Европы в политический документ — Европейскую хартию местного самоуправления, воспитывающий своих адептов, которые создавая историю МСУ из мифологем, не брезгуя при этом ни подтасовкой фактов, ни даже ложью, водят россиян в заблуждение.
И как результат, в последующем в России появляется масса работ приверженцев нового культа, безуспешно пытающихся растолковать суть очередной русской либеральной разрушительной придумки XIX в. Их особенностью было: во-первых, наличие критических суждений и противопоставлений при оценке земства и предлагаемого самоуправления, причём последняя (идеологема) больше тяготела к критике первой; во-вторых, создание мифов о положительном влиянии МСУ на построение демократического общества в России, причём что это такое (демократическое общество) в общем-то ни кто толком не знал, но тоже звучало красиво. Всё это напоминает потуги современной Украины выстроить свою историю государственности в отрыве от России; в-третьих, создание истории идеологемы и словосочетания через отнесение к местному самоуправлению не только земского и городского управление второй половины XIX в., но и различных форм корпоративного управления в том числе: дворянского управления, крестьянской общины, казачьего управления, мещанского управления, общественного управления национальных окраин. Позже к местному самоуправлению российские исследователи под благовидным предлогом, выдавая желаемое за действительное, стали причислять и системы местного управления, существовавшие в России как в средние века, так и после, и даже более того всё чаще и чаще представляют мировую историю МСУ со времён Древнего Мира. Всё это говорит о том, что современные адепты МСУ пытаются доказать, что российская идеологема «самоуправление» и производное от неё словосочетание «местное самоуправление» родились не на пустом месте, а выпестовались россиянами в течении столетий и о ней (идеологеме «самоуправление») люди будто бы мечтали веками.
И вновь мы вынуждены отметить, что адептов МСУ совершенно не смущало и не смущает, что:
— упомянутые выше различные формы российского местного управления совершенно не соответствовали и соответствует ни понятию МСУ сформулированному в XIX в. А. И. Васильчиков, ни данному в Европейской хартии в российском перевод, ни одному определению, сформулированному в российских законах, как позднего советского, так и постсоветского периодов. Для многих из них критерием признания той или иной средневековой российской системы самоуправленческой достаточно было того, что старосты населённых пунктов выбирались их жителями. А вот то, что они (старосты) работали под жесточайшим контролем государственных органов, во внимание не бралось;
— средневековые российские управленческие системы не ставили целью децентрализацию власти и управления, а наоборот были направлены на их укрепление под руководством центральной государственной власти «ниспосланной богом» как говорили в те времена, борьба с которой объявлялась злом и грехом;
— ни средневековые князья, ни цари, ни российские императоры, в своих нормативных правовых актах, регулирующих общественные отношения, слово «самоуправление» и производное от него словосочетание «местное самоуправление» вообще не употребляли, о чём красноречиво говорит факт их отсутствия в НПА и в толковых словарях начала XIX в.;
— появление и использование идеологемы в русском лексиконе прекраснейший пример того как российские либералы и социалисты под предлогом демократизации подгоняли под требования объединённого Запада и российской либеральной верхушки российскую систему управления с целью её разрушения.
Кроме того, и это главное ни земства, ни формы корпоративного управления не соответствовали принципам церковно-философских размышлений англосаксов, воспринятых А. И. Васильчиковым как научная концепция.
В дальнейшем российские исследователи станут объединять земство и самоуправление в одно понятие — «местное самоуправление». Но если большевики, объединяя самоуправление и советы, о чём говорилось выше, исходили из того, что идеологема и советы имели общую цель — уничтожение царизма, то либерально настроенная российская интеллигенция, объединяя в своих изысканиях земство и идеологему исходя из тактики англичан скрывать истинную цель своих действий пытались, спрятавшись за земство как за дымовую завесу, разговорами о демократии затушевать принцип децентрализации.
Позже, посчитав, что поставленная цель достигнута они практически перестанут употреблять термин «земство» пустив в обиход миф о том, что просто оно (земство) тогда было местным самоуправлением, но при этом не объясняли зачем же его надо было разрушать и вводить новое понятие «самоуправление». То есть хотя слово «самоуправление» в русском языке до начала второй половины XIX в. отсутствовало, но, по мнению отдельных российских адептов МСУ, система самоуправления в российской практике государственного управления существовала испокон веков. Вместе с тем, характеризуя системы местного управления в периоды от крещения Руси и ранее, до Временного правительства как местное самоуправление, постсоветские исследователи в большинстве своём игнорируют советскую систему выдвигая ей, как правило, обвинение в авторитаризме с помощью которого власть предержащие, и прежде всего РСДРП (б) ‒ВКП (б) ‒КПСС, пытались удержать управление в государстве в своих руках. Можно подумать, что период рабства в Древней Руси, системы местного управления Ивана IV, Петра I и других российских князей, царей, и императоров особенно во времена крепостного права, были более самоуправляемы и демократичны, чем Советы.
На наш взгляд черту под историей появления идеологемы «самоуправление» подвёл в середине ХХ в. В. В. Виноградов отмечавший в 1955 г., что «Такое образование (самоуправление» — Б.Х., Е.Ш.) не отмечено в русских литературных текстах до середины XIX в. <…> С точки зрения истории того общественно-политического понятия, которое в настоящее время связывается с этим термином, то едва ли можно генезис его возводить ко времени более раннему, чем середина XIX в.».
Таким образом историография пореформенного периода реформирования местного управления в России показывает не только историю появления, но и начало смешения в исследовательских и политических кругах, среди практиков местного управления двух понятий: земство и самоуправление, их противопоставление, этакое проявление начального этапа «Окон Овертона», результатом которого (противопоставления) стала победа большевиков в споре о дальнейших путях развития российской государственности на национальных началах.
Хорошим примером паразитирования на непонятной идеологемы в те годы является издание в 1913 г. в г. Хабаровске журнала, озаглавленного как «Известия Хабаровского городского самоуправления», организатором и вдохновителем издания был глава города, издание в марте 1917 г. в г. Николаевске-на-Амуре газеты «Самоуправление» — органе местных учреждений (думы и управы), в Благовещенске «Известия Амурского областного Земского самоуправления» — официальном органе Амурского земского Самоуправления, ответственный за издание — Амурская областная земская управа. 1917—1918 гг. И ряд других подобных изданий.
Считаем, что эти примеры говорят о не понимании идеологемы, в концепции её авторов (А. И. Васильчикова и В. П. Безобразова и др.), выраженного формулой о сведение в одно общее начало «крестьянских, земских и мировых учреждений» в городах в которых: во-первых, положение о земском управлении до 1917 г. не вводилось, уже не говоря о самоуправлении, во-вторых, суд на Дальнем Востоке был зависим от администрации края, достаточно напомнить, что генерал-губернатор получал право на утверждение приговоров суда; в-третьих, несмотря на то, что города были окружены сельскими поселениями, да и их собственное население (городское) в основном занималось сельским хозяйством, авторами данного исследования материалов о проблемах сельских общин и местной юстицией в изученных СМИ не обнаружено, а потому говорить о самоуправлении в этих городах не приходится. Вывод с названием напрашивается только один — политическая элита городов жаждала быть в модном на тот момент тренде, а название с самоуправлением для этого очень подходило, да и звучало красиво. Понятно, что судьба изданий была не долгой, так как они не отражали сути существующей системы управления.
Отдельное внимание в дореволюционных исследованиях убыло уделено социальной деятельности земских органов и перспективе демократического развития общества на принципах западного местного самоуправления.
Блок тематических публикаций второй половины XIX — начала XX вв., позволяет сделать определённые выводы о внутреннем состоянии российского местного управления. И прежде всего, показать суть и задачи, предложенных земской системы и идеологемы, их место в становлении управления территориями и разрушении российской государственности и в конечном итоге в исчезновении с политической карты мира такого государственного образования как Российская империя.
Работы, опубликованные «по горячим следам», показывают, что исследователи, проанализировав итоги имперского земского управления, после февральской революции попытались предложить власть предержащим модернизированную модель земства с учётом тех недостатков, которые были выявлены в дореволюционный период на отдельных территориях России, с надеждой их использования Временным правительством.
Практически сразу после принятия соответствующих нормативных правовых актов Временным правительством в российских научных кругах, общественностью и партийными функционерами начинаются философские рассуждения с разъяснениями особенностей местного управления, вводимого Временным правительством. Причём авторов «научных» изысканий не смущало отступления Временным правительством в нормативных актах от понятия идеологемы и словосочетания сформулированных А. И. Васильчиковым.
Но итоги диспутов о самоуправлении насторожили Временное правительство, которое занявшись реформированием имперского земства так же не пустило в правовое пространство России идеи о местном самоуправлении, издав более 50 документов о местном управлении.
Приведённый список правовых актов позволяет сказать, что Временное правительств, как и царское, не пустило идеологему «самоуправление» и производное от него словосочетание «местное самоуправление» в правовое пространство России, т.е. дальше общих разговоров дело не пошло, но сторонники этой системы (либералы и социалисты всех мастей) продолжая её пропаганду смогли довести разрушение управления в России до их «логического» конца — прекращения существования Российского государства (Российской империи, Российской республики).
Важный вывод из всех этих обсуждений состоит и в том, что, несмотря на отсутствие как в названиях документов, так и в их текстах терминов «самоуправление» и «местное самоуправление» либерально настроенные исследователи зачастую называли систему предложенную Временным правительством местным самоуправлением. Эта же тенденция продолжается и в постсоветское время.
При этом в течении десятилетий, как правило, редко кто задаётся вопросом: почему появившись в России в середине XIX в. как общие размышления о самоуправлении и местном самоуправлении они не превратились в норму права ни в царской России, ни у Временного правительства, но были закреплены в правовом пространстве СССР накануне его развала? И в результате наши современники пытаются связать с МСУ все исторические системы российского местного управления.
Историография изучаемой проблемы в рассматриваемый период позволяет сделать следующие выводы о сущности пореформенного земского управления, идеологемы «самоуправление» предложенной либеральными кругами России для определения системы местного управления, обозначенного как «местное самоуправление» и их различия (таблица 1):
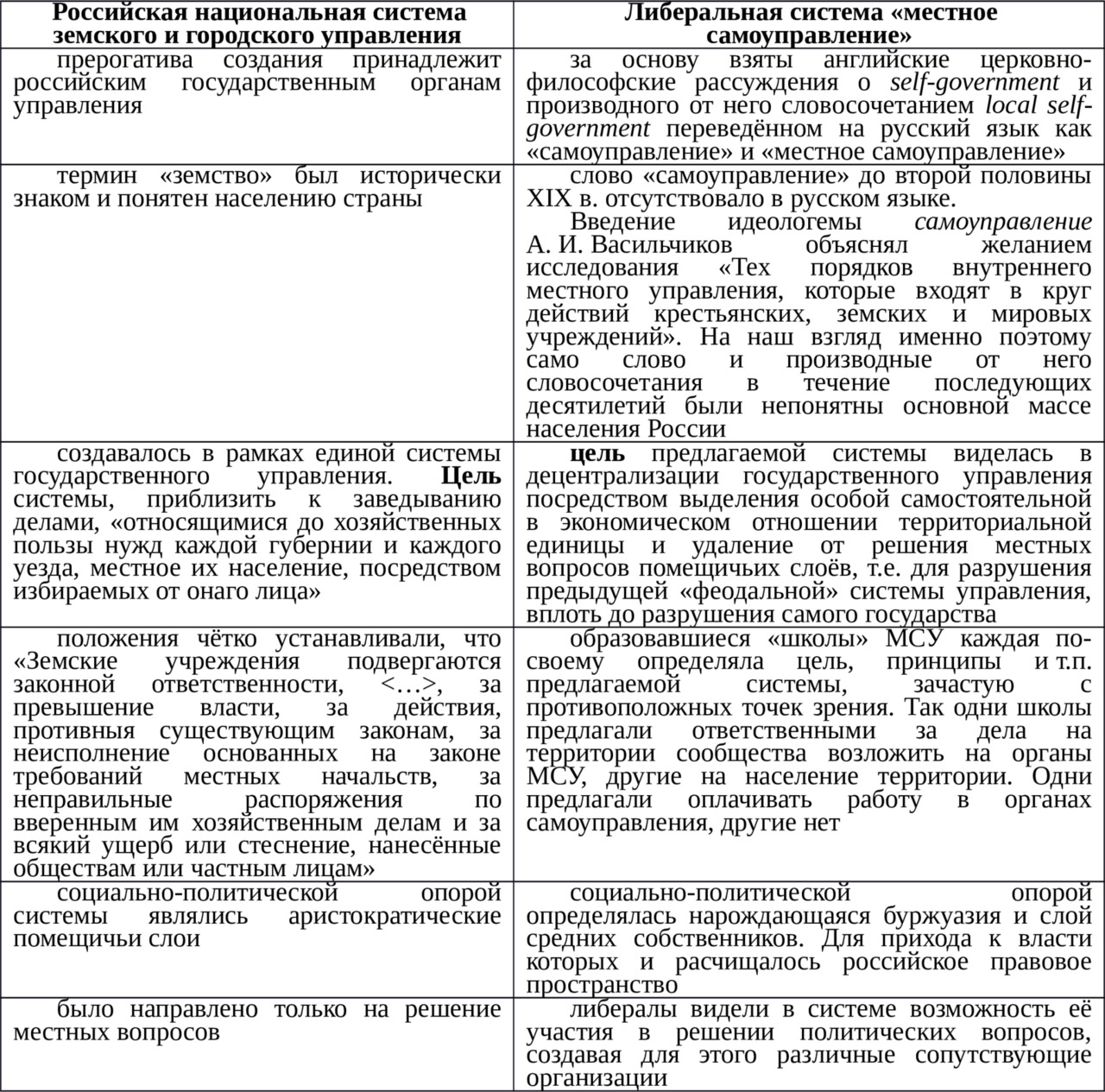
Таким образом, анализ литературы посвящённой строительству местного управления в России, позволяет сказать, что правящие российские круги в 1864 г. предложили совершенно новые принципы построения системы управления на уровне губерния (область) — уезд, город, получившей в последующем обозначение как земство. Однако либеральные и социал-демократические круги, мечтавшие об изменении не только местной системы управления, но и всего государственного устройства России под прикрытием демократической демагогии стали впихивать россиянам западные церковно-философские размышления self-government и производные от неё словосочетание local self-government, которые Европа на тот момент всерьёз не воспринимала, переведённые россиянам как «самоуправление» и «местное самоуправление» основная цель которого им виделась в децентрализации управления.
И хотя англичане не пустили в своё правовое пространство ни self-government, ни local self-government, но безудержная пропаганда их принципов и прежде всего принципа демократической децентрализации сделали своё дело: распад Соединённого Королевства начался выходом части Ирландии из Королевства и борьбой шотландцев за самоуправление, которое вылились в движение за создание своего самоуправляемого правительства. В XX столетии прошли два референдума за создание Шотландского парламента. Второй дал положительное решение и в 1998 г. в Шотландии создаётся собственный парламент и администрация — аналог кабинета министров. В 2012 г. шотландцам было предложено высказаться по вопросу выхода их Королевства, подписав соответствующую декларацию. 22.08.2014 г. Блэр Дженкинс, глава движения «Да, Шотландия!», официально подтвердил, что по проверенным данным, декларацию в пользу суверенитета Шотландии (своеобразный предреферендум) подписало 1 001 186 избирателей. При подсчёте голосов оказалось, что 55,3% проголосовавших выступили против независимости, а это означало, что Шотландия остаётся в составе Соединённого Королевства.
В середина XIX в. европейские страны начали формировать у себя новую систему управления назвав её «local government», без всякого self, понимая её как — «местное управление». Но российских либералов это не останавливало, и они продолжали эксплуатировать этот термин как «местное самоуправление». Что касается большевиков, то они, как покажет дальнейший анализ, отказавшись от идеологемы и словосочетания, предложили более радикальную систему — «Советы».
Историография идеологемы «самоуправление» и производного от него словосочетания «местное самоуправление», показывает, что на протяжении столетий ни в Европе, ни в России его акторы так и не сумели сформулировать ни внятной цели «самоуправления», ни общепринятого их определения, ни чётких параметров. То есть, общепризнанного понимания местного самоуправления, несмотря на обширные, многолетние дискуссии не произошло.
Кроме того, переход России на новую систему местного управления (земство) занял небольшой исторический отрезок времени, практически это произошло в пореформенный период, но, несмотря на это земская система, как любая система, со временем приобрела как сторонников, так и противников.
К тому же о том что «местное самоуправление» до второй половине XIX в. не было «вековой мечтой», как об этом пишут многие постсоветские историки, говорит и отсутствие в это же время в российском лексиконе термина «муниципалитет» или что-то производное от него. Появился он в российской научной литературе как и сама идеологема в ходе бессмысленного многолетнего дискурса о сути местного самоуправления во второй половине XIX в., проводимого частью либерально настроенной общественностью которая так и не сумела сформировать общепонятной дефиниции МСУ, не смотря на большое количества его интерпретаций в трудах исследователей. На наш взгляд это была продуманная, осознанная работа по дискредитации российского государства, преследующая разрушение государственного строя под ширмой демократии и строительства гражданского общества.
На первый взгляд Россия, хоть и с потерями, сумела выстоять под ударами разговоров о МСУ и не пустила его в своё правовое пространство, но по нашему мнению (Б.Х., Е.Ш.) разговоры о самоуправлении, местном самоуправлении, во-первых, вызвали сепаратистские настроения у населения отдельных на тот момент российских территорий (Финляндия, Польша, Прибалтика, Украина, Кавказ, Средняя Азия и т.д.), посодействовавшие изменению в государственном устройстве Российской империи, её территориальной целостности, во-вторых, подтолкнули к её исчезновению с политической карты мира как государства.
Придя к власти, большевики первоначально попытались применить принципы МСУ на практике, но быстро убедившись в их сепаратистской направленности на долгие годы отказались не только от системы МСУ, но даже от идеологемы «самоуправление» убрав её из своего лексикона.
На наш взгляд ситуация с употреблением термина self-government в переводе как самоуправление походит на использование россиянами в XXI в. в обыденной речи терминов «последний» и «крайний». Люди употребляющее термин «крайний» понимают, что использование его, к примеру, для обозначения последнего полёта как крайний полёт, совершенно неправильно, более того недопустимо в русском языке, но из-за позёрства, желания быть в модном тренде, мистики, зачастую употребляют термин крайний, а не последний. Именно о таком отношении к идеологеме «самоуправление» со стороны отдельный акторов МСУ (позёрство и модный тренд) и говорили И. С. Тургенев, Б. Н Чичерин, Н. Г. Чернышевский и другие.
Но если лётчику, подводнику, шахтёру такие лексические вольности простить, пожалуй, можно, а в остальных случаях употребляющим слово крайний вместо последний, стоит помнить, что говорить по-русски лучше без ошибок, то вот в отношении «самоуправления» ситуация более сложная, так как мы выяснили, что это не просто слово, а непонятная в течении десятилетий идеологема суть которой, под разглагольствования о демократии — сепаратизм, т.е. разрушение предыдущей системы управления.
Главный вывод из анализа источниковой базы этого периода заключается в том, что либеральные идеи о местном самоуправлении не смогли внедриться в российское правовое пространство и в практику российского государственного строительства и управления ни в пореформенное время, ни в период Временного правительства, так как власть предержащим роль МСУ виделась именно в ослаблении российского государства, но внести «демократическую» смуту в общество и посодействовать его распаду разговорам о самоуправлении удалось: Российская империя прекратила своё существование, отдельные окраинные территории в результате борьбы за самоуправление получили независимость и через небольшой промежуток времени стали воевать с тем государством которое образовалось на развалинах империи — РСФСР-СССР. К сожалению, для постсоветских либералов и социалистов это не стало уроком.
1.2 Историография строительстве советской системы местного управления и отношения большевиков и КПСС к идеологеме «самоуправление»
Октябрьская революция привела к власти социалистические партии, которым досталась страна с разрушенной системой управления. В России начинается правительственная чехарда, приведшая к формированию однопартийного правительства.
Первоначальный этап советского строительства (ноябрь 1917 — 1930 гг.) в советской историографии характеризуется неоднородностью отношения к земству и местному самоуправлению: от попыток сотрудничества с земскими органами, созданными Временным правительством и органами самоуправления, созданными на отдельных территориях, до отрицательного отношения к ним со стороны большевиков. Источниками для изучения этого периода в основном являются работы партийных лидеров и постановления партийных и государственных органов, архивные документы, воспоминания отдельных участников тех событий.
Так первые документы Совета народных комиссаров — первого советского правительства, изданные в конце 1917 — начале 1918 гг. отражали ведущуюся в стране дискуссию о возможных путях государственного устройства молодого советского государства, в которых большевики допускали использование либеральной системы местного самоуправления, о чём говорят такие документы как Декрет СНК «Об учреждении комиссариата по местному самоуправлению» (возглавлялся с декабря 1917 г. по март 1918 г. членом партии левых эсеров В. Е. Трутовским), обращение НКВД ко всем Советам рабочих, солдатских, крестьянских и батрацких депутатов под названием «Об организации местного самоуправления» от 23.12.1917 г. и ряд других.
Но уже в работе «Очередные задачи советской власти» (апрель 1918 г.) В. И. Ленин, проанализировав положение дел в стране, и уловив суть идеологемы «самоуправление» представляя план (задачи) строительства социалистического государства, не предусматривает никакого местного самоуправления. В результате идеологема не была включена в Конституцию РСФСР принятую в июле 1918 г.
В 1923 г. Л. М. Каганович, как бы отвечая коллективному Бухарину о «широком вовлечении в самоуправление», сформулирует более чёткую позицию большевиков, заявив, что «Нэп вызвал у наших врагов некоторые надежды, если не на уничтожение Советского государства, то на его демократическую эволюцию и, в частности, на эволюцию Советов в сторону старых земских и городских самоуправлений», заявив перед этим, что «Государственная власть в целом стала самоуправлением, а местное самоуправление стало государственной властью» тем самым выразив будущую формулу взаимоотношений между государством и местным управлением. На этих же позициях стоял и И. В. Сталин, который, начиная с работы над проектом Конституции РСФСР (1918 г.), всегда противостоял превращению низовых Советов в земские органы и органы местного самоуправления, рассматривая эти Советы и сельские сходы «как частицу верховной государственной власти». В этом же ключе высказывался и М. И. Калинин.
В вышедшей 1924 г. — году, когда большевистская партия и советский народ продолжали свою созидательную работу по строительству социализма уже без В. И. Ленина, работа И. В. Сталина, посвящённая борьбе с идеей Троцкого о перманентной революции самоуправлению внимание, совершенно не уделялось.
В результате советская историография описывающая процесс строительства местных Советов, в большинстве случаев шла именно в русле этих высказываний.
Постсоветскими же исследователями были высказаны иные точки зрения на причины отказа большевиков от земства и самоуправления, а сами эти взгляды на проблему были названы «Идеологемой, которая довольно умело, использовалась при создании нового государственного аппарата, не предусматривающего местного самоуправления».
1920 гг. характеризуются ростом национального сознания народов РСФСР, вылившийся в создание автономных национальных республик. На Дальнем Востоке России и в Забайкалье создаются Якутская АССР — 1922 г. и Бурятская АССР — 1923 г. Автономии получили право на разработку и принятие собственных конституций. Работа длилась годы.
Так Якутская АССР начала работу над своей конституцией в 1924 г. Разработала несколько её проектов которые в Якутии называются Конституциями, но как показывают архивы только 09.03.1937 г. IX Всеякутский съезд Советов по докладу председателя Редакционной комиссии принял постановление «Об утверждении Конституции (Основного Закона) Якутской АССР», которая и была утверждена третьей сессией Верховного Совета РСФСР первого созыва 02.06.1940 г. Такая долгая работа над документом объясняется попытками разработчиков конституции внести в неё сепаратистские нормы навеянные разговорами о самоуправлении. И это же тенденция вновь оживёт в нормах Конституции Республики Саха (Якутия) [далее — РС (Я)] в начале 1990 гг., что заставит федеральный центр (РФ) на первых порах (последнее десятилетие ХХ в.) молча их «проглотить», но во втором десятилетии XXI в. федеральный центр сумел добиться приведения норм Конституции РС (Я) в соответствие общероссийскому правовому полю. Дольше всех эта работа шла в Республике Татарстан (бывшая Татарская АССР), где борьба за национальное самоуправление вылилась в череду сепаратистских поползновений.
Одной из особенностей государственного строительства РСФСР в 1920 гг. было создание на просторах Дальнего Востока буферного государства: Дальневосточной республики (ДВР) (в орфографии 1920 гг. — Дальне-Восточная Республика): де-юре независимого государства, существовавшего с апреля 1920 г. по ноябрь 1922 г.
Конституция этого государственного образования (ст. 66) устанавливала, что «Местными органами государственной власти являются органы самоуправления». Как видим формулировка статьи далека от понимания термина «самоуправления» и А. И. Васильчикова и В. П. Безобразова, но на тот момент термин был моден.
Имеющиеся в распоряжении исследователей источники позволяют сказать, что первые попытки исторического осмысления данного явления (ДВР) как государственного образования были предприняты ещё в середине 1920 гг. Но все они были направлены в основном на рассмотрение роли и места ДВР в достижении основной цели РКП (б) — строительстве социализма в РСФСР и тактике большевиков в этом историческом процессе. В публикациях авторы пытались рассмотреть предпосылки и процесс создания Дальневосточной республики. Зачастую эти размышления строились на личном отношении того или иного автора к происходящим событиям или конкретным личностям. Так, уже в 1924 г. член Дальбюро ЦК РКП (б) А. Ширямов в статье «Иркутское восстание и расстрел Колчака» пытается представить процесс создания ДВР как плод интриг и двусмысленных действий А. М. Краснощекова. В 1927 г. журнал «Историк-марксист» даёт оценку тактики компромиссов руководства ДВР с белогвардейцами. Вопросы истории становления местных органов власти в этот период ещё не рассматриваются.
В 1957 г. в Хабаровске выходит работа Н. А. Авдеевой, посвящённая ДВР где автор характеризует местные органы. В этом же году выходит монография Л. М. Папина, в которой на основе анализа деятельности коммунистов Приморья он делает вывод о том, что диктатура пролетариата, не допускающая парламентского строя, составляла классовую сущность ДВР. Одновременно А. И. Богачук и В. К. Сухарев выдвигают точку зрения, заключающуюся в том, что ДВР была суверенным буржуазно-демократическим государством. В 1972 г. Н. П. Егунов показал, что ДВР была государством по форме буржуазно-демократическим, по существу же проводила советскую политику и выполняла функцию диктатуры пролетариата в своеобразных исторических условиях Дальнего Востока.
В 1990 гг. В. В. Сонин, защищая докторскую диссертацию, посвящённую проблеме становления Дальневосточной республики, под влиянием рассуждений в научных кругах о самоуправлении отмечал, что «национально-культурная автономия основывалась на народовластии и национальном самоуправлении».
Историография Дальневосточной республики была подробно рассмотрена в статье Ю. Н. Ципкина «Дальневосточная республика: была ли альтернатива? (некоторые вопросы историографии)», опубликованной в 1993 г. Оценивая в целом положительно исследование Ю. Н. Ципкина, необходимо обратить внимание на тот факт, что автор, рассматривая историографию ДВР, практически ничего не сказал об историографии такого института, как местное управление республики, ограничившись фразой о том, что «местные органы государственной власти одновременно являлись и органами местного самоуправления». Говоря о форме государственного образования ДВР, Ю. Н. Ципкин отмечал, что на начало 1990 гг. в историографии ДВР существовало две основные точки зрения «о сущности общественно-политического строя ДВР», вместе с тем, возникают и новые взгляды в этом вопросе. Но своей позиции по данной проблеме не высказывает, оставляя этот вопрос для возможного рассмотрения в будущем.
В последнее десятилетие XX в. в работах Р. Ю. Кочановской, С. А. Шельдшевой анализируются проблемы становления государственного управления, в том числе органов местной власти ДВР, позволяющие понять их место и значение в становлении республики.
Событием в научной жизни региона стал выход в 2003 г. 1-й книги 3-го тома «История Дальнего Востока России (Дальний Восток России в период революции 1917 года и Гражданской войны)». В книге, подготовленной ведущими учёными Дальнего Востока, комплексно анализируются революционные события на Дальнем Востоке России в период революции 1917 г., Гражданской войны и иностранной интервенции и, как говорится в аннотации, «становление и развитие новых альтернативных политических систем в период от Февраля к Октябрю, при первых Советах и белогвардейской власти, в буферной Дальневосточной республике…». Авторами обобщён большой фактологический материал, на основе которого делаются новые выводы и заключения. Так, характеризуя участие сельского населения Приморской области в организации местного управления на селе, авторы на стр. 92 указывают: «В марте-апреле 1917 г. крестьянство стремилось само формировать свои властные органы. Как правило, к руководству приходили представители зажиточной верхушки деревни, — (то есть среднего слоя сельского населения — Б.Х., Е.Ш.). Это проявилось и при формировании областного крестьянского Совета». Вместе с тем, сделав заявку на характеристику «политических систем Дальнего Востока» в период революции и Гражданской войны, авторы, на наш взгляд, сузили это понятие до рассмотрения взаимоотношений двух уровней власти — представительной и исполнительной, совершенно ничего не говоря о структуре, месте и роли третьего уровня — судебной власти и партийной системе общества как составной части политической системы. Авторы практически без внимания оставили роль и место аборигенных народов Дальнего Востока в становлении здесь Советской власти, характеристику их системы управления, исторический процесс её изменения и советизацию этих народов. Обошли молчанием этот вопрос и в разделе, посвящённом историографии революции, гражданской войны и интервенции на Дальнем Востоке. Всей истории коренных малочисленных народов (аборигенов) посвящена самая маленькая глава книги (16 страниц), рассматривающая национальную политику правительства ДВР.
В 2005 г. В. Г. Кокоулин, защищая докторскую диссертацию, под новым углом зрения рассматривал историю борьбы политических партий за власть в Забайкалье и на Дальнем Востоке в октябре 1917 — ноябре 1922 гг.; выделяя этапы становления здесь государственной власти, её формы и кратко характеризует отношение партий к местному управлению.
В работе А. А. Азаренкова (2007 г.) «Методы ликвидации Дальневосточной республики в 1922 году» по-новому рассматривались формы и методы работы РКП (б), в том числе и при строительстве местных органов власти в ДВР.
Анализ литературы позволяет сделать вывод о том, что история создания ДВР представляет научный интерес в плане изучения первого опыта строительства на российском Дальнем Востоке государственного образования с республиканской формой правления, основанной на началах парламентаризма. Но переносить опыт государственного строительства ДВР в сегодняшний день Российской Федерации вряд ли возможно, потому что, во-первых, ДВР не была субъектом федерации, она имела статус суверенного государства со всей положенной государству атрибутикой (в частности, собственными финансами, армией и т.д.), во-вторых, «ДВР, — как об этом пишет В. В. Сонин, — фактически не вышла из стадии становления», а значит, мы не можем проанализировать эффективность государственной системы ДВР, в том числе и местного управления.
В период с 1921 по 1924 гг. в Советской России проводится новая экономическая политика (НЭП), пришедшая на смену политике «военного коммунизма». Цель НЭП замена продразвёрстки продналогом, использование рынка и различных форм собственности, привлечение иностранного капитала в форме концессий, проведение денежной реформы (1922—1924 гг.), в результате которой рубль стал свободной конвертируемой валютой.
В условиях НЭП расцвела российская школа местного самоуправления во главе с профессором Л A. Велиховым. Труды Л. A. Велихова и его учеников, так называемых «муниципалов», по городскому хозяйствованию, финансовой структуре и методам управления городом опубликованы в середине 1920 гг.
1930—1940 гг. характеризуются практическим отсутствием работ, анализирующих дореволюционное земство (это объясняется, прежде всего, большевистской установкой на прогрессивность именно советской системы и бесперспективностью буржуазного местного самоуправления и, во-вторых, преследованием оставшихся на территории СССР представителей старой земской, школы). Если и выходили отдельные работы, то это были или воспоминания земских деятелей или произведения, которые, исходя из идеологических установок партии большевиков, подчёркивали принципиальное отличие советского местного управления от дореволюционного земства и местного самоуправления в буржуазных странах. Понятие «местное самоуправление» в работах советских учёных употребляется всё реже, и, соответственно, данный институт детально не анализировался по причинам политического характера. Учёные, ранее занимавшиеся проблематикой МСУ, перестают ею заниматься и переходят в другие научные направления. В результате, проблемы МСУ, выходившие на передний план общественных наук в начале и середине XX в. за рубежом, в нашей стране (в отличие от многих других государств) в 1940 гг. перестали обсуждаться. Большинство научных трудов, увидевших свет в это время, отличаются схематизмом, подчёркивают роль Советов в борьбе с классовыми врагами. Как результат, несмотря на то, что работ по дореволюционной истории в это время было опубликовано большое количество, проблемы земства, городского управления в них практически не рассматривались. Особняками здесь стоят исследования Л. А Велихова и Н. М. Дружинина (1946 г.), посвящённое реформе П. Д. Киселева. В нем подробно показан ход реформ и становление системы управления государственными крестьянами в XIX в.
Среди научной литературы особое внимание постсоветских исследователей привлекает вышедшее в 1949 г. очерки по истории органов советской государственной власти.
А вот среди зарубежных эмигрантских литераторов проблемы «самоуправления» продолжали активно обсуждаться. Так, И. А. Якушев, проанализировав свою работу в качестве земского деятеля Сибири и Дальнего Востока, в статье «К истории „Проекта временного положения о местном самоуправлении в Дальневосточных областях“», изданной в Праге в 1925 г., предлагал свои подходы к организации территориального (регионального) самоуправления на примере Сибири. По мнению Якушева, его должны были осуществлять Сибирская областная дума (законодательный орган) и ответственный перед ней Кабинет министров. Одновременно последовательно проводится принцип децентрализации власти, с передачей ряда административных функций городам и земствам. Независимыми и избираемыми должны были быть судебные органы, возглавляемые специально учреждённым для Сибири Сенатом.
Земская тематика, утратившая практическую значимость к 1940 г., заняла прочное место в литературе и СМИ лишь к концу 1950 гг., во времена так называемой «Хрущёвской оттепели». В эти же годы Н. С. Хрущёв начал активно пропагандировать идеологему самоуправление вкупе с термином «демократия» принимаемые им как аксиома. И эта точка зрения поддерживалась и другими партийными руководителями в последующем.
Период 1950—1980 гг. характерен тем, что, во-первых, накопленный к этому времени исторический материал позволил историкам обратиться к рассмотрению реформ местной власти; во-вторых, несмотря на отрицательное отношение большевиков к идеологеме «самоуправление» видевших в ней угрозу светской власти, в высших партийных круга КПСС и среди послевоенных исследователей (после 1945 г.) вопрос о местном самоуправлении всплывал постоянно; и наконец, в-третьих, это был период, когда большевистское табу на употребление идеологемы «самоуправление» было снято, идеологема появляется как в партийной, так и в общественной литературе и даже закрепилась в Конституции СССР 1977 г.
Вдохновлённые такой характеристикой «самоуправления» со стороны партийных руководителей и закреплением идеологемы в Конституции авторы статей того времени в большинстве своём, забыв о печальном опыте в области использования самоуправления большевиками в 1920 гг., достают идеологему из научного небытия и начинают её вновь раскручивать. На самоуправленческой дискуссионной волне начинается борьба за внедрение самоуправленческих принципов во взаимоотношения госорганов СССР с союзными и автономными республиками, отдельными краями и областями. То есть, в стране начался идеологический развод с советской системой управления пока под прикрытием коммунистической терминологии.
Но вот что интересно, дореволюционные российские авторы идеологемы «самоуправление» в отличии от исследователей середины XX в., эти два понятия (самоуправление и демократия) не связывали между собой. Так В. П. Безобразов в своём произведении «Земские учреждения и самоуправление…» вообще не употребляет термин демократия, а А. И. Васильчиков если и упоминает термин демократия в книге «О самоуправлении…», то только для характеристики режимов в Америке, Англии, Пруссии и т.п., но не для характеристики придуманного им самоуправления.
В последующем терминологию о демократическом самоуправлении подхватили и постсоветские исследователи и даже более того заговорили о «Ленинской концепции самоуправления» и, — как пишут И. В. Упоров и Н. В. Голубихин, — «инициативу в этом процессе взяла на себя КПСС».
На фоне демократизации советского общества в период «оттепели» в среде учёных обществоведов возрождается интерес к системе дореволюционного местного управления, анализируются научные изыскания дореволюционных учёных. В эти годы вышли работы П. А. Зайончковского, посвящённые отмене крепостного права и проведению в жизнь положений реформы. В них значительное внимание было уделено крестьянскому управлению и его роли в социальной сфере губернии.
Но здесь, в силу известных исторических причин, как правило, земская система управления рассматривалась как буржуазная система, не представляющая для советского общества интереса в перспективе, и обобщался опыт советского строительства.
Появляются статьи, где авторы пытаются провести параллели между земством и Советами.
В 1970 гг. научными кругами анализируются итоги земского управления, порядок формирования земских органов, состав гласных. Например, Н. М. Пирумова выделяла следующие признаки для включения земских гласных в состав земской оппозиции: участие в полулегальных и нелегальных либеральных организациях, земских съездах или съездах различных обществ, работа в Вольном эконмическом обществе или Комитете грамотности, выступления в прессе или на губернских и уездных земских собраниях. На основании этих критериев она опровергала точку зрения Б. Б. Веселовского о «демократизации дворянства» в конце XIX в., считая, что к земскому либеральному движению можно отнести всего около 300 гласных, а участие в нем земских служащих, так называемого «третьего элемента» — скорее, исключение, чем правило.
В конце 1980 гг. в политической жизни Советского Союза идея Советов вновь становится актуальной, и через семьдесят лет после революции становится злободневным лозунг «Вся власть — Советам». На этом фоне появляется большое количество публикаций, посвящённых «социалистическому самоуправлению народа», где самоуправление понималось предельно широко и объёмно как социальное явление, охватывающее все сферы жизни общества. Авторы практически отрицали возможность буржуазного государства дать самоуправленческие рычаги народу и рассматривали возможность самоуправленческих начал только в системе Советов.
Так Ю. А. Тихомиров в 1986 г. писал: «В отличие от буржуазных и реформистских концепций самоуправления, сводящих его к изолированным и автономным ячейкам общества (то есть Тихомиров понимал что самоуправление это децентрализации, — Б.Х., Е.Ш.), наша концепция исходит из того, что в масштабе страны политическая система развивается по пути всё более полного осуществления самоуправления применительно ко всем уровням и сферам общественной жизни». Дополняя эту мысль, Б. С. Эбзеев в 1987 г. отмечал: «Возрастающее участие граждан, всех трудящихся в управлении государственными и общественными делами — главная закономерность развития социалистической государственности <…> Социализм <…> объективно нуждается в постоянном расширении и углублении участия трудящихся в управлении государством и обществом. Эта закономерность политической надстройки социализма неизменно отражалась во всех советских конституциях, приобретая тем самым силу основного юридического закона».
Но вот что интересно — во многих советских толковых, энциклопедических словарях вышедших даже в 1980 гг. слово «самоуправление» отсутствовало, его как и в первой половине XIX в. многие авторы словарей игнорировали и не толковали. На наш взгляд это объясняется невозможностью растолковать это слово, что в последующем и покажет законодательная практики Российской Федерации.
Историография советского периода строительства местных органов государственной власти в советское время строилась на обосновании того, что система Советов, под руководством КПСС, полностью реализует интересы и чаяния советского народа через систему выборов, трудовых коллективов, общественных организаций, это по их мнению означало, что в принятии решения принимает участие весь советский народ, и таким образом Советы не могут совершать ошибки, а значит по своей сути это ответственная власть. В обосновании этого факта мы видим большую группу советских исследователей, которые, как будет сказано ниже, в постсоветское время с таким же упоением прославляя идеологему «самоуправление» умело колеблясь с «линией партии» стали делать на этом карьеру, за что, как и в советское время, получат должности, награды, звания и т. п.
Характерным примером политической конъюнктуры и мимикризма в научных кругах на советскую систему власти и управления, и истинную ценность таких «научных» изысканий в области обоснования той или иной системы власти и управления могут служить работы некоторых советских/постсоветских исследователей. Так, если в 1974, 1980 гг. С. А. Авакьян рассматривая правовое регулирование деятельности местных Советов, убеждал советских читателей в превосходстве этой системы над системой, применяемой за рубежом, то в 1995 г. он, анализируя организацию государственной власти и местного самоуправления в субъектах РФ, формулирует концепцию конституционно-правовой основы и практики новых органов государственной власти и местного самоуправления, о которой россияне будто бы мечтали столетиями, отмечал, «К сожалению, Советы перестали быть органами власти, а самоуправленческие начала как в их системе, так и в обществе в целом были, по существу, свёрнуты, заменены формализмом, „штамповкой“ Советами подготовленных аппаратом решений, „всенародным одобрением“ этих решений вместо созидательного участия граждан в управлении обществом и государством». Такую же позицию в 1973, 1984 и 1999 гг. мы видим у В. И. Васильева.
Примеры подобной «научной» мимикрии мы можем проследить в работах и ряда других исследователей, которые в угоду желаниям политических руководителей стали оправдывать необходимость изменения существующей системы управления (советов). Иногда они, по-видимому для того чтобы придать научный вес своим изысканиям, объединялись и объединяются в творческие группы.
Сегодня возникают резонные сомнения в искренности таких заявлений, ведь совсем недавно с их стороны звучали абсолютно противоположные лозунги и призывы, и мы вправе задаться вопросом: где и когда они были искренними? Тем более что в постсоветской литературе их, как правило, объявляют основателями постсоветского местного самоуправления, они же являются и авторами первых учебников по муниципальному праву и муниципальному управлению вышедших в первой половине последнего десятилетия XX столетия. На наш же взгляд, именно этими людьми был создан теоретический «инкубатор», превративший со временем идеологему «самоуправление» в правовой институт «местное самоуправление». Кроме того, встаёт вопрос, а возможно ли вообще верить остальным выводам и принимать всерьёз предложение этих «исследователей» сделанные в последующем?
Мало того, в позднее советское время конец 1980 — начало 1990 гг. произошла вульгаризация общественных отношений без научного обоснования потребности их изменения, происходят изменения взглядов на советскую идеологию и экономическую систему, фальсификация истории. На этом основании популяризуются призывы: о недопустимости установления государственной идеологии, очернение КПСС, о несовместимости с интересами советских людей руководящей роли КПСС в государственном строительстве; в историографии превалирует мнение о недемократичности Советов, которые себя изжили и не в состоянии двигать вперёд российское общество; о замене плановой экономики на рыночную, выдвигаются лозунги о том, что «Государство не должно вмешиваться в экономику», «Рынок всё отрегулирует», «Только частный собственник может эффективно управлять».
Под эти псевдонаучные изыскания М. С. Горбачёв начинает так называемую «Перестройку», в результате:
— Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) отказался от построения коммунизма, которым партия занималась многие десятилетия и перешёл к «совершенствованию социализма».
В принятом федеральном законе о местном самоуправлении в РСФСР цель государства, закреплённая в преамбуле Конституции СССР 1977 г. как «построение бесклассового коммунистического общества», была заменена на «построение социалистического общества». Из Конституций СССР и союзных республик, в том числе и РСФСР, удаляются положения о руководящей и направляющей роли КПСС (ст. ст. 6 обеих Конституций). Такая замена, по нашему мнению, объясняется желанием либерально настроенных членов КПСС, де-факто, выйти из «джунглей» и влиться в демократический «сад» несмотря на предупреждение их предшественников, большевиков, о вредности для российского государства такого института как «самоуправление». В стране появляются новые партии и объединения. То есть происходит разрушение основополагающего принципа советской системы где руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы являлась КПСС, это было названо развитием демократии;
— международные отношения начинают строиться исходя из желания партийной верхушки влиться в «Общий европейский дом». Россия присоединяется к различным международным хартиям, договорам, организациям создающимися объединённым Западом, пропагандирующим самоуправление;
— происходит отказ от коллективных форм организации государственного управления в лице Советов народных депутатов (по К. Марксу и В. И. Ленину — работающая корпорация) и замене их самостоятельными органами государственной власти (законодательными, исполнительными и судебными) и местного самоуправления, основанными на персональной ответственности высших должностных лиц (президентов, глав администраций и т.п.) и безответственности представительных органов;
В последние года предпоследнего десятилетия XX столетия (1980 гг.) исследователи пытаются объединить Советы с самоуправлением, как когда-то земство и самоуправление. Одновременно происходит всплеск интереса, в большинстве своём со стороны научных и партийных либерально настроенных функционеров КПСС и представителей советских научных кругов, к идеологеме «самоуправление».
Но как показывает анализ литературы единообразного всеми понимаемого определения сути идеологемы, как и в пореформенное время, выше названным авторам сформулировать не удаётся. Идеологема по-прежнему оставалась «тёмной лошадкой» взятой с чисто политической целью — разрушение советской системы власти и управления, что, по нашему мнению, и является одной из причин и не последней, последующего разрушения СССР;
— у части партийных (КПСС) функционеров высшего эшелона: М. С. Горбачёва, А. Н. Яковлева, Э. А. Шеварднадзе, Б. Н. Ельцина и др., вызревает решение о замене планово-директивной экономики на рыночную. Но для этого необходимо было устранить главную «занозу», мешающую перестройке (контрреволюции) — советскую систему управления, основанную на социалистической собственности на средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной собственности.
Именно в эти годы в юридических кругах России вызревает, на наш взгляд, ошибочное мнение о том, что основным объектом местного самоуправления является население города, села, ответственного за все дела в муниципалитете. Так, молодой доктор юридических наук Ю. И. Скуратов в своей монографии «Система социалистического самоуправления…» видит особенность социалистического самоуправления «В осуществлении управленческих процессов без внешнего вмешательства и построение управленческой системы по принципу соединения субъекта и объекта управления». В качестве субъекта самоуправления у него выступает население муниципального образования, осуществляющее решение вопросов местного значения непосредственно либо через органы МСУ под свою ответственность, а в качестве объекта — жизнедеятельность населения. По его мнению, самоуправление представляет собой особую форму организации и развития демократии, при которой субъектом и объектом управления выступает народ, то есть всё население страны. Таким образом, формулируется будущая формула взаимоотношений между органами управления и населением: не органы местного самоуправления (далее — ОМСУ) для народа, а народ для местных органов управления.
Одновременно в «научных» и политических кругах совершается полный пересмотр истории XX в. Происходят изменения в определении реперных точек развития российской государственности, то, что вчера характеризовалось передовым и прогрессивным объявляется отсталостью России. Вчерашние трубадуры советской системы управления и либерально настроенные партийные (КПСС) функционеры с таким же энтузиазмом теперь уже обосновывают необходимость изменения, через демократическую децентрализацию, единой системы государственной власти СССР в лице Советов. Сегодня всё это напоминает потуги украинских фейкомётов пытающихся в XXI в. доказать, что Чингисхан был украинцем, они же, украинцы, выкопали Чёрное море и ряд других. Но если «научные» изыскания украинцев мы сегодня рассматриваем, как псевдонаучные фейки, то вот российские фейки о МСУ продолжаем воспринимать как науку.
И, как покажет дальнейшее исследование, в конечном итоге вся система советской власти ими ломается, и формируются новые институты власти и управления, новые экономические отношения, новая идеология. В результате на российском федеральном уровне создаются высшие органы государственной власти и управления собственно РСФСР, высшие органы государственной власти и управления соответствующих территорий: на уровне республик в составе РСФСР, краёв, областей, автономной области и автономных округов. Государственные предприятия передаются в частные руки, начинает формироваться буржуазия. Предлагается идеологический лозунг «обогащайтесь». Для решения вопросов на территориях районов, городов, сёл… предусматривается формирование нового института управления — института «местного самоуправления» с органами, не входящими в систему органов государственной власти.
Так начиналась либерально-буржуазная контрреволюция на территории СССР, то есть возвращение от социализма к капитализму и масштабный социальный обман советских граждан.
Оценивая итоги советизации в СССР необходимо отметить, что, несмотря на имеющиеся недостатки в формировании и функционировании органов власти и управления, в глазах большинства трудящихся Советы, рождённые «революционным творчеством масс» не допустив в правовое поле СССР идеологему, взяв лучшее из земской системы и усовершенствовав её, стали символом народовластия, участие в их работе означало для большинства граждан приобщение к управлению государством. Успехи этой системы, были продемонстрированы в годы индустриализации, Великой Отечественной войны, освоении космоса и т.п., в итоге СССР стал второй экономикой мира.
Характеризуя отношения большевиков/коммунистов к либеральной идеологеме «самоуправление» можно отметить, что если в начале XX в. позиция большевиков была на стороне «самоуправления» и даже после 25.10.1917 г. они попытались с МСУ заигрывать, допустив во власть, то вот после 1918 г. исходя из понимания её направленности на децентрализацию и разрушение управляемости, от неё жёстко отказываются на долгие годы. В 1960—1980 гг. в партийной литературе, партийных документах она вновь появляется и в начале 1990 гг. закрепляется как норма права — «местное самоуправление».
Проведённый анализ позволяет сказать, что россияне более 1000 лет строили российское государство исходя из своего понимания и по своим российским законам, укрепляя могущество страны и расширяя её территориальные границы. Но в конце XX в. предварительно разрушив национальную систему управления, им навязали либеральную систему местного самоуправления в результате мы остались без страны (СССР), и общегосударственной идеологии, в территориальных рамках начала XIX столетия в окружении бывших российских территорий (союзных республик) ставших в одночасье, в большинстве своём, квазигосударствами с враждебно настроенным к России населением и, как правило, стагнирующей экономикой.
Научная литература раннего постсоветского периода строительства института местного самоуправления в РФ характеризуется тем, что в новых научных кругах (постсоветских) начинается и затем продолжается более 30 лет: во-первых, критика советской системы местного управления. Но так как представить что-то новое постсоветские авторы до сих пор не в состояние они топчутся на выражениях, сформулированных в СССР в конце 1980 гг.; во-вторых, безуспешные попытки сформулировать цель, понятие МСУ, его принципы, определение места в системе публичной власти, параметров взаимоотношения с органами государственной власти введённого в правовое пространство института местного самоуправления, его организационных форм ставят в тупик практиков МСУ. На наш взгляд именно наличие или отсутствие в правовом акте официальной цели введения системы (в широком смысле целеполагания) и подмены её мифологизацией позволяет нам судить о её понимании в кругах законотворцев и политической элиты.
К примеру в предложенной царским правительством системе местного управления цель системы (земство), как уже говорилось выше, виделась, во-первых, в привлечении населения к непосредственному участию в решении местных хозяйственных нужд: благоустройство соответствующих территорий, обустройство больниц и школ, снабжение населения предметами первой необходимости и т.п., с заменой прежних сословных органов всесословными учреждениями; во-вторых, через привлечение населения к решению местных проблем — укрепление единого механизма государственного управления.
Что касается цели советской системы управления, то архивы и нормативные правовые акты советского периода показывают, что она была сформулирована большевиками ещё в пунктах 13—23 Главы пятой Конституции РСФСР 1918 г. В Конституции СССР 1977 г высшая цель Советского государства определялась как «Построение бесклассового коммунистического общества, в котором получит развитие общественное коммунистическое самоуправление» (курсив наш). Главными задачами социалистического общенародного государства объявлялось: создание материально-технической базы коммунизма, совершенствование социалистических общественных отношений и их преобразование в коммунистические, воспитание человека коммунистического общества, повышение материального и культурного уровня жизни трудящихся, обеспечение безопасности страны, содействие укреплению мира и развитию международного сотрудничества.
В Законе СССР 1990 г. цель уже не формулировалась, но устанавливалось, что «Местное самоуправление в СССР является частью социалистического самоуправления народа и призвано обеспечить реализацию прав и свобод граждан, их самостоятельность в решении вопросов социального и экономического развития территории, охраны окружающей среды» (курсив наш). Как видим, в конституционном определении либералов не устраивало слово «коммунистическое» и они заменили его в законе на более приемлемое и понятное для объединённого Запада «социалистического». В последующем в Конституции РФ (1993 г.) и во всех других постсоветских НПА об МСУ цель местного самоуправления уже вообще не формулировалась.
Смеем предположить, что это произошло потому что невозможно было далее демократизировать теперь уже демократическое социалистическое самоуправление.
Особое недоумение вызывает тот факт, что это непонимание выше обозначенной сути идеологемы просматривается на всём протяжении российских дискуссий о самоуправлении, где авторы пытаются изложить своё понимание МСУ, его целей.
Так, по мнению авторского коллектива под руководством С. А. Авакьяна: «Самоуправление — вид управленческой деятельности, заключающейся в сознательном воздействии на волю людей с целью направления их поведения, организации их деятельности». Если сравним с определением А. В. Васильчикова, то увидим две совершено различных цели идеологемы «самоуправление» и словосочетания «местное самоуправление» и понимание авторским коллективом С. А. Авакьяна «самоуправления».
Примерно такое же понимание мы видим у авторов учебника по муниципальному праву (О. Е. Кутафин, В. И. Фадеев) считающих, что к основным целям муниципальной деятельности относится: «Улучшение условий жизни граждан, создание благоприятной среды жизнедеятельности населения муниципального образования». А где же общий смысл по отцу «самоуправления» А. И. Васильчикова: сведение в одно общее понятие действий крестьянских, земских и мировых учреждений?
Созвучно с С. А. Авакьяном, О. Е. Кутафиным, В. И. Фадеевым высказывание В. Б. Зотова определяющим, что «Цель МСУ — это предоставление реальной возможности жителям на своих территориях самим решать вопросы своего общежития». И далее развивая эту мысль, уточняющим: «Главная цель местного самоуправления — улучшение качества жизни населения».
По-нашему мнению собственно об этом и говорили большевики все 70 лет советской власти и именно это пытались воплотить в жизнь создавая систему Советов. Но, как и в середине XIX в. либералам конца XX в. нужна была система способная разрушить существующую систему управления, под видом внедрения более демократической зарубежной.
И так происходит со всеми другими попытками дать им, идеологеме и словосочетанию, определения. А их бесчисленное множество как на уровне федерации, так и на уровне субъектов РФ и даже муниципалитетов.
В результате как раз такие формулировки сегодня и ставят в тупик практиков местного самоуправления, непонимающих, зачем надо было разрушать прежнюю — советскую систему.
Что касается причин принятия российскими либералами и социалистами всех времён и мастей словосочетания «местное самоуправление», то, по нашему мнению, во-первых, говоря об этом, прежде всего, необходимо учитывать, что история развития человеческого общества показывает, что в любом обществе всегда найдутся люди, вчера взахлёб хвалившие новеллу вводимую государством, а завтра с таким же пиететом и революционной самоотверженностью подхватывающие что-то новое, для россиян в большинстве случаев зарубежное, соблазнительно звучащее (либерализм, социализм, коммунизм, правовое государство, демократия, гражданское общество, самоуправление и т.п.), завёрнутое, как правило, в красивую обёртку, этакий фантик. В последующем таких специалистов стали называть перевёртышами. Образно объяснил причины такого поведения отдельных россиян Л. А. Тихомиров в работе «Начала и концы. „Либералы“ и террористы» который в 1890 г. писал, что «Наш „передовой“ образованный человек способен любить только „Россию будущего“, где от русского не осталось и следа».
Вот такие перевёртыши-амбассадоры из российских псевдонаучных и политических кругов живущие, в большинстве своём, за счёт выбора «правильней линии» — выгодной для них на данный момент времени, не отвечающие за итоги своей деятельности и запустили в правовое пространство России — идеологему self-government с весьма некорректным переводом — «самоуправление», что объясняется так же их очевидной популярностью при официальном признании.
На наш взгляд, подобное поведение ряда представителей партийной (КПСС) и научной номенклатуры во времена перестройки было не случайно. Оно взращивалось, и направлялась высшими должностными лицами партии и научных кругов так как это была подспудная надежда многих из них если не самим, то хотя бы их детям и внукам пожить в «райском саду», а для этого надо было как можно скорее понравиться хозяевам этого сада, а для этого необходимо было провести ряд антисоветских манипуляций. И они ускоренными темпами начали эту работу.
Так характеризуя свою деятельность во времена перестройки, тогдашний секретарь ЦК КПСС (1988—1990), член Политбюро ЦК КПСС (1987—1990), доктор исторических наук, академик РАН А. Н. Яковлев в 2001 г. признавался: «На первых порах Перестройки нам пришлось частично лгать, лицемерить, лукавить — другого пути не было». А несколько позже ещё раз уточнил для чего это приходилось делать: «Для пользы дела, — (разрушение „тоталитарного режима“, а под „режимом“ всегда понимается государство, как аппарат управления — Б.Х., Е.Ш.), — приходилось и отступать, и лукавить. Я сам грешен — лукавил не раз. Говорил про „обновление социализма“, а сам знал, к чему дело идёт».
В чём же нас обманывали Яковлев и иже с ним? Нам говорили, что советская модель организации местной власти характеризуется следующими чертами:
• формальным преобладанием представительных органов власти над исполнительными при фактическом закреплении права принятия политических, кадровых и иных важных решений за партийными органами;
• формальной выборностью органов местной власти (советов), наличием формальной сети общественных органов самоуправления и общественных организаций. Фактически данные органы находились под контролем партийной системы и потому были ориентированы на выполнение государственных задач, а не задач, поставленных местными сообществами;
• каждый уровень власти обладал определённой функциональной автономией, что сочеталось с иерархической соподчинённостью органов публичной власти, возможностью вышестоящих уровней вмешиваться в дела нижестоящего уровня;
• пониманием советов как органов государственной власти, что означало идеологическое отрицание местного самоуправления.
«Лукавую» позицию А. Н. Яковлева, его учеников типа В. С. Ципко, В. А. Коротича, А. Ю. Сунгурова и иже с ними (фальсификацию истории, очернение КПСС и советской системы власти и управления) и последствия их деятельности хорошо охарактеризовал А. А. Зиновьев сказавший «Целились в коммунизм, а попали в Россию».
Необходимо отметить, что подобная позиция отдельных представителей высших эшелонов власти и партии (КПСС) родилась не на пустом месте, она стала результатом долгосрочной политики западных стран по разрушению России путём распространения лжи, мифов об истории России и результатах её участия в мировом процессе. С этой целью в странах объединённого Запада создавались всевозможные институты, центры по «изучению» истории и распространения лжи и мифов, распространением которых и занимались все эти Яковлевы, Ципко, Коротичи (это человек известен фазой «Нас советская власть выгнала вон из человечества» не гнушаясь при этом даже подделкой архивных документов, которые публиковались затем в СМИ как документы раскрывающие неприглядную деятельности Светов и партии.
Очень показательным в понимании сути деятельности отдельных представителей высших эшелонов власти СССР, является факт создания после роспуска КПСС, бывшими членами Политбюро ЦК КПСС М. С. Горбачёвым и А. Н. Яковлевым партии социалистического толка (РПСД) история деятельности которой была недолгой, так как у населения страны она не получила поддержки.
Главная «заслуга» либерального советского истеблишмента конца 1980 гг. (прежде всего партийных (КПСС) функционеров, учёных, депутатов всех уровней): смена исторического архетипа философии развитие российского государства на идеологему «самоуправление» направленную на сепаратизм и производное от неё словосочетание «местное самоуправление», направленных не на укрепление государства российского и улучшение жизни российского народа, а на развал СССР и подготовку лоббистских кадров готовых «грудью» отстаивать интересы либерального МСУ в будущем и за это получающих различные денежные, социальные и т. п. блага. В эту «строку» и вписывается замена местных Советов либеральным местным самоуправление. Именно на это, на разрушение «тоталитарного режима» в лице Советов и были направлены первые законы о местном самоуправлении (СССР 1990 г., советских республик, в том числе РСФСР 1991 г.) и последующее закрепление словосочетания «местное самоуправление» в Конституциях СССР в редакции 1990 г. и союзных республик, в том числе и РСФСР в ред. 1992 г. принёсшее советскому народу большие беды и море горя.
При этом, особо считаем необходимым отметить, что ни одна бывшая союзная республика не отказалась в последующем от системы МСУ и как результат отдельные их них были приняты в Европейский Союз и даже в НАТО, а многие их руководители быстро включились в «переустройство» на новых принципах на своих территориях. В последующем к ним примкнул большой отряд бывших коммунистов меньшего ранга: во-первых, взращённые амбассадорами первой волны в духе либерализма, во-вторых, мечтающих строить «новое цивилизованное демократическое государство» вместо совкового и достичь в нём больших кадровых высот, которых они не смогли получить в СССР.
§2. Анализ источников, раскрывающих механизм формирования института местного самоуправления в постсоветский период и отношение политических партий к самоуправлению
Окончательное разрушение советской системы местного управления и формирование системы местного самоуправления в России в первый постсоветский период (октябрь 1993—1998 гг.) началась с издания Президентом РФ ряда указов, прежде всего таких как: «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации», «Основные положения о выборах в органы местного самоуправления», «О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации» и ряда других, направленных прежде всего на разрушение советского института местного управления.
Выработанные в ходе подготовке этих указов нормы и принципы легли в основу принятой в 1993 г. новой Конституция РФ (1993), в разработке которой, по словам участников конституционного процесса, участвовали представители Агентства США по международному развитию навязавшие России либеральные принципы государственного устройства, закрепление которых в конституции институализировало новую систему управления, отличающуюся формированием безответственных, сверху донизу, децентрализованных органов государственной власти и местного управления. То есть с 1993 г. мы живём по Конституции — основном законе, составленном для нас представителями американского агентства (USAID) на деньги американской разведывательной организации.
Новая Конституция в ст. 12 закрепила положение о гарантиях, самостоятельности местного самоуправления и не вхождения ОМСУ в систему органов государственной власти. То есть конституция децентрализовала систему управления в России, но в отличии от европейских стран не путём передачи части полномочий одних органов другим, а разрывом единого правового пространств и созданием нового самостоятельного уровня управления — местного самоуправления.
Мало того, размещение ст. 12 в гл. 1 гарантировало её содержанию особый механизм изменения — механизм принятия новой конституции, что говорит о желании создателей конституции прочно закрепить возможность разрушения России в будущем через самоуправление.
Подготовка и принятие в 1995 г. Федерального закона №154-ФЗ в научных кругах всколыхнули попытки обоснования сути и понятия МСУ. Этому же, по мнению российского политикума, должно было способствовать и ратификация в 1998 г. Россией Европейской хартии местного самоуправления. Но из-за разницы в подходах и непонимания как идеологемы, так и словосочетания, единства в выводах и формулировках они не достигают и, как и прежде, все их потуги оказываются бесплодными на протяжении всех постсоветских лет.
Наиболее наглядно это прослеживается на попытках дать определение российскому местному самоуправлению и определить ответственных за дела в муниципальных образованиях в нормативных правовых актах в течении более 30 лет.
Так если в законе СССР 1990 г. МСУ определялось как «самоорганизация» (курсив наш) граждан (при этом закон не определил ответственных за дела на территории — Б.Х., Е.Ш.), то в законе РСФСР 1991 г. уже как «система (курсив наш) организации деятельности граждан, для самостоятельного (под свою ответственность), — (как видим ответственность граждан в скобочках, пока несколько стеснительно — Б.Х., Е.Ш.), — решения вопросов местного значения». В законе РФ от 28.08.1995 №154-ФЗ это «самостоятельная и под свою, — (населения — Б.Х., Е.Ш), — ответственность деятельность населения», (курсив наш), в законе РФ от 11.04.1998 №55-ФЗ (перевод Европейской хартии МСУ) — как «право и реальная способность органов местного самоуправления… под свою, — (органов — Б.Х., Е.Ш.), — ответственность», (курсив наш), в законе от 06.10.2003 №131-ФЗ — это «форма осуществления народом своей власти… под свою, — (теперь народа — Б.Х., Е.Ш.), — ответственность», (курсив наш).
То есть от самоорганизации к самостоятельной деятельности и праву, и наконец, к форме. Первоначально без указания ответственных за дела на территориях, затем возлагая её на население, потом на органы и наконец, на народ. Выходит, за то, что в конкретном муниципалитете в квартирах нет тепла, муниципальный транспорт плохо работает, снег своевременно не очищается и т. п. отвечают не муниципальные органы, а население муниципалитетов и даже более того — н а р о д. То есть, во-первых, как говорилось выше, не органы МСУ для народа, а народ для органов МСУ, во-вторых, это единственная константа во всех постсоветских законах об МСУ при определении его сути.
Такие формулировки вызывают ряд вопросов, во-первых, МСУ — это право, власть или управление. По крайней мере, Конституция РФ (1993 г.) чётко разграничивает эти понятия определяя, что государственная власть в Российской Федерации (ст. 10) осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. При этом органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. А органы местного самоуправления, как устанавливает ст. 12 Конституции «не входят в систему органов государственной власти» и их деятельность осуществляется на основе единства.
Кроме того, и это, во-вторых, как выразился О. А. Кожевников «Каждые последующие изменения во многом не носили преемственный характер по отношению к предыдущему правовому регулированию, а являлись новым подходом к реализации конституционной основы местного самоуправления», что в общем то и подтверждает вывод авторов данного исследования о том, что «конституционная основа» есть, а вот понимания сути института МСУ у большинства российских законодателей и представителей научных кругов нет.
Такое впечатление, что для законотворцев главное, чтобы их не обвинили в возврате к советским нормам. Итогом таких метаний стала частая смена правил/норм при формировании МСУ, его предметов вéдения, что в конечном итоге привело к неустойчивости системы в целом.
Такая же чехарда и с пониманием муниципального образования. Как уже говорилось выше не было этого термин в словаре В. И. Даля 1863 г. Он появился, как и «самоуправление» несколько позже и активно стал использоваться в публицистике. В современное отечественное законодательство термин вошёл в 1991 г. с принятием российского закона о местном самоуправлении и затем неоднократно менялось его понимание. Так если в Федеральном законе №154-ФЗ муниципальное образование толковалось как «городское, сельское поселение, несколько поселений, объединённых общей территорией, часть поселения, иная населённая территория, предусмотренная настоящим Федеральным законом, в пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления» (курсив наш), то в Федеральном законе №131-ФЗ 2003 г. это «городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения». При этом под городским поселением понимается «город или посёлок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления», то есть это территория без указания других составляющих понятия МО (собственность, местный бюджет) данных в 154-ФЗ. Такая же характеристика и всех других территорий.
Конечно, можно сослаться на богатство русского языка, но норма права требует чёткой и однозначной формулировки на многие годы, а такое метание указывает, что институт МСУ в лучшем случае — это мертворождённое изобретение XIX в., не понимаемое в течение десятилетий даже его адептами. В худшем — это то, о чём и предупреждал В. В. Путин 28.11.2023 г. — желание определённого круга лиц «посеять смуту».
Ответ на вопрос о причинах не восприятия идеологемы «самоуправление» и словосочетаний «местное самоуправление» россиянами на протяжении полутора веков авторы находят:
во-первых, в объяснениях филологов отмечавших, что «Слово — это ёмкий и содержательный знак конкретной национальной культуры. В большинстве родных слов носитель языка считывает культурный код, который воспринимается им явно или на уровне языковой интуиции».
Исходя из этой сентенции причинами пробуксовки, по мнению авторов данного исследования, является то, что россиянами не считывается её (идеологемы) «культурный код» и она (идеологема) не воспринимается ими «на уровне языковой интуиции»! Правда российские исследователи пытались и пытаются, объяснить не восприятие россиянами импортной идеологемы self-government переведённой как «самоуправление» несколько иными причинами. И то самое главное, события как в мире, так и в России после 24.02.2022 г. показывают, что с точки зрения мотива, введение «через колено» «местного самоуправления» в правовое поле РФ после 1993 г., преследовало задачу закамуфлировать его истинное предназначение: вслед за развалом СССР, продолжить развал российского государства.
Разумеется, с таким пониманием цели института местного самоуправления в научных кругах сформулировать, что-то новое в его понятии проблематично, что и показывают безуспешные попытки законодателей в определении его сути и формулировке цели, понятия МСУ, ответственных за дела в муниципалитетах в пяти законах о местном самоуправлении;
во-вторых, с точки зрения рационального мышления наш язык никуда не годится, а потому мы никогда не поймём рациональный Запад, а Запад не поймёт нас,
в-третьих, исходя из того, что основой либерального учения является индивидуализм, отличительной чертой которого является руководство только своими личными интересами и ничем больше, а к общественным интересам либералы, как правило, безучастны, что исключает наличие у них общих целей, способных объединить их в единое целое. Как видим, попытки создание работоспособного либерального МСУ расходятся с российским менталитетом, в основе которого лежат общинные интересы, прекрасно продемонстрированные в трудные времена и наиболее чётко в ходе Великой Отечественной войны и СВО после 24.02.2022 г.
Всё это говорит о том, что в российском истеблишменте до сих пор не сложилось общепризнанное понятие российского института местного самоуправления, его отличие от местного управления.
Нежелание восприятия чётких формулировок со стороны российских либеральных кругов прекрасно показывает и их отношение к официальному переводу Европейской хартии (1998 г.) и определению ответственных в муниципалитете. Так официальный русский текст Хартии (ст. 3), как уже говорилось выше, устанавливает, что «Под местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения» (курсив наш). Эта норма, в отличие от многих других закреплённых в Хартии, осталась без внимания со стороны современных законодателей.
Тем не менее, вообще оставить вопросы ответственности без внимания исследователи не могли. И уже в 1999 г. авторский коллектив под руководством Ю. А. Тихомирова в противовес норм Хартии прямо пишет, что возложение ответственности за муниципальные дела на органы местного самоуправления искажает демократическую природу местного самоуправления и противоречит содержанию ст. 130 Конституции РФ.
Вслед за ними Т. М. Говорёнкова и другие, предлагают под местным самоуправлением понимать право и действительную способность местных сообществ контролировать и управлять в рамках закона под свою ответственность и на благо населения значительной частью общественных дел.
Именно эта дефиниция (самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно вопросов местного значения) и закрепляется в законе №131-ФЗ 2003 г. о местном самоуправлении.
По мнению авторов данного исследования, совершенно неправильная расстановка акцентов. Формируя органы МСУ население надеется, что именно они (органы) будут ответственны за результаты своей деятельностью как это закреплено в большинстве сран Европы и не только перед вышестоящим начальством, но и перед населением МО. Но…
И как результат такой деятельности безответственных (по Тихомирову, Говорёнковой и иже с ними) органов стало ухудшение жизни населения российских МО.
Таким образом, проведённый выше анализ позволяет сказать, что российские законодатели, разрабатывая очередной закон, формулируя понятие МСУ, вместо трезвой оценки сущности этого института пытаются каждый раз разработав новые принципы «обернуть» МСУ в новый красивый фантик, ничего не говорящий о содержании, этакая обёртка для слов, поучивших своё оформление только в Европейской хартии, вступившей в России в законную силу в конце 1980 гг.
Сумбур с пониманием самоуправления отчётливо виден, как мы уже говорили выше в названиях «научных» статей, рассматривающих историю местного управления в России, в которых авторы анализирующие существовавшие системы управления на местах обозначают как самоуправления, без привязки идеологемы к определению данному А. И. Васильчиковым в XIX в. зачастую называя даже советскую систему самоуправлением. Причём количество таких статей, по сравнению с XIX и XX вв. выросло в разы, что позволяет говорить о желании их авторов, как правило кандидатов наук и студентов ВУЗ, лоббировать популярную в постсоветское время тему.
Не брезгуют современные «исследователи» прямым обманом и даже подтасовкой фактов в отношении использования идеологемы «самоуправление» и словосочетания «местное самоуправление». И у нас есть все основания говорить в таком тоне.
Например, в вышедшем в 2011 г. из под пера П. А. Пожигайло со товарищами сборник документов для придания научного веса постсоветскому институту МСУ занялись введением читателей в заблуждение, прикрываясь известными именами и анонимными цитатами. Так в первом томе сборника составители сформировали раздел, озаглавив его «Реформы местного управления и самоуправления» (курсив наш) включающий документы как подписанные лично П. А. Столыпиным, так и безымянные.
Примером подписанных документов являются:
— «Главные начала устройства местного управления». Документ представляет собой Записку, разработанную Министерством внутренних дел. Записка была внесена главой министерства, П. А. Столыпиным, на рассмотрение в Совет министров в 1906 г. и им подписана. С. 252—261;
— «Об установлении главных начал устройства губернских учреждений». Документ представляет собой Записку, подготовленную в Министерстве внутренних дел и представленную 07.01.1907 г. на рассмотрение Совета министров и П. А. Столыпиным подписан. С. 261—280;
— «Положение о поселковом управлении». Проект был внесён во II Государственную думу 20.02.1907 г. и подписан П. А. Столыпиным. С. 293—308. И ряд других.
Слово «самоуправление» во всех трёх выше названных документах отсутствует. В текстах документов используются словосочетания местное общественное управление в различных вариациях. Нет её (идеологемы) и в документах второго тома в разделе 2, но озаглавленном как «Местное управление и самоуправление» (курсив наш). То есть в оглавлениях идеологема есть, а в документах её нет!
Смеем предположить, что для составителей сборника основным смыслом включения в название разделов слова «самоуправление» объясняется их желанием осветить идеологему «самоуправление» именем известного лица (П. А. Столыпина) занимающегося реформой российского местного управления и таким образом затушевав истинное её (идеологемы) предназначение (возбуждение сепаратизма под лозунгом самоуправления) придать через слово «самоуправление» значимость созданного современными неолибералами и неосоциалистами постсоветского института местного самоуправления.
На наш взгляд, проанализированные документы позволяют сделать вывод о том, что П. А. Столыпина ни о каком западноевропейском «самоуправлении» не помышлял, все его помыслы были направлены именно на реформирование земского и городского общественного управления. Таким образом постсоветские неолибералы стараются «за уши» подтянуть идеологему к российской постсоветской действительности. Необходимо отметить, что подобное поведение, использование в целях популяризации своего движения, партии имён известных людей, норма для либералов. Так американцы бездоказательно стараются подтянуть имя 16 президента США Авраама Линкольна (1809—1865) к модному в XXI столетии лагерю гомосексуалистов.
Тем не менее, остаётся вопрос «откуда растут ноги» позволившие составителям сборника использовать слово «самоуправление» в заголовках разделов. Ответ на этот вопрос мы находим в следующем анонимном документе «Главные начала преобразования земских и городских общественных управлений» (курсив наш), опубликованном в первом томе этого же сборника и представленного как Записка Министерства внутренних дел, внесённая в 1907 г. на рассмотрение Совета министров (С. 280—293). Вот в этом документе слово «самоуправление» имеется в названии первой части: «I. Отношения органов самоуправления к органам правительственным»; её первом абзаце: «Для устранения существующей обособленности органов самоуправления…» (курсив наш), а также в п. 4. Но в дальнейшем, в тексте оно не употребляется и смысл его не раскрывается. По нашему мнению, употребление идеологемы «самоуправление» в данном документе быстрее всего говорит только об участии в его подготовке либерально настроенных чиновников царского правительства, пытающихся заменить национальную систему земство на западное самоуправление, а не желание П. А. Столыпина формировать разрушительное самоуправление. Кроме того вызывает недоумение фраза из пояснения к документу употреблённая как прямая речь, в кавычках, [Программа мер сводилась к: 1) «усилению в местном самоуправлении общественного начала»], хотя такой фразы нет во всех проанализированных нами указанных выше копий документов.
Вот с помощью таких вольных обращений с текстом, в российской постсоветской «научной» литературе и в студенческих работах много лет распространяются статьи (работы) типа: «Становление местного самоуправления в современной России в свете идей П. А. Столыпина», «Пётр Аркадьевич Столыпин и совершенствование местного самоуправления» и тому подобное.
Сегодня существует много версий о причинах непринятия либералами и социалистами всех мастей вышеназванных документов МВД. На наш взгляд это объясняется не только смертью П. А. Столыпина, но и несогласием большинства населения страны с навязыванием западных систем направленных на разрушение российской государственности, в том числе и идеологемы «самоуправление». Предположение наше объясняется фразой, сказанной П. А. Столыпиным в адрес либералов, социалистов и им подобным в начале XX в. но актуальной и в XXI в., особенно после 24.02.2022 г.: «Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, — (самоуправления — Б.Х., Е.Ш), — путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!». Добавим — и, прежде всего, без западного либерального «самоуправления»!
Приведённые выше примеры с документами как подписанными лично П. А. Столыпиным, так и безымянными так же показывают последующее отношение к идеологеме со стороны правительственных кругов и желание либеральных адептов МСУ внедриться в российскую систему местного управления «хоть тушкой, хоть чучелом».
Главный вывод из всего вышесказанного заключается в том, что перед П. А Столыпиным стояла задача реформирования российской системы управления, но использовать местное самоуправление в понимании А. И. Васильчикова и иже с ним в его планы не входило.
Кроме того, анализ российской литературы, посвящённой англосаксонскому местному управлению, показывает, что большинство исследователей, рассматривая его, как уже говорилось выше, постоянно как мантру употребляют вкупе с ним термин «демократия». Такое впечатление, что, убедив себя в том, что в XIX в. управление в Англии, Франции, Австрии, США и т. д. было демократичным, пытаются убедить в этом и своих читателей, несмотря на то, что в то время: имелись различные пороги, отсекающие значительную часть населения от участия в выборах, женщины не были допущены к голосованию в органы власти и управления, для многих народов, как правило коренных, на оккупированных европейцами территориях, создавались различные территориальные образования типа индейских резерваций США или бантустанов ЮАР, чего никогда не было в России, мало того в XVIII — XIX в. в США вообще процветали сепаратизм и рабство, а уж события в мире после 24.02.2022 г. показали никчёмность этого термина в англосаксонском понимании. Россияне же с усердием достойным лучшего применения продолжают всюду им оперировать, что наводит на мысль о том, что неолиберальные российские круги продолжают под вопли о демократии лелеять мечту, о передачи объединённому Западу под контроль Россию и её ресурсы как плату за допуск в европейский демократический сад, где «процветает» демократическое самоуправление.
К третьему десятилетию XXI столетия происходят изменения во взглядах на историю ДВР рассматриваемую с разных сторон. Во многих работах, в том числе и дальневосточников, опубликованных в наше время, республика характеризуется как «независимое демократическое государство», экономическая система которого предвосхитила произошедший годом позднее в РСФСР переход от режима т.н. «военного коммунизма» к НЭПу, рассматриваются отдельные общественные отношения решаемые несколько отлично от РСФСР. Так С. Б. Белоглазова в своей статье исследуя один из слабо изученных в отечественной историографии, на тот момент, аспектов истории Гражданской войны на Дальнем Востоке: деятельность Министерства народного просвещения ДВР по развитию системы образования в регионе, делает вывод о том, что ДВР, в отличие от РСФСР, допускало существование частного сегмента в образовании и передачу учебных заведений из сети государственных учреждений в ведение местных органов власти. Но большинство исследователей XXI в. используют выводы, сделанные их предшественниками в конце XX столетия.
Что касается постсоветского института местного самоуправления, то принятая в конце ХХ в. под натиском либералов в высших рядах КПСС и научных кругов, система местного самоуправления в форме правового института основанного в результате децентрализации на его организационной обособленности, причём без какого-либо понимания, априори, все последующие годы подвергалась сильной критике на всех этажах власти. Так выступая 29.04.2011 г. на встрече с представителями интернет-сообщества Д. А. Медведев, подводя итоги МСУ заявил, что реального самоуправления в России не было создано даже ко второму десятилетию XXI в. «Муниципалитеты — это органы местного самоуправления. Формально не государственные, но мы же понимаем, что это такое же государство». Не напоминает ли это взгляды большевиков, высказанные Л. М. Кагановичем в 1923 г., на предложения либералов реконструировать Советы в духе самоуправлений.
Но даже несмотря на такую характеристику и отрицательные показатели деятельности МСУ в течение постсоветских десятилетий, отдельные представители власть предержащих оставаясь слепыми и глухими к критике недостатков института российского МСУ, находясь под влиянием неолибералов и неосоциалистов всех мастей, никак не могут с ним расстаться. Мало того, современные адепты МСУ рассматривая российские национальные системы прошлого, от средневековых времён до Временного правительства включительно, как уже говорилось выше, пытаются навязать россиянам мнение о том, что именно оно (МСУ) в России существовало испокон веков, то есть термина для определения этого общественного явления в те времена в русском языке не было, но само явление, по их мнению, якобы существовало.
Что удивительно, так это тот факт, что, не смотря на то, что ни один человек на земном шаре в течение столетий не может внятно сформулировать понятие словосочетания, в чём красноречиво убеждают безуспешные многолетние, многочисленные попытки федеральных законодателей дать в пяти федеральных законах определение институту российского МСУ, однако несмотря на это российские нормотворцы всеми правдами и неправдами впихивают его в российское и научное и правовое пространство, а уж попыткам разъяснить это импортное явление на региональном и муниципальном уровнях нет числа.
Несостоятельность МСУ, неоднократно и убедительно показывает и Президент РФ В. В. Путин, в том числе и в своём очередном послании Федеральному Собранию РФ 29.02.2024 г. отмечая, что с самоуправлением органы МСУ катастрофически не справляются (муниципальные школы вместо образования занялись предоставлением образовательных услуг, при этом муниципалитетами новые школы не строятся, а старые не ремонтируются, занятия проходят в три смены, в муниципальных больницах многомесячные очереди на «плановые» операции, новые ФАПы в сёлах работают по четыре часа два-три дня в неделю, обслуживают ФАПы как правило приезжие из районных/городских больниц медработники которых катастрофически не хватает, тем самым произошло искажение сути ФАПов; заработная плата учителей и медработников низкая; муниципальные дороги пришли в негодность, превратившись в «направления», (по мнению авторов именно возложение на местные органы содержания дорог и объясняется многолетнее наличие оной из российских «бед» и т.д.), Президент РФ в начале XXI в. предложил большинство социальных проблем отданных муниципалитетам на заре самоуправления, взять «в руки» государства через сформированные «национальные проекты»: «Образование», «Здоровье», «Дороги», и т. д. с выделением для этого значительных средств из федерального и региональных бюджетов и усилением контроля за их исполнением. При этом президент установил, что оценка качества выполнения нацпроектов будет происходить не по количеству использованных средств, как это было ранее, а по качеству жизни населения территорий. Это был его ответ на претензии населения к качеству выполнения полномочий органами МСУ.
На наш взгляд такое положение сложилось в первую очередь в связи с тем, что местная власть не может отвечать за большую часть проблем: школы, медицину, благоустройство, охрану общественного порядка, поскольку не является финансово независимой.
По мнению авторов (Б.Х., Е.Ш.) всё выше указанное позволяет сделать вывод о том, что, во-первых, идеологема «самоуправление» и производное от неё словосочетание «местное самоуправление» как показывает ранее проведённые авторами исследования, до второй половины XIX в. в русском языке, отсутствовали; во-вторых, реформирование российского местного управления происходило без общего плана, путём непоследовательно проводимых мероприятий, методом проб и ошибок, или как иногда говорят «методом научного тыка», приведших к разбалансировке всей системы управления, а это значит, что говорить о целеполагании при организации МСУ в России не приходится; в-третьих, происходит мифологизация непонятных большинству россиян идеологемы и словосочетания и все размышления на эту тему спекулятивны во имя внедрения в их (россиян) «плоть и кровь» иллюзорной мечты о демократическом самоуправлении; в-четвёртых, соглашаясь с тем, что «Местные самоуправления в России формировались в результате децентрализации власти в ходе земской и городской реформ 1860-1870-х годов» российские постсоветские исследователи под децентрализацией понимают, во-первых, делегирование части государственных полномочий на более низкие уровни, во-вторых, объединение низовых локальных сообществ (общин) в целях повышения эффективности управления посредством их взаимодействия друг с другом. Что совершенно не соответствует сказанному выше о взглядах авторов «самоуправления» и содержанию ст. 12 Конституции РФ суть, которой заключается в создании особого самостоятельного уровня управления, органы которого «не входят в систему органов государственной власти»; в-пятых, благодаря безудержной, зачастую сопряжённой с ложью и подтасовкой фактов, их пропаганде, оппозицией в России дважды: в начале и в конце XX в., были достигнуты скрытые их цели, причём с более драматическими последствиями, нежели в Англии: в Российской империи, а затем и в СССР были изменены формы государственного устройства и системы управления, а сами государства разрушены и прекратили своё существование.
Исходя из того, что объединённый Запад не может допустить существование России, в настоящее время это не конспирология, а чёткие и ясные не только высказывания многих руководителей западных стран и их союзников в отношении России типа, России необходимо нанести стратегическое поражение и даже более — расчленить её, ищущих для выполнения этой цели всевозможные способы: от военных и экономических до организационных (организационными и являются принципы МСУ изложенные в Хартии), но и конкретные их дела.
Как свидетельствует история политических учений для этих целей как раз и подходит либерализм. Ибо, как показывают многочисленные высказывания представителей российского политикума: философов и политологов (А. С. Панарин, А. Г Дугин и др.), церковных иерархов (Патриарх Кирилл), в России все чаще и чаще либерализм толкуется как политическое течение, на протяжении веков зарекомендовавшее себя именно в качестве разрушителя всего и вся, что ни как не может дойти до российских законодателей.
Например, характеризуя историю и цели либерального движения, Патриарх Кирилл выступая в Киево-Печерской лавре 29.07.2009 г. отмечал, что исторически либерализм ставил «…перед собой задачу бороться с тиранами, с тиранией, под которой, подразумевались монархия и Церковь». В свою очередь одним из инструментов либерального движения показавшим на практике свою способность к разрушению действующей системы управления через её децентрализацию и является либеральное местное самоуправление.
Таким образом, перефразировав предвыборный лозунг коммунистов в 2024 г., сложившуюся ситуацию с МСУ и задачах российского руководства можно охарактеризовать: «Поиграли в самоуправление и хватит».
Проблема доказательности исторических событий была всегда актуальна для научного исследования. С целью доказательства выдвинутой авторами гипотезы был изучен обширный комплекс архивных документов, хранящихся в федеральных архивах, архивах субъектов РФ и муниципалитетов. Они дают возможность проследить процесс зарождения систем местного управления и самоуправления, их формы и значение в развитии российского общества, систему взглядов, совокупность причин их появления выяснить цели и задачи той или иной вводимой в государстве системы. В ходе исследования использованы сведения, извлечённые из 16 фондов федеральных архивов: Государственного архива Российской Федерации — изучено 6 фондов, Российского государственного архива экономики — изучено 2 фонда, Российского государственного архива социально-политической истории — изучен 1 фонд, Российского государственного исторического архива Дальнего Востока — изучено 7 фондов.
Особое место в подготовке научного исследования занимают документы и материалы архивных фондов субъектов РФ. Именно они составляют наибольшую часть материала, используемого для написания работы. Авторами исследованы почти все архивы субъектов РФ, включённых в состав ДФО (более 65 фондов), исключение составили лишь архивы Чукотского автономного округа, но материалы, относящиеся к советскому периоду этого субъекта РФ, были обнаружены в Государственном архиве Магаданской области. Материалы архивов субъектов РФ позволяют проследить историю зарождения, формирования и работы местных органов на всех этапах развития дальневосточного сообщества.
Значительную часть впервые вводимых в научный оборот архивных документов авторы изучали в архивах муниципальных образований [в местных архивах (более 14 фондов 8 МО)], которые позволяют проследить практику строительства ОМСУ их взаимоотношение с органами государственной власти федерации и субъектов РФ, историю муниципального уставного нормотворчества.
Большое место среди источников занимает партийная литература как хранящаяся в архивах в виде документов, так и опубликованная в периодической печати хранящаяся в библиотеках. Партийные документы, материалы СМИ, хранящиеся в архивах, позволяют проследить отношения партий к различным событиям в стране, в том числе и к построению системы МСУ.
Показательным в этом отношении является позиция членов российской партии (РСДРП‒ВКП (б) ‒КПСС‒КПРФ) к организации управления на местах и возможность прояснить отношение социал-демократов и коммунистов к идеологеме «самоуправление» и словосочетанию «местное самоуправление». Так если члены РСДРП, как уже говорилось выше, видели до 1917 г., в либеральной реформе местного управления (как выразился В. И. Ленин в земском самоуправлении) возможность перерасти в цивилизованное конституционное государство без революций и потрясений, то есть в результате реформ, а после октябрьской революции в идеологеме «самоуправление» большевики уловили систему враждебную Советам нацеленную на их изменение в пользу буржуазного устройства именно через устранение Советов как единой системы государственного управления, то члены КПРФ, приветствуя в целом институт МСУ цель которого была децентрализация управления, то есть разрушение единой советской системы управления как когда-то царской, устроили «безудержный плач» в СМИ по поводу попыток исключения отдельных либеральных норм в предложенном проекте нового закона №40361—8 о местном самоуправлении. Документ уточняет понятие, МСУ, полномочия муниципальных властей, порядок их формирования, муниципалитеты имеют право самостоятельно определить: переходить на одноуровневую систему МСУ, либо сохранить двухуровневую. Как пояснил депутат П. В. Крашенинников, соавтор данного закона, цель закон повысить эффективность и прозрачность работы муниципальных властей и укрепление организационной и финансовой основы деятельности МСУ. То есть в МСУ российский политикум по-прежнему видит некую панацею как способ развития российской государственности, а не способ разрушения страны.
Таким образом, изучение партийных архивов и партийной литературы показывают эволюционную мимикрию членов РСДРП‒ВКП (б) ‒КПСС‒КПРФ, через восприятие либеральной идеологемы как способа мирного разрушения имперской системы управления, её отрицания и даже больше, восприятия как системы преследующей цель разрушающей советского государства, до её (идеологемы) включение в правовое пространство СССР и союзных республик именно с целью разрушения теперь уже советской системы, а, в общем, то и самого государства.
Такую же позицию по отношению к МСУ заняли и все новые (постсоветские) политические партии независимо от их политической ориентации. На вопрос почему так происходит, ответ, на наш взгляд простой, создавая партию её основатели свою задачу видят в захвате власти, а иначе, без этой цели, они будут не партиями, а профсоюзными организациями. Но для этого прежде всего необходимо развалить существующую систему управления в государстве, а уже для воплощения в жизнь этой мечты, как показывает история МСУ, оно и предназначено.
Фундаментальными источниками по истории российского МСУ являются нормативные правовые акты, составлявшие правовую основу организации и функционирования местных органов в системе публичной власти.
К таким документам, прежде всего, относятся: Положение о губернских и уездных земских учреждениях от 01.01.1864 г.; Городовое положение от 16.06.1870 г. Именно эти источники показывают, что изменение системы местного управления на уровне губерния (область) — уезд началось с постановки Александром II МВД задачи о реформировании местного управления исходя из проблем стоящих на тот момент перед государством и подписанием им указанных выше Положений которым учреждались губернские и уездные земские учреждения и новые органы городского управления.
Опубликование этих документов стало началом изучения новой для россиян национальной системы управления, получившей обозначение как «земство». Со временем издаётся ряд документов вносящих те или иные новшества и уточнения в уже в действующие и выпускаются новые правовые акты.
В последующем органы власти и управления (царское правительство, Временное правительство, Светы, федеральные органы Российской Федерации, государственные органы субъектов РФ и органы местного самоуправления) принимают свои нормативные документы, регламентирующие систему местного управления исходя из своих политических воззрений.
К таковым можно отнести:
— в досоветской России: О частичном распространении Временного Положения от 17.06.1917 г. о земских учреждениях в губернии Архангельской и в губерниях и областях Сибири на Камчатскую область: постановление Временного правительства от 26.08.1917 г. и т.п.;
— в советской России и СССР (1917 — декабрь 1993 г.): Конституцию РСФСР 1918 г.; положение о сельских Советах: декрет ВЦИК РСФСР от 15.02.1920 г.; конституции СССР и РСФСР, Закон СССР от 09.04.1990 г. «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР». Закон как уже говорилось выше, во-первых, заменил конституционную цель — строительство коммунистического самоуправления на — строительство социалистического самоуправления; во-вторых, введя в правовое пространство СССР понятие «местное самоуправление» институализировал систему МСУ, направленную на разрушение существующей, на тот момент советской системы управления; в-третьих, попытался дать местному самоуправлению смутную формулировку, не принятую впоследствии Верховным Советом РСФСР. Тем самым заложив «головную боль» постсоветским российским (да и не только) адептам МСУ вылившуюся в длившуюся десятилетия безуспешную попытку определить цель этого института и дать ему чёткое юридическое определение;
— Закон РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР», принятый через год после принятия союзного закона, но и здесь, как и в союзном законе, что это такое (самоуправление), в переводе на нормальный русский язык большинству населения страны было не понятно, но это уже никого не интересовало.
Аналогичные законы были приняты и во всех союзных и автономных республиках.
В связи с тем, что в Конституции РСФСР 1978 г. в ред. 1992 г. оставался термин «Советы», в научной литературе с новой силой разгорается массированная атака на советскую систему управления, вылившуюся в многолетние поиски ответа на вопрос: Советы — местное самоуправление? Одновременно выдаются хвалебные оценки результатам внедрения МСУ в бывших странах народной демократии и ряде бывших советских республик.
История же, со временем, расставила всё на свои места: отдельные из стран бывшего лагеря народной демократии и бывших советских республик либо повторят судьбу СССР — распадутся (Грузия, Молдавия, Чехословакия, Югославия), либо начнут вооружённые конфликты под лозунгом самоопределения (Армения, Казахстан, Киргизия), либо, сменив названия, идеологическую и экономическую ориентации (Венгрия, Польша, прибалтийские ССР и т.д.) встанут на экономическое содержание объединённого Запада, оплачивая это содержание оголтелой русофобией, то есть ни о какой самостоятельности этих стран, «соблазнившихся» на всевозможные само с их европейскими либеральными «ценностями», рассматривать не приходится, а можно отметить только о введении населения этих стран в состояние высокой неосознанности сложившегося положения.
Показательным примером в этом отношении стал Казахстан где после обретения независимости в Конституцию 1995 г. в 89-й статье была заложена норма о том, что в Казахстане признаётся местное самоуправление, которое обеспечивает решение населением местных вопросов. С тех пор в Казахстане начались мытарства по вопросу: куда и как пристроить это самоуправление, приведшие в итоге к вводу войск ОДКБ в январе 2022 г. для защиты этой самой государственности Казахстана. Оценивая работу по организации МСУ в Казахстане политолог Б. Нурмухамедов заявил: «Складывается ощущение, что у государства пока нет понимания, что предложить. Пока есть некие отдельные фрагменты, которые в общую картину не складываются. <…> С такими подходами за реализацию МСУ лучше вообще не браться — станет только хуже…».
Те же страны, которые сохранят свои системы местного управления (Китай, Монголия, Вьетнам, Куба и т.д.) несколько их, реформируя (именно реформируя, а не революционизируя, как это сделали в СССР и РСФСР), избегут разрушительного воздействия идеологемы и сохранят свою как политическую, так и экономическую независимость.
И как показывает наше исследование это было время, когда разговоры о МСУ провоцировали сепаратистские тенденции в ряде субъектов союзных республик СССР, в том числе и РСФСР, что нашло своё отражение в ряде российских НПА и прежде всего в документах органов исполнительной власти.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.