
Бесплатный фрагмент - Российская Империя в трудах историков XIX в.
Том 1
Предисловие
В период сотрудничества с блогом «Молодость в сапогах» в 2022—2025 гг., просматривая русские журналы «Исторический вестник», «Русская старина», «Русский архив» и др., я выбирал в них некоторые интересные, на мой взгляд, статьи и очерки, аннотировал их и в сжатом виде предлагал читателям блога. Таких материалов за эти три года набралось около 200, и у меня, и у руководителя редакции блога С. В. Мишутина возникла мысль составить из них отдельную книгу.
XIX век ознаменовался в русском обществе бурным интересом к русской истории, возникновением мемуаристики, планомерным и методическим изучением архивов. Русские литературные и исторические журналы оказались в авангарде этого процесса, предоставив свои страницы для исследований историков, журналистов и просто грамотных и образованных людей. В результате вокруг журналов образовалось солидное читательское сообщество, что естественно не замедлило сказаться на общем культурном состоянии России. Этот период можно с полным правом назвать временем рассвета исторической науки нашей страны.
Помещая статьи из журналов, я счёл необходимым ознакомить читателя и с их авторами.
Над проектом книги и редакцией текстов, а также снабжением их иллюстративным материалом неутомимо трудился С. В. Мишутин, уже оказавший до этого большую помощь в публикации моих книг.
Конечно, используемый мною материал не претендует на полное отражение истории России и рассказывает лишь о некоторых её эпизодах, малознакомых широкому читателю. Надеюсь, книга будет интересна для современного читателя, интересующегося историей своей страны.
В заключение выражаю искреннюю благодарность моему редактору, корректору и автору указанных проектов, в том числе и настоящего, за его внимательное и творческое отношение к тексту моих рукописей и особенно — за подбор и размещение иллюстраций, придающих книгам особую привлекательность и атмосферу историзма.
Составитель книги Б. Григорьев
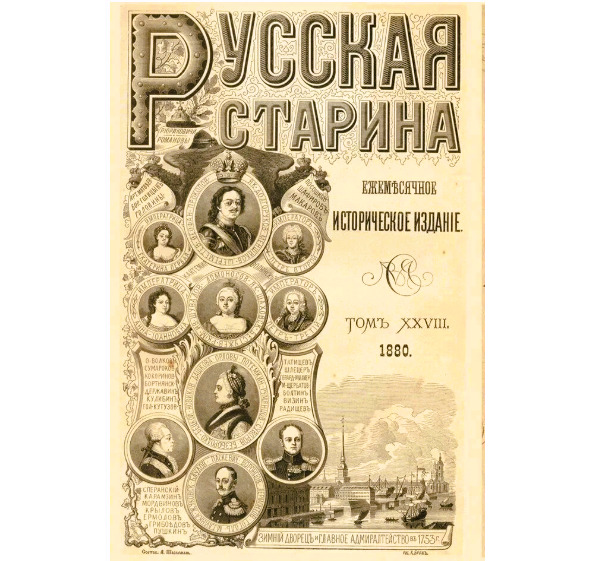
Часть первая Внешние угрозы
Глава 1. Литовская угроза и Василий III
Василий III (1479—1533), по прямому имени Гавриил, сын Ивана III и Софьи Палеолог и отец Ивана IV Грозного, великий князь Московский и Владимирский, правил с 1505 года и продолжал политику отца по «собиранию земель русских».

Княжение его проходило под знаком противостояния с Литвой, объединившейся потом с Польшей и на долгие годы явившейся главным противником Московско-Владимирского княжества.
Сразу после смерти Ивана III король польский (1501—1506) и великий князь литовский (1492—1506) Александр Казимирович (1461—1506), женатый на дочери Ивана III Елене, завязал с Василием Ивановичем мирные переговоры, потребовав возвращения потерянных литовских земель. Естественно, требование его было отвергнуто, и Александр начал готовиться к войне, приглашая поучаствовать в ней ливонского магистра Вальтера Плеттенберга (1450—1535). Расчёты Александра не оправдались, потому что магистр желания воевать не проявил, а, во-вторых, у князя началась распря со своим самым приближённым и любимым вассалом, надворным маршалом князем Михаилом Львовичем Глинским (1470—1534).
Распря затянулась. Одновременно Александру пришлось отбиваться от нашествия крымских татар, возглавляемых сыновьями хана Менгли-Гирея (1445—1515). Литовское войско возглавил Михаил Глинский, татары потерпели жестокое поражение под Клецком, а когда весть о победе достигла Вильны, Александр лежал, разбитый параличом и вскоре скончался. Брак его с Еленой Ивановной был бездетным.
Новым королём и князем стал младший Казимирович — Сигизмунд.
Узнав о смерти Александра, Василий Иванович, под предлогом справиться о положении овдовевшей сестры, отправил в Вильну посла, но в действительности князь планировал с помощью сестры сесть на польско-литовский трон. Идея была хорошая, но запоздалая — Сигизмунд уже был избран. Умный, энергичный, физически сильный, он сразу стал готовиться к войне с Москвой, считая время для этого вполне удачным: московское войско во главе с братом Василия углицким князем Дмитрием Жилкой потерпело поражение. И Сигизмунд немедленно вошёл в сношения с казанским ханом Магомет Амином (Эмином) (1469—1518) и его отчимом крымским ханом Менгли-Гиреем, не забыв пригласить на войну и Плеттенберга.
Пока готовилась коалиция против Москвы, Сигизмунд, как и его брат Александр, вступил с князем Василием Ивановичем в переговоры с требованием вернуть литовские земли, но получил такой же ответ, как и ранее брат. С Казанью Москва уже помирилась, а Менгли-Гирей особого энтузиазма воевать с ней тоже не испытывал. Летом 1507 года он сделал набег на московские украйны и этим ограничился. Плеттенберг, наоборот, захотел заключить с Москвой вечный мир, а в самой Литве возобновилась распря: Сигизмунд лишил киевского воеводства Ивана Львовича Глинского, и Глинские затаились, обещая королю всякие неприятности. Одним словом, не сошлось, войну с Москвой пришлось отложить.
Князь Василий тут же предложил братьям Глинским перейти со своими землями под его руку. Михаил Львович пораздумал и согласился: обещание Василия дать ему смоленское или киевское княжество решило дело. В 1507 году он со своим войском присоединился к московскому войску, уже снова воевавшему с литовцами. Он внезапно напал на Гродно, захватил там своего врага Яна Заберезинского, отрубил ему голову и бросил её в озеро. Потом он соединился со своими братьями Иваном и Василием и поднял в восточных областях Литвы восстание против Сигизмунда. Судя по всему, братья Глинские хотели создать там партию из православной шляхты, искоренить католичество и восстановить там утраченную русскую самобытность.
В 1508 году Глинские ещё более упрочили своё положение, взяли Туров, Мозырь и другие города, но потерпели неудачу под Минском и Слуцком. М.Л.Глинский напрасно звал на помощь московских воевод, которые в свою очередь приглашали Глинских осаждать Оршу. На помощь Орше Сигизмунд послал войско во главе с Константином Острожским, который в своё время был взят в плен войском Ивана III и которому Василий III дал вотчину, взяв с него клятву служить Москве верой и правдой и никуда не отъезжать. Православный Острожский при первом же случае сбежал в Литву в то самое время, когда католик Михаил Глинский передался государю Москвы.
Война продолжалась недолго, и Сигизмунд, боявшийся распространения влияния Глинских по всей Литве, и Василий, разочаровавшийся в преимуществах союзничества Глинских, не хотели больше воевать и в 1509 году на основании статус-кво заключили мир. Правда, Москва от этого мира даже выиграла, поскольку он навсегда закрепил за ней литовские земли, завоёванные Иваном III. Проиграли Глинские: они потеряли всё в Литве и теперь должны были надеяться на милость князя Василия.
Москва воспользовалась мирной паузой, для того чтобы покончить с самостоятельностью Пскова — последней вечевой общины на Руси. Вечевые устои города сильно изменились: московские наместники назначались уже без разрешения Пскова и менялись один за другим, не вникая в проблемы города; авторитет вече и посадничества резко снизился; при усилении т.н. черни псковским вече завладели крикуны, не слушавшие друг друга, и оно практически перестало работать. Упало правосудие, участились случаи разграбления казны, чего раньше никогда не было.
В начале 1509 года Василий отозвал из Пскова воеводу князя Петра Васильевича Великого и назначил на его место князя Ивана Михайловича Репню Оболенского. Репня Оболенский оказался лют и жесток по отношению к псковитянам, особенно зажиточным, и своими действиями вызвал многочисленные жалобы. Великий князь отвечал, что он найдёт управу, как только приедет в Новгород. Он приехал в город в октябре 1510 года с большой военной силой, но, как пишет Иловайский, главной целью его был не Новгород, а Псков.
Псковичи послали в Новгород делегацию в составе нескольких посадских людей и бояр. Делегация вручила Василию полтораста рублей и била челом на обиды князя Репни. Князь принял их дар и на челобитье ласково ответил, что он хочет «свою отчину жаловати и боронити», воеводу Репню обещал обвинить, как только в городе соберутся все жалобщики. Делегация вернулась, доложила об ответе великого князя на вече и призвала всех жалобщиков поехать в Новгород. Князь Репня, между тем, приехал в Новгород и, со своей стороны, подал жалобу на псковичей в том, что они его «безчествовали».
Собираясь в Новгород, псковичи вдруг почувствовали что-то недоброе — как написал летописец, «псковичей сердце уныло». Но они решили всё-таки исполнить наказ вече, и 9 посадников и купеческие старосты всех торговых рядов отправились в Новгород. Но великий князь ещё не дал им управы и говорил только: «копитеся жалобные люди, на Крещение дам всем управу».
На Крещение, 6 января 1510 года Василий прибыл в Псков и велел псковичам идти на водосвятие на реку Волхов. После водосвятия московские бояре из свиты Василия пригласили всех псковичей на владычный двор, где и получат, наконец, великокняжескую управу. Когда они все собрались, московские бояре отделили всех посадников, бояр и купцов и повели их в палату, в то время как «молодшие», т.е. простые горожане, остались на дворе. Двери палаты закрылись, и настала решительная минута.
— Пойманы есте Богом и великим князем Василием Ивановичем всея Руси! — громко объявили им московские бояре.
Им объявили, что все они будут выведены в Московскую область, и послали за членами их семей. В ожидании жён и детей «пойманных» поместили пока в архиерейском доме, а «молодших» переписали и раздали новгородцам, чтобы те кормили их стерегли до получения «управы». Псковский купец Филипп Попович, ехавший с товаром в Новгород, узнал о насильственном задержании своих граждан и поскакал обратно в Псков, чтобы сообщить там эту страшную весть. Объятые скорбью и страхом, псковичи собрали вече и стали решать, «ставить ли щит против государя» и готовить город к обороне. Вспомнили, что они дали крестное целование великому князю, и что в Новгороде задержаны их родственники и товарищи.
Пока они размышляли, из Новгорода прискакал купец Онисим Манухин с грамотой от своих товарищей, в которой говорилось, что великий князь не желает наказывать псковичей «за неправды их судей и посадников» (видно, Василий Иванович внял жалобе Репни), а только требует от псковичей снять вечевой колокол и принять московских наместников. В случае неповиновения князь грозил войной и большим кровопролитием. Лишённые свободы псковичи приняли это требование и дали присягу на верность великому князю от имени всего Пскова и его граждан.
Выслушав содержание грамоты, псковское вече отправило в Новгород гонца сотника Евстафия со смиренным челобитьем, чтобы государь сжалился над своей «старинной отчиной». Свей покорностью Псков пытался избежать судьбы своего старшего брата — Великого Новгорода. Наивная надежда, пишет Иловайский. В Псков приехал дьяк Третьяк Далматов и в субботу 12 января у храма Св. Троицы, где собралось вече, с «вечевой степени», т.е. с помоста, передал поклон князя и объявил его непреклонную волю: вечевой колокол снять и назначить в Псков двух московских наместников, а также наместников по пригородам. И пригрозил оцепеневшей толпе, в случае неисполнения этих требований, войной и кровопролитием. После этого дьяк сел и стал ждать ответа. Псковичи молча плакали, а потом попросили с ответом подождать до утра.
Рано утром в воскресенье 13 января вечевой колокол в последний раз собрал псковичей на вече. Выступил один из посадников и сообщил Далматову, что псковичи остаются верны крестному целованию на верность великому князю и готовы исполнить его волю. Вечевой колокол немедленно спустили с Троицкой звонницы, и Далматов повёз его в Новгород.
Через несколько дней в Псков прибыл первый московский отряд с воеводами князем Петром Великим, Хабаром и Челядниным и стал приводить граждан к присяге. Вслед за отрядом шёл Василий Иванович, и псковичи вышли из города, чтобы оказать ему встречу. 24 января в четверг Василий Иванович вошёл в Псков, его встретили за три версты от города и ударили челом в землю. Князь спросил их о здоровье.
— Ты бы, государь, наш князь великий, царь всея Руси, был здоров, — ответили псковичи.
Духовенство ожидало князя на Торговой площади. Василий сошёл с коня, принял благословение коломенского владыки Вассиана Кривого (своего в Пскове не было) и прошёл в храм св. Троицы, где отслужили молебен и пропели многолетие государю. После этого владыка Вассиан осенил князя крестомисказал:
— Да благословит тебя господь Бог, Псков вземши!
Услыхав это, псковичи оскорбились и заплакали: выходило, что москвичи не оценили их покорность и посчитали их за неприятелей!
Но мера их страданий ещё далеко не исполнилась.
27 января великий князь позвал на свой двор посадников, бояр, купцов и прочих житьих людей и сказал, что хочет их «жаловать своим жалованьем». «Жалованье» было оказано по новгородскому образцу: Пётр Великий выкликал с крыльца имена посадников, бояр и купцов, приглашая их в гридню, в приёмную князя. Там их немедленно «отдавали за приставы», т.е. брали под стражу. Остальным оставшимся во дворе псковитянам Пётр Великий объявил, что «до вас государю дела нет», и отпустил их восвояси. Взятым в гридне «за приставы» объявили, что государь их «жалует своим жалованьем на Московской земле». И на другой день отправили их с жёнами, детьми и лёгким имуществом в Москву в сопровождении отряда боярских детей. Всего в Москву было выведено около 300 псковских семей и столько же завезено в Псков московских семей.
В Псков были назначены наместники Г.Ф.Морозов и И.А.Челяднин и дьяки Мисюрь Мунехин и Андрей Волосатый, а также 12 городничих — двух для самого города и десять для его пригородов. В Среднем городе разместились тысяча московских боярских детей и пятьсот новгородских пищальников. Были выбраны 12 старост из местных и назначены 12 старост из московских людей, которые должны были присутствовать на суде наместников и их тиунов. Василий Иванович на всякий случай принял меры против возможного недовольства и возмущения.
В память взятия Пскова князь велел построить храм во имя Ксении. Пробыв в Пскове 4 недели и перестроив псковское управление на московский лад, Василий Иванович выехал из Пскова, прихватив с собой и второй, меньший колокол — т. н. Корсунский вечник.
Последующий период жизни Пскова ознаменовался жестокими притеснениями его жителей со стороны наместников и их тиунов, что дало повод для жалобного восклицания летописца: «О, славнейший граде Пскове великий! Почто бо сетуешь и плачешь?» Василий Иванович, узнав об этом, назначил в Псков новых наместников: уже знакомого псковитянам князя Петра Великого и князя Семёна Курбского. При них положение жителей значительно улучшилось, и многие разбежавшиеся кто куда граждане Пскова вернулись домой. Дьяк Мунехин, остававшийся в городе вплоть до своей смерти (1528) являлся основным проводником московской политики в Пскове и во многом способствовал стабилизации и быта, и торговли жителей.
Верстах в 50 от Пскова, на границе с Ливонией, существовала монашеская обитель с двумя разрушенными храмами: пещерного во имя Успении Богородицы и нагорного во имя преподобных Антония и Феодосия. Мунехин вместе со своим подьячим псковитянином Ортюшей на собственное иждивение обустроил и обновил эти храмы, которые стали привлекать к себе многих богомольцев. Обитель стала известной в Москве и получила потом название Псково-Печерского монастыря.
…Между тем, мир с Литвой 1509 года превратился в перемирие, перемежающееся пограничными спорами, стычками и дипломатическими переплётами.
Вдовствующая княгиня Елена Ивановна, сумевшая сохранить верность православию, являлась бельмом на «чистом» католическом глазу Литвы и Польши. Завидовали паны и её солидному состоянию и, глядя на то, как она с достоинством несёт свою вдовью долю, скрипели от ненависти зубами.
В 1512 году в Москву пришла от неё жалоба: собралась она по обычаю выехать из Вильны в город Бреславль, своё имение, но вдруг воеводы вильненский Николай Радзивилл и трокский Григорий Остыков взяли её из храма во время моления за рукава, насильно посадили в сани и отвезли в Троки, утверждая, что она хотела вместе с казной уехать в Москву. Из Трок её перевели в жмудское местечко Бирштаны, имение отняли, слуг разогнали и держат в неволе.
Василий, разумеется, не оставил это без последствий и сделал Сигизмунду запрос объяснить случившееся. Сигизмунд объяснил, что Елену не пустили в Бреславль из соображений её безопасности. А вслед за этим объяснением пришла скорбная весть, что Елена скончалась. Напрашивалась мысль о насильственном убийстве, и М. Глинский усиленно распространял эту версию. Он провёл собственное расследование и узнал, что Елена жаловалась на неподобающее к ней отношение королю Сигизмунду, но тот никаких мер в её защиту не принял. Тогда её ненавистники подкупили трёх людей из числа её прислуги, включая её ключника Митьку Иванова, дали им зелье, а те добавили его в мёд и дали королеве его выпить. Николай Радзивилл взял Митьку в свои слуги наградил его имением.
Другой причиной для разрыва отношений с Литвой стала коварная политика Сигизмунда по отношению к Крымской Орде. Ему удалось уговорить Менгли-Гирея разорвать многолетний союз с Москвой и начать против неё военные действия. Сигизмунд пообещал платить хану по 15.000 злотых ежегодно, если крымцы станут воевать московское государство. Менгли-Гирей был уже достаточно стар, чтобы ходить в походы, зато его сыновья Ахмат и Бурнаш в 1512 году сделали три набега на Рязанскую и Белёвскую украйну. С этого года, пишет Иловайский, начался длинный ряд опустошительных набегов крымских татар на территорию Московского княжества, доставивших ему неисчислимые бедствия.
Всё это стало известно в Москве от своих доброхотов в Крыму, и Василий в начале 1513 года послал Сигизмунду «складную грамоту», т.е. объявил ему войну и зимой того же года выступил в поход с М. Глинским и воеводами Даниилом Щеней и Репнею Оболенским. В планах было отвоевать у противника Смоленск. Город был хорошо укреплён, и осада длилась полтора месяца. Василий решил взять город сходу ночным приступом, для чего выставил военным людям бочки с пивом и мёдом. В полночь полупьяные пищальники полезли на стены, но приступ был отбит с большими потерями для русского войска.
Весной Василий вернулся в Москву, а летом осаду Смоленска возобновил. К Смоленску подошла другая рать, воевавшая Полоцк, и битву в открытом поле русские выиграли, но город снова взять не удалось. Пушечный «наряд», ограждённый турами, громил стены, но не очень искусно, так что осаждённые ночью успевали починить то, что было разрушено днём. И опять Василий воротился в Москву с намерением взять Смоленск во что бы то ни стало. Особенно хлопотал об этом Михаил Глинский, которому Смоленск был обещан на правах удельного княжения. Глинский, используя свои старые связи, послал гонцов в Силезию, Чехию и к немцам за специалистами в осаде крепостей. И такие специалисты вскоре прибыли.
Император Священной Римской империи Максимилиан (1459—1519), имевший виды на Чехию и Венгрию, где правил брат Сигизмунда Владислав, встал на сторону Москвы. Он предложил Василию Ивановичу заключить союз, привлёк против поляков и литовцев тевтонско-прусского магистра Альбрехта Бранденбургского и старался уговорить выступить против Сигизмунда и датского короля Христиана II. Зимой 1514 года от магистра Альбрехта в Москву прибыл цесарский посол Шнитценпайнер, где именем Максимилиана заключил с Москвой формальный военный союз против короля Польши и Литвы. С договорной грамотой и в сопровождении московских послов Шнитценпайнер вернулся к Макимилиану, и тот под присягой подтвердил заключённый договор. Всем этим дипломатическим успехам Василий был обязан Михаилу Глинскому.
Летом 1514 года великий князь в третий раз появился под стенами Смоленска.
На сей раз москвитяне выставили большое количество огнестрельного оружия, пушки упорно громили укрепления, а пищальники делали приступы. Гарнизон Смоленска во главе с воеводой Юрием Соллогубом отбивал все приступы, но город постепенно разрушался, был подвергнут пожарам, и жители его стали склоняться к сдаче. Тщетно пытался Соллогуб уговорить их, обещая скорое прибытие помощи от Сигизмунда, но смоляне во главе с митрополитом Варсонофием обратились к Василию III с просьбой «унять свой меч» и отворили ему ворота. 31 июля Даниил Щеня вступил с войском в город и привёл его жителей к присяге, а 1 августа в город въехал великий князь и был радушно и торжественно встречен смолянами и духовенством.
Бывшие защитники города, пожелавшие служить князю, получили по 2 рубля, а те, кто захотел вернуться в Литву, — по 1 рублю. Юрий Соллогуб решил вернуться в Литву, и там его судили как изменника, и отрубили ему голову. Иловайский отмечает, что Василий обошёлся со смолянами намного мягче, чем с псковитянами — никаких выводов бояр или купцов в московские земли не последовало, имущество у людей не отбирали. Особой жалованной грамотой Василий подтвердил за духовенством, боярами и купцами их земли и владения и сохранил за городом прежние судебные и гражданские уставы, полученные от литовских князей.
После взятия Смоленска русская рать отправилась к другим городам смоленской земли. Мстиславль сдался добровольно, и его князь оставлен на прежнем княжении. Жители Кричева и Дубровны добровольно присягнули Москве. В это время Сигизмунд с войском, набранным в Венгрии, Чехии и Германии, шёл на выручку Смоленску. В Минске он узнал, что город пал. Василий отправил навстречу ему Глинского, братьев Булгаковых, Челяднина и др. воевод. Москвитяне стояли под Друцком, а Сигизмунд двинулся на Борисов, когда обнаружилась измена Глинского. Перебежчик не получил во владение Смоленск и с обиды завёл тайные переговоры с Сигизмундом. Король был рад лишить Василия опытного воина и советника, простил Глинского и наобещал ему всяких милостей.
Иловайский сообщает, что то ли русские перехватили посланца Сигизмунда к Глинскому, то ли слуга его вовремя сообщил о его измене, только на перехват изменника поскакал князь Михаил Булгаков-Голица, устроил засаду и поймал беглеца. Великий князь приказал наложить на него оковы и отправить в Москву. Вероятно, Глинский успел сообщить литовцам важные сведения, потому что после этого военное счастье изменило войску Василия.
В сентябре 1514 года под напором литовцев русская рать отправилась к Орше, перейдя на левый берег Днепра. Командовавший войском окольничий Челяднин наблюдал, как литовцы тоже переправлялись на левый берег и не атаковал их, поджидая, когда переправится всё войско противника. Он надеялся, вероятно, на численное своё превосходство, и широко растянул воинские порядки, чтобы окружить литовцев. Битва была упорной и продолжалась до поздней ночи без явного перевеса с какой-либо стороны, пока литовский гетман Константин Острожский не прибегнул к ложному отступлению, наведя московские полки на убийственный огонь своей артиллерии. Московитяне дрогнули и побежали.
Находившаяся на поле битвы речка Кропивна, по летописным сведениям, была остановлена в своём течении, будучи запружена телами убитых московитян. Все воеводы Василия попали в плен, а всего литовцы взяли в плен около полутора тысяч воинов, обоз, казну и всё вооружение. Спустя несколько лет известный посол Священной римской империи барон Сигизмунд фон Герберштейн, проезжая через Вильну, видел некоторых пленных русских воевод, томившихся в темнице. Он дал им взаймы (?) несколько злотых. Видно Василий Иванович сильно разозлился на их неудачу под Оршей и никаких мер по их вызволению из плена не предпринял.
Непосредственным следствием поражения под Оршей явилось отпадение к Литве Мстиславля, Дубровны и Кричева. В Смоленске Варсонофий тоже готовил заговор с целью вновь передаться к Литве, но московский воевода Василий Шуйский зорко следил за обстановкой в городе, он раскрыл заговор, схватил Варсонофия и отправил его в Дорогобуж, где стоял Василий со своим войском. Константин Острожский поспешил к Смоленску, надеясь на помощь заговорщиков, но подойдя к стенам города, он увидел их повешенными в тех же шубах, камках и бархатах, с чарками и серебряными бокалами на шее, которые они получили в дар от великого князя. Он попытался взять город приступом, но был отбит и с позором ушёл.
Война с литовцами тлела до 1522 года, пока обе стороны не утомились от её тягот и пока Сигизмунд не начал с помощью своего брата короля Венгрии Владислава посылать императору Макимилиану сигналы о желательности повлиять на своего союзника Василия в пользу переговоров. Владислав скрепил союз с Максимилианом браком своего лесятилетнего сына Людовика с его внучкой Марией, так что император был вполне доволен этим шагом, считая перспективы на овладение Чехией и Венгрией довольно оптимистичными. И действительно: скоро умер король Владислав, и Максимилиан вместе с Сигизмундом стали осуществлять опеку над несовершеннолетним Людовиком.
Максимилиан обещал больше не выступать против Польши и Литвы, а московского князя привлечь к войне против Османской империи, тем самым положив начало политики переложить тяжесть борьбы с «неверными» на русские плечи. Василий Иванович воспринял новость о переходе Максимилиана на противную сторону с возмущением и приехавших к нему императорских послов, ходатайствующих о примирении Москвы с Польшей, принял более чем холодно. Император не удовлетворился неудачей и послал в Москву своего лучшего дипломата барона Сигизмунда Герберштейна.
18 апреля 1517 года барон торжественно въехал в Москву и был помещён в дом князя Ряполовского, где приставленные к нему приставы строго следили за его поведением и разговорами. Для переговоров Василий назначил двух знатных бояр, казначея, дворецкого и трёх дьяков, но ведущим переговорщиком стал грек Юрий Малой, приехавший ещё в свите Софьи Палеолог.
Герберштейн пустился «мыслью по древу», повествуя об опасности османов, угрожавших христианскому миру, в связи с чем высказал о пагубности конфликта между двумя христианскими странами Москвой и Польшей. Василий ответил на это, что готов пойти только на прямые переговоры с Польшей и только в Москве, как было заведено прежде. Герберт послал своего племянника фон Турна к Сигизмунду, и вскоре в Москву отправились его послы католик Ян Щит и православный Богуш Боговитинов. Одновременно Константин Острожский осадил псковский город Опочку в надежде улучшить позицию послов на переоговорах.
Москва на это давление «не купилась» и послов Сигизмунда в Москву не пустила, разрешив им оставаться в Дорогомилове до тех пор, пока они «не переведаются» с Острожским. Это переведывание заняло 3 недели, когда из Пскова прискакали гонцы и сообщили Василию, что воеводы Фёдор Оболенский, Лопата Телепнев и Иван Лятцкой побили Острожского, и тот ушёл в Литву. Тогда Я. Щиту и Б. Боговитинова пустили в Москву, и с ними начались переговоры.
Стороны предъявили невыполнимые условия. Василий потребовал наказать панов, причастных к убийству его сестры Елены, возвращения её казны и отдачи Киева, Полоцка, Витебска и др. городов, которыми когда-то владела Русь. Сигизмунд требовал возвращения Смоленска, половину Новгорода, Псков, Тверь и Северскую землю. При посредничестве Герберштейна все требования свелись к одному пункту — Смоленску. Москва ни за что не хотела терять этот город, и переговоры были прерваны, послы уехали, а вслед за ними уехал и Герберштейн. Перед отъездом барон просил Василия отпустить на свободу Глинского, но получил отказ. Вместе с Герберштейном в Германию поехал дьяк Племянников.
Максимилиан и после этого не прекращал своих попыток достичь мира между Москвой и Польшей, но в 1519 году он умер, а военные действия между конфликтующими сторонами продолжились. В 1518 году русское войско осадило Полоцк и даже доходило до предместий Вильны. Василий добился участия в войне против Польши магистра Альбрехта, Литва подверглась нападению крымских татар, и Сигизмунд снова присылал своих послов в Москву, но переговоры опять закончились безрезультатно.
В 1521 году Альбрехт потерпел поражение от польско-литовского войска, и он заключил с Польшей четырёхлетнее перемирие. В это же время Москва подверглась совместному нападению Казанского и Крымского ханства. И тогда в 1522 году перемирие с Литвой было заключено на 5 лет, Смоленск был сохранён за Москвой, а Москва сняла своё требование о возвращении пленных, взятых под Оршей.
Мысль о прочном закреплении Смоленска не отпускала Василия, и в 1524 году он снова решил воспользоваться посредничеством императора и отправил в Мадрид (Священной римской империей правил тогда внук Максимилиана, король Испании Карл V) князя Засекина и дьяка Борисова. Император и его брат эрцгерцог австрийский Фердинанд отнеслись к этому делу благосклонно и отправили к Василию Ивановичу посла графа Нугароля и известного барона Герберштейна.
В апреле 1526 года они прибыли в Москву, а вслед за ними пред очи московских дьяков появился посол папа Климента VII Иоанн Франциск. Римская курия под видом посредничества к заключению мира пыталась подчинить русскую церковь папскому главенству. Посол пытался завлечь Василия III королевским венцом, а московского митрополита — чином патриарха. И конечно же предлагал выступить против турок в защиту христианства. За все эти блага требовался пустяк — признать Флорентийскую унию. На всё это Москва ответила решительным отказом.
В октябре 1526 года приехали литовские послы полоцкий воевода Пётр Кишка и литовский подскарбий Богуш-Богуславский, и при посредничестве императорского и папского послов начались переговоры. Главным пунктом дискуссий снова стал Смоленск. Согласились продлить перемирие ещё на 6 лет. Смоленск оставался пока за московским княжеством.
В заключение главы отметим активные и целеустремлённые шаги Василия III по собиранию русских земель, его последовательную и принципиальную политику в отношении польско-литовского королевства, а также широкое использование дипломатии для достижения поставленных целей. Великий князь оказался достойным продолжателем дела своего отца и за время своего княжения значительно укрепил авторитет и значение Московского княжества.
Глава 2. Польско-литовская интервенция
С исчезновением Лжедмитрия I обстановка в московском государстве отнюдь не упростилась, а стала ещё более запутанной. Первого самозванца сменил второй, а оказавшийся у власти царь Василий Шуйский с управлением государством в такой непростой период просто не справился.
Но главная опасность России стала угрожать со стороны Польши, которая, отбросив в сторону все старые (с Борисом Годуновым) и новые (с Лжедмитрием) договоры, решила поживиться за счёт ослабевшего русского государства, подчинить его под видом унии и в 1609 году развязала войну, продлившуюся вплоть до 1618 года.
Война эта вошла под названием польско-литовской интервенции.
Подготовка к войне
Вожделения поляков возникли не на пустом месте.
Ещё в 1605 году некто Безобразов, посланец московских бояр, от их имени предлагал Сигизмунду III занять царский трон. То же самое в 1606 году повторил посланец Василия Шуйского Волконский: он прибыл, чтобы известить короля о восшествии на престол Шуйского, а одновременно исполнил желание неизвестных бояр пригласить на русский трон польского короля или его сына Владислава. Через некоторое время в Вавельский замок в Кракове явился ещё один посланец с предложением избавить страну от Шуйского и Лжедмитрия II.
Естественно, свои агрессивные вожделения Сигизмунд одел в приличествующую своей миссии одежду: распространение на московитов истинной христианской веры — католицизма. Он поднял это упавшее со смертью Лжедмитрия знамя, будучи уверен в том, что приунывший после убийства своего ставленника в мае 1606 года Ватикан его непременно поддержит.
Оставалось только решить «маленькую» проблему: где взять деньги на войну? Папа Павел V слыл человеком прижимистым, но кроме него Сигизмунду обратиться было не к кому. Он вступил в переговоры с нунцием Симонетти, сменившим Рангони. Новый нунций доверием короля не пользовался, потому что он твёрдо следовал указаниям папы. А папа отказался выполнить просьбу Сигизмунда надеть на Рангони кардинальскую шапочку, и отношения между Ватиканом и Вавельским замком испортились.
Обрабатывать Симонетти Сигизмунду помогала королева Констанция и хофмаршал Николай Вольский, но Симонетти был дипломат тёртый, и обвести его вокруг пальца было невозможно. Король вспомнил о том, как папа Сикст V золотом субсидировал в своё время Стефана Батория. Ватикан отвечал, что Баторий воевал с неверными турками, а не с москвитянами (что, конечно, было не так), поэтому Сикст V и оказал ему денежную помощь. Павел V, конечно, всей душой был за то, чтобы в Москве на троне сидел король-католик, но хотел, чтобы это было достигнуто за счёт средств Польши. И в своих молитвах, и церковных посланиях он искренно благословлял польского «крестоносца» на благое для Ватикана дело, но денег не давал. В ночь под рождество 1609 года он выслал Сигизмунду воинские знаки отличия — меч и нарамник, за которые король принёс благодарность, но посчитал такие подарки слишком платоническими. Денег — вот что хотел он получить от папы!
Настала очередь Констанции, которая со всей женской силой и убедительностью приступила к Симонетти. От слов она переходила к «слезопусканиям», но Симонетти в течение всего 1610 года стойко выдерживал все атаки королевы. Ей помогал Николай Вольский, который решил воздействовать не только на нунция, но и на папу и предпринял вояж в Рим. Папа обошёлся с посланцем Сигизмунда вежливо, обещал поговорить насчёт денег с Венецией, Флоренцией и Лотарингией, а в заключение вручил хофмаршалу меч и нарамник для передачи Сигизмунду.
Касса Ватикана и вправду была пуста, просителей денег было много, и Павел V концентрировал свои усилия на борьбе с «турецкой опасностью» и помощи французским католикам, после убийства Генриха IV. Но вплоть до 1611 года исполнялась одна и та же песня, в которой одни просили субсидий, а другие — в ней отказывали. И Сигизмунду на войну с Россией пришлось напрягать свои скудные финансы.
Война уже вовсю полыхала на просторах Московского царства, а переговоры короля с Ватиканом не прерывались. Новый толчок в отношениях между королём и папой был дан в связи с желанием Сигизмунда отправить в Рим посольство, чтобы продемонстрировать Павлу V своё сыновнее послушание. Симонетти не переставал напоминать королю об этом его долге, и посольство во главе с житомирским епископом Павлом Волуцким в 1613 году было, наконец, снаряжено и отправлено. Волуцкий тоже обсуждал с папой вопрос о субсидиях, но с тем же успехом. Павел V предложил Сигизмунду обратиться за помощью к польским епископам и внёс в сумму сборов личный вклад в размере 40 тысяч экю.
«Признательность короля не была равносильна папской щедрости», — замечает Пирлинг. Папа по-прежнему отказывал в кардинальском звании епископу Рангони, и это только усугубляло злость и гнев Сигизмунда. Павел V приводил в своё оправдание аргумент о том, что он оказывал польскому королю многие особые одолжения и указывал на суммы денег, которые он таки где-то раздобыл на ведение войны с Московией. На них ссылается и кардинал Боргезе в письме к Симонетти от 8 апреля 1617 года.
Ход войны
Большинство сенаторов поддержали Сигизмунда, но сейм отказался от предложенных королём чрезвычайных налогов. Так что король мог надеяться только на Всевышнего и удачу на поле боя.
Главными своими противниками он считал Василия Шуйского и Лжедмитрия II. «Великая ошибка Сигизмунда… заключалась в том, — пишет Пирлинг, — что он не понял, что позади Василия и Дмитрия, позади бояр, игравших в руку полякам мятежной толпой народа, была Россия, приверженная к старине, враждебная всему иностранному, Россия могучая и здоровая, готовая на жертвы, способная на жертвы и героизм».
В мае 1609 года король вместе с супругой приехал в Вильну, чтобы сделать последние приготовления к походу на восток, а в августе, простившись с Констанцией, он двинулся с армией на Оршу. В исходе сентября поляки перешли границу России.
Пирлинг воздерживается от описания отдельных эпизодов войны и уделяет внимание лишь действиям гетмана Станислава Жолкевского, ветерана войн Стефана Батория. В то время как Сигизмунд занялся осадой Смоленска, гетману было поручено собрать все польские отряды, бродившие по русской земле, под своё командование и заняться военными действиями против русской армии Шуйского и банд Лжедмитрия.
Русская армия во главе с Дмитрием Шуйским, братом царя, стояла под Клушино, а присоединившимися по просьбе царя шведскими частями командовал Якоб де-ла-Гарди. Союзники спали и были разбужены звуками польских труб, давших сигнал к атаке. В ходе жаркого сражения 24 июня (4 июля) 1610 года поляки одержали победу и захватили богатые трофея, брошенные обратившимися в бегство стрельцами. Немецкие и французские наёмники присоединились к войску Жолкевского, а шведы, в силу особого соглашения, с почётом удалились под Новгород. Армия Шуйского перестала существовать.

Результатом поражения под Клушино стало низвержение с трона Шуйского. Организаторов переворота Пирлинг не называет, но было ясно, что ими были бояре той самой партии, которая уже неоднократно предлагала русский трон Сигизмунду или его сыну Владиславу. 7 июля 1610 года к поверженному царю явились бояре и приговорили его к пострижению в монастырь. Василий Шуйский постричься отказался, но его схватили и крепко держали, и пока монах брил его голову, какой-то священник читал за него обычную при пострижении формулу, которую он тоже отказался произносить. Братья царя, Дмитрий и Иван, оказались в темнице.
Жолкевский издали наблюдал за событиями в Москве и за борьбой трёх партий, одна из которых желала иметь русского царя, другая — тушинского вора, а третья — Сигизмунда или Владислава. Пропольскую партию возглавлял боярин Мстиславский, известный своим богатством и древним происхождением рода. Эта партия была самой малочисленной, но сумела захватить власть — Мстиславский исполнял обязанности царя.
Правительство Мстиславского вступило в контакт с Жолкевским и предложило русский трон принцу Владиславу при условии, что он примет православие. Жолкевский, естественно, не мог решать этот вопрос без ведома своего короля и, подписав временный договор с московским правительством, отправился к нему под Смоленск.
Но настоящее торжество гетмана было впереди: партия Мстиславского, обуреваемая страхом перед неустойчивой московской чернью и полчищами Лжедмитрия, пригласила Жолкевского войти в Москву. Упрашивать поляка не пришлось. 9 октября 1610 года он доложил о своём ошеломительном успехе Сигизмунду. Жолкевский настолько чувствовал себя полновластным хозяином Москвы, что ему привезли из монастыря Василия Шуйского, присоединили к нему двух его братьев и отдали гетману. Тот посадил их на телеги и повёз показывать королю под Смоленск. 8 ноября Жолкевский с Шуйскими прибыл к королю, и тот осыпал гетмана всяческими благодарностями, хотя, как пишет Пирлинг, в душе он был уверен, что договор с московитами относительно крещения Владислава в православную веру никогда не будет одобрен ни Римом, ни им самим.

В конце 1610 года исчез с московского горизонта и Лжедмитрий. Брак с «московской царицей» Мариной нисколько не помог ему, и он, опасаясь столкновения с польским войском, сбежал в Калугу, где вскоре пал жертвой заговора русских татар, руководимых Петром Урусовым. Партия «тушинского вора» распалась, рассосалась и перестала существовать. Марину с её сыном Иваном Дмитриевичем взял под свою опеку донской атаман Заруцкий.
…Сигизмунд между тем несколько месяцев простоял под стенами Смоленска, но взять крепость не смог. Гарнизон Смоленска под командованием воеводы Шеина храбро отбивал все приступы и сдаваться не собирался. Наконец, после взрыва крепостной стены миной, поляки ворвались в город. Воевода Шеин вместе с товарищами отчаянно защищался, но был взят в плен. Вильна и вся Польша торжественно и пышно праздновала взятие Смоленска. Особую привлекательность празднеству придавало зрелище несчастного Василия Шуйского, олицетворявшего своим появлением унижение Москвы перед Речью Посполитой. Это произошло 11 октября 1611 года.
Аппетит приходит во время еды, и 8 октября 1611 года все без исключения сенаторы одобрили продолжение войны с Россией (impresa di Moskova — так называли её святые отцы Ватикана) и даже выступили за то, чтобы компенсировать Сигизмунду потраченные им на войну 1 миллион и 100 тысяч флоринов из личных средств.
Сигизмунд для покорении Москвы, пишет Пирлинг, решил пользоваться и силой, и дипломатией, рассчитывая на переговоры с боярами, принявшими сторону Польши. Он, конечно, мало верил в успешный исход этих переговоров, потому что осуществить переход в православие Владислава было просто невозможно. Король решил пока действовать вместо сына, временно взяв власть, не спешить с обсуждением религиозных вопросов и посоветоваться с папой.
Между тем в Москве весной 1611 года произошли большие события: москвичам надоели поляки и они подняли восстание против их засилья. На помощь восставшим пришло ополчение Минина-Пожарского, и с изгнанием поляков в 1612 году из Москвы для России началась новая пора возрождения государственности и народного единения. Сигизмунд начал понимать угрожавшую ему опасность и согласился, наконец, на передний план выставить кандидатуру сына как на возможность обуздать московитов и приблизиться к цели, намеченной в начале войны. В конце 1612 года он приказал литовскому гетману Ходкевичу приблизиться к Москве и привёз туда Владислава.

Уже в Вязьме король получил весть о капитуляции польского гарнизона в Кремле и о полном контроле столицы русскими войсками. Тем не менее, король продолжил свой путь до Волоколамска, демонстрируя въезд своего сына как царя России. Получилось жалкое подобие триумфального шествия из Путивля в Москву 7 лет тому назад Лжедмитрия: народ не выходил встречать Владислава, посланцев принца в Москву не пустили, пропольски настроенные бояре куда-то исчезли, и переговоры вести было не с кем.
Сигизмунду пришлось вернуться ни с чем в Варшаву, приберегая свой козырь — сына Владислава — на будущее. В Москве произошло избрание царя Михаила Романова. К полякам были направлены послы, предлагавшие заключить мир и обменяться пленными, среди которых находился отец царя Михаила архиепископ Филарет, отправленный в своё время для переговоров к Сигизмунду в качестве посланника от московских бояр. Переговоры окончились ничем, и формально война с поляками продолжилась.
Сигизмунд не признавал избрания Михаила Романова, считая его незрелым сыном попа, не способным управлять государством и посаженным на трон не знатными боярами, а неизвестно какими избирателями. Законным царём России, по его мнению, был Владислав, которому присягнул народ и бояре.

Эту версию Сигизмунд излагал и германскому императору Матвею (Маттиасу) (1557—1619), избранному Москвой в качестве посредника для сношений с Польшей. Император внушал Сигизмунду, что лучшим средством покончить с войной было признание Михаила Романова законным царём, и это выводило короля из себя. 25 июля 1616 года сейм одобрил войну с Московией, и во главе польской армии встал Владислав. Он с воодушевлением взялся за решение задачи, с которой не справился отец, и так был уверен в успехе, что затеял с папой переписку о том, чтобы с его помощью утвердить церемонию его коронования на московское царство. Он хотел управлять Россией, не поступаясь своей католической совестью и не оскорбляя одновременно православное чувство русского народа.
Павел V предоставил решать этот вопрос комиссии инквизиции. Членам комиссии уже пришлось давать ответ на такие же вопросы в отношении Лжедмитрия, так что он последовал незамедлительно — короноваться католик Владислав по православному обычаю не мог. Правда, Павел V разрешил участвовать в церемонии греко-униатскому священнику, после чего Владислав мог приобщиться по православному обычаю. Естественно, русская церковь никакого униата к такому святому делу допустить не могла.
Никаких подвигов Владислав в своём походе на Москву не совершил, военные действия велись вяло, так что дело в декабре 1618 года закончилось подписанием Деулинского мира сроком на 14 лет. Условия мира были более чем выгодные для поляков — за ними остались Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов и другие города, но русские были утомлены войной и последствиями смуты и пошли на такие условия.
Поляки отпустили из плена Филарета Романова и вернули русским несколько крепостей. «Честь была спасена, но народная вражда не угасла», — заключает свой обзор войны П. О. Пирлинг.
Глава 3. Дела малороссийские после Переяславской Рады
Присоединением Левобережной Украины в 1654 году и последовавшим завоеванием большинства польских городов королём Швеции Карлом Х на Польше как крупном игроке в Европе можно было бы, по мнению Матвеева, ставить крест. Но..
Но тут Московское государство совершило непоправимую ошибку и вступило в войну со Швецией. Эта ошибка потом дорого обошлась Москве. Кто надоумил царя Алексея Михайловича на эту войну, сказать однозначно трудно, но Павел Александрович Матвеев полагает, что без влияния патриарха Никона тут не обошлось. И, возможно, без А. Л. Ордин-Нащокина тоже, добавили бы мы.
Выдержать противостояние со Швецией и Польшей, за которой стояли Крымское ханство и Турция, казна русского государства выдержать не могла. После кончины «старого Хмеля» в 1657 году на Украине начались сплошные невзгоды: «черкасы изворовались», измена гетманов Выговского и «Юраски» Хмельницкого, поражение московского войска под Конотопом и Чудновым, а в Москве у Алексея Михайловича Тишайшего началась распря с любимым другом патриархом Никоном.
Боярин и оружничий царя Богдан Матвеевич Хитрово (1615—1680) и входивший в силу «русский Ришелье» Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (1605—1680) смотрели на результаты Переяславской Рады 1654 года как на большую обузу для московского государства. Если первый из них никакой особой позитивной программы не имел, а был обычным ловким царедворцем, державшим хвост по ветру, то у второго были и программа, и мысли, и дипломатические способности. Он ещё при Михаиле Фёдоровиче получил богатую практику общения со шведами и естественно считал шведов главным и самым опасным противником Москвы. А. Л. Ордин-Нащокин был большой поклонник Польши и польской культуры, он всегда считал и открыто говорил, что с поляками нужно дружить и вместе с ними «воевать свеев», поэтому лишение Польши Левобережной Украины, особенно при обнаружившейся потом «шаткости черкасов», он считал вредным шагом.

Назначение Афанасия Лаврентьевича начальником приказа Малой России Матвеев считает вряд ли удачным шагом Тишайшего. «Не отступившись от черкас, прочного мира с польским королём не сыскать, а отнятые у Польши черкасские города никакой прибыли не дают, а убытки от них большие», — писал Ордин-Нащокин в докладе царю. И в Малороссии эти взгляды ближайшего советника царя были хорошо известны. Измену и шатания черкас П. А. Матвеев однозначно увязывает с тем направлением в политике, которое было принято русским Ришелье (так потом назвали Нащокина наши историки).
В 1663 году, отправляясь на переговоры с поляками в Дубровичи, Ордин-Нащокин настойчиво советовал царю вернуть Малороссию Польше. Это позволило бы, по его мнению, сформировать христианский союз против Турции. Доклад этот пришёлся не по нраву Алексею Михайловичу, хотя он и сам ворчал про «изворовавшихся» черкасов. Со шведами в 1661 году уже был заключён Кардисский мир, а в Малороссии после избрания гетманом Ивана Мартыновича Брюховецкого дела стали принимать благоприятный оборот. В ответном письме царь писал Нащокину, что все рассуждения его принимает, кроме одного — вернуть Левобережную Украину Польше. «Собаке не достойно есть и одного куска хлеба православного (т. е. продолжать удерживать Западную Украину за Польшей), а уж тем более не подобает отдавать ей и второй кусок — Малороссию. Того, кто сделает это, настигнет кара Божья». Надеюсь, продолжал он, нас избегнет такая кара, и господь «не выдаст своего хлеба собаке».
С этого момента, считает Матвеев, и началось падение Ордин-Нащокина, хотя Андрусовский мир он заключил на условии сохранения Малороссии за Москвой. Правда, пришлось на 2 года отдать Киев.
С Андрусовского договора начались и «шатания черкасов». В Малороссии вызвала ропот уступка полякам Киева, а в Правобережной Украине, выведенной из-под контроля «Собаки-Польши» гетманом Дорошенко, гневались на условия Андрусовского мира в целом. Сидевший в Гадяче гетман Иван Мартынович Брюховецкий, узнав о пренебрежительном отношении Ордин-Нащокна к Малороссии, начал приходить в сомнение.
Называя Брюховецкого выскочкой и оппортунистом и отдавая дань его храбрости и авторитету среди запорожских казаков, Матвеев пишет, что его политические взгляды сформировались в передней и столовой Богдана Хмельницкого, которому он прислуживал и которого считал мудрым батькой. После смерти старого Хмеля, убедившись в ничтожестве его сынка Юрия, Брюховецкий сделал ставку на запорожцев и стал помышлять о гетманской булаве.
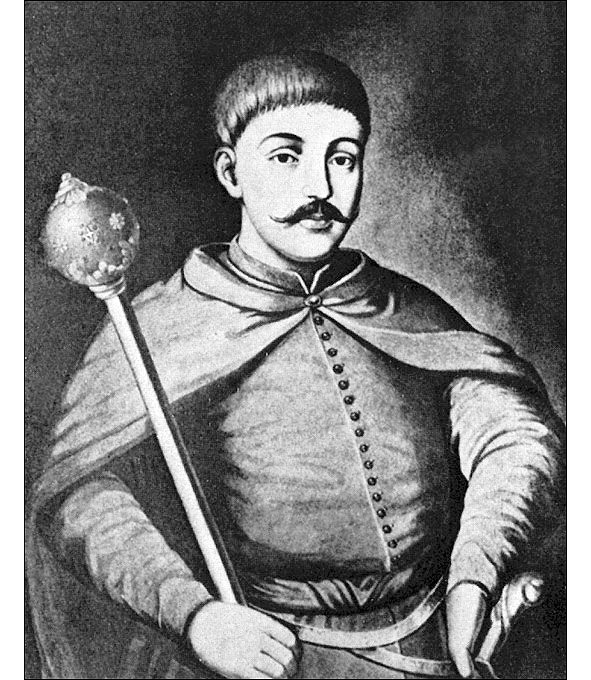
Добившись не без помощи Москвы избрания в гетманы, Иван Мартынович из кожи лез, чтобы доказать свою верность московскому царю. В 1665 году он с многочисленной свитой прибыл в Москву и бил челом Тишайшему о более тесном подчинении Малороссии и посылке в черкасские города русских воевод и ратных людей. Для пущей убедительности в своей верности Москве он попросил царя женить его на какой-нибудь «московской девке». Царь любил оказывать такие услуги и предложил Брюховецкому в жёны дочь князя Д. А. Долгорукова. Алексей Михайлович оценил инициативу гетмана и присвоил ему боярский чин — так Брюховецкий получил прозвание боярина-гетмана. Кажется, царь оказал ему медвежью услугу: щирым казакам такое звание показалось оскорбительным и неуместным.
Н. И. Костомаров в своей монографии об этом человеке писал: «Москвы он никогда не любил, он только подличал и пресмыкался перед нею, надеясь, что она всегда может охранить его». Впрочем, пишет Матвеев, так смотрели на Москву все гетманы XVII века, включая и Богдана Хмельницкого.
Освободившись от польской зависимости, Дорошенко стал склоняться к протекции Турции, а когда сомнения Брюховецкого относительно Москвы достигли своего пика, то Дорошенко сумел заразить и его «турецкой болезнью». Впрочем, сделать это было не так уж и сложно — казацкая старшина и гетманы Украины всегда страдали этой болезнью, в том числе и старый Хмеля, который, правда, дальше шантажа перейти под руку султана не пошёл, но этого хватило, чтобы Москва пошла ему на некоторые уступки. Кроме того, Дорошенко в качестве платы за измену предложил Брюховецкому уступить ему и свою булаву и сделать его гетманом «всея Украины». Мартыныч перед таким соблазном устоять не смог и где-то в 1667 году пока завёл с Дорошенко тайную связь
Приехав домой с молодой женой, Брюховецкий был встречен общим ропотом: казаки выразили недовольство и московскими статьями, и принятием им боярского чина. Малороссийское духовенство тоже всполошилось, опасаясь подчинения Московскому патриарху (украинская церковь подчинялась тогда Царьградскому патриарху). Друг гетмана епископ Мефодий воспылал гневом, узнав, что гетман пригласил на освободившееся место митрополита московского человека. У гетмана возникли трения и с киевским воеводой Петром Васильевичем Шереметевым из-за его вмешательства в процесс сбора налогов в пользу московской казны. Москва поторопилась направить в Малороссию «для собирания вестей» дьяка Фролова. Сам Брюховецкий писал в Москву извинительные письма за возникшие после его приезда недоразумения и уверял царя в нерушимой верности.
Новым поводом к возмущению в Малороссии послужили скрываемые от малороссов, но просочившиеся сведения о сдаче Киева на 2 года полякам — об этом московские власти даже боярина-гетмана в известность не поставили. Особенно активно эти сведения распространял поссорившийся с Брюховецким епископ Мефодий. Но к 1667 году Мефодий при содействии архимандрита Иннокентия Гизеля, сторонника гетмана Дорошенки, с Брюховецким помирился, а боярин-гетман, вероятно через Гизеля, вступил в контакт с Дорошенко.
Надеяться на Москву он уже перестал — он в ней разочаровался и решил искать спасения в союзе с Правобережной Украиной Дорошенко. И в совместной надежде — на помощь султана. И тут в конце осени 1667 года Ордин-Нащокин вступил в переговоры с Дорошенко, пытаясь склонить его к сотрудничеству с Москвой, а влиятельное духовенство — убедить в подчинении Московскому патриарху вместо Константинопольского. Афанасий Лаврентьевич изобрёл для этого искусный, по его выражению, «привод», вставив в текст Андрусовского мира секретную статью, согласно которой Москва, не нарушая договора с поляками, могла удержать за собой Киев. Чтобы этот «привод» сработал, русский Ришелье решил раздуть в Западной Украине смуту, которая бы явилась предлогом не сдавать Киев полякам. Посланный им в Малороссию стряпчий Тяпкин и киевский воевода П. В. Шереметев стали раздувать эту смуту во всю меру своих способностей и возможностей.
Увлекшись уговорами Дорошенко, Ордин-Нащокин совсем забыл про Левобережную Украину, что и немедленно привело к восстанию последней против Москвы. Польский посол Бенёвский, соавтор Афанасия Лаврентьевича при подписании Андрусовского договора, хорошо знавший казаков и Украину, сумел «вклеить» в текст договора свой хитрый «привод», который и взбудоражил левобережных казаков и поднял их на восстание. Тонкая дипломатия русского Ришелье потерпела крах — где тонко, там и рвётся.
Ордин-Нащокин, пользовавшийся ранее услугами епископа Мефодия, выбрал своими агентами Гизеля и Тукальского, верных клевретов Дорошенко, а те нисколько не были заинтересованы в разрыве связей с Константинопольским патриархом и гнули свою линию, подстрекая Брюховецкого к разрыву с Москвой.
В конце января 1668 года П. В. Шереметев из Киева забил тревогу и поспешил известить о своих опасениях Нащокина. Тот, поняв свой промах, активно принялся за исправление создавшегося положения в Малороссии и вспомнил даже о Мефодии, но было уже поздно. К боярину-гетману и духовенству послали успокоительные грамоты, их обнадёживали относительно удержания Киева и извещали о посылке к ним дворянина Ивана Желябужского, который должен был ознакомить их с содержанием текста Андрусовского мира, и даже обещали отменить московские статьи о воеводском управлении черкасских городов.
Не дожидаясь результатов миссии Желябужского, в Севск для боярина-гетмана, черниговского архиепископа Лазаря Барановича, Мефодия и Гизеля отправили с царскими грамотами специального гонца, но когда гонец 12 февраля прискакал в Севск, он узнал, что подавшийся к туркам Брюховецкий был 8 февраля убит в Гадяче, а вместе с ним погибли царский воевода Одоевский и его ратные люди. Под контролем Москвы в Левобережной Украине остались всего 3—4 города, включая Киев, а результаты Переяславской Рады едва не погибли в пожарах и в крови, вызванных изменой Брюховецкого. «Всё было сделано как со стороны Москвы, — пишет Матвеев, — так и наиболее влиятельных в то время деятелей Малороссии, чтобы расшатать в корне великое дело 1654 года на раде в Переяславле: и оно тем не менее устояло».
В конце мая 1668 года был зверски убит Дорошенко и произошло ещё много неприятных событий в этом високосном году, которые Матвеев не захотел комментировать в виду их однообразия. Но, как говорил гоголевский Осип, всё имеет свой конец — закончилась и смута в Левобережной Украине, захлебнувшаяся в собственной крови.
В январе 1669 году в первопрестольную прибыло из Малороссии великое посольство от наказного атамана Северской Украины Демьяна Игнатьевича Многогрешного и черниговского архиепископа Лазаря Барановича с повинной и челобитьем простить черкасским городам измену гетмана Ивашки Брюховецкого. 19 января посольство было принято Алексеем Михайловичем, а «он вины их велел отдать и к прежнему своему милосердию принять изволил». Переговоры с ним были поручены Б. М. Хитрово, а А. Л. Ордин-Нащокин к ним допущен не был. На первый же вопрос царского оружничьего о том, почему левобережные казаки взбунтовались, посольство ответило, что причиной явилось пренебрежительное отношение к ним и черкасским городам со стороны Малороссийского приказа.
Посольству 25 января было сказано, что все дела будут решаться на Раде и что в Малороссию для этого отправляются боярин Г. Г. Ромодановский, стольник Артамон Сергеевич Матвеев и дьяк Богданов. По ходатайству посольства Раду решили провести в Батурине. 12 февраля 1669 года в Москве начались приготовления к этому важному событию. Переяславская Рада была сохранена и восстановлена, но уже без участия А. Л. Ордина-Нащокина.
Глава 4. Европа и Россия в начале XVIII в.
«Главной нитью всех этих событий, — начинает историк А. Г. Брикнер свою статью, — было враждебное отношение большей части западноевропейских держав к Московскому царству…» И этот тезис лейтмотивом проходит через всю статью.
Как только англичане в 1553 году открыли морской путь в Россию через Белое море, в Европе сразу раздались голоса, что Россия для неё может представить опасность. Одним из первых тревогу забил польский король Сигизмунд. «Дозволить плавание в Московию воспрещают нам важнейшие причины, — писал он английской королеве Елизавете 13 июля 1567 года, — не только наши частные, но и всего христианского мира и религии, ибо неприятель от сообщения просвещается и, что ещё важнее снабжается оружием, до тех пор в этой варварской стране невиданным…»
В другом письме от 13 марта 1568 года Сигизмунд конкретизирует свои предупреждения английской королеве, называя Россию не только врагом Польши, но и «наследственным врагом всех свободных народов»: «…Что всего более заслуживает внимания, он снабжается сведениями о всех наших даже сокровеннейших намерениях, чтобы потом воспользоваться ими на погибель всем нашим».
Вот так Россия ещё в правление Ивана IV сразу и безапелляционно помещается в лагерь нехристианских, варварских и враждебных Западу стран. Мнение Сигизмунда разделяли и соседние с Польшей страны. Известно, что в Любеке и Дерпте были задержаны ремесленники, приглашённые царём Иваном. Менее известно, что испанский герцог Альба 18 июля 1571 года обратился к германскому народу с запиской, в которой требовал запретить поставки вооружения в Россию.
К счастью для России, Англия и Нидерланды не последовали антирусским призывам и начали активно торговать с русскими, и не потому, что «полюбили» их, а потому, что считали это для себя выгодным. Мы знаем, что Великое посольство Петра I в 1697 году было более-менее благоприятно воспринято Голландией и отчасти Англией, но остальная просвещённая Европа встретила его либо в штыки, либо с большим скепсисом. Когда Пётр прибыл в Вену для переговоров о совместных действиях против Османской империи, венецианский посланник Рудзини, вслед за официальной Веной, презрительно выразился о пользе посольства Петра, поскольку Россия в то время не имела никакого веса в области внешней политики.

Взятие русскими Азова, казалось, должно было приветствоваться антиосманской коалицией, но это только казалось. Когда француз Фурше, сопровождавший к Азову партию приглашённых Петром европейских офицеров, возвращаясь домой через Варшаву, рассказывал польским сенаторам о приготовлениях русской армии к осаде Азова, те сокрушённо качали головами и говорили: «Какой отважный и беспечный человек! И что от него впредь будет?» Воевода Плоцкий высказался о русских более откровенно: «Лучше б было, чтобы дома сидели, это нам бы не вредило. А когда выполируются, крови нанюхаются, увидим, что из них будет. До чего господи Боже не допусти!»
Резидент Никитин докладывал царю, что поляки сильно перепугались взятием Азова, и что за их лицемерными хвалебными отзывами скрывались вражда и ненависть к русским. Поляки, по мнению Никитина, только ждали удобного момента для того, чтобы вторгнуться на Украину и вернуть утраченный ими над ней контроль.
Брикнер прослеживает реакцию Европы на события под Нарвой и Полтавой — реакцию вполне ожидаемую. «При неблагоприятном настроении умов вне России известие о поражении русских войск при Нарве было встречено с особенной радостью в Западной Европе», — пишет Александр Густавович. Немецкий учёный Лейбниц писал своему приятелю в Швецию, что это поражение дорого обойдётся русским, «что нельзя не желать, чтобы юный шведский король завоевал всю Россию до реки Амура» и посвятил этому событие стихотворение, едко высмеивающее царя Петра, старающегося скрыть свой позор. Появились брошюры и памфлеты, в которых восхвалялся Карл XII, выбивались в его честь медали и осмеивался Пётр I.
Русские резиденты за границей оказались в весьма тяжёлом положении.
Голицын доносил из Вены, что «главный министр граф Кауниц и говорить со мной не хочет; они только смеются над нами». В Вене распространялись слухи, что царевна Софья освобождена из монастыря, и что ей поручено возглавить правительство России. (Как это напоминает нынешнюю ситуацию, в которой коллективный Запад прилагает все усилия к тому, чтобы вызвать в России недовольство политикой Путина).
Матвеев из Гааги сообщал, что шведский резидент Лилиенрот такими позорными словами «поливает» Петра, что «моя рука того написать не может».
В Польше опять получили актуальность планы нарушить Андрусовский договор и вернуть Украину.
Союзник царя саксонский курфюрст Август II был очень недоволен намерением Петра осадить Нарву: при её падении России достался бы слишком большой куш в Прибалтике, на который положил глаз он сам.
Когда войска под командованием Б. П. Шереметева стали проявлять активность в Лифляндии и Эстонии, в Европе стали вновь опасаться проникновения России в Балтийское море, а Голландия, недовольная строительством судов в Архангельске, стала усердно продвигать идею заключения между воюющими странами мира. (И опять мы убеждаемся, что нынешний Запад повторяет «зады» и не придумывает ничего нового, как «мирными инициативами» попытаться остановить успехи России на военном и внешнеполитическом театре действий). Бюргермейстер Витсен за своё расположение к царю и к России подвергся остракизму, а на голландского купца Бранта, поставлявшего в Россию ружья, шведы организовали покушение. Матвеев писал Петру о лицемерии голландских предложений о мире и предостерегал его от использования Гааги в качестве посредника для ведения мирных переговоров.
В Вене, по свидетельству русского посла Й. Р. Паткуля, ганноверский, английский и голландский посланники всеми силами пытались отговорить Австрию от сотрудничества с Россией и показать опасность её усиления. Хорошо информированный Пётр понимал, что надеяться надо было только на успех русского оружия и построил свою политику на использовании противоречий в европейском лагере. Когда в Европе началась война за испанское наследство, Пётр в письме от 2 июня 1702 года писал Апраксину: «Дай Боже, чтоб затянулась». Чем больше внимания Европа ввязывалась в противостояние с Испанией и Францией, тем удобнее было для России выполнять свои планы.
Положение России продолжало, между тем, оставаться опасным и Пётр постоянно искал путей заключения со шведами мира. Он обратился за помощью к герцогу Марльборо, предложив ему в качестве вознаграждения любое из княжеств — Киевское, Владимирское или Сибирское, но герцог хапнул 50 тысяч ефимков и ничего для подготовки мира не предпринял. Во время аудиенции у Карла ХII он увидел, что шведский король готовился к походу в Россию, и мешать ему в этом предприятии не захотел.
Принцу Евгению Савойскому Пётр предлагал польскую корону, пруссаку графу Вартенбергу — крупную сумму денег, голландцам — вспомогательное войско для войны с Францией, датчанам — Дерпт и Нарву, но все эти попытки были безуспешными. Всюду предложения царя встретили холодный приём. Европа ждала, Европа жаждала похода Карла ХII в Россию.
А потом Август II за спиной у Петра I заключил со шведами предательский сепаратный Альтранштетский мир, и Россия осталась наедине с могущественным противником. Пётр успел укрепиться на берегах Балтийского моря, но дальнейший успех, по словам Брикнера, подлежал сомнению. Европа смотрела на Россию свысока: доказательством тому служило холодное обращение с русскими дипломатами и даже казнь русского посла в Саксонии Й. Р. Паткуля. «Для того чтобы приобрести значение и вес в Европе, нужна была победа», — заключает Брикнер. (Эту важную мысль историка XIX века можно с таким же успехом повторить в наше время).
«Полтавской битвой изменилось всё в пользу России, и были устранены все сомнения относительно её будущего величия», пишет Брикнер. Открылись надежды на «открытие окна» в Варяжское море, было обеспечено существование Санкт-Петербурга. Лейбниц «переобулся» и стал называть победу под Полтавой достопамятным событием и полезным уроком для позднейших поколений. Россия, по его мнению, теперь была способна играть большую роль во всемирной истории. (Был ли философ искренен при этом? Что-то мало верится.)
Спустя много лет после 1709 года ещё один властелин европейских душ, француз Вольтер, сказал, что Полтавская битва — единственное во всей истории сражение, следствием которого было не разрушение, а счастье человечества, ибо оно обеспечило Петру I простор на пути своих преобразований.
Вольтер был великим мыслителем, но и его слова быстро улетучились из мозгов французов. Во всяком случае, уже 30 лет спустя в Россию прибыл посол Шетарди с инструкцией французского короля произвести в России переворот и отбросить Россию за пределы Уральских гор. Сильная Россия была как кость в горле Версаля, и царствующим потомкам Петра приходилось защищать российское государство на полях сражений.
А пока царь принимал меры по укреплению роли и значения России и начал целую серию «брачных наступлений», выдавая своих родственников за представителей знатных европейских дворов. Он начал эту политику ещё в 1707 году, сватая сына Алексея за невесту из брауншвейг-вольфенбюттельского двора.
Ганноверский курфюрст решил отказаться от союза со Швецией, положение русских дипломатов резко изменилось в лучшую сторону, самого Петра восторженно приветствовали в Люблине, Варшаве, Берлине и поздравляли с победой. Дрезден и Копенгаген снова возобновили союз с Петром I. Причём если ранее датский король требовал для возобновления союза против шведов субсидию, то резиденту В.Л.Долгорукову, наперекор интригам английского и голландского резидентов, удалось решить вопрос без всякой субсидии. Даже король Людовик XIV снизошёл до предложения вступить в союз с Петром.
Брикнер отмечает, что всеми этими ухаживаниями за царём европейцы преследовали свои корыстные цели. На свидании с Петром в Мариенвердере «твёрдый» союзник прусский король Фридрих-Вильгельм I предложил осуществить раздел Польши, на что царь ответил, что такую мысль считает неосуществимой. Пруссак от своего проекта был вынужден отказаться, но повторил его в 1710 году, однако и тут наткнулся на решительный отпор Петра. В Берлине стали считать, что Пётр ведёт себя слишком гордо и с достоинством. (Видимо считая, что вести себя с достоинством могли только немцы, французы и англичане).
Были недовольны успехами Росси и турки, науськиваемые английским и голландским посланниками. В Константинополе считали, что Россия стала играть слишком большую роль в Польше и вели дело к войне. Кстати, неудача Прутского похода 1711 года была с лихвой компенсирована Россией на театре военных действий на северо-восточном фланге. Последовало падение Риги, Эльбинга, русские войска появились в Померании, Мекленбурге и Голштинии, а царь стал частым гостем то в Карлсбаде, то Теплице, Пирмонте, Спа или в Берлине и Копенгагене. Всех он удивлял своей неутомимостью, предприимчивостью, самостоятельностью взглядов и мыслей, всех он превосходил в знании дела, во владении техники войны, опытностью в вопросах политики. В тон ему успешно действовали дипломаты Куракин, Долгоруков и Матвеев.
В Германии, вследствие явного перевеса России, начали говорить о возможности ужасного кризиса. Когда русские войска приступили к осаде Штеттина и Штральзунда, Фридрих I в записке своему дипломату пожаловался, что вся Пруссия оказалась в руках русского царя. Ревнивые союзники повсюду стали вставлять русским палки в колёса, мешать, саботировать, обманывать. Особенно сноровиста на гадости была Англия. Для поддержания «равновесия» в Европе Лондон категорически выступил против поражения в войне Швеции и лишения её Ливонии. Говорят, что у Петра в Карлсбаде был такой «крупный» разговор с посланником Витвортом, что тот предпочёл поскорее удалиться. Англичане испугались, что с доступом русских в Балтийское море русские купцы переиграют английских и возьмут всю балтийскую торговлю в свои руки.
Царь раскусил своих союзников и был настроен решительно. В беседе с английским дипломатом Гоусом он заявил: «Я готов со своей стороны явить всякую умеренность и склонность к миру, но с условием, чтобы медиаторы поступали без всяких угроз… В противном случае я вот что сделаю: разорю всю Ливонию и другие завоёванные провинции, так что камня на камне не останется. Тогда ни шведу, ни другим претензии будет иметь не к чему». Гоус, передавая содержание разговора с царём своему правительству, заметил, что с Петром следовало поступать осторожно, и что враждебными действиями принудить его ни к чему нельзя. (Такие разговоры, вероятно, действуют на англичан лучше всего).
Окончание войны за испанское наследство сказалось отрицательно на положении России. Особенно «отличался» Берлин, под разными предлогами не желавший навредить Швеции, но готовый уколоть чем-нибудь Россию. Когда сдался город Висмар, датские, прусские и ганноверские войска запретили войти в город русской армии. Рассерженный Пётр особенно неприязненно оценил действия Дании.
Союзники Петра стали считать возможным, что преобладание российского флота на Балтике и русской армии в Германии царь непременно использует для нападения на кого-либо из них. Особый страх начала испытывать Дания, в 1716 году датчане полагали, что Пётр непременно предпримет нападение на Копенгаген.
В это время Дания и Россия планировали высадить десант и вторгнуться на территорию Швеции. Но нападение на Швецию не состоялось. Царь Пётр произвёл рекогносцировку южного побережья Швеции и обнаружил там сильные шведские укрепления. Русские суда, в том числе и корабль, на котором находился царь, были обстреляны шведскими батареями и получили повреждения. Дания медлила и никаких шагов не предпринимала. Настала осень, и тут сам царь отменил операция, заподозрив, что союзники, заманив русскую армию в Швецию, захотели её погибели.
Дания в свою очередь обвиняла русских в медлительности, обвинила русскую сторону в сношениях со шведской стороной и требовала немедленной транспортировки русских войск. Между союзниками возник полный разлад, датский король отказался встречаться с Петром. Подливала масла в огонь Пруссия, которая была раздражена тем, что Дания якобы планировала вознаградить участие Петра в высадке десанта на шведский берег Померанией и городом Штеттином. Жители Копенгагена вооружились и ждали нападения русского флота.
Союзная Англия, пославшая свой флот к датским берегам, в это время собиралась нанести сокрушительный удар по русскому флоту и армии. Король Георг I хотел разом покончить с присутствием русского флота в Балтийском море и поручил адмиралу Норрису напасть на русские корабли, арестовать царя и принудить его убраться в Россию. До этого, к счастью, не дошло, потому что среди английских министров нашлись благоразумные люди, которые посчитали, что такая подлая акция могла навредить самим англичанам.
Англичане, ганноверцы и датчане не гнушались пустить в ход самую гнусную ложь, утверждая, что царь хочет захватить то Гамбург, то Мекленбург, Любек или Висмар. В этой ситуации хитрый Фридрих-Вильгельм I решил оставаться верным союзу с Россией и, наблюдая за действиями английских, датских и ганноверских дипломатов в Берлине, аккуратно доносил о всех инсинуациях посланнику Головкину.

Несмотря ни на что, Пётр считал, что Россия в целом добилась своего: она завоевала Прибалтику, нанесла поражение шведам, и теперь с Россией vollens nollens стали считаться. Все старания Европы лишить Россию её завоеваний терпели неудачу. Англия не один раз посылала свои эскадры на помощь шведам, но так ничего существенного сделать не смогла. Пётр перенёс военные действия в Финляндию и на территорию Швеции в надежде поразить Швецию в её самое чувствительное место, и достиг через 3 года желаемого.
В конце своей статье А. Г. Брикнер рассматривает позиции европейских стран по вопросу о признании за Петром I императорского титула. (Нынешний читатель должен понимать, что речь в данном случае шла не о простом украшении царя новым званием, а о статусе российского государства и о его авторитете на международной арене). Брикнер справедливо считал, что результатом Северной войны стало превращение Московского царства в Российскую империю. Де факто это так и было, но Европа в официальных документах продолжала называть нас Московией. Предстояла долгая и тяжкая борьба за признание названия страны Российской империей де юре.
Пруссия и Нидерланды признали за Петром императорский титул сразу.
В Австрии к этому вопросу подошли иначе. Посланник Петра в Вене Ланчинский докладывал, что при сообщении им императору Карлу VI известия о принятии Петром в 1721 году титула императора тот пробормотал скороговоркой что-то совсем невнятное, и Ланчинский переспросить его не решился. Очевидно, от неожиданности слова застряли у австрийца в горле. Вице-канцлер Австрии всё отговаривался тем, что ещё не переговорил по этому вопросу с кесарем. Другие члены австрийского правительства просто отмалчивались. Наиболее умные пускались в разъяснения о том, что вслед за Петром императорского титула станут требовать англичане и другие государи, так что значение титула умалится. В 1721 году цесарский двор продолжал слать в Петербург ноты с употреблением старого царского титула.
Во Франции регент сказал посланнику Долгорукову, что если бы дело зависело только от него, он бы сразу признал Петра императором, но «дело такой важности, что следовало подумать».
В Польше тоже колебались и думали. Паны опасались, что титул императора повлечёт за собой претензии Петра на русские земли, входившие в состав Речи Посполитой.
В Дании соглашались признать за Петром титул императора только при гарантии безопасности Шлезвига, т. е. захваченной ею во время войны Голштинии и удаления из России голштинского герцога.
В числе аргументов в пользу признания за русским царём императорского титула Москва приводила письмо императора Максимилиана I московскому князю Василию Ивановичу, в котором князь назывался императором. В Европе сразу же появилась брошюра, доказывающая, что письмо кесаря было подложным. В другой брошюре утверждалось, что императорский титул Петра нанесёт ущерб достоинству германского императора и других европейских государей.
Так что процесс признания за государём России растянулся на десятилетия: в 1723 году титул признала Швеция, в 1739 году — Турция (на троне уже была Анна Иоановна), в 1742 году — Австрия и Англия, в 1745 году — Франция и Италия (признание непосредственно коснулось уже Елизаветы Петровны), и только в 1764 году — Польша (это сделал под большим нажимом Екатерины II её бывший любовник и король Станислав Понятовский).
Многие в Европе питали надежду на то, что после Петра на российском троне появятся другие лица, что и лишит Россию прежнего государственного значения. Ещё при жизни Петра сначала в Польше, а потом и в других странах Европы стал распространяться слух о его смерти. Посланник в Стокгольме М. П. Бестужев докладывал уже Екатерине I о том, что король Швеции и его «партизаны» были от этих известий в «немалой радости». А его брат, посланник в Копенгагене А. П. Бестужев, писал: «…Из первых при дворе яко генерально и все подлые с радости опилися было». Только прусский король Фридрих-Вильгельм I на кончину Петра I откликнулся о нём словами «дражайший друг» и объявил в Потсдаме 3-х месячный траур, тогда как траур по другим государям длился 6 недель. Когда его посланник в Петербурге Мардефельд запросил Фридриха-Вильгельма, какой траур ему соблюдать, король ответил: «Как по мне».
Наш комментарий. История повторяется, но часто уже в виде фарса. Вот и теперь, мы видим отчаянные потуги коллективного Запада умалить достоинство России и её истории, уничтожить нашу государственность. Часто их действия выглядят как откровенный фарс или пародия на государственную деятельность. Ничего не поделаешь: мельчает народишко. А обрусевший немец Александр Густавович Брикнер оставил нам пример честного патриотического подхода к русской истории, за что мы ему должны быть благодарны.
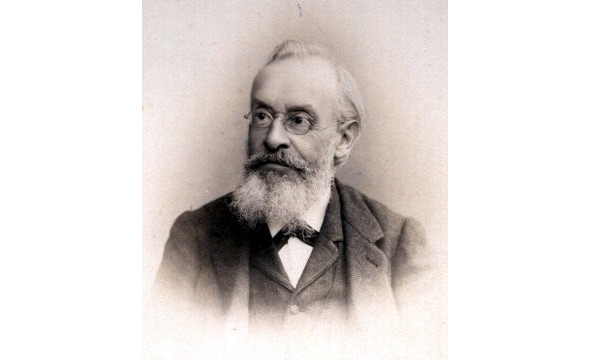
Глава 5. Павел I и Витворт
Чарльз 1-й Уитворт (Витворт) (1752—1825), чрезвычайный и полномочный посланник Великобритании в России в 1788—1800 гг., известен в нашей истории как человек, организовавший убийство или причастный к покушению на императора Павла I.
Автор материала Василий Никифорович Александренко (1861—1909) — юрист, историк и профессор Варшавского университета.
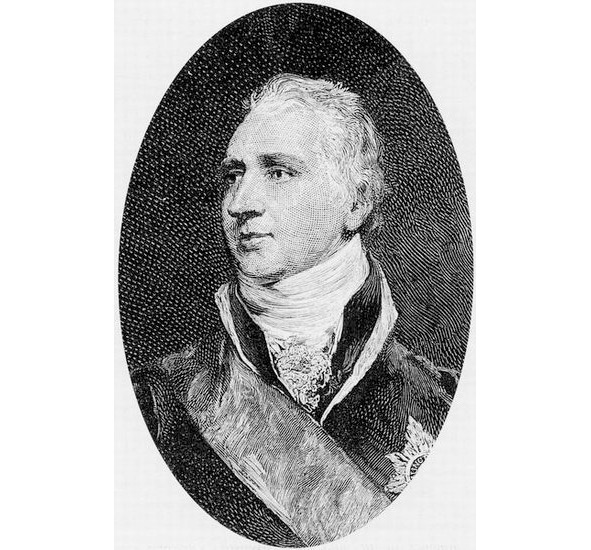
Сравнивая политику России при Павле I с политикой Англии, Александренко пишет, что Россия в это время постепенно втянулась в борьбу за чуждые ей интересы, в то время как Англия осталась в русле своей традиционной линии, обеспечивающей соблюдение интересов собственных. Мнение это, на наш взгляд, спорное. Уж если и считать в качестве вины или ошибки России борьбу за чуждые интересы, то этим особенно отличился после 1812 года сын Павла император Александр Благословенный.
Как бы то ни было, английский посол в Петербурге Ч. Витворт в высшей степени символизировал политику своей страны. Человек умный и способный, он за 12 лет пребывания в России хорошо изучил страну, её элиту и досконально представлял себе политику Екатерины II и Павла, дворцовые интриги и людей, приводящих в движение потаённые пружины этой политики. Официально об этом нигде не говорится, но Витворт, если и не принадлежал к английской разведке, то вполне мог выполнять её задания.
Он подробно, с указанием мельчайших деталей, сообщил обстоятельства смерти Екатерины и восшествия на трон Пала I, но в связи с резким отказом императора от курса, проводимого матерью, Витворт на первых порах стал испытывать определённые трудности в добывании информации. С графом Безбородко, которого новый император оставил у дел, связанных с внешней политикой, Чарльз Витворт поддерживал официальные отношения. Доверительную же информацию он черпал из дружеских связей с вице-канцлером и другом детства Павла князем Александром Борисовичем Куракиным (1752—1818), с любовницей Павла Екатериной Ивановной Нелидовой (1756—1839), с членом КИД графом Никитой Петровичем Паниным (1770—1837) и со своей любовницей Ольгой Александровной Жеребцовой (1765—1849).
При заключении торговой конвенции с Россией Витворт подарил Е. И. Нелидовой, прослывшей в нашей истории бессребреницей и нестяжательницей, якобы не бравшей за свои услуги ни денег, ни подарков, 30 тысяч рублей. Какую сумму получил Витворт на подкуп русских деятелей, нам не известно. Укажем для примера, что его предшественник на этом посту Кейт в своё время получил 100 тысяч фунтов стерлингов.

В первые годы правления Павла Витворт пользовался его благосклонным вниманием, о чём, например, свидетельствует удовлетворение императором просьбы посла об оказании оставшемуся без средств существования герцогу де Полиньяку: герцог получил в потомственное владение имение, приносящее доход около 10 тысяч рублей в год. В конце 1798 года Павел, игнорируя возражения Лондона, наградил Витворта большим крестом Мальтийского ордена и даже обсуждал с ним планы борьбы с Францией.
Но через год в Петербурге уже знали, что Витворт оказался в опале, и что Павел 1 февраля 1800 года потребовал от Лондона отозвать его и назначить вместо него нового посла, дабы «избегнуть неприятных последствий, какие могут произойти от дальнейшего пребывания лживых министров». Лживость Витворта, по предположению Александренко, заключалась в том, что Павлу удалось узнать, что тот в своих депешах в Лондон мрачными красками рисовал его душевное состояние. Как бы то ни было, император потребовал от своего посла в Лондоне С. Р. Воронцова (1744—1832) повлиять на английское правительство, с тем чтобы оно ускорило направление замены Витворту.
В начале мая 1800 года Витворт уже стал опасаться за свою безопасность, складывал вещи в сундук, отбирал нужные и уничтожал компрометирующие документы, готовясь к отъезду. 13 мая Павел приказал руководителю внешними делами Ф. В. Ростопчину (1763—1826) сказать Витворту, что он может ехать. Англичанин попросил назначить поверенным в своих делах секретаря Касамэджора и поучил на это разрешение. 24 мая (4 июня) он получил категорическое повеление императора на выезд.
Опале подвергся и посол С. Р. Воронцов, началась чехарда в русском посольстве в Лондоне. Павел был недоволен его проволочками с замещением Витворта и предложил ему «просить увольнения со службы с ношением мундира». Об этом Семён Романович узнал из письма Ростопчина, в котором Фёдор Васильевич орошал слезами руки адресата и предлагал плакать вместе: «Делать нечего». Воронцов в начале мая 1800 года представил английскому королю Георгу III поверенного в своих делах д. с. с. В. Г. Лизакевича (1737—1815), которому и вручил на хранение посольский архив.
Но и Лизакевич не задержался в туманном Альбионе. 17 (28) сентября в посольство прибыл курьер от Ростопчина с уведомлением о наложении 28 августа правительством ареста имущества англичан в России и рекомендацией немедленно покинуть Англию. Лизакевич, не теряя времени, занял в банке 250 ф. ст., сделал себе паспорт на вымышленную фамилию и на другой же день 18 (29) сентября выехал в Ярмут и исчез из поля зрения англичан, взойдя на борт корабля, отправлявшегося в Данию. Архив и все дела посольства он оставил на …священника посольской церкви Я. И. Смирнова, (1759—1840), в миру Линицкого, который должен был легендировать отъезд Лизакевича поездкой деревню.
Чтобы упрочить положение Якова Ивановича, Павел издал 29 сентября соответствующий рескрипт. Конечно, де юре он не был признан англичанами в качестве поверенного в делах, и отношения между Англией и Россией были прерваны, но де факто Смирнов исправно исполнял обязанности главы дипломатической миссии. Англичане установили за ним плотное наблюдение, так что он не мог сделать без их контроля ни одного шага. «Если двинусь — посадят в тюрьму», — жаловался он своему покровителю С. Р. Воронцову.
Ещё до разрыва дипломатических отношений, после поражения 1 августа 1798 года французского флота при Абукире, англичане объявили России, Дании и некоторым другим странам торговую войну и стали разбойничать на морях, не обращая внимания на нейтральные флаги. Так что меры Павла в отношении англичан в 1800 году носили фактически ответный характер. После разбойничего нападения 13 (25) июля 1800 года английского флота на датское судно «Фрейя» Копенгаген обратился за помощью в Петербург. Паве поставил условием, чтобы Дания вместе со Швецией и Пруссией присоединилась к антианглийской лиге. В августе Н. И. Панин сочинил манифест о восстановлении вооружённого нейтралитета и направил его дворам указанных стран. К декабрю 1800 года соответствующая конвенция между Россией, Данией, Швецией и Пруссией была подписана.
Арест английского имущества и эмбарго на поставку английских товаров в Россию сильно всполошило английскую колонию Петербурга. 25 августа полиция посетила англичан на дому и предложила им явиться к военному губернатору Петербурга генералу Н. С. Свечину. В назначенный час в канцелярии Свечина собралось 50 англичан во главе с консулом Александром Шерпом. Им было предложено оценить своё имущество и сообщить о том, кто из русских и сколько был должен каждому из них. Такие сведения к 28 августа представили не все англичане, и тогда полиция изъяла у них торговые книги. Власти затеяли было объяснение с Шерпом, но неожиданно Свечин послал консулу уведомление, что эмбарго отменяется, и торговые отношения с Англией возобновляется. Судя по всему, Павел поторопился с эмбарго, потому что Россия испытывала острую нужду в английских товарах, и решил воздействовать на Лондон с помощью упомянутой выше конвенции.
Но англичане продолжали действовать силой, и 5 сентября 1800 года заняли Валетту. На Павла это известие подействовало как красная тряпка на быка — ведь он был великим магистром Мальтийского ордена. Ответом императора послужило новое эмбарго на английские товары, объявленное 23 октября. 19 ноября последовал указ, запрещающий вход английских кораблей в русские порты, а 22 ноября Петербург постановил прекратить выплату англичанам долгов. Английские суда в Кронштадте были задержаны, а матросов и капитанов с них стали отправлять в Тверь, Смоленск и др. города.
Павел, как известно, стал сближаться с Наполеоном и порекомендовал морскому министру маркизу Ж. Б. Траверсе (1754—1831) укреплять Кронштадт, Рочесальм и др. морские крепости и к весне готовиться к войне с англичанами. Воинственные антианглийские рескрипты были направлены русским послам. Но главное — Павел вместе с Наполеоном стал готовить поход в Индию и в январе 1801 года завязал с ним переписку
«Озлобление англичан против России и раздражение английских государственных людей, вызванное политической системой Павла, — пишет Александренко, — казалось, не знали границ». 4 декабря 1800 года лорд Гренвилл прекратил исполнение обязанностей генерального консула Бакстера, русского подданного, в России. 14 января Лондон ввёл эмбарго на торговлю с Данией и Швецией. 18 февраля (12 марта) в Балтийское море вышла объединённая эскадра Нельсона и Паркера с намерением наказать датчан и шведов и уничтожить Балтийский флот в Кронштадте.
Но «неожиданная» кончина императора Павла, пишет Александренко, предотвратила дальнейшее осложнение отношений между Россией и Англией. (Так было принято писать в России по поводу убийства императора Павла в царской России).
Между тем содержание цитируемой нами статьи Александренко не оставляет сомнений в том, кому было выгодно устранение Павла в марте 1801 года, и кто мог выступить главным организатором этой преступной акции.
Глава 6. К истории русско-шведской войны 1788 года
О своей подготовке к войне с Россией король Швеции Густав III сообщил датскому посланнику в Стокгольме графу Ревентлову, а тот конфиденциально сообщил об этом русскому коллеге графу А. К. Разумовскому.
Андрей Кириллович среагировал незамедлительно: 5 (16) июня 1788 года он подал королю резкую и оскорбительную ноту, в которой напомнил королю о том, что он — монарх конституционный, что власть его ограничена риксдагом, и что Россия враждебного чувства к шведскому народу не испытывает. Таким образом, Разумовский как бы отделил агрессивного короля от дружелюбного народа.
12 (23) июня министр иностранных дел граф Оксеншерна в ответной ноте заявил, что Разумовский уже не может исполнять обязанности посла России и должен покинуть Швецию. Разумовский ответил, что без приказа Екатерины II он не сдвинется с места. И не сдвинулся. Не допущенный более ко двору, он гулял по улицам Стокгольма, видел приготовления шведов к войне, вежливо разговаривал с офицерами и «нарочно стал показываться на гульбищах и в других местах, где собиралась публика».
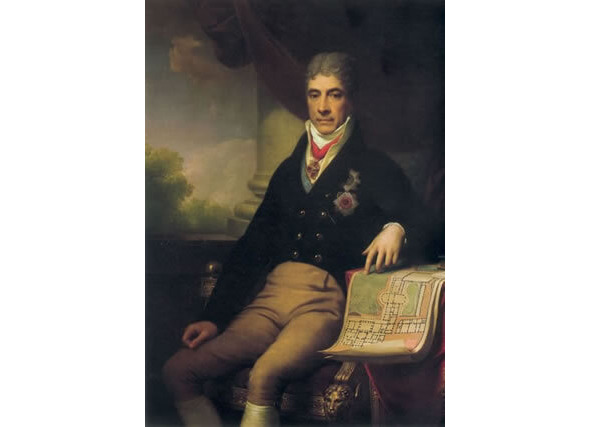
Начались уже боевые действия, а Разумовский по-прежнему сидел в Стокгольме, поддерживал контакты с оппозиционной королю партией и продолжал показываться на «гульбищах» и всячески вредить королевству. По мнению шведского автора, Разумовский был один из тех послов, которые нанесли наибольший вред королевству. Наконец, 11 августа Андрей Кириллович погрузился на «прекрасно устроенную яхту», в то время как его многочисленные сотрудники разместились на двух казённых судах, и отправился в Любек.
Кстати, одновременно с посольскими Швецию покидали русские купцы, занимавшиеся в Швеции довольно прибыльной торговлей и проявлявшие, по словам шведа, недовольство действиями Разумовского, спровоцировавшего, по их мнению, ненужную войну со шведами.
В это время (14 июля) его шведский визави барон Фредрик фон Нолькен эвакуировался домой через Польшу. Найти судно, которое могло бы доставить его из Кронштадта в Стокгольм, не удалось, а потому шведскому посольству предстояло сделать утомительный путь по суше. Соотечественники обвинят его потом в том, что он снабжал Стокгольм ложными сведениями, представляя Россию слабой военной державой и внушая Густаву III излишнюю самонадеянность.
Разумовский продолжал портить нервы шведам. Сославшись на противный ветер, он имел наглость остановиться на некоторое время в Висбю (о-в Готланд) и разгуливал по городу, рассматривая важные оборонительные укрепления шведов. Шведы предложили ему в «гиды» артиллерийского офицера, но граф с возмущением отверг «этот конвой» и попросил губернатора Готланда разрешить ему одному проехаться по всему острову. Это переполнило чашу терпения жителей острова, они окружили дом, в котором граф остановился, и пригрозили сжечь его вместе с обитателями.
Это ускорило отплытие яхты, и 26 августа она бросила якорь в Карлсхамне, но там посол вёл себя, по мнению шведов, вполне благоразумно. Пока чинили яхту, Разумовский пользовался гостеприимством жителей города, где губернатором был представитель партии «шапок», сочувствовавшей политике России. 3 сентября яхта взяла курс на Любек, откуда Разумовский отправился в Вену.
Оставив дипломатов в покое, Барфуд, а вслед за ним и Грот, сосредотачивает своё внимание на проблеме военнопленных.
1 сентября в Стокгольм привезли 980 человек русских пленных — «все рослые, дюжие ребята». Швед пишет, что это были офицеры, матросы и солдаты с эскадры, предназначавшейся для экспедиции в Архипелаг (Средиземное море) — «цвет русских морских сил». Их отвезли в Хагу, северное предместье столицы и поселили в бараках. Пленных употребили в работах в парке за 4 шиллинга в день. В свободное от работы время они плясали и пели, развлекая шведскую публику. Королева Швеции восхитилась их выступлениями и подарила им 100 риксдалеров, с умилением пишет Барфуд.
Среди военнопленных находился гардемарин Иван Петрович Бунин, служивший на одном из фрегатов, вышедших из Ревеля и оставивший свои воспоминания. Фрегат попал в густой туман, а когда туман рассеялся, то русские обнаружили, что оказались посреди шведской эскадры. После непродолжительной перестрелки фрегат сдался вместе со своим экипажем. Бунина с товарищами отвезли в крепость Свеаборг и заключили в каземат, где он лежал на соломе и получал пищу через отверстие в потолке. На четвёртые сутки свеаборгский комендант от имени короля извинился за плохое содержание офицеров, после чего пленных перевезли в Стокгольм на яхте Густава III. По прибытии в Швецию король распорядился устроить Бунина и его товарища на учёбу в Уппсальский университет. Учиться в шведском заведении по незнанию языка оказалось невозможным (французским языком офицеры не владели), но назначенное королём содержание в 900 риксдалеров в месяц за ними сохранили. На родину пленные возвратились через два с половиной года по окончании войны.
Барфуд признаёт, что обращение со шведскими пленными в России было тоже «человеколюбиво». После некоторых попыток бегства из плена шведов из Петербурга переместили во внутренние губернии. Швед пишет, что среди военнопленных находились два графа братья Вахтмейстер, служившие на корабле «Принц Густав» во время Гогландского сражения. Я. Грот пишет, что у нас одного из них ошибочно считали адмиралом, в то время как один из них, Ханс Йоханн, был капитаном судна, а другой, Клас — подполковник и начальник авангарда. Последний в сражении поднял вице-адмиральский флаг, что и послужило причиной ошибки.
Интересно, что война между Россией и Швецией шла полным ходом, а объявления войны не последовало. Густав III по прибытии в Финляндию отправил к русскому двору в Петербург капитана де-ла-Миля с ультиматумом, который 12 июня был передан вице-канцлеру И. А. Остерману (1725—1811). Ультиматум по своему содержанию совмещал мыслимое и немыслимое с явным прицелом на то, чтобы быть отвергнутым. И в самом деле: Россия должна была а) вернуть финские земли, полученные по Ништадскому и Обовскому трактатам; б) примерно наказать своего посла Разумовского; в) принять посредничество Швеции в мирных переговорах с Турцией и отказаться от Крыма; г) отозвать из Балтийского моря свой флот и разоружить его и д) отозвать свои войска из Финляндии.
Ответ Екатерины II на все эти требования был логичным и ясным — «нет».
Тогда король разослал во все европейские столицы декларацию с обвинениями «агрессивной» России, нарушающей спокойствие его мирного королевства. Петербург тоже не остался безмолвным и обвинил Швецию во вмешательстве в лифляндские и курляндские дела, что было правдой.

Автором российского ответа Барфуд считает вице-канцлера Остермана, «имевшего счастье» в последние годы правления Елизаветы Петровны быть послом России в благословенной Швеции и тоже причинившего Швеции «немалые беды». Шведам почему-то никак не могли понравиться русские послы: что ни посол — то беда для королевства! «В этом, — говорит Барфуд, — явно выражается озлобление графа Остермана против шведского королевского дома». Будучи послом, продолжает утверждать швед, Остерман овладел партией «шапок» и принудил двор …отдаться в руки «шляп». По его же проискам риксдаг 1765 года принял вредные постановления, которые так расстроили горную и мануфактурную промышленность королевства, что несколько тысяч рабочих были вынуждены искать убежище в России, где они много способствовали развитию горного дела. С тех пор русское железо стало конкурировать со шведским.
Что ж скажем мы теперь: шведы и тогда искали причины своих бед в происках России, вместо того чтобы обратить внимание на назревавшие в королевстве проблемы. За что и поплатились, попав на обочину истории и превратившись во второстепенную страну. Так что «наполеоновские» замашки Густава III образца 1788 года были одним из последних актов этого неизбежного процесса.
Глава 7. Шпион Робеспьера в Черноморском флоте
Великая французская революция заставила дворян и вообще сторонников монархизма разного пола, возраста и звания в массовом порядке покинуть Францию. Значительная колония из них образовалась в России, в которой и императрица, и дворяне встретили беглецов с истинным русским радушием. Наиболее знатная прослойка эмигрантов постаралась пристроиться к государственным должностям, а прочие дворяне, с более жидкой голубой кровью или вообще при её отсутствии, наводнили помещичьи поместья в качестве гувернёров и учителей французского языка. Помните такого гувернёра в пушкинском «Дубровском»: «Пуркуа ву туше?». Мол, зачем вы свет-то тушите?
Как во всякой эмиграции, среди французских аристократов оказались люди с сомнительной репутацией — например, граф Огюст Монтагю, поступивший в русскую службу в 1793 году. Граф, бывший лейтенант королевского флота, убеждённый роялист, после падения династии превратился в ярого сторонника якобинцев, вошёл в доверие к их вождю Робеспьеру и стал играть активную роль в деятельности Конвента, высшего органа государственной власти (1792—1795).
Протв якобинцев ополчились почти все европейские державы, угрожая Франции нашествием. Нейтральными на первых порах оказались Швеция, Турция, Россия и некоторые мелкие государства. Конвент резонно не верил в нейтралитет этих монархических государств и их дружелюбные заявления и организовал в них обширную сеть шпионов. Во главе этой шпионской службы стал проживавший в Вене аббат Сабатье-де-Кастр (1742—1817), писатель-памфлетист, «засветившийся» полемикой с Вольтером. Сабатье-де-Кастр завербовал молдавского господаря князя Александра Мурузи (1750—1816), который вместе с турецкими шпионами организовал работу в России, и о её результатах исправно докладывал в Конвент.
Оттоманская Порта старалась убедить де-Кастра в том, что Россия враждебно относится к правительству революционной Франции (что соответствовало истине), и аббат посчитал полезным завести в России своего шпиона. Выбор его пал на графа Монтагю, который по всем внешним признакам отменно подходил на эту роль — если не считать, конечно, его пристрастие к якобинству, но кто об этом мог знать в России?
Сабатье-де-Кастр обратился к русскомй послу в Вене А. К. Разумовскому (1752—1836) с просьбой принять на русскую службу бывшего французского военного моряка. Посол сообщил об этом ходатайстве Екатерине, и её фаворит Платон Александрович Зубов (1767—1822) письмом от 8 апреля 1793 года уведомил командующего Черноморской эскадрой Ф. Ф. Ушакова (1745—1817) о состоявшемся величайшем повелении зачислить Огюста Монтагю капитан-лейтенантом вверенного ему флота.
По прибытии в Россию Монтагю поселился в г. Шклове, вёл замкнутый образ жизни, никого не принимал и лишь иногда посещал бывшего фаворита Екатерины графа С. Г. Зорича (1745—1799), превратившего Шклов в русский Версаль. Нужно отметить, что Монтагю, подружившись с графом Гаврилой Семёновичем, сумел быстро включиться в работу, установить связь с Конвентом, наладить переписку с князем Мурзи и организовать сбор сведений о русском правительстве с помощью француза Жирара, внедрившегося в канцелярию графа Безбородко. Кроме Жирара у него было ещё несколько помощников среди проживавших в Петербурге французов. Фактически Монтагю выполнял роль резидента разведывательной сети.
Был на связи у Жирара и один русский агент, которого Монтагю в своих отчётах Конвенту называет Mokotaire и который по данным Королькова остался неразоблачённым. И Конвент высоко ценил этого русского, предложив ему французское гражданство, убежище во Франции и должность с окладом 12.000 ливров. Корольков предполагал, что этим агентом был офицер Черноморского флота, поскольку он состоял в переписке с константинопольским агентом Конвента Флоренвилем и регулярно доносил ему о состоянии Черноморского флота. Отметим мимоходом широту взглядов Конвента, проявившуюся в интересе к состоянию флота чужой державы, в то время как самой Республике грозил крах. Это же лицо переписывалось с неким Мозолье, который предложил Робеспьеру сжечь русский флот изобретённым им способом.
Мозолье предлагал поджечь русские корабли с помощью пропитанных серой и просмолённых канатов, которые предварительно нужно было опустить в воду. Монтагю в письме к Конвенту забраковал «изобретение» Мозолье, сославшись на то, что канаты горят неравномерно, а не смоченные водой отрезки его начинают дымить и демаскировать диверсию. Резидент явно использовал на этот счёт мнение агента с псевдонимом «Мокотэр».
Монтагю жаловался на скупость аббата Сабатье, ограничивавшего резидента в расходах. Аббат предлагал ему воспользоваться финансами господаря А. Мурузи, который, однако, ограничивался одними обещаниями. Между тем Сабатье запланировал переместить Жирара из канцелярии Безбородко на Черноморский флот, но от плана этого отказался и оставил Жирара шпионить рядом с Безбородко, вторым членом Коллегии иностранных дел и прикосновенным ко множеству других государственных дел и тайн. Монтагю вполне доверился Жирару и не скрывал от него своих действий.
Дело испортило отсутствие у резидента денег. Не получив от резидента заслуженного материального вознаграждения, Жирар решил разоблачить шпионскую деятельность Монтагю и доложить обо всём русскому правительству. Монтагю поручил Жирару отправиться к Мурузи и передать ему письмо, в котором он подробно описывал действия русского правительства. Резидент сообщал, что Балтийский флот вряд ли решится выйти из проливов и соединится с Черноморским флотом для совместных действий против Франции. Жирар немедленно донёс об этом генерал-прокурору Правительствующего Сената графу А. Н. Самойлову (1744—1814), а само письмо, приложив к записке, передал Безбородко.
9 июня 1794 года уже переехавший в Могилёв и ничего не подозревавший Монтагю был арестован по предписанию генерал-губернатора Белорусских наместничеств П. Б. Пассека (1736—1804) и переправлен в Петербург. Там его допросили в тайной канцелярии Сената, получили от него полное признание своей вины, прошение о помиловании и обещание загладить свои поступки. Самойлов доложил о результатах предварительного следствия Екатерине.
По законам, считал генерал-прокурор, Монтагю грозила смертная казнь, но, с учётом милосердия императрицы, предлагалось сослать его в Сибирь — подальше на север, в какой-нибудь Туруханск или Берёзов. При этом он справедливо полагал, что дело не в наказании виновного, а «сколько для того, дабы других могло отвращать от подобных преступлений». А вообще возможно следовало бы поступить «по форме»: поскольку Монатгю является офицером флота, то его следовало бы судить здесь в Петербурге судом Адмиралтейской Коллегии.
Вину Жирара Самойлов считал менее тяжкой: всё-таки он способствовал разоблачению шпиона. Вместе с тем, оставлять его в России было бы нецелесообразно — такой человек и из Сибири найдёт способы причинять России зло, а потому лучше всего его следовало выпроводить из страны. Этой процедурой, считал Самойлов, должен был заняться Безбородко, начальник Жирара. Не было нужды сомневаться в том, что Безбородко будет затягивать эту процедуру, и скоро Жирар был тихонько выпровожден за пределы России.
10 августа 1794 года Адмиралтейств-Коллегия под председательством адмирала И. Л. Кутузова-Голенищева (1729—1802) приступила к рассмотрению дела Монтагю. Обвиняемому были поставлены вопросы о том, когда, как и почему он стал шпионом. Сначала француз пытался отклонить обвинение, но потом сознался и рассказал о том, что, попав под влияние аббата Сабатье-де-Кастра, согласился выехать в Яссы, чтобы служить под прикрытием князя Муртази Оттоманской Порте (служить, вероятно, так же, как он послужил России, Б.Г.) В Яссах сверхосторожный Муртази отказался дать Монтагю место при себе, и тогда Монтагю решил поступить на службу в Черноморский флот. Поводом для такого решения послужило знакомство с оказавшимся в Яссах русским адмиралом К. Г. Нассау-Зиген (1743—1808). Нассау-Зиген составил французу протекцию у посла Разумовского в Вене, дав ему самую лестную характеристику.
Прибыв в Россию Монтагю, по его словам, решил якобы шпионажем не заниматься, а посвятить себя исключительно службе в русском флоте. Когда же ему указали на преступную переписку с Мурузи, он начал выдумывать всякие обстоятельства, опровергающие это очевидное доказательство его шпионской деятельности. Письмо к Мурузи якобы имело целью получение денег от князя и убытие из России, где ему не очень нравилось. Он заявил, что его поступками руководила не жадность к деньгам, а благодарность к новым друзьям, т. е. к аббату Сабатье и просил дать ему возможность искупить свою вину, например на борту брандера для поджога корабля противника России.
Генеральный военный суд приговорил Монтагю к смертной казни, но поскольку смертная казнь в России была отменена указом 1754 года императрицей Елизаветой Петровной, её заменяли наказанием кнутом, вырезанием ноздрей и клеймением. Но и это наказание не было применено по отношению к шпиону, т. к. Монтагю был дворянином и от телесных наказаний был освобождён. Тогда суд принял решение лишить Монтагю звания дворянина и передать дело на рассмотрение Правительствующего Сената. Сенат, рассмотрев дело Монтагю, передал его на личное усмотрение Екатерины.
Императрица, приняв во внимание, что шпионская деятельность Монтагю не успела нанести государству большого вреда, предложила лишить его чинов и дворянства и «ошельмовать его публично, переломя над головою его на эшафоте через палача шпагу… и потом сослать в Сибирь на вечную каторжную работу». Решение императрицы было объявлено россиянам 18 декабря 1794 года. Ни аббат Сабатье, ни Конвент Франции попыток к его освобождению не предприняли.
Постскриптум. В январе 1795 года русский посланник в Венеции А. С. Мордвинов (1733-?) сообщил в Петербург, что ему через хранителя архива Конвента некоего Боанарда удалось получить подтверждения шпионской деятельности Монтагю. Вообще же в Петербурге действовала целая сеть шпионов Конвента — например, коммерсант Пиетро Аладо, который поддерживал связь с Конвентом через Копенгаген и уведомил Конвент о разоблачении Монтагю.
В сибирских каторжных работах Монтагю пробыл до 1802 года, когда особая комиссия по приказу Александра I занялась пересмотром уголовных дел предшествовавших царствований. Комиссия признала необходимым оставить дело Монтагю в прежнем состоянии, однако император изменил это решение своей резолюцией: «Избавить от каторжной работы с оставлением на житьё в Сибири… с присмотром за его поведением».
Дальнейшая участь Огюста Монтагю неизвестна, заключает свою статью М. Я. Корольков.
Наш комментарий
Удивляет, как быстро революционная Франция наладила свою разведывательную сеть и раскинула её на всю Европу, в том числе и ещё на не состоящую с ней в войне Россию. Думается, частью своих неудач в войне с революцией монархическая Европа обязана деятельностью этой службы.
О. Монтагю стал жертвой типичной для многих разведслужб ошибки — пренебрежения работой со своими источниками. Агент — тонкий инструмент, и для поддержания его боеготовности требуется постоянное внимание и забота о его повседневных нуждах, а это без личных встреч резидента с ним невозможно. Измена Жирара, на наш взгляд, свидетельствует именно об этом. Личные встречи с агентом увеличивают риск расшифровки, но зато помогают контролировать его настроения и своевременно корректировать его поведение.
Глава 8. Восточный вопрос при Николае I (1826—1830 гг.)
Под восточным вопросом в описываемое Н. К. Шильдером время подразумевалась ситуация в Османской Порте и на Балканах.
Историк пишет, что Александр I, разочаровавшись в позиции стран Европы по восточному вопросу, в конце своего правления принял решение освободиться от сотрудничества с ними и действовать по отношению к Турции, исходя исключительно из интересов России. В этой связи император дал указание Нессельроде собрать на этот счёт мнение русских послов, аккредитованных в главных странах Европы.
Австрийский канцлер Клемент фон Меттерних забил тревогу: он опасался развала Священного союза, из которого пользу извлекала в основном Австрия и в котором Россия играла роль жандарма. Очевидно, Александр I не мог себе простить свою уступку Меттерниху, уговорившему его не оказывать помощь грекам, восставшим против турецкой тирании, поскольку греки посягнули на священный принцип легитимизма.
Александр не успел ознакомиться с мнением своих дипломатов по поводу свободы действий в восточном вопросе, покинув этот мир в 1825 году. Это выпало уже на долю Николая I, давшего при восхождении на трон обещание во всём следовать своему старшему брату.

Самый содержательный и замечательный отзыв принадлежал послу во Франции Карлу Осиповичу Поццо-ди-Борго. Выражая удовлетворение освобождением России от жёсткой связки со Священным союзом, Поццо-ди-Борго справедливо отмечал, что союз этот России ничего не дал, и что всю выгоду от него получили другие его участники, главным образом Австрия. Конечно, в итоге Россия утратит часть своего влияния на Европу, а потому нужно, чтобы негодование наше на союзников выразилось бы не одним только пассивным молчанием, но и существенными практическими мерами.
Посол считал, что такими мерами моги бы стать действия России по защите прав народов, попранных Турцией. Россия должна в этом смысле выставить Порте ультиматум, а если Константинополь отвергнет его, то Россия должна ввести свои войска в Молдавию и Валахию и выгнать оттуда турок. Никто, кроме Австрии, не посмеет возразить или принять меры в отношении нас, а против Австрии нужно выставить на Дунае обсервационный корпус, чтобы в случае чего обрушиться на Габсбургскую монархию и уничтожить её. Впрочем, посол не думает, что Вена решится на военные действия, а ограничится интригами и тайной помощью Турции.
Николай I, пишет Шильдер, полностью принял доводы Поццо-ди-Борго, но оставил за собой особое мнение по вопросу поддержки греческого восстания. Он полагал необходимым поставить восстание под твёрдый контроль, дабы оно не приняло революционный и антимонархический характер.
В это время премьер-министр Англии Джордж Каннинг проявил интерес к совместным действиям с Россией по греческому вопросу. В связи с восшествием на престол Николая I в феврале 1826 года он направил в Петербург специального посланника — полководца лорда А. У. Веллингтона (1769—1852), который в 1816 году радушно принимал в Лондоне Николая, тогда великого князя.
Николай I провёл с Веллингтоном целый раунд переговоров. В первой беседе лорд сообщил о предложении Лондона покончить с греческим вопросом вдвоём — Россией и Англией. Николай в письме брату Константину писал, что он изобразил при этих словах изумление, чтобы дать возможность Веллингтону высказаться. Разговор перешёл на претензии к Турции и император подтвердил свою решимость разобраться с турками одному, без участия союзников. Что касается греков, то он смотрит на них как на возмутившихся подданных Османской империи — раз уж она всё ещё существует.
Веллингтон ответил, что Турция для Англии считается дружественной державой, и что Англия к ней претензий не имеет. Николай сказал на это, что Веллингтон плохо осведомлён о том, что происходит в Турции и на Балканах, и что Россия имеет к Оттоманской Порте ряд серьёзных претензий, которые в течение четырёх последних лет не устранены и находятся в неопределённом состоянии. Веллингтон, по словам императора, был явно удивлён услышанным и разговор прервал.
В результате переговоров 23 марта (4 апреля) 1826 года Нессельроде, посол России в Лондоне Х. А. Ливен и Веллингтон подписали т. н. Петербургский протокол, знаменующий собой соглашение России и Англии, имевший целью примирение между Турцией и греками. Суть соглашения выражалась в следующем: Порта сохраняет свою власть над Грецией, которая продолжает платить ей дань; турецкие земли в Морее и Архипелаге отходят к Греции за известный выкуп; Греция управляется правительством, выбранным народом и утверждённым Портой и пользуется независимостью в управлении внутренними делами, торговлей и свободой совести.
В протоколе оговаривалось, что если Порта не примет посредничество Англии и России, то страны всё равно будут придерживаться положений протокола. Какие-либо репрессивные меры в отношении Порты при этом не определялись. Протокол был первым дипломатическим актом Николая I, и текст его был разослан в Вену, Париж и Берлин. Император не скрыл от Веллингтона, что он повелел предъявить Порте ультиматум.
Ультиматум последовал на следующий день после подписания упомянутого выше протокола и содержал три пункта. Порта должна была:
— вывести свои войска из Молдавии и Валахии и восстановить там порядок, нарушенный карательными мерами турок в отношении восставших княжеств;
— немедленно освободить сербских депутатов, арестованных в Константинополе, и предоставить сербскому народу условия, оговоренные Бухарестским трактатом и
— отправить своих уполномоченных к русской границе для возобновления переговоров, веденных в 1816—1821 гг. по поводу русско-турецких отношений, и для заключения новых соглашений, которые бы положили основу для мирных и дружественных отношений между обеими империями.
Ультиматум застал Константинополь врасплох. Там никак не ожидали, что Россия, находившаяся в тяжёлом положении, была способна на такие резкие шаги. Советники у султана были разные, но европейские послы посоветовали ему принять ультиматум. И Порта назначила своих уполномоченных для переговоров в Аккерман, куда с российской стороны прибыл новороссийский губернатор М. С. Воронцов.
Переговоры в Аккермане завершились заключением конвенции, и казалось, что отношения между обеими империями были на пути разрядки. На Кавказском фронте граф Паскевич Эриванский добился победы над персами, что способствовало укреплению внешнеполитического положения России. «Кипятился» один Меттерних и пытался даже запугать Николая I революцией в Греции. Делал он выпады против ненавистного ему Каннинга, но всё было напрасно: караван продолжал шагать дальше.
Впрочем, противник политики Николая I нашёлся в самой царской семье.
В. к. Константин Павлович, наместник в Польше, писал брату о непредвиденных сложностях, которые ожидают Россию на пути противостояния с Портой. Он указывал на неистовства либеральной Европы; утверждал, что восстановить торговлю на Чёрном море всё равно не удастся, потому что Англия этого не допустит; что в Балтийском море появится английская эскадра и прикроет единственный канал русской торговли; и что Швеция присоединится к Англии; что денег и войск на войну на Балтике и в Чёрном море не хватит и т. д. Наверное, эта позиция Константина Павловича не доставила ему радости, но он был готов идти по намеченному пути, не взирая на все препоны и уговоры.

В это время произошло ещё одно знаковое событие: в Средиземное море отправилась эскадра Балтийского флота в составе 4 линейных кораблей, 4 фрегатов и 2 бригов под командованием контр-адмирала Л. П. Гейдена. Перед эскадрой была поставлена задача защиты русской торговли в Архипелаге (одно из названий островов Эгейского моря). Одновременно в Портсмут отправилась эскадра под командованием адмирала Д. Н. Сенявина, где 24 июня (6 июля) на базе Петербургского протокола между Россией, Англией и Францией был подписан трактат, имевший целью остановить на Балканах кровопролитие и предотвратить всякие бедствия в районе Средиземного моря.
Своевременность заключения Лондонского договора подтверждалась зловещими планами Порты истребить христианское население в Греции и других принадлежавших ей княжествах, для чего султан запросил помощь у своего египетского вассала, паши Мегмета-Али. Паша снарядил большой флот, поручил командование им своему сыну Ибрагиму-паше и отправил его в Морею.
Первым последствием Лондонского договора явилось истребление турецко-египетского флота в Наваринской бухте 8 (20) октября 1827 года. Объединённым русско-франко-английским флотом командовал англичанин адмирал Эдвард Кодрингтон, французскими кораблями — контр-адмирал А. Г. де-Риньи, а русской эскадрой — упомянутый контр-адмирал Л. П. Гейден. Противник имел громадный перевес над европейцами: у них было 65 кораблей при 2106 орудиях, а у союзников всего 28 кораблей при 1298 орудиях.
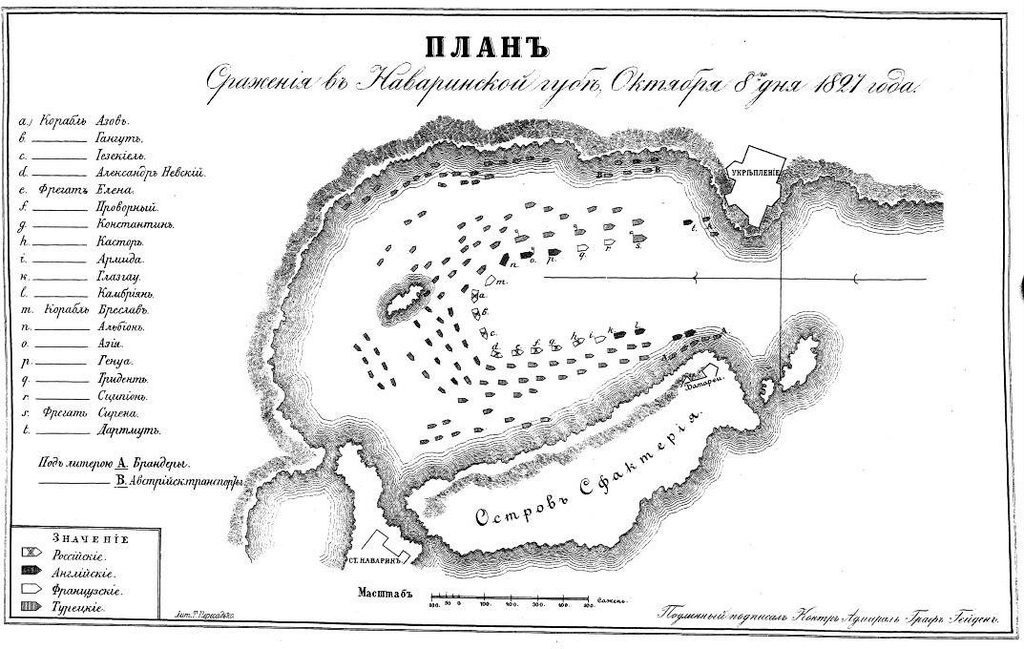
Наваринское поражение привело Порту в оцепенение. В 1826 году султан ликвидировал янычарское войско, и вот теперь Турция лишилась своего флота. В своём гневе султан Махмуд II приказал убить всех европейских послов в Константинополе, и его с трудом уговорил визирь не делать этого. Когда драгоман осмелился грозить русскому послу А. И. Рибопьеру заключением в Семибашенный замок, Александр Иванович ответил, что будет защищать себя и жизнь своих сотрудников с оружием в руках, а если они погибнут, то Россия отомстит за них и от Константинополя не останется камня на камне. Впрочем, Александр Иванович не стал рисковать и уехал из Константинополя в Архипелаг под защиту русских моряков.
Итак, главное препятствие на пути Николая I — противодействие европейских стран — Лондонским договором было устранено, и руки у него были развязаны. А султан, тем не менее, духом не упал, идти на уступки не собирался и стал готовиться к войне с Россией. Послы союзников, пишет Шильдер, принялись за бесплодные переговоры с Портой. На вопрос о том, считает ли Турция Наваринское сражение поводом к войне, рейс-эфенди замысловато отвечал:
— Когда женщина не разрешилась ещё от бремени, невозможно сказать, кого родит она — мальчика или девочку.
Наконец Махмуд объявил об уступках, которые он намерен сделать грекам: не требовать от них уплаты дани за последние 6 лет, не требовать компенсации за причинённые убытки и со дня объявления покорности освободить их на 1 год от всех налогов. Послы России, Англии и Франции посчитали эти уступки недостаточными, и дальнейшие переговоры с султаном заглохли. Тогда послы потребовали паспорта и покинули Константинополь.
Реакция на Наваринское сражение в Европе была разной.
Император Франции Франц Иосиф назвал Кодрингтона и его союзников убийцами. Меттерних завопил, что Наваринский погром открывает собой эпоху всеобщего замешательства и хаоса.
Король Франции Карл Х назвал сражение событием, которое покрыло славой французское оружие и послужило залогом согласия союзников.
Английское правительство хотело предать Кодрингтона суду. Король Георг IV назвал Наваринское сражение неприятным событием.
Николай I наградил вице-адмирала Кодрингтона орденом Св. Георгия 2-й степени. Графу Гейдену был пожалован орден Св. Георгия 3-й степени. В числе отличившихся были командир линейного корабля «Азов» капитан 1 ранга М. П. Лазарев, лейтенант П. С. Нахимов и мичман В. А. Корнилов. В. к. Константин Павлович отнёсся к победе в Наваринской бухте с определённым скепсисом: он утверждал, что русские участвовали в сражении по своему чистосердечию, французы — по глупости, и только англичане действовали для своей выгоды. В Англии в это время утверждали, что от указанного сражения больше всех выиграли русские. Бенкендорф в своих мемуарах написал, что в результате Наваринской битвы отношения с Турцией резко ухудшились, а русская торговля подверглась притеснениям.
А дело, между тем, шло к войне. 8 (20) декабря Порта обнародовала гатти-шериф, в котором называла Россию своим непримиримым врагом. России, пишет Шильдер, оставалось одно — принять вызов, брошенный турками. 14 (26) апреля 1828 года в Петербурге был обнародован манифест Николая I о войне с Турцией.
Глава 9. Турецкая разведка в России в 1877—1878 гг.
Сразу оговоримся: о существовании разведывательной службы Турции накануне войны 1877—1878 гг. нам неизвестно, но это не означает, что её в том или ином виде не было. Целенаправленная засылка турецких эмиссаров на территорию России, о которой нам повествует Павел Львович, не могла осуществляться иначе, как под руководством компетентного органа. Во всяком случае, мы видим в этом явлении, говоря современным языком, очевидные признаки т.н. активных мероприятий и идеологической диверсии, направленных на дестабилизацию обстановки в стане противника.
Война не началась, но обстановка в стране создалась напряжённая.
Ни для кого уже не было секретом, что правительство не останется равнодушным к страданиям православных христиан на Балканах и окажет им помощь в освобождении от османского ига. Не только в дворянском и купеческом обществе России циркулировали в этой связи различные слухи — в тревожном состоянии находились и мусульмане. В мусульманской среде ещё не были изжиты настроения, связанные с приходом на их земли русских пришельцев.
Самой беспокойной областью в российском государстве издавна был Оренбургский край, населённый разнородными племенами башкир, татар, киргизов, тептирей, мещеряков, мордвы, чувашей, черемисов и вотяков. Частыми волнениями отличалась и Башкирия, русское население которой составляло примерно одну треть от башкирского (800 тысяч человек). Тёмные массы населения этих областей, пишет Юдин, ещё питались преданиями о том, как они в своё время порабощали русских, и инстинктивно тяготели к единоверной Турции. Такие настроения подпитывались также регулярными контактами с Бухарой, Хивой и Турцией, проповедники которых были частыми гостями в наших зауральских землях и своими речами разжигали среди башкир, татар и др. поселян вражду к русским.
Мусульманские эмиссары для своих «визитов» выбирали моменты каких-либо политических событий, в которых участвовала Россия, или наносили их во время бедствий других стран. Они наезжали целыми партиями, рассыпались в лесных дебрях или горных ущельях и своими злобными наветами подстрекали башкир к волнениям и восстаниям.
Активность эмиссаров стала проявляться сразу после первых столкновений герцеговинских инсургентов с турецкой армией. Мудрые софты, пишет Юдин, предвидели, что Россия не оставит в беде восставших, и чтобы помешать или оттянуть русское вмешательство в балканские дела, в глубину оренбургских степей были отправлены многочисленные проповедники. Они должны были организовать среди оренбургских мусульман восстание, на подавление которого Россия ввиду войны с Турцией будет вынуждена оттянуть часть вооружённых сил.
Первых трёх эмиссаров задержали в Оренбургском крае летом 1876 года. Потом нескольких проповедников поймали в киргизских степях Тургайской области, а потом и в Туркестанском генерал-губернаторстве. По распоряжению оренбургского генерал-губернатора генерал-адъютанта Н. А. Крыжановского были приняты меры «к самому бдительному наблюдению за подобными выходцами». Бдительное наблюдение позволило сделать вывод о том, что турецкие эмиссары для своей пропаганды выбрали центральные районы Башкирии — Бирский и Белебеевский уезды Уфимской губернии. Как выразился один из этих эмиссаров, появившийся у муллы деревни Байсарово, это была «благодатная страна, как по урожаю хлебов, так и трав, и народ жил тихий и смирный».
В Белебеевский уезд проповедники заезжали из Саратовской и Оренбургской губерний — так в первых числах июня 1876 года на тракте по направлению к г. Бугульме разом были замечены 7 человек. Один из них говорил местному мулле, что русский царь напрасно затеял игру с турками, потому что мусульмане восторжествуют. Действовавший в Мензелинске эмиссар, по донесению белебеевского исправника, требовал, чтобы татары вносили денежные пожертвования в пользу Турции для борьбы с Россией.
Когда одного такого проповедника в турецкой одежде и по имени Мустафа-Али задержали в Бирском уезде, то при нём нашли 200 рублей, из которых 11 рублей были продырявленными серебряными монетами, снятых местными женщинами со своих головных украшений. На допросе Мустафа-Али о цели своего приезда в Башкирию не сознался, заявив, что деньги собирал для себя, чтобы поторговать в России и вернуться домой в Турцию богатым человеком.
Павел Львович пишет, что подобные «купцы» пользовались поддержкой местных ахунов и мулл. На ярмарке в дер. Калмыковой Бирского уезда местный ахун ходил по торговым рядам и, показывая какую-то бумагу, открыто собирал деньги с башкир и татар. Один участник ярмарки сказал, что деньги ахун собирал «на государство». Ходили слухи, что у этого ахуна Мустафа-Али оставил обрывки зелёной материи от знамени Магомета, чтобы при случае развернуть их и объявить священную войну (джихад).
Документы и письма из Турции появились у многих башкир. Так помощник волостного старшины дер. Байгузино Бирского уезда собрал сход и зачитал землякам воззвание якобы от турецкого правительства. Такие воззвания читались в школах и мечетях других поселений и, по мнению Юдина, вызывали у слушателей сочувственные высказывания. В одном кабаке один башкирец говорил, что скоро придёт время вешать русских. В Бирском уезде было распространено убеждение, что аллах прогневался на них: оттого и коран всё темнеет и темнеет, а чтобы получить от аллаха благоволение, следует помогать Турции. Татары и башкиры, в обычной жизни тихие и смирные, стали вдруг задиристыми и начали показывать своё превосходство над русскими, давая им понять, что скоро им придёт конец.
Среди местного мусульманского населения циркулировали слухи о восстановлении Казанского ханства и о превращении татар в господствующую над русскими нацию. Это должно было произойти во время праздника Курбан-байрама 16 декабря 1876 года, когда в Казань приедет знатный турецкий паша. И этого события ждали не только мусульмане, но и чуваши и язычники черемисы, многие из которых хотели пристать к мусульманскому мятежу.
— Когда придёт турок, деньги станут дешевле, — говорили они.
— Если будет война, я за русских воевать не стану, — говорил один татарин из деревни Ермекеево. — А вот если султан в Казань придёт, я встречу его, и будем бить русских.
— Теперь хорошо бы жениться, — мечтал один башкирец из Стерлитамакского уезда. — Русского богатства скоро будет много.
— Да откуда же ты его возьмёшь? — спросили его.
— Мы только и ждём войны — тогда перережут всех русских, — был ответ.
Эта уверенность была присуща не только безграмотным инородцам. Один мулла из упомянутой уже деревни Байгузино, покупая лошадь у крестьянина Логунова, отказался давать расписку под тем предлогом, что она ему не понадобится, потому что всех русских всё равно скоро вытеснят из Башкирии.
Между тем слухи о мятеже против русских росли и распространялись. На базарах, в лавочках и питейных домах утверждали, что мусульмане готовят оружие, порох и льют пули. Один башкирец не стесняясь говорил крестьянам дер. Зайцево Бирского уезда, что у них «слава Богу, есть большой запас ружей и пороха. Пока солдаты придут на подмогу, мы скоро покончим с русскими». Такие слухи распространялись даже в Уфе перед глазами губернского начальства: говорили, что у муфтия был обыск и нашли у него склад с оружием, но ему удалось бежать; что восставшие башкиры уже взяли город то ли в Пермской, то ли Оренбургской губернии и что муллы в нескольких селениях снимают с мечетей полумесяцы, что служило якобы условным знаком к началу восстания.
Тревожному состоянию умов способствовали и статьи в некоторых московских и петербургских газетах, в которых содержались сведения о том, что в Казанской, Вятской и Уфимской губерниях софты призывают мусульман к священной войне против русских. Местным властям, пишет Павел Львович, стоило больших усилий, чтобы разоблачать все эти слухи и убеждать простое население в противном. Но, как выразился белебеевский исправник в своём донесении уфимскому губернатору, «турки своё дело сделали». Пока шла два года война с турками, край продолжал оставаться в самом беспокойном состоянии. Положение нормализовалось только с окончанием войны.
Впоследствии, пишет Юдин, более интеллигентные мусульмане говорили, что для антирусского восстания не существовало никакой почвы как по неимению средств, а главным образом потому, что «нигде мусульманам не живётся так вольготно и хорошо, как в России».
Мне почему-то кажется, что в этой последней фразе Павла Львовича содержится скрытая ирония, потому что ничего, кроме лукавства, во мнении этих так называемых интеллигентных мусульман не содержится. И где были эти «интеллигенты», когда в Башкирию и др. области Зауралья, словно к себе домой, приезжали с антирусскими проповедями турецкие эмиссары? Думается, П. Л. Юдин не прошёл бы мимо факта их вмешательства в создавшуюся ситуацию и попыток разъяснить своим «неинтеллигентным» землякам суть дела. А таких фактов и о таких попытках он не сообщает.

Глава 10. Таинственная экспедиция
Эта история приключилась сразу после русско-турецкой войны, а именно после заключения 19 февраля (3 марта) 1878 года выгодного для России Сан-Стефанского мира. Привыкшая нам гадить Англия при содействии Австро-Венгрии решила пересмотреть условия этого мира и добилась созыва в июне того же года Берлинского конгресса. Во властных верхах Петербурга возникла идея умерить антироссийский пыл англичан и, выбрав наиболее чувствительное их место, надавить на него. Таким местом была зависимость Англии от морской торговли, и в Петербурге решили попытаться эту торговлю если не прекратить, то хотя бы существенно её нарушить и тем самым оказать влияние на позицию Англии на Берлинском конгрессе.
Идея наказать англичан возникла ещё в 1863 году, когда ввиду серьёзных осложнений с англичанами в Америку была послана летучая эскадра адмирала С. С. Лесовского (1817—1884) с задачей разработать план крейсерской войны с ними в Атлантике. Степан Степанович немало потрудился над этим планом, и ещё тогда он указал на ряд сложных моментов, затруднявших его выполнение. Тогда план остался лишь на бумаге, и применить его в реальности не пришлось.

К концу 1876 года, в разгар войны с турками, отношения наши с Англией, по словам Бутковского, стали носить сомнительный характер, в частности возник конфликт с англичанами у Смирны, куда зашла наша эскадра под командование адмирала Г. И. Бутакова (1820—1882). Тогда Григорию Ивановичу чудом удалось вырваться из блокады, устроенной ему английской эскадрой, и напряжение спало. Англичане могли устроить Бутакову засаду у Гибралтара, но этого не произошло.
В это время наш посол в США Н. П. Шишкин (1827—1902) получил из Петербурга запрос, не остался ли в архивах посольства план С. С. Лесовского (!?). Николай Павлович, что называется, стал «чесать репу», не зная, как приступить к выполнению запроса. К его счастью в это время на Филадельфийской выставке оказался капитан 1 ранга и адъютант в. к. Константина Николаевича Леонид Павлович Семечкин (1830—1889), бывший флаг-офицер Лесовского. Леонид Павлович, специалист по международному морскому праву, хорошо помнил события 1863 года, он поработал некоторое время с находившимися под рукой документами, пополнил их своими воспоминаниями и составил подробную записку о возможной войне на море с Англией.
В записке он высказал мысль, что Россия могла бы заказать у США несколько крейсеров, там же вооружить и обеспечить их экипажами. При этом США не нарушил бы свой режим нейтралитета. Записка получила одобрение высших властей, но к декабрю 1876 года недоразумения с Англией несколько улеглись, записка Семечкина успешно улеглась под сукном, а эскадре Бутакова был отдан приказ к весне 1877 года вернуться в Россию. Русская армия перешла через Дунай, взяла Плевну и скоро к немалой зависти Лондона очутилась под стенами Константинополя. И тогда европейская, читай английская, дипломатия решила теперь дать войну России на бумаге Сан-Стефанского мира.
Как только в Петербурге стало ясно, что требования Англии по пересмотру условий Сан-Стефанского мира были для России невыполнимы и что своей бульдожьей хватки джентльмены не ослабят, опять вспомнили о плане Лесовского-Семечкина, чтобы с помощью крейсерской войны заставить Англию занять на Берлинском конгрессе (июнь-июль 1878 года) более благоприятную для нас позицию.
Император Александр II создал специальную комиссию, пригласил в неё Семечкина, началось обсуждение вопроса, как приступить к выполнению задуманного. Как всегда, финансы России пели романсы, и это была главная проблема. Министр финансов М. Х. Рейтерн (1820—1890) «размахнулся» поначалу аж на 20 крейсеров, потом, подумав, снизил цифру до 12. Международно-правовые вопросы также вызвали у членов комиссии жаркие прения: пойдут ли США на выполнение русского заказа и выпустят ли они эти крейсера из своих портов.
Но желание дать англичанам тычка превозмогло все возражения, и проект представили на рассмотрение императора. Докладывал лично Семечкин. Государь согласился со всеми его доводами и дал указание начать в секретной обстановке подготовку к выполнению плана, назначив главным начальником сей таинственной экспедиции Леонида Павловича. Правда, финансы позволяли ограничиться 3—4 крейсерами — на большее у Михаила Христофоровича, когда дело перешло в практическую плоскость, денег не хватало.

В Кронштадт полетела телеграмма на имя главного командира порта адмирала П. В. Козакевича (1814—1887) и директора инспекторского департамента вице-адмирала В. Ф. Таубе (1817—1880) с указанием начать вербовку экипажей на будущие крейсера, а морской министр С. С. Лесовский назначил на них капитанов: капитан-лейтенантов Гриппенберга, Авелана, Алексеева и Ломена. Козакевич должен был как можно быстрее набрать для экспедиции 60 офицеров и 600 матросов и окружить свою деятельность, «таким мраком, чтоб никто не мог догадаться», о чём идёт речь.
Начальствовать отрядом должен был Казимир Казимирович Гриппенберг (1836—1908), финский швед, а в США он должен был подчиняться Семечкину. Навербовать нужное число людей Гриппенбергу не составило труда: «таинственный мрак» и хорошие материальные условия привлекли больше желающих, чем требовалось. Через несколько часов список участников экспедиции был уже полон, и Казимиру Казимировичу пришлось отбиваться от новых добровольцев. Офицеры получили подъёмные в размере от 400 до 800 рублей, и через день 4 экипажа будущих крейсеров были укомплектованы.
Через 2 дня отряд по льду перебрался из Кронштадта на ораниенбаумский берег, в Ораниенбауме погрузился на поезд и, минуя Петербург, прибыл в т. н. Балтийский порт, т. е. морской порт Петербурга в Невской губе. На следующий день в порт прибыл зафрахтованный в Германии пароход «Цимбрия» («Cimbria») и после погрузки на него почти 700 человек 1 апреля 1878 года вышел в море курсом, который был известен только Гриппенбергу и то только после того, как он уже в море вскрыл секретный пакет. Гриппенберг с большим трудом расписал членов своей экспедиции по несуществующим должностям лайнера, поскольку ни один пароход мира никогда не мог вместить столько буфетчиков, столяров, садовников (!), поваров, хлебопёков и пр. Согласно полученной инструкции, «Цимбрия» должен был обогнуть Англию с севера и прибыть в небольшой американский порт Саутвест-харбор (South-West-harbour), он же Юго-западная гавань, расположенный на острове Маунт-Дезерт, штат Мэн, с населением не более 500—600 человек. Офицерский состав экспедиции, тоже узнав, наконец, о её цели, с большим энтузиазмом восприняли свои будущие «пиратские» обязанности и на все лады обсуждали историю винтового шлюпа «Алабама».
Между тем в России, ввиду сочувствия общества к идее крейсерских рейдов против Англии, был объявлен целевой сбор средств на покупку крейсеров. Правда, пишет автор статьи, собранные пожертвования были использованы не для закупки крейсеров в США, а для закупки 4-х крейсеров («Россия», «Москва», «Нижний Новгород» и «Петербург») в других местах.
Между тем для выполнения задуманного плана мало было построить военные суда и снабдить их вооружением и экипажами: нужно было снабдить каждый рейдер морскими картами с указанием конкретных районов крейсирования, мест встречи с другими крейсерами, получения провизии и топлива и, наконец, маршрутов и портов, в которые следовало бы отводить захваченные призы.
Эту гигантскую работу в течение 10 дней выполнил со своими помощниками Семечкин. Результатом его работы явилась карта, на которой были указаны а) традиционные пути торгового мореплавания в Атлантическом океане, б) интенсивность прохода судов по этим маршрутам, в) пункты пересечения этих путей с указанием вероятности найти в них желаемые призы, г) места снабжения рейдеров провиантом и топливом и д) 35 убежищ, в которых рейдеры могли бы укрываться, заниматься ремонтными работами, менять экипажи и т. п.
Обо всём этом Семечкин вновь доложил императору Александру II и, получив его одобрение и благословение, отправился в США. В это же время Гриппенберг телеграфировал о своём благополучном прибытии в Саутвест-харбор и запросил дальнейших инструкций. Через 2 дня, снабжённый инструкциями, полномочиями и кредитивами, Леонид Павлович уехал из Петербурга так внезапно, что бывшие в то время у него гости ничего не заподозрили. Он прибыл в Париж, тотчас проехал в Гавр, взял там билеты на пароход общества «Трансатлантик» и отплыл в Нью-Йорк. Когда пароход отплыл из Гавра примерно на расстояние 60 миль, американский лоцман передал на борт последние номера газеты «Нью-Йорк Геральд», и пассажирам парохода тотчас бросился в глаза заголовок: «Русское круизное судно „Цимбрия“».
…Появление «Цимбрии» на рейде Южно-западной гавани 16 апреля вызвало необыкновенный ажиотаж её жителей — они все высыпали на набережную и с любопытством разглядывали огромный лайнер, каковых они не наблюдали за всю историю городка. Начальник таможенного пункта подплыл к «Цимбрии» на шлюпке и, увидев большое количество матросов на палубе, спросил о причинах их прибытия.
— Мы — эмигранты из России и рассчитываем найти себе приют в гостеприимной Америке, — услышал он в ответ.
Таможенник проверил документы и, найдя их в порядке, попросил «эмигрантов» не сходить на берег, пока он не получит распоряжения от своих начальников. Ждать пришлось недолго, и «эмигранты» могли свободно гулять по городку. Им, правда, запретили свозить на берег алкоголь и табак. Капитан Гриппенберг пошёл на почту отбить телеграмму в Петербург и тут он встретил неожиданные затруднения. Служащие телеграфа не могли понять, какой тариф следовало применить к тексту его телеграммы: они привыкли использовать его по отношению к буквам и словам, а тут была сплошная цифирь. Шифровку переслал в морское министерство, и тут жителям городка стало более-менее понятно, что за эмигранты прибыли по их душу: это были военные, что подтвердилось также единообразием одежды русских.
Вскоре рядом с «Цимбрией» бросила якорь американская военная шхуна для наблюдения за действиями военных. Но не только: несколько офицеров поднялись на борт лайнера, чтобы произвести дознание и осмотр судна. Капитан «Цимбрии» Баденхаузен показал необходимые документы, и американцы убедились, что на её борту находились представители исключительно мирных профессий. При этом они не обратили никакого внимания на найденные морские палаши и с удовольствием прошли в кают-компанию на обильный и вкусный завтрак. Комедия была мастерски сыграна с обеих сторон, и комиссия после завтрака удалилась, пожелав русским успеха в их предприятии. Через несколько дней шхуна снялась с якоря и уплыла.
А досужая американская пресса стала с большими подробностями преподавать своим читателям лекции об истинных целях русских «эмигрантов» — организации крейсерских рейдов. Мрак неизвестности стал рассеиваться, и через 4 дня Европа и Америка узнали, что русские что-то страшное задумали против Англии. Положение Гриппеберга и его команды стало, мягко говоря, довольно щекотливым, и, не получив из Петербурга и от Семечкина никаких инструкций о дальнейших действиях, один из его офицеров отправился добывать инструкции в Нью-Йорк и Вашингтон. А через 10 дней пришла депеша от Семечкина, приглашающая Гриппенберга и Баденхаузена для осмотра закупаемого крейсера.
Семечкин прибыл в Нью-Йорк с женой и тремя помощниками — Кутейниковым, Родионовым и Хотинским. Он первым делом отослал депеши в Петербург и Гриппенбергу, а затем, оставив помощников в гостинице с обязательством строго соблюдать конспирацию, отправился в Вашингтон, чтобы посвятить посла Шишкина в обстоятельства дела. И ещё: перед убытием из Нью-Йорка он отправил ещё одну телеграмму в Филадельфию своему хорошему знакомому банкиру Баркеру, чтобы тот навестил его в поезде по пути в Вашингтон.
Баркер нашёл «кэптена Семетшина» в вагоне и на вопрос Леонида Павловича, как дела, ответил, что дело в шляпе. Он уже нашёл подходящее судно, завёл о его покупке предварительные переговоры и просил поторопиться, потому что на судно положили глаз англичане и могут перебить сделку. Под стук колёс договорились действовать, и Баркер вышел из вагона, сел в поезд, идущий в Филадельфию, а Семечкин продолжил своё путешествие в Вашингтон.
Шишкин встретил Семечкина довольно сухо: он уже устал отбиваться от Госдепа и журналистов, не зная, что следовало им отвечать, а когда Леонид Павлович посвятил его в подробности, то и после этого не выразил своего восторга, тем более что моряк поставил условием в этом щекотливом деле свою инициативу. Подчиняться какому-то каперангу для маститого дипломата было не с руки. Отрыжки местничества. Но в общем договорились, тем более что инструкции из Петербурга не оставляли дипломату большого простора. Николай Павлович на всякий случай решил кардинально отделаться от наседавших на него госдеповцев и журналистов и уехал на отдых на Ниагару, вслед за ним посольство покинули и другие дипломаты.
Покончив с инструктажем Шишкина, Семечкин выехал в Филадельфию и стал ждать прибытия туда своих помощников и Гриппенберга с Баденхаузеном. Созданная на лету комиссия выявила, что подобранное Баркером судно отвечало всем необходимым условиям, и судостроителю дали задаток. Через 48 часов после появления Семечкина в США русский ВМФ обогатился на один военный корабль, получивший название «Европа», а Гриппенберга поздравили с назначением командиром корабля и поручили ему заняться его оснасткой и вооружением. «Европа» обошлась русской казне в 400 тысяч долларов или 800 тысяч рублей.
А теперь автор статьи решил ознакомить читателей «Исторического вестника»с некоторыми пунктами секретного плана, выработанного в Петербурге Семечкиным в сотрудничестве с другими своими помощниками. Баркер по поручению Семечкина весной 1878 года вошёл в правительство США и получил разрешение организовать пароходство якобы для сообщения между Аляской и Сан-Франциско. Под флаг этого пароходства Баркер, по соглашению с Семечкиным, должен был на получаемые от русских авансы приобретать и оснащать суда, необходимые для будущего крейсерства в океане. При найме на суда капитанов и экипажей — пока американских — Баркер должен был, для отвода всяких подозрений со стороны властей, заключать с ними нотариально заверенные контракты.
Далее Баркеру следовало вывести готовые к плаванию суда в море за пределы действия американских законов и передать их в собственность Л. П. Семечкина. Американские экипажи спускали с мачт флаги США, садились в подставленные суда и уплывали восвояси домой, а их место занимали «русские эмигранты» со своими офицерами и капитанами. Они поднимают флаг России и принимаются за оснащение кораблей военным оборудованием, подвоз которого обеспечивает всё тот же Баркер.
Работа закипела. Дел было невпроворот, но постепенно всё становилось на место и приводилось в нужный порядок. Для тиражирования секретных карт для будущих рейдеров Семечкин вызвал в Нью-Йорк из Саутвест-харбора всех штурманов и засадил их за работу. Для крейсерства в Тихом океане привлекалась ещё эскадра адмирала Э. А. Штакельберга (1847—1909). Администрация экспедиции охватила всё восточное побережье США: сам Семечкин располагался в Нью-Йорке, часть отряда прибыла в Филадельфию, но основная часть отряда всё ещё находилась в Саутвест-харборе. Всё это, конечно, создавало неудобства, мешали американские репортёры, появились шпионы, взявшие аппарата Семечкина в настоящую осаду, наняв весь первый этаж гостиницы, в которой проживали русские.
Выручало то обстоятельство, что Семечкин мог решать многие вопросы, не выходя из гостиницы, поскольку в ней располагался телеграф, а у него в номере находились все необходимые чертежи и документы на переделываемые суда, вёлся специальный журнал, и работали его помощники. Если от судостроителя Крампа приходил, к примеру, вопрос, под каким шпангоутом нужно было располагать то или иное приспособление, корабельный инженер тотчас же садился за выкладки и через небольшой промежуток времени Крамп по телеграфу получал ответ: 15-й или 16-й шпангоуты.
«Европа» с помощью прибывших из Саутвест-харбора офицеров и штурманов быстро превращалась в военный корабль, а когда выяснилось, что одной дневной смены рабочих стало недостаточно, Крамп ввёл ночные смены, и работы стали производиться при электрическом освещении. Корабельный инженер Кутейников поселился на заводе у Крампа и со всем тщанием, под постоянным контролем Семечкина, наблюдал за подготовкой судна. Оно должно было быть готовым к июню — правда, в полуфабрикатном состоянии.
Между тем Англия тоже всполошилась по поводу прибытия отряда Гриппенберга в США, и «Таймс» уже 19 апреля сообщила, что русские будут распределены в качестве экипажей на несколько крейсеров. Позже газета проинформировала читателей о неудачной попытке английского консула посетить «Цимбрию», который, однако, не отчаялся и оборудовал в Саутвест-харборе постоянный наблюдательный пункт. Англичане также узнали, что их военно-морская эскадра под командованием адмирала Кея концентрирует свои суда в Атлантике. 3 мая военный агент (атташе) посольства Великобритании тоже сделал попытку взойти на борт «Цимбрии», но тоже в этом не преуспел. В мае газеты опубликовали сведения о покупке русскими нескольких судов в США. Как бы то ни было, пишет Бутаковский, английская дипломатия несколько призадумалась и сбавила тональность антирусских выпадов в своей политике.
Между тем Семечкин приобрёл ещё два судна — «Азию» и «Африку» — передал их на дооборудование на завод Крампа. Из Саутвест-харбора прибывали всё новые партии офицеров и матросов и включались в работу и на этих судах. На «Цимбрии» к этому времени уже перестали придерживаться конспирации, и судно превратилось в объект паломничества со стороны американцев. Офицеры и матросы, в свою очередь, устремились на берег, и городок окунулся в атмосферу непрерывных пикников, танцевальных вечеров и обедов. Народ прибыл молодой, денег девать было некуда, и скучать было некогда.
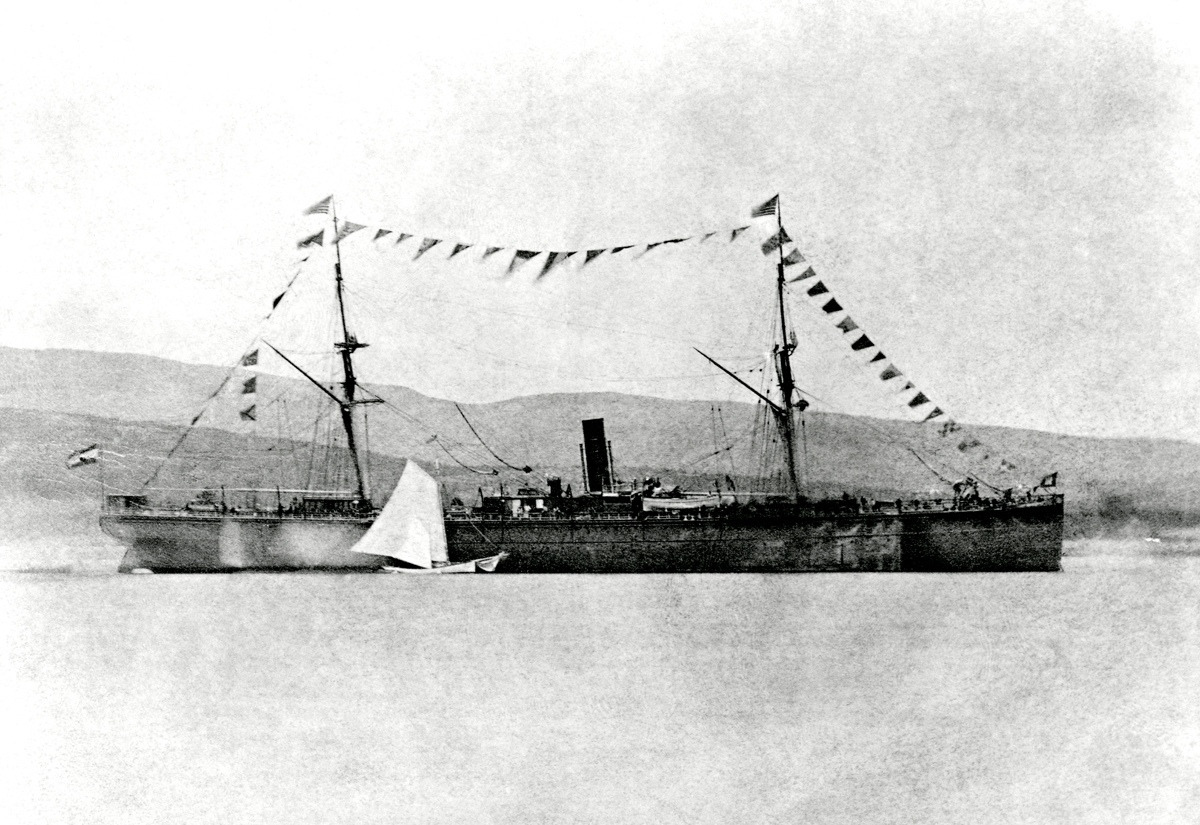
В сентябре «карнавальный период» закончился, Баденхаузен получил предписание доставить остатки отряда в Филадельфию. Русские покинули «Цимбрию» в связи с окончание 6-месячного срока аренды судна и перебрались сначала в плавучую гостиницу, а потом уже разместились на своих кровных кораблях.
В июле 1878 года завершился Берлинский конгресс, Россия была вынуждена принять поправки к Сан-Стефанскому миру, и «наполеоновский» план рейдерской войны против Англии подвис в воздухе. Спешить было некуда, и переоборудование купленных крейсеров было спокойно закончено к осени 1878 года. Поздней осенью «Европа», «Азия» и «Африка» покинули гостеприимные берега США и стали на зимовку в Копенгагене и Гавре. Четвёртый крейсер «Забияка», выстроенный сугубо по русским чертежам, пришёл в Россию в мае 1879 года.
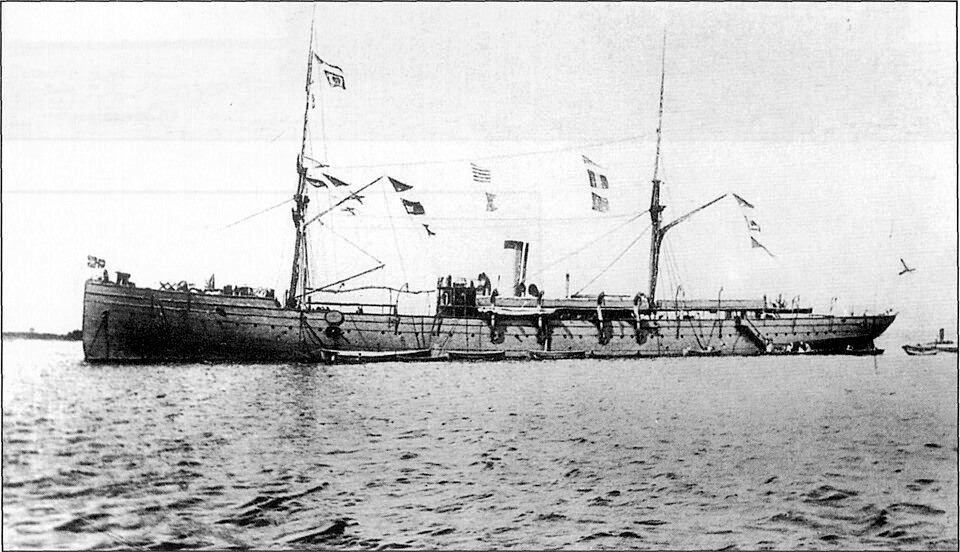
«Морской пикник» — такое ироничное название получила описанная выше таинственная экспедиция — закончился. В обществе прозвучала критика действий правительства, затратившего на её организацию непозволительно крупные казённые суммы. Автор статьи, однако, считает, что экспедиция наших моряков сыграла и положительную роль: правительство России убедилось в дружеском расположении правительства США и в случае необходимости могло на американцев рассчитывать и в будущем. Не стоило и преуменьшать значение приращения ВМФ России на целых 4 крупных и современных крейсера.
В качестве постскриптума к своей статье Бутковский приводит сообщение о неожиданной гибели «Цимбрии» вместе с 400 пассажирами на борту в результате несчастного случая. Капитана Баденхаузена на «Цимбрии» уже не было.
Наш комментарий
Идея воздействовать на позицию англичан ввиду предстоящего Берлинского конгресса была вполне здравой и реальной. Только времени на претворение этой идеи в жизнь было отпущено слишком мало. Тем не менее, практическая деятельность Л. П. Семечкина и его команды достойна всякого восхищения и даже удивления. Такие люди и являются солью Русской Земли. Жаль, что этот человек канул в Лету забвения.
Добавление к информации о гибели «Цимбрии»: несчастный случай в январе 1883 года «организовало» английское судно «Султан», протаранившее «Цимбрию» с левого борта. Спаслись всего 65 человек, погибло 457 человек — эмигранты из России, Австро-Венгрии и Пруссии, плывшие в США.
Часть вторая Дипломатия
Глава 1. Как гонец Шавригин Ивана Грозного обманывал
Всему причиной явилась неудачная война России с Польшей.
В 1579 году польский король Стефан Баторий предпринял три успешных похода против России, которые привели Ивана Грозного в состояние растерянности и уныния. Россия потеряла несколько городов, а войско царя было сильно расстроено. В этой ситуации Грозный был вынужден просить папу Григория XIII о том, чтобы он уговорил Батория прекратить войну и заключить с Москвой мир.
Баторий отнюдь не был настроен на мир с Грозным, но потом и ему удача на поле боя перестала сопутствовать, что и заставило его прислушаться к мирным увещеваниям папы. Уполномоченные России и Польши съехались в захолустном русском городке Запольском Яме и 6 (15) января подписали перемирие на 10 лет.
Такова общая картина, на фоне которой и действовали русский гонец Шавригин, иезуит Поссевин, венецианский дож, папа Григорий XIII и некоторые другие лица.

…16 (25) августа 1580 года Иван Грозный в мрачном дворце Александровской Слободы созвал совет. На обсуждение был поставлен один вопрос: что делать? Великим Лукам грозила судьба Полоцка и Сокола, взятых приступом войском Батория в первом его походе в предыдущем году. С падением Великих Лук возникала опасность вторжения поляков вглубь России. Но не одни поляки представляли опасность: после поражения зашевелились шведы и предъявили права на Эстляндию; Дания тяготилась заключённым в 1578 году перемирием и в любое время могла снова начать военные действия; судьбе Астрахани и Казани угрожали крымские татары, за спиной которых развевалось грозное знамя османов.
Среди советников царя уже не было талантливых полководцев и государственных деятелей, а потому, пишет Пирлинг, их настроение не было воинственным — они все склонялись к миру. В итоге царь решился на не виданный доселе шаг — объявить себя заклятым врагом турок и побудить Ватикан и Священную Римскую империю к объявлению крестового похода на османов. Но для этого нужно было склонить короля Польши к миру. Царь считал, что идея крестового похода затмит все другие, польский вопрос утратил бы своё значение, Москва приобретала симпатии папы Григория XIII и австрийского императора Рудольфа II. Габсбурги всегда мечтали о включении в свою империю Венгрии, в которой уже 25 санджаков принадлежали туркам, и могли только приветствовать появление нового союзника в лице России. А Ватикан никогда не отказывался нанести поражение мусульманам и тоже не отказался бы от помощи Москвы, а значит был заинтересован замирить Грозного с Баторием.
Таков был тонкий и хитрый дипломатический ход Ивана Грозного.
Для него главным было нейтрализовать Польшу, для чего он уже направил с предложением мира и своим любезным письмом к Баторию послов, которым строго-настрого наказал проявлять терпение, сносить возможные упрёки и оскорбления поляков и ни в коем случае с ними «не лаяться». После этого можно было засылать послов к императору в Прагу и к папе в Рим, что и было решено на совете в Слободе 28 августа (6 сентября) 1580 года.
Снаряжать большое и представительное посольство было делом дорогим и требующим много времени на его подготовку, поэтому Грозный решил послать обычного гонца Шавригина, типичного представителя служилых людей старого закала. «Изворотливый, грубый, алчный до наживы, в высшей степени хитрый и коварный, но одарённый в достаточной степени здравым смыслом, чтобы исполнить рабски приказания своего монарха и понять практическую сторону дела» — таким представляет нам Павел Осипович посланца Грозного. Царь напутствовал его такой незатейливой рекомендацией: если его остановят в пути и станут допрашивать, то он должен был «плюнуть тем, кто будет говорить с ним, в глаза, не говоря ни слова».
Шавригин иностранными языками не владел, поэтому с ним отправили переводчиком ливонского литовца Вильгельма Поплера, католика, перешедшего в лютеранство, а потом и в православие. В Любеке к ним присоединился второй переводчик миланец Франческо Паллавичини, торговавший ранее в Москве и превратившийся в дипломата. Компания, скажем честно, подобралась явно с названием «гоп»: переводчики ненавидели друг друга, но объединились против ненавистного им Шавригина, которому не стеснялись высказывать свои ядовитые шутки в лицо.
В начале января 1581 года Шавригин приехал в Прагу.
Император Рудольф неохотно отрывался от своих научных занятий, предоставляя решать все дела своим министрам, но русскому гонцу решил дать аудиенцию. Согласно наказу, Шавригин должен был передать императору два письма Грозного и сорок соболей. Говорить что-либо о цели своей миссии гонцу приказано не было — всё содержалось в письмах.
Грозный рассыпался в комплиментах и уверениях о дружбе с Рудольфом, призывал его вместе ополчиться на турок, но главное — повлиять на Батория, без которого крестовый поход против басурманов был невозможен. Царь писал о незаконном занятии трона Ягеллонов Баторием, который он получил с помощью турецкого султана, и в данном случае царь мог рассчитывать на положительную реакцию Рудольфа. Но вот просьба Грозного посодействовать в удержании за собой Ливонии вряд ли могла понравиться императору, потому что он тоже лелеял планы приобщить Ливонию к своей империи.
Во втором письме Грозный просил Рудольфа отменить запретительные меры в отношении русских купцов и предлагал всячески развивать обоюдную торговлю.
Шавригин получил вскоре ответное письмо императора царю, в котором Турция и Польша не упоминались вообще, о Ливонии говорилось сдержанно, а в торговле никаких перемен в пользу русских купцов не предполагалось. Таким образом, первый дипломатический ход Грозного ожидаемых результатов не возымел. В Праге поняли, что главная цель Грозного состояла в достижении мира с Польшей, в чём имперцы не были особенно заинтересованы.
Далее Шавригин установил контакт с венецианским посланником Бадоером и запросил паспорт для въезда в Венецианскую республику для вручения царского письма её правителям. Бадоер поспешил удовлетворить просьбу Шавригина. Неожиданно переводчик Паллавичини сообщил посланнику некоторые любопытные вещи, заставившие его задуматься. Итальянец рассказал об истинных целях посольства Шавригина, о планах царя установить торговые отношения с Австрией и о том, как Грозный бросил в тюрьму турецкого посланника, приехавшего по приказанию султана узнать по поводу завоевания Москвой Казани и Астрахани. Он также поведал Бадоеру о том, что Грозный разослал гонцов к европейским монархам с предложением организовать союз против турок.
В начале февраля Шавригин приехал в Венецию.
Он поселился в скромном домике одной венецианки, как вдруг его попросили переселиться в великолепные апартаменты монастыря Санто-Джиованни и Паоло. Такое внимание властей оказалось для скромного московского гонца неожиданностью, но он постарался скрыть её. Известие о прибытии гонца русского царя возбудило любопытство самого дожа Николо да-Понте, и 15 февраля Шавригин был торжественно принят им в своём дворце в зале иезуитской коллегии. Несмотря на неоднократное приглашение сесть, гонец продолжал стоять с непокрытой головой и с помощью своих переводчиков сказал речь. Сначала она переводилась на немецкий язык Поплером, а Паллавичини переводил уже с немецкого на итальянский.

— Иностранные языки изгнаны из Москвы, — говорил Шавригин, — так как царь боялся бы измены, если бы он не мог понимать своих подданных.
Поскольку постоянные отношения с Италией у Москвы отсутствовали, продолжал фантазировать наш герой, то в Посольском приказе сведений о титуле правителя Венеции не сохранилось. Поэтому он извинялся за то, что не знает, как следовало обращаться к дожу. А саму Венецию в Москве якобы считали владением папы, что и объясняло обращение Грозного к папе римскому с предложением союза против турок.
Шавригин говорил также о заинтересованности царя в торговле с Венецией и предлагал венецианским купцам пользоваться торговыми путями через Каспийское море и Волгу. Вопрос о путях проезда купцов в Москву обсуждался дважды, но толку от этого не было, потому что венецианцы обнаружили, что представления о географии у московских гостей были самые расплывчатые. Тем не менее, Николо да-Понте пообещал обсудить вопрос о торговле с Москвой на совете и в ближайшее время дать ответ на письмо царя.
И тут при переводе вручённого дожу письма возникло нечто необыкновенное.
Секретарь дожа Франческо решил досконально узнать о целях миссии Шавригина и начал его расспрашивать. Гонец и его помощники повторили уже известную версию о кровожадности Батория, о великодушии Грозного, изъявившего готовность бороться с турками и выставить для этого 100-тысячное войско. Франческо терпеливо выслушивал эти объяснения, как вдруг несколько необдуманных слов, произнесенных Шавригиным, раскрыли хитрому венецианцу истинное положение Грозного. Он понял, что за всеми словами скрывается главная суть дипломатии царя — заключить мир с Польшей.
Но поняв это, Франческо не мог себе объяснить другое обстоятельство: если царь поручил передать письмо дожу, то как же Шавригин мог утверждать, что ему не известен его титул? Не мог же Грозный обращаться к иностранным владетелям, не зная хорошенько, что они из себя изображали! Эта несообразность могла объясняться лишь тем, что письмо, переданное Шавригиным дожу, было не настоящим, а подложным.
Оставим Франческо одного со своими раздумьями, забежим на пару месяцев вперёд и переместимся в Рим. В апреле 1581 года, когда папа поручил проживавшему в Венеции иезуиту Поссевину проводить русских посланцев в Москву, последний оказался свидетелем бурной сцены, разыгравшейся между Шавригиным и Паллавичини. Гонец обвинял переводчика в воровстве, а тот, выйдя из себя, воскликнул:
— Так вот как ты обращаешься со мною, наняв меня за несколько рублей! Дай мне только приехать в Москву, я донесу на тебя царю. Все узнают, что ты сочинял подложные письма для венецианцев.
Поссевин занялся расследованием и убедился в том, что Шавригин в надежде на богатые подарки венецианцев и в самом деле сам сочинил и написал письмо дожу, скрепив его печатью, снятой с письма курфюрсту Саксонии (кроме писем к императору и папе, Шавригин по отъезде из Москвы получил т. н. охранные листы или опасные грамоты к датскому королю и саксонскому курфюрсту). Представленный везде, в том числе и в Праге, как обычный гонец, Шавригин в своём письме к дожу упоминает о себе 5 раз как о посланнике царя. О результатах расследования Поссевин немедленно сообщил в Ватикан, присовокупив, что письма царя к папе настоящие.
Паллавичини потом странным образом исчез, и Поссевин предполагает, что Шавригин по пути домой по всей вероятности убил бедного переводчика. Ответное письмо дожа Грозному служило серьёзным обличающим материалом, и Шавригин постарался от него тоже избавиться. Он объяснил потом в Москве, что послал его с гонцом, которого якобы ограбили и письмо пропало. Хитрец рассказал царю, что Венеция стоит на воде и является самостоятельным государством. Что касается возбуждения вопроса о торговле с Венецией, то инициативу в нём Шавригин приписал Поссевину. В Москве в эту версию поверили, пишет Пирлинг, но вернёмся вместе с Павлом Осиповичем в февраль 1581 года.
24 февраля Шавригин въехал в Рим.
Русские давно не переступали порога Вечного Города, и появление московского гонца вызвало у римлян большое любопытство. Ему был оказан более торжественный приём, нежели простому гонцу: за городом его встретили две депутации и папский экипаж в сопровождении блестящей свиты. Его поселили во дворец на площади Двенадцати Апостолов, где его принял Джиакомо Бонкомпаньи, начальник папского войска и угостил многочисленными кушаньями, которые, по словам Шавригина, были и обильными, и вкусными. Такое угощение подавалось ему два раза в день в строго определённые часы.
17 (26) августа папа дал ему т. н. частную аудиенцию. Представитель Польши в Ватикане епископ Пётр Вольский настаивал на том, чтобы аудиенция была обставлена как можно проще. Шавригин произнёс свою речь, стоя на коленях, и поцеловал туфлю Григорию III, чего до него никто из русских дипломатов делать не соглашался. Впрочем, Шавригин в своём отчёте об этом не упомянул, а сообщил только, что просил папу отправить посольство в Москву.
На следующий день папа созвал консисторию и объявил её членам содержание письма Грозного. Оно мало чем отличалось от письма, которое получил Рудольф II: предложение о походе на турок («стоит только протянуть руку, и общими усилиями ислам будет побеждён») и воздействие на Батория с целью заключения мира. Грозный ссылался на плодотворные контакты своего отца Василия III с Ватиканом, просил папу известить его о решении насчёт похода против османов, но ни словом не упомянул о религии, чем разочаровал кардиналов. Впрочем, кардиналы надеялись на будущее и присоветовали папе Григорию послать посольство в Москву. Об этом своём решении папа сообщил кардиналам 6 марта.
На роль посла папа выбрал иезуита Поссевина, обладавшего всеми необходимыми для этой роди качествами: выдающийся ум, обширные познания, наблюдательность, опыт, дипломатические способности, вкрадчивый характер и умение ладить с людьми. Со своей стороны заметим, что выбор папы и в самом деле был очень удачным, потому что всеми этими качествами Поссевин обладал в достаточном объёме. П. А. Пирлинг отмечает в нём только один недостаток: чрезмерное увлечение делом и желание решать и действовать, не обращая внимания на своих помощников и советников.
Шавригин пробыл в Риме довольно долго — до Пасхи. Павел Осипович пишет, что «культурная программа» мало интересовала гонца — он больше думал о том, какие получит подарки при отъезде. Золотая цепь и кошелёк с 60 экю, по наблюдениям венецианского посланника, всё время следившего за Шавригиным, вроде бы удовлетворили гонца, но скоро все убедились, что его алчность нельзя было удовлетворить ничем.
18 (27) марта русское посольство покинуло Рим. По приказанию папы ему на всём пути в Италии оказывалась честь, устраивались встречи, приёмы и угощения со стороны властей. Вместе с русскими в далёкий путь отправился и папский посол Поссевин. По пути они снова заехали в Венецию, где Поссевин рассказал дожу о своей миссии в Москву и о желании русского царя воевать с османами. Эта весть была положительно воспринята Николо да-Понте, 9 (18) апреля Поссевина и Шавригина пригласили в иезуитскую коллегию, где русскому гонцу было вручено письмо дожа Грозному с золотой печатью, а самому Шавригину подарена золотая цепь с изображением св. Марка стоимостью 500 экю. Подарок Поплеру стоил в 5 раз меньше.
В Венеции Поссевин предпринял ловкий и коварный ход, поставивший Шавригина в полную от него зависимость. Он заставил его под диктовку написать письмо царю, а копию с него оставил у себя. В этом письме Шавригин упомянул о том, что от имени Грозного вручил письмо венецианскому дожу. Чтобы обезопасить себя, он безуспешно пытался потом забрать у иезуита копию письма и, кажется, уничтожил ответное письмо дожа, так что факт его самоличной дипломатии вроде бы не всплыл потом в Москве. Сам Поссевин не испытывал ни малейшего укора совести из-за своего поступка, потому что вволю насмотрелся на поведение троих московских дипломатов, особенно Шавригина и Поплера, отвечавших оскорблениями на оказанное им гостеприимство и намеревавшихся продать свои золотые цепи, полученные в подарок от папы.
Поплер постоянно просил Поссевина одолжить ему денег и был чрезвычайно болтлив, что позволило иезуиту получить интересную информацию о положении московского государства: об опустошительном набеге крымских татар на Москву в 1571 году и об унизительном мире Грозного с Девлет-Гиреем, о страхе, испытываемом царём и перед татарами, и перед поляками, об отсутствии рядом с царём верных советников и т. п.
Поссевин задержался на несколько дней в Вене, а Шавригин с переводчиками продолжили путь одни. Отделавшись от надзора иезуита, дипломаты предались весёлому образу жизни. Случайно в одном экипаже с ними оказалась красивая австриячка, из-за которой у московских кавалеров разгорелся спор. Паллавичини, выхватив шпагу, набросился на Шавригина, в то время как Поплер стал защищать своего начальника. Итальянец был ранен, и его пришлось оставить на попечение сельского священника в 26 верстах от Вены.
Поссевин не поверил этой истории и заподозрил, что её придумал Шавригин, чтобы избавиться от Паллавичини, который мог разоблачить в Москве самовольную дипломатию гонца в Венеции. Скорая смерть Паллавичини только подтвердила эту загадку. В Праге все они соединились вместе, а Шавригин написал боярину Никите Романову и думному дьяку Щелкалову уведомление о прибытии в Москву папского посла. Вёл себя гонец ниже травы и тише воды, что также было подмечено Поссевиным.
От венгерского канцлера Пернштейна Поссевин узнал, что австрийцы были не в восторге от предложения Грозного «воевать вместе турка» — у них были другие заботы. Император не принял Поссевина, слишком занятый своими астрономическими наблюдениями. Поссевин был сильно разочарован этим, потому что заехал в Прагу именно в расчете побеседовать с Рудольфом.
Из Праги Шавригин, избегая Польши, снова отправился на Любек, а Поссевин, наоборот, взял путь на Варшаву, где должен был уговаривать Батория прекратить войну с Москвой. Баторий в это время осаждал Великие Луки, и война с русскими свирепствовала со всей своей кровожадностью. К призывам папы Григория III о мире король относился с недоверием, тем более что поляки пока одерживали верх над русскими.
Король внимательно и с подозрением следил за контактами Москвы с Ватиканом и за всеми передвижениями Шавригина. Узнав о том, что русский гонец из Праги отправился в Любек, Баторий отдал приказ перехватить его, но не успел.
Посреднические действия Поссевина и его первые шаги в этом направлении представляют уже иную историю, выходящую за рамки избранной нами темы.
А Шавригин благополучно вернулся в Москву, отдал о своих действиях полный отчёт Грозному и исчез из поля зрения историков.
Наш комментарий. История, которую поведал нам специалист по делам Ватикана Павел Осипович Пирлинг, так и просится на страницы какого-нибудь авантюрного романа. Но пусть наш читатель не сомневается — Пирлинг все свои труды основывает на документах и авантюрных романов не писал. В данном случае он опирается на архив известного иезуита Антонио Поссевина (1533—1611), деятельного участника описываемых здесь событий.
История постоянно «подкидывает» нам головокружительные сюжеты.
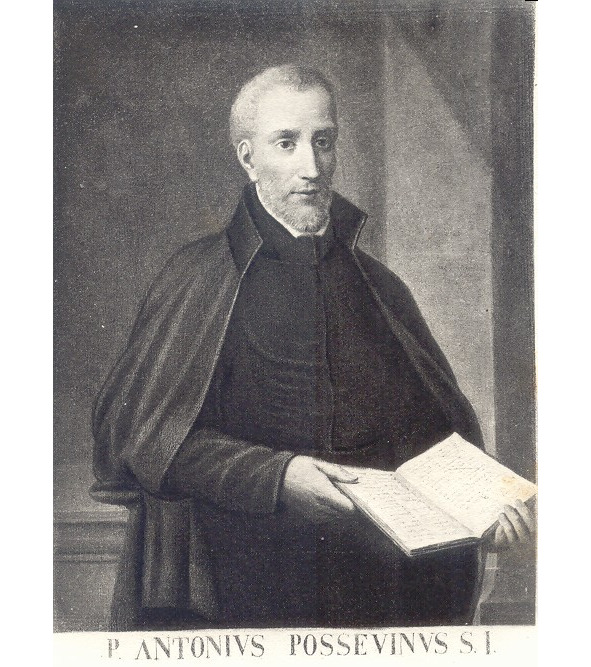
Глава 2. Россия в Тридцатилетней войне
О русском факторе в Тридцатилетней войне и в отечественной, и зарубежной исторической литературе не говорилось вообще, а если и упоминалось, то мимоходом и вскользь. Только швед Д. Норрман и советский историк Б. Ф. Поршнев впервые указали на то влияние, которое русское государство оказывало на ход этой войны, подробно раскрыли содержание русско-шведских отношений в 1629—1632 гг. и политику правительства царя Михаила Фёдоровича по отношению к противоборствующим сторонам.
Большинству историков, включая и русских, Тридцатилетняя война в Германии и Смоленская война в России 1632 года казались явлениями обособленными, никоим образом друг на друга не влиявшими, и только Норманн и Поршнев, опираясь на уникальные архивные материалы, самостоятельно пришли к одному и тому же выводу о том, что Москва была вовлечена в события Тридцатилетней войны и сыграла значительную роль в осуществлении планов короля Густава II Адольфа в Германии. Труды Поршнева и Норрмана в этой главе дополнили друг друга и составили впечатляющую картину начавшегося русско-шведского сближения, которому, к сожалению, не суждено было оформиться в полноценный антипольский и антигабсбургский союз.

Б. Ф. Поршнев пришёл к сенсационному выводу о том, что Москва фактически спонсировала поход Густава Адольфа в Германию. Все историки до него сходились в мнении, что шведы воевали на деньги, полученные из Франции и Голландии, потому что о самостоятельном ведении войны Швеция с её бедными ресурсами и неразвитыми формами экономики не могла и помышлять. Наш историк подсчитал, что продаваемое шведам в течение 6 лет русское зерно, сбытое на амстердамском рынке, дало правительству Швеции прибыль, сравнимую лишь с военными субсидиями Франции. В одном только 1630 году эта товарная помощь составила эквивалент суммы в 1 млн. 200 тысяч риксталеров, что позволило Густаву Адольфу организовать высадку в Померании и ринуться на выручку германских протестантов. Эта помощь хлебом продолжалась до самого 1634 года, и её прекращение не замедлило неблагоприятно сказаться на военных успехах Швеции.
Москва в конце правления короля Густава занимала в его внешнеполитических планах, конечно, не первое, но и не последнее место. Идея втянуть Россию в орбиту своей политики, в частности, в войну с Польшей возникла у Густава Адольфа очевидно ещё в 1625 году. Тогда канцлер Оксеншерна получил донесение из Москвы о том, что некоторые бояре потребовали от царя «порушить» несправедливый мир с польским королём Сигизмундом и выступить против Польши войной. В начале 1626 года король Густав дал указание отправить в Москву для переговоров ревельских штаттхальтеров Бремена и Унгерна. Послам поручалось объяснить, что война Швеции с Польшей равнозначна войне с Германской империей, стоящей за спиной Польши. Если это объяснение будет воспринято положительно, то послы должны были детально ознакомить царя Михаила с намерениями Габсбургского дома и указать ему на опасность, которая угрожала Москве от планов Вены и Мадрида. По логике короля Густава, Россия должна была примкнуть к антигабсбургскому лагерю и стать союзницей Швеции.
Первый Романов воспринял миссию шведских послов благожелательно, но в послании Густаву Адольфу дал половинчатый ответ, заявив о том, что войну с Польшей учинить невозможно ввиду Деулинского перемирия. Впрочем, царь заверял короля, что если поляки станут «чинить ему неправду», то тогда он снесётся с ним по этому вопросу. Осторожность Москвы по отношению к своему бывшему противнику была вполне объяснима — слишком свежи ещё были обиды от войны со шведами и Столбовского несправедливого мира, поэтому предложения Бремена и Унгерна поднять против поляков татар и запорожцев было дипломатично отклонено со ссылкой на той же Деулинское перемирие.
В Стокгольме, однако, правильно расценили ответ царя, и сразу после этого Оксеншерна снарядил в Москву новое посольство — Рубцова и Ю. Бернхарта, но Москва пока однозначного ответа не давала, хотя и «радовалась победам короля Густава» и сочувствовала целям его борьбы с Империей. Царь и его отец патриарх Филарет понимали, что воевать с поляками России придётся в одиночку, а Швеция вызывала естественные подозрения хотя бы потому, что в прошлом вела себя по отношению к России крайне агрессивно и недружественно. Чисто теоретически Москва была должна также учитывать возможность антирусского польско-шведского альянса. Поэтому России нужна была коалиция государств, способная поддержать её в предстоящей войне с Речью Посполитой. Отсюда начатые Москвой переговоры с Англией, Голландией, Турцией и Крымом, отсюда их благосклонное отношение к инициативе трансильванского князя Бетлена Габора и шведскому зондажу.
Дальнейшие попытки Стокгольма наладить контакты с Москвой становятся уже более определёнными и настойчивыми. У Москвы и Швеции оказались общие болевые точки. Москва и Стокгольм в одно и то же время попали в династическую ловушку, устроенную Польшей. Шведская ветвь династии Васа в Польше претендовала на шведский трон, а провозглашённый 17 августа 1610 года русским царём принц Владислав, сын Сигизмунда из первого брака, формально и после избрания на престол Михаила Романова продолжал претендовать на русский трон. В этой связи царь Михаил всё время опасался Владислава, в то время как Густав Адольф — короля Сигизмунда. Ввиду возможной скорой смерти короля Сигизмунда у России и Швеции появилась общая цель не допустить выбора в польские короли принца Владислава, потому что он претендовал бы одновременно и на царский трон, и на шведскую корону. Как Москва, так и Стокгольм считали своим заклятым врагом Польшу, а потому и у шведов, и у русских были налицо все объективные предпосылки для того, чтобы стать союзниками в общей борьбе с поляками.

Инициативу в переговорах с Москвой проявил Густав Адольф, который к этому времени уже отобрал у Польши Лифляндию, провёл успешную кампанию в Пруссии и заключил Альтмаркское перемирие с поляками. Король планировал теперь высадку на севере Германии, поэтому нужно было окончательно обезопасить себя от Польши, фактически ставшей союзницей австрийского кесаря. Отвлекать крупные военные контингенты на Польшу Швеция была не в состоянии, потому и появились у короля планы подключить к общей борьбе с католиками русского царя. К тому же шведы были чрезвычайно заинтересованы в торговле с Россией, которая, вопреки их планам, не пошла через шведскую таможню в Балтийском море, а была переориентирована на море Белое.
Альтмаркское соглашение 1629 года между Швецией и Польшей произошло при посредничестве Франции, заинтересованной в скорейшем вовлечении Густава Адольфа в германскую войну. Кардинал Ришелье каким-то путём — вероятно, через своего посла в Турции — узнал о том, что Россия не собирается ждать окончания Деулинского перемирия с поляками и планирует до его истечения открыть военные действия. Кардинал отправил в Москву посольство Деэ де Курменена, чтобы подтолкнуть Москву к войне с Польшей в союзе с трансильванским (венгерским) князем Бетленом Габором. Царя Михаила и патриарха Филарета убеждать в этом, однако, не было никакой необходимости, ибо Москва к тому времени уже представляла примерный расклад сил в Европе и Германии и однозначно определила своё место на стороне антигабсбургских сил. Де Курменен только снова убедился в достоверности полученной ранее информации: Россия готовилась к войне с Польшей. Этого было вполне достаточно для того, чтобы нажать на Сигизмунда III и склонить его к миру со шведами, а шведам — чтобы развязать руки для войны против императора более чем за полгода до подписания шведско-французского военного договора в январе 1631 года. Это был еще один факт косвенного влияния Москвы на ход Тридцатилетней войны.
…Следующее шведское посольство прибыло в Москву 6 (17) февраля 1630 года, когда в Стокгольме полным ходом шли приготовления к высадке шведской армии в Германии. Его возглавил Антон Монье (Мonier), голландец по национальности, поступивший на шведскую службу. Густав II Адольф поручил ему уведомить царя о заключении перемирия с поляками и попытаться наладить и развить с Москвой политическое и торговое сотрудничество. В отношении шведско-польского перемирия А. Монье должен был заявить царю Михаилу, что Альтмаркское соглашение король Густав рассматривает как вынужденное и временное, потому что Швеция была не в состоянии вести войну сразу на два фронта — с кесарем и польским королём. Далее посол должен был снова указать русским на опасность, которую представляла для них контрреформация в Германии. Речь Посполитая активно поддерживала кесаря Фердинанда II в этом направлении, поэтому Густав Адольф предлагал Москве совершить нападение на Польшу, чрезвычайно ослабленную войной со шведами в Пруссии и Ливонии. К этому времени в Стокгольме уже знали, что с аналогичным предложением к царю обращались турки и крымские татары, а посольство хана уже находилось на пути в Москву. Султан и крымский хан планировали также привлечь в союзники шведов. Создавалась уникальная ситуация, в которой одни традиционные враги России собирались в унию против другого её старого врага.
Вслед Монье Стокгольм направил ему дополнительное письмо, в котором поручал отдельно заверить царя в дружбе и полной солидарности в возможной войне с Польшей. Швеция, в случае русско-польской войны, обещала вести себя «угрожающе» в Лифляндии и Пруссии и оттягивать на себя крупные воинские силы Речи Посполитой, так что русским придётся иметь дело с распылённой по границам польской армией. Да и вообще, заявляли шведы, дело может повернуться так, что «дерзкие по нраву поляки не смогут удержаться», первыми нарушат перемирие и дадут Швеции повод вмешаться в военные действия. В таком случае русские могут не сомневаться, что шведы колебаться не станут и вместе с русскими решительно выступят против общего врага.
Экономический раздел инструкции А. Монье предусматривал взаимную помощь в противостоянии с всё тем же общим противником. Русский рынок в это время представлял огромный интерес для западно-европейских стран. Шведская торговая политика преследовала в России три амбициозные цели: осуществлять дешёвые закупки зерна для снабжения своей армии и перепродажи его по выгодной цене на европейских рынках, канализировать архангельскую торговлю на балтийские порты, в первую очередь на Нарву, и совместно с русскими открыть торговый путь на Персию.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.