
Бесплатный фрагмент - Род
Роман
О книге. Книга написана с использованием исторических документов и повествует о жизни некоторых членов семьи Бруни. Имена и фамилии не всех героев романа подлинные. Это сделано из этических соображений, поскольку потомки героев книги живы в настоящее время. Описанные события были на самом деле. Действительно, в Ухте открыт памятник Пушкину — точная копия памятника работы Н. А. Бруни, только отлитый из бронзы. Это издание книги третье и переработанное. Появились дополнительные сведенья о военных действиях, в которых участвовал Николай Бруни, и они вошли во второе и третье издание. Исправлены некоторые неточности, имевшие место быть в первом и втором издании.
Об авторе. Михаил Дмитриевич Трещалин родился в 1948 году, инженер, живёт в г. Бологое Тверской области России. Пишет как прозу, так и стихи.
Памяти моего многострадального деда
Николая Александровича Бруни
посвящается.
«Авраам родил Исаака;
Исаак родил Иакова;
Иаков родил Иуду и
братьев его»;
Новый завет Господа
нашего Иисуса Христа.
Гл. 1.2 от Матфея.
Ранняя весна. Начало Новобасманной улицы. Погода стояла хмурая. Низкие, рваные, серо-сизые тучи быстро неслись с севера, извергая на Москву то последние заряды мокрого снега, то осыпая крыши домов, бульвары и мостовые реденьким холодным дождем.
Комната на втором этаже старинного особняка теперь являлась частью общей неудобной квартиры и была такой узкой, что вся нехитрая мебель хозяйки: стол, кровать, платяной и книжный шкафы можно было поставить лишь вдоль одной стены, отчего комната становилась еще уже и казалась темным, очень длинным коридором с дверью в одном конце и окном в другом. Однообразие не заставленной мебелью стены скрашивали два портрета: один — очень красивой молодой женщины, другой — священника в митре и рясе, да черный диск огромного репродуктора. Репродуктор молчал, сжав беззубый рот и высунув в правом уголке маленький язычок регулятора громкости, и насторожил ушки-гаечки, которыми он крепился к подставке, подвешенной на стене. Комната светилась чистотой и бедностью.
Дверь открылась, и вошла хозяйка жилища с жестяным чайником в руках. Из носика валил пар.
— Ну вот, милый мой дружочек, сейчас будем чай пить, — сказала она молодому, скромно одетому мужчине, причем слово «дружочек» она произнесла резко грассируя, а «чай пить» получилось единое слово, — а то у меня весь рот запечатался.
Она достала с полки, висевшей над столом, сахар, тонко нарезанный хлеб, сыр и две старинных, мезенского фарфора чашки с блюдцами, не принадлежащими к чашкам.
Хозяйка — очень старая, высокая, худая и совершенно седая, но с красивыми, пышными и длинными волосами женщина — Татьяна Алексеевна Орешникова, по мужу Полиевктова, когда-то владела всем особняком. А потом, в двадцатые годы, по мере уменьшения большой семьи, представители Советской власти отбирали у нее комнату за комнатой, и вот она осталась в комнате для горничной.
Неумолимое время и пережитые трудности сделали свое черное дело: из необыкновенно красивой женщины, смотревшей с портрета на стене, она превратилась в старуху.
Ее гость — тридцатилетний мужчина Дмитрий Трофимов, муж ее внучки Аллочки, был в Москве проездом. Он возвращался из армии, куда был призван на переподготовку, и вечером уезжал в Малоярославец — маленький городок в 120 километрах от Москвы по Киевской железной дороге.
— Ну вот, милый мой дружочек, сейчас будем чай пить, — Татьяна Алексеевна разлила чай по чашкам.
Из репродуктора послышалось негромкое шуршание, а потом медленные и страшные позывные: музыка первого куплета песни «Широка страна моя родная». Через минуту позывные повторились, и диктор Левитан объявил: «Внимание, внимание! Через несколько минут будет передано экстренное сообщение». Так повторилось несколько раз, и натянувшиеся нервы всех жителей огромной Советской страны, сжавшиеся в единый удушающий ком, разом оборвались — Левитан сообщил страшное, роковое: «Умер Иосиф Виссарионович Сталин».
Татьяна Алексеевна опустилась на стоявший подле стола стул и заплакала: «Как же мы теперь без Него?.. Что же будет?».
Страшно, очень страшно — это чувство захватило души всех советских людей.
— Как же мы будем жить дальше? Как же дальше? Как же? Как же…
Глава I
1
После холодной и многоснежной зимы 1876 года наступила дружная весенняя распутица. С крутых, обрывистых холмов на Ивановский луг неслись шумные потоки вешней воды. Они собирались в большие, бурлящие ручьи и наполняли вышедшую из берегов речку Лужу. Такого половодья сторожилы маленького уездного городка Малоярославца не помнили со времен затопления 1812 года.
В ту тяжелую для России годину, когда полчища Наполеона, разорив и придав огню страны Западной Европы, вытоптали наши нивы, сожгли Смоленск, сожгли безмерно дорогую всем русским стольную Москву. И не найдя, что пить и есть там, оставили ее в надежде на тучных черноземах Малороссии найти тепло и сытое зимовье. Несгибаемые простые русские люди на всем пути движения стотысячной французской армии оказывали непонятное европейцам сопротивление, жертвовали всем, что имели, ради уничтожения врага. Однако мобильная и хорошо еще экипированная армия Наполеона довольно быстро продвигалась к намеченной цели, занимая села и небольшие города.
И вот после очередного подъема Боровской дороги, авангардные части французов в отблесках клонящегося к вечеру осеннего дня увидели золоченые маковки и кресты семнадцати городских церквей и Черноострогского монастыря, утопающих в осенних садах на вершинах холмов. Между войском и городом было не более десяти верст — расстояние, которое армия могла пройти за три часа. Об этом немедленно доложили императору.
— Привал и ночлег будем устраивать в Малоярославце, — посмотрев на карту, заключил Наполеон.
Возможно, его расчеты были бы реализованы, но жители города разрушили плотину на реке Луже близ села Карижа. Горстка русских людей, рискуя лишиться головы, остановила врага на двое суток, дав возможность армии фельдмаршала Кутузова занять город и подготовить достойную встречу врагу.
Весенний паводок 1876 года был так высок, что вода подошла к самой Миллионной горе, где находилось городское кладбище, а на противоположной стороне реки лес в нижней части Буйной горы и дорога на Боровск полностью скрылись под волнами бурлящих водоворотами вод. Городские улицы от талого снега и раскисшей глины стали совершенно непроходимыми.
Вот в эту самую пору молодые супруги Вирейские, Алексей Федорович и Лиза, получив кое-какие средства от своих родителей, пешком из Коломны пришли в городок с целью купить здесь небольшой домик и начать задуманное ими дело.
Алексей Федорович, коренастый, широкоплечий мещанин, до женитьбы работал подмастерьем в мастерской своего отца — портного. Он давно мечтал отделиться от родителей и открыть собственную мастерскую по пошиву мужской верхней одежды. Он тщательно готовился к этому: изучал состояние портновского дела в разных городах Калужской губернии, разузнал, что в Малоярославце вообще нет хорошего портного, и люди заказывают платье по большей части в Москве или Подольске.
Вирейский довольно скоро нашел крошечную избушку в три окна, уныло смотревшие на Верхнесолдатскую улицу, с хорошим просторным хлевом и сараем, пристроенными к избе с задней стороны и огромным, в двадцать пять десятин, земельным участком. Супруги купили ее, а в скором времени появилась вывеска:
ПОШИВ ВЕРХНЕГО МУЖСКОГО ПЛАТЬЯ
Вначале Алексей работал вдвоем с женой, но спустя некоторое время родился первый ребенок, и им пришлось нанять подмастерье.
Год за годом семья увеличивалась, а популярность портного росла. Заказов день ото дня становилось все больше и больше. Пришлось нанимать новых работников. Вот уже шьют четверо, и в маленькой, темной избе стало тесно.
К этому времени Алексей Федорович собрал довольно средств и начал строительство нового большого дома.
Постепенно Алексей Федорович из веселого, жизнерадостного человека превратился в измученного непомерным трудом прижимистого и самоуверенного хозяина. Его характер стал крут. Не приведи господи попасть под его горячую руку. Всех подчиненных и домашних он держал в строгости, хотя по-прежнему любил жену.
Обычно в день, когда Лиза рожала, а она рожала почти каждый год, Алексей Федорович давал выходной работникам. Он шел к своему двоюродному брату Петру Атарику на Нижнюю Солдатскую улицу. Братья садились в горнице под окном, на стол выставляли четверть водки и неспешно трапезничали.
Лиза рожала в маленькой комнате за русской печью. Какая-нибудь из старших дочерей бежала к Атарикам, входила в горницу и прямо с порога сообщала: «Батюшка, маменька девочку родила».
«А, едрить твою подкурятина, когда ж малого родить?!», — в сердцах орал Алексей и швырял об пол первое, что подвернулось под руку.
Милая, румянощекая Лиза также продолжала рожать детей, кормить их грудью и тащить на своих плечах хозяйство. Ужасная теснота избушки еще больше усугубляла трудное положение семьи. Это понимал Алексей Федорович, нужен был новый дом.
И вот, наконец, дом построен. Он был очень большим и разделялся капитальными бревенчатыми перегородками на три части, в каждой из которых была своя печь: две изразцовые «голландки» и огромная русская, с подпечком и лежанкой. Между новым домом и старой избой, отгородив двор от чужих глаз, поднялись огромные трехметровые ворота с узкой калиткой, к которой была прилажена щеколда с большим кованым кольцом. Ворота всегда были крепко-накрепко заперты на толстенный засов. За избой вырос новый скотный двор и навес, перекрывавший все пространство между постройками. Сам двор вымостили половинками дубовых бревен. В общем, не дом, а настоящая крепость. За двором простирался большой сад, уходящий до самого оврага. Сад зарос владимирскими вишнями, яблонями и грушами.
К моменту, когда был построен новый дом, Лиза уже родила двенадцать детей. Правда, они много болели и часто умирали. Выживали только самые крепкие.
После освящения вслед за кошкой в жилище вошли Алексей Федорович, Лиза и пятеро детей: старший сын Николай и четверо девочек. Одна из них — Дуня, была больна туберкулезом, а младшая Маня родилась с сильной дисплазией, что в то время без участия врачей гарантировало ей хромоту на всю жизнь, но отца это вовсе не беспокоило. Гораздо больше он думал о том, как оборудует большую швейную мастерскую на восемь подмастерьев, причем трое из них работали лишь за харчи. Это были его сын и старшие дочери: Прасковья и Анисья.
В общем, нужно сказать, что дело мещанина Алексея Федоровича Вирейского — будет процветать и дальше.
Образование детей, которое считал необходимым дать отец, составлялось из четырех классов церковно-приходской школы, а затем в 10—12 летнем возрасте детей отдавали в ученье, где дети осваивали профессию портного со знанием, которого требовало хорошо поставленное отцовское дело.
Марию, как и всех старших детей, в одиннадцатилетнем возрасте отправили в Москву, в ученье портнихи Мурзалевской. Там она первые полгода только раздувала утюги и получала затрещины от мастериц. Потом ей доверили пришивать пуговицы. Этим она занималась еще два года. Правда, потом она довольно быстро освоила всю премудрость швейного мастерства и к восемнадцати годам стала хорошей портнихой.
Однако врожденная хромота, чрезвычайная строгость отца, постоянное унижение со стороны хозяйки сделали свое черное дело. Мария выросла злой и алчной, хотя и очень набожной.
Ей уже пора было возвращаться в родительский дом, чтобы начать работать там, но скоропостижно умер отец, и, воспользовавшись неожиданной свободой, она осталась работать у Мурзалевской и стала получать хорошее жалование.
Ее сестры вышли к тому времени замуж или просто так уехали на поиски счастья. В доме остались лишь мать да Дуня.
Шел 1905 беспокойный год. Москва бурлила революционными событиями. На Пресне стреляли. Стреляли казаки, стреляли рабочие, засевшие на баррикадах. Да и на Большой Дорогомиловской улице также было неспокойно. Бастовали рабочие Брянской железной дороги. Они присоединились к общей стачке железнодорожников Москвы. На площади Брянского вокзала патрулировали рабочие пикеты с красными повязками на рукавах и вооруженные ружьями. Они не пускали на вокзал штрейкбрехеров. Часто дружные колонны вооруженных рабочих проходили по улицам. Здесь и там вспыхивали летучие митинги.
Обыватели — мелкие московские лавочники, купчишки, мещане, в силу своей природной трусости, по большей части отсиживались в своих заведениях. Те из них, на окнах которых были ставни, закрывали их, а у кого ставней не было, задергивали плотнее шторы, надеясь отгородиться ото всего происходящего, как-нибудь пересидеть неспокойные времена. Они, конечно, чувствуя недоброе, стали мягче, снисходительнее относиться к подмастерьям, приказчикам и прочим своим работникам, стараясь по возможности изолировать их от волнений.
Доходы у этих мелких буржуа значительно сократились. Понятно: кому в голову придет ходить по трактирам, магазинам, заказывать одежду и обувь, когда на улицах стреляют.
Как-то в воскресенье в мастерской у мадам Мурзалевской произошло следующее: по Большой Дорогомиловской улице, куда выходили окна ее мастерской, двигалась колонна рабочих с семьями. Они несли лозунги и красные флаги, пели революционные песни. Мастерицы и подмастерья бросили шить и дружной стайкой собрались у окна. Трудно сказать, какими мыслями руководствовались при этом забитые, малограмотные женщины и девушки. Вряд ли это было вызвано солидарностью с рабочей колонной. Скорее всего, их влекло простое любопытство. Маша Вирейская, чтобы лучше рассмотреть и расслышать, взгромоздилась на подоконник и высунула голову в форточку. В этот момент в мастерскую вошла хозяйка.
— Это еще что за безобразие! — нервным, злым голосом закричала она, — сейчас же за работу!
Мастерицы быстро заняли свои места, а Маша замешкалась из-за того, что голова у нее застряла в форточке. Хозяйка подскочила к окну и с криком: «Я тебе покажу, бунтовщица, я тебе покажу», — принялась щипать ее за ляжки. Маша дергалась от боли и никак не могла вытащить голову из форточки, а хозяйка щипала и щипала ее. Марии каким-то чудом удалось освободиться, она прыгнула, свалив с ног хозяйку. За это Мурзалевская вычла из ее жалования пять рублей, выбив «революционный запал» из Машиной головы на всю оставшуюся жизнь.
В дальнейшем Маша Вирейская к событиям первой русской революции была непричастна.
Время шло, революционный подъем пятого года сменился тяжелой для рабочего класса реакцией. Ежедневно арестовывали все новых и новых людей, переполняя тюрьмы. Но это не слишком касалось обывателей. Разве что жаль было Маше голубоглазого, круглолицего юношу Семена — сына железнодорожника Марка Осиповича Шаповалова, которого арестовали прямо у нее на глазах, при этом очень сильно избили. Маша знала его еще мальчишкой, гонявшим голубей во дворе дома, где она жила все эти московские годы, но вскоре забыла о нем.
Несмотря на Машину хромоту, хозяйка довольно часто посылала ее сдавать работу, так как было принято готовую вещь примерять у заказчика в квартире и, если это требовалось, делать незначительную подгонку прямо тут же. Ходить пешком Маше было трудно, и хозяйка выдавала ей двугривенный на конку. Маша все равно шла пешком, а деньги экономила не потому, что очень нуждалась, а скорее по привычке, вбитой ей с детства, беречь копейку.
Однажды Мария несла готовый заказ куда-то в конец Новобасманной улицы. Переходя Садовую улицу у Красных ворот, она замешкалась и попала под лошадь. Маша сильно ушиблась и никак не могла встать. Из садика напротив, рискуя быть сбитой конкой, выбежала девочка лет восьми-девяти — худенькая, голубоглазая, пшеничноволосая, и подбежала к Маше.
— Тетенька, вы ушиблись, давайте я вам помогу, — тоненько закричала она, помогла Маше встать, перевела ее через улицу и усадила на скамейку в садике. — Может, вам доктора позвать? — спросила она.
— Нет, нет, мне уже лучше, — испуганно проговорила Маша, — как звать-то вас прикажете, молиться-то мне за кого?
— Меня зовут Аня Полиевктова, а молиться за меня не нужно, я ведь здорова. Это вы, тетенька, ушиблись, — Аня достала из кармана маленькую гуттаперчевую куколку-голыша. — Вот, возьмите на память, пожалуйста, будьте здоровы, — и она быстро побежала через садик и скрылась в парадном красивого особняка. Маша посидела еще немного и, сильно хромая, пошла на конку. «Благодарю тебя, господи, кажется, жива осталась», — проговорила она.
2
Стояло теплое московское лето 1913 года. Во дворах плавным нескончаемым танцем кружил тополиный пух. На Большой Садовой улице грохотали трамваи, по булыжной мостовой цокали копытами лошади, запряженные то в телегу, то в коляску. По тротуарам беспрерывной массой двигались, спешили куда-то, суетились люди.
Сад-Эрмитаж оглушал прохожих медной музыкой духового оркестра. Воскресный день клонился к вечеру. Маша по случаю именин — а ей исполнилось 22 года, достала из лубочной шкатулки трешницу и решила пышно кутнуть. Она вместе с мастерицей Клашей, тоже работавшей у мадам Мурзалевской, отправились вначале в крошечную кондитерскую на углу Садовой и Малой Бронной. Там они купили фунт шоколадного лома, баранок, чая и, посидев немного, пошли в сад-Эрмитаж покачаться на качелях. Маша незадолго до этого сшила на заказ ортопедические туфельки, да такие симпатичные на вид, а, главное, удобные в ходьбе и почти скрывающие ее хромоту.
Девушкам было весело, они качались на качелях и хохотали. Вверх — приближается к ним синее, с облачками, подрумяненными закатом, небо, вниз — несется на них сочная зелень сада, столики под зонтиками из полосатого тика, плетеные дачные кресла, занятые нарядными, улыбающимися людьми. Хорошо! Весело! Будто бы и нет, в самом деле, будничных забот.
— Ой, Машка, хватит, что-то голова закружилась, — смеясь, взмолилась Клаша.
— Ну, так прыгай, я еще покачаюсь.
— А мне разрешите с вами покачаться? — очень тактично спросил черноглазый брюнет с тонкими усиками, одетый в суконную черную тройку и хромовые сапоги, когда Клаша соскочила с качелей.
— Милости просим, — с кокетством пригласила Маша.
Они долго качались, пока Клаша сидела на скамейке под липами. Потом ее пригласил танцевать какой-то кавалер, и Маша потеряла ее из виду.
— Найдется, никуда не денется, — подумала она, но Клаша куда-то пропала в тот вечер.
Потом Маша с Тимошей, так звали молодого человека, сидели за столиком, и Тимофей угощал ее мороженым крем-брюле, несказанно вкусным. Он несколько раз приглашал Машу танцевать, но она все отказывалась. Он-то не знал, что Маша хромая и никогда не танцевала. Уже совсем стемнело, когда они отправились на Дорогомиловскую. Шли пешком, и Маша очень устала.
— Милочка вы моя, да вы, никак, ногу стерли?
— Нет, я с детства хромаю, — зло ответила Маша и заплакала.
— Ну что вы милая, не плачьте, вот горе-то какое, — Тимофей поднял Машу и понес. — Извозчик! На Дорогомиловскую, да осторожно, не тряси, видишь, барышне плохо.
Они быстро доехали до дома.
— Тимоша, вы меня жалеете. Не нужно меня жалеть. Я привыкла. А вы добрый, а то как увидят, что я хромаю, так оставят тотчас свои ухаживания, — говорила Маша, поднимаясь вместе с ним по узкой лестнице на второй этаж в свою девичью келью.
Потом были свидания, встречи, гуляния по Москве, в общем, как и полагается в подобных случаях. Тимофей полюбил Машу, а она отвечала ему молчаливой благодарностью. Он не бросил ее из-за хромоты. Напротив, окружил ее лаской и заботой.
Осенью в церкви святых Петра и Павла на Яузе они обвенчались. Пышной свадьбы не было. Да и не нужна она была им вовсе. Маша и Тимофей были счастливы. Днем — работа. Он — приказчиком в лавочке, Маша — в мастерской, зато вечер и ночь вместе. Они живут в Машиной комнате. Тесновато, но есть маленькое семейное счастье.
Тяжело Маше работать большим, пахнущим угаром утюгом, где-то под сердцем толкается ножками маленькое существо. Они так ждут ребенка.
Худенький мальчишка с взъерошенными волосами бежал по Дорогомиловской и звонким голосом кричал, размахивая пачкой газет: «Война, война! Последние новости! Россия вступила в войну с Германией!».
Москва несколько дней судачила об этом событии, как о чем-то развлекательном. Потом началась неспешная на первых порах мобилизация рабочих, мелких служащих, мещан. Ушел на фронт и Тимофей.
Примерно через месяц Маша получила с фронта нежное, полное любви письмо. Оно было единственным. Тимофей в это время уже погиб. Похоронное извещение пришло месяца через два. Тогда Маша носила ребенка около восьми месяцев. Известие о смерти мужа почти убило ее, она не доносила и родила мертвую девочку.
Ее безмерное горе вдруг сменилось необузданной злобой. Ей порой казалось, что Тимофей не погиб, а придумал это нарочно, чтобы бросить ее, хромую. Постепенно эта мысль так укрепилась в ней, что она перестала верить в его гибель. Первоначальное отчаяние, затем злость, перешедшая в настоящую ярость, превратилась в ненависть ко всему мужскому роду.
В этом состоянии она начала гулять без разбору со всеми, кто хотел этого. Жизнь понесла ее. Сожители менялись чаще, чем перчатки: то, не выдержав ее дикой безудержной злобы, то она бросала их и уходила сама из-за малейшей причины. Были в результате этого и дети. Она, покормив их грудью несколько недель, находила семью где-нибудь в подмосковной деревне, где могли взять малыша, и избавлялась от него.
Потом, уже дряхлой старухой, она со злобой говорила, осуждая какую-нибудь неудачливую женщину, обманутую и брошенную: «Мои дети все крещеные, все погребенные», — и при этом осеняла себя крестным знаменем.
Годы летели, летели мимо, как-то не задевая ее никакими событиями, происходившими в это время в стране…
Глава II
1
Историческая справка
В 1807 году из швейцарского кантона Тессино (Теччино), непосредственно граничащего с Италией, в значительной мере заселенного итальянцами, в Россию приехал с женой и детьми живописец Антонио Бороффи Бруни (в России его звали Антон Осипович). В годы наполеоновских войн Антонио Бруни был капитаном швейцарских войск, входивших в состав армии Суворова. Сын его, Федор Антонович Бруни, окончил Петербургскую Академию художеств и потом много лет был ее президентом. Работы его можно увидеть в Русском музее и Пушкинском доме. (1)
Андрей Дмитриевич Трофимов много лет мечтал попасть в Ленинград, но как-то так складывалось, что он объехал почти всю страну, а в северной столице был только один раз, да и то несколько часов проездом, возвращаясь со службы в армии. И вот свершилось! Две недели безо всяких обязанностей, без детей, только он и жена, и сказочные богатства дворцов Петровского города доступны их глазам.
В один из чудесных июньских дней Андрей Дмитриевич посетил Русский музей.
Просторный зал с высокими потолками наполнен мягким светом. Полотно в массивной раме от пола до потолка, Моисей в необъяснимом божественном порыве, столп, увенчанный медным змием… Люди, люди, лица, лица, смерть, ужас, раскаяние, просветление и все это средь незнакомого пустынного пейзажа с мертвыми грозовыми тучами и всполохами неживого, сатанинского огня. Но в библии все иначе. Там нет сомнения, нет неверия, только один божественный порыв — и все целы, и дождь из змей не страшен. А тут столько планов, столько концепций разрешения библейской притчи, столько собственного понимания события. Такая своеобразная философия.
— Пойдем дальше, — тихонько просит жена.
— Подожди, еще, еще…
И вновь грозовое небо, скалы, пустыня, Моисей, ужас, страх, смерть, счастье и всюду потрясающая техника письма… Нет, техники не было, это тогда на ум не приходило. Пришло потом, месяцы спустя, на больничной койке в грязной общей палате дальневосточной больницы, куда он попал с распухшей печенью.
А сейчас только сюжет, только реализованный в картине замысел, только восторг и угнетение от чудодейственной силы таланта и мастерства художника.
Он стоял уже больше часа и понял это только потому, что затекли ноги.
— Пойдем, пойдем, еще много будет интересного — позвала жена.
— Да, да, пойдем. Как отсюда выбраться? Я не могу больше. Нужно осмыслить то, что увидел. Нельзя же одеть на себя сразу все драгоценности мира. Задавят!
Они потихоньку вышли и сели на скамейку сада.
— Кажется, у Бруни были еще известные работы? — спросил Андрей Дмитриевич у жены.
— Да, еще гравюры. Точно, иллюстрации к «Истории государства Российского» Карамзина.
— Да вот еще натурный портрет Пушкина в гробу.
— Он в Пушкинском доме, — ответила жена.
Им не повезло: Пушкинский дом был закрыт.
С парадного портрета
Нехитрого сюжета
Кипренского работы
Без видимой заботы
На нас глядит поэт:
Изыскано одет,
Изящен он, красив.
Пожалуй, горделив.
А в жизни у поэта
Лицо не для портрета.
Он не хорош собой,
Зато — велик душой.
И вовсе не в бриллиантах,
Не в пышных бакенбардах
Краса его души…
* * *
Портрет карандашом:
Несчастье входит в дом.
Убитый, некрасивый,
Но, милый, милый, милый
В гробу лежит поэт.
Вот подлинный портрет.
Нет пышности и блеска,
Для горя много места
Художник уделил,
Отчаяние излил.
* * *
Прижизненно известный живописец
Портрет в гробу бессмертного поэта
Для не родившихся еще потомков пишет.
Подобного ему — нет Пушкина портрета.
А так мечтал он написать его живого,
В порыве дружеском, и молодого.
Не написал, не из-за многих дел,
Не то, чтоб не собрался — не посмел.
2
«А в детской по обоям голубым
Скакали клоуны на свиньях и верблюды»
Н. Бруни
Историческая справка
Бруни Николай Александрович родился 16/28/ апреля 1891 года в Петербурге. Сын архитектора А. А. Бруни и племянник художника Н. А. Бруни. Окончил Тенишевское училище (8 классов) в 1909 году.
Одно из самых престижных учебных заведений Петербурга, училище Тенишевой давало образование и воспитание в духе Царскосельской гимназии, разнообразя знания по математике, словесности, литературе — латынью, английским и французским языками. Программа уделяла также много времени рисованию и музыке. Большинство выпускников училища отлично владели тремя, а то и четырьмя языками, знали теорию живописи, и многие рисовали. Кто лучше, кто хуже играли на фортепьяно.
Доброжелательная атмосфера училища и в то же время строгость и требовательность педагогов достигали своей цели: из училища выходили образованные, разносторонне развитые молодые люди.
Уровень профессиональной подготовки Николая Бруни был столь высок, что он был принят сразу по окончании училища на старший курс Петербургской консерватории по классу рояля. (2), (3)
Раннее августовское утро. Село Трехсвятское — родовое имение семейства Бруни. Темные, подслеповатые окна, крыши, крытые дранкой и соломой. Сараи. Следом за сараями огороды, в огородах иногда встречаются шафранные яблони. Они, словно фонариками рождественскими, сияют плодами. Улица, поросшая гусиной лапкой. Ряд берез ровно выстроился вдоль дворов. На небольшом холмике старенькая деревянная церковь со стройной колоколенкой, а за ней кладбище. Вправо от церкви — неширокая аллея из старых лип, то спускаясь в низинку, то поднимаясь на возвышенность, наконец достигает просторной поляны с двухэтажным, под красной железной крышей барским домом с отдельно стоящим флигельком левее дома, конюшней и другими хозяйственными постройками правее.
Всюду солнце, прохладная прелесть свежего августовского утра. Бородатый мужик в армяке и полотняных штанах запрягает. Дворовый Федор носит и укладывает в коляску чемоданы, плетеные короба-сундучки, коробки и узлы. В столовой господа завтракают. Самовар поет, по скатерти пляшут солнечные блики. За столом все семейство: мать, отец, два сына — Коленька в гимнастической форме и младший Левушка в матросском костюме. Коленька строен, подтянут, выглядит старше своих девяти лет. Левушка, напротив, толстоват и немного неловок. Мама торопит: «Не болтайте попусту, сразу после завтрака в дорогу. Левушка, ну как ты держишь нож!»
Коленьке грустно оставлять деревню с ее забавами и шалостями и в тоже время не терпится в Петербург. Там много нового: гимназия, знакомства, книги, музыкальные занятия.
Позавтракали, засуетились, присели перед дорогой и, наконец, тронулись. Дорога известная: до Тулы — на лошадях часов пять-шесть, потом — поездом до Москвы, там остановка на день и снова вокзал, дорога, поезд. Новые люди, дорожные знакомства, полустанки и станции за окнами вагона. Паровоз тащит ровно, в окно нет-нет, да и пахнет горьковатым угольным дымом, и все дальше, дальше уходит земля подмосковная.
Большая станция. Коленька видит в окно зеленый одноэтажный вокзал: «Клин».
— Странное название, не правда ли, мама?
— Что ты, Коленька, Клин — известный русский городок. Ты разве никогда не читал о нем? — удивляется мама.
Коленька уже и не слышит. Он вспоминает, как Федор подле сарая за конюшней колет толстые березовые кругляки и то, что не поддается колуну, доламывает клином — маленьким кованым куском железа, забивая его в трещину обухом колуна. «Там клин — тут Клин. Любопытно, не правда ли?»
После короткой передышки поезд устремляется вперед, набирая скорость. Завтра Петербург.
***
Плавно катит Нева свинцово-серые воды, словно маслом омывая гранит набережной Васильевского острова. Над водами сфинксы глядят друг на друга, вжимаясь в камень постаментов и леденея на пронзительном ветру. Чужие они здесь. Им бы солнца и жара египетского, а не туч петербургских да ветра северного. Им холодно и неуютно на чужестранной набережной. Холодно и неуютно громоздящейся за ними каменной громаде Академии художеств.
Малолюдно. Разве извозчик редкий проскачет, да выбежит худенький студент с огромной папкой на ремне через плечо из парадного подъезда Академии, втянет голову в воротник, пробежит немного по набережной, прижимаясь к фасаду, и скроется за углом в Третьей линии.
Тут-то иначе: запутался ветер, убавился и в тоненьких струйках затих. Прохожий чуть-чуть улыбается, как будто слагается стих. И двор, и подъезд с колоннадой, и буйство левкой за стеклом роскошного зимнего сада в старинный манит тебя дом, в знакомую с детства квартиру с резными дверьми, где тайком по стенам шагают верблюды и клоуны, все в голубом. Где Беккер, как белые зубы, в улыбке раскрыл клавиш ряд, где идолы, может быть, Будды, пред книгами в шкафе стоят, где царствует мир и согласье, где музыка — живопись — жизнь всем проповедует счастье к искусству причастными жить. Здесь в доме №4 по третьей линии Васильевского острова, во втором этаже вот уже сто лет живет семейство Бруни, начиная от президента Академии художеств и ваяния Федора Антоновича Бруни. Здесь родились, выросли и обрели славу многие художники. Вот и отец Николая и Левушки, Александр Александрович, тоже художник-архитектор. Он спокоен характером, всегда уравновешен, очень трудолюбив и собран, редко его увидишь без дела. В его кабинете книги, книги, книги, и все так хороши, так интересны. Александр Александрович не сказать, что очень богат, но и не беден. Дом полон и хорош, для жизни удобен. Царит в нем дух возвышенный, дух прекрасного, дух искусства. Жена его, Анна Александровна, дочь художника и внучка известного акварелиста Петра Соколова, необычайно хороша собой и, в противовес супругу, порывиста и подвижна, переменчива во взглядах и увлечениях. Ее любят во многих гостиных Петербурга, да и в московских тоже.
В конце конов порыв увлек Анну Александровну настолько, что она оставила мужа и ушла к другому мужчине. Сыновья же остались в доме отца. Сохранился лишь светлый поток в памяти мальчиков, да в ранимой Колиной душе укрепилось противоречивое чувство обиды и любви к матери. Лева был ровнее характером, спокойнее Николая. Он не терзался уходом матери столь болезненно. Он рисовал, рисовал и становился с каждым рисунком ближе к тому удивительному Льву Александровичу Бруни, который написал акварельный натюрморт с красной рыбкой (4).
Николай же, учась в консерватории и прекрасно играя на фортепьяно, писал первые, еще не зрелые, но полные своей прелести стихи; когда хотел — рисовал, играл за первую в Петербурге команду в футбол. И что удивительно — за все, что он брался, у него получалось высоко, получалось по-настоящему, получалось здорово. Концерт в филармонии — так непременно успех, овации, цветы, поздравления. Известный пианист того времени Софроницкий, поздравляя, сказал ему: «Коленька, ты сегодня играл лучше меня!». А Коля еще только студент. И стихи самобытные, неподражаемые. Осип Мандельштам хвалит, хотя не во всем согласен. Клюев хвалит тоже, и Константин Дмитриевич Бальмонт отзывается с похвалой. А это уж значит, и стоит дорого. А Коля Бальмонт просто души не чает в Николае Бруни. Коля Бальмонт, правда, франт, но душа чистая, добрейший юноша. И поэзия его своя собственная, не отцовская.
Вздумали эсперанто учить — Коля Бруни за три месяца овладел им в совершенстве, и испанским — тоже. Константин Дмитриевич перевел Кальдерона, а Коля захотел убедиться, насколько переводы хороши. Вот и испанский выучил.
Но все же музыка! Музыка для Коли была главной. Больше всего он именно ее любил.
Год 1911, апреля, 7 дня. В Берлине умер Александр Александрович Бруни. Смерть отца сблизила братьев с матерью. Они стали часто бывать в ее новой семье, вместе ходили на могилу отца и в церковь. Время текло незаметно, и минули два года после кончины отца. Коля закончил консерваторию и поступил в филармонию как исполнитель сольных концертов. Музыкальный мир России принял его в свою семью. Колю Бруни ожидал успех и признание публики. Он концертировал, вставал на ноги как музыкант, у него появились деньги.
Первая мировая война вошла в полную силу. С фронта приходили ежедневные вести то об успехах русской армии, то о неудачах ее, то о временных затишьях на театре военных действий. В Петрограде появились калеки в серых солдатских шинелях, изуродованные шрамами, многие на костылях и на грязных самодельных протезах, с выражением страдания и отчаяния в глазах. Эти несчастные осаждали паперти церквей, прося милостыню. А в богатых гостиных в это время щеголеватые офицеры рассказывали дамам скорее для развлечения, чем в просветительных целях, о тяготах войны, упавших на плечи русского солдата.
Великая интернациональная бойня разрасталась, увеличивала свою мощь, вовлекая в свою ужасную деятельность все новые и новые толпы людей, калечила их — уничтожала. Царский двор взывал к народу о проявлении патриотического долга, приношению себя в жертву во имя православной церкви и Отечества. Русская интеллигенция, особенно молодежь, рвалась на фронт, мечтала о подвигах и наградах. Молодые люди записывались добровольцами и уходили на войну.
В страстную субботу Николай Александрович с матерью и братом пошли к вечерней службе в Исаакиевский собор. Подле собора было многолюдно и торжественно. Люди неспешно, парами, группами и поодиночке поднимались на паперть, осеняя себя крестным знаменем, кланялись и входили в церковь. По пути все щедро одаривали нищих и калек, которых здесь было особенно много.
Николаю бросился в глаза русоволосый солдат с огромной черной ямой вместо правого глаза, с правильными, чисто русскими чертами лица. Он сидел на маленькой, низкой тележке. Обеих ног у него не было значительно выше колена. Его шинель полами тащилась по камням мостовой наподобие грубого грязного шлейфа.
— Подайте, Христа ради, — красивым и несущим отчаяние, очень чистым и музыкальным басом пропел несчастный.
Николай положил в лежащую прямо на камнях рядом с калекой солдатскую шапку серебряный полтинник.
— Спаси Христос, — пропел нищий. — Спаси Христос.
«Господи, услышь меня, господи, зачем ты позволяешь так мучить, так унижать людей, — подумал Николай, — отчего люди творят такое зло, причем прикрываются твоим именем, господи? Нужно что-то делать».
3
Историческая справка
Сын купца Василия Орешникова, Алексей Васильевич, женился без благословения родителей на немке Шарлоте Эдуардовне Штраус, лютеранке. Перед венчанием она крестилась в православной церкви. В семье было шестеро детей, все девочки: Валентина, Елена, Александра, Татьяна, Вера, Надежда.
.
Александр Александрович Полиевктов — из крестьянской семьи, врач, заведующий Павловской детской инфекционной больницей в Москве на Соколиной горе, известный инфекционист, муж Татьяны Алексеевны, дочери купца Орешникова.
Дети Александра Алексеевича и Татьяны Алексеевны Полиевктовых: сын Петр и дочери Ольга, Мария и Анна.
Одесса. Море такое ласковое. Всюду солнце на гребнях волн. Это город. Нет, это сказка моя. Скрылись в прошлом Париж, Бостон. Солнце в окнах зайчиком светится, и слепят белизной дома, а Потемкинская чудо-лестница в сказку счастья ведет сама. Я по ней, затаив дыхание, с легким сердцем бегу-лечу, знаю, выполнятся желания, но не знаю, чего хочу: может тихого и глубокого, с божьей искрой в больших очах, может, статного да высокого, жар сердечный в его речах. Но простит мне господь прегрешения, мне не встретился мой желанный, не пригрезился в утешение…
По Потемкинской лестнице Анна вся в восторге бежит, на бегу улыбаясь прохожему. Перед нею Россия лежит…
Сестра Ани, Мария Александровна, ступила на российский берег совсем в ином настроении. Ей все казалось обыденно и ясно. Ее помолвка с Николенькой Бруни состоялась еще в прошлом году до поездки во Флоренцию. И скоро будет свадьба. Пусть так. Коля умен, образован, талантлив, любит ее. Чего же еще?..
Татьяна Алексеевна ожидала свидания с мужем… «Петя совсем уже взрослый, оканчивает юнкерское училище, а компанию водит сомнительную, не пристрастился бы к картам и пьянству. Нет, не приведи господь!» — думала она о сыне.
«Девочки, Аня, не скачите, как козы! Извозчик, на Московский вокзал, будь добр».
Вся семья погрузилась в коляску, и поехали.
В восьмидесятые годы XIX столетия дела у купца Василия Орешникова пошли очень успешно. Кожевенная фабрика, благодаря его инженерному складу ума и устремлению к техническим новинкам, была оборудована английскими машинами и выпускала очень качественную кожу и хорошую, пользующуюся спросом, обувь. В довершение к этому, Орешников получил выгодный государственный заказ на пошив сапог для армии из своего сырья. Он правильно рассудил, что во время войны сапоги можно шить из третьесортной кожи, но нитки должны быть очень качественными и гвозди медными, а не стальными. Сапоги получались несколько тяжеловатыми, но прочными. В результате фабрика приносила хорошую прибыль, причем Орешников не выжимал из рабочих последних сил, а за счет современной технологии, низкой себестоимости и высокой цены на свою продукцию, за очень короткий срок сумел сколотить капитал в 2,5 миллиона рублей.
Помимо хорошего инженерного чутья и острого ощущения пульса экономической жизни страны, он хорошо разбирался в искусстве, особенно тонко чувствовал всю прелесть и важность изобразительного искусства — живописи. Он был знаком со многими художниками-передвижниками, помогал им средствами, покупал их картины. На этом, общем для них поприще, он близко сдружился с господином Третьяковым и стал активно помогать ему деньгами и непосредственным участием в создании Московской картинной галереи. Его сын, Алексей Васильевич, увлекался собиранием старинных монет. Его коллекция в настоящее время хранится в Историческом музее в Москве, где он был многие годы бессменным директором и в советское время по совокупности научных работ получил звание члена-корреспондента АН СССР.
4
Август 1914, 23 дня. Третья линия Васильевского острова, дом 4, второй этаж. 2 часа 40 минут. Ночь белая пошла на убыль. Темные сумерки за окнами. Кабинет знакомый. Книги, книги, фигурки идолов за стеклом.
— Что за нелепость такая у вас, у интернационалистов: мир любой ценой?
— Да, правильно, война только буржуа нужна. Капитал приумножать. Народу никакой пользы, одна кровь да смерть, — с жаром говорит Коля Бальмонт.
— Но чувство патриотизма русского, оно во все века было. Земли российские защищать, это же от бога, от веры православной. Верно же, Левушка? — Николай Бруни блеснул своими карими очами и насупил брови.
— Конечно, так. Бред вся ваша философия. Немец враг, враг жестокий, — поддержал брата Лев, — да и где это слыхано, чтобы долой войну, чтобы брататься с вражескими солдатами. Да и Польша уже под германцем.
— А я еще раз повторю, и всюду буду говорить, что война простому народу только горе, смерть и разрушение. Нет, она не нужна, — Бальмонт встал, повернул стул спинкой вперед и оседлал его, словно коня.
— Все равно ты меня не убедил. Я ухожу на фронт, записался санитаром-добровольцем, — серьезно посмотрев на Бальмонта, сказал Николай Бруни.
— Как, когда же? Так неожиданно. А как филармония, как же цех поэтов? — Левушка разволновался, забегал по комнате, всплескивая руками с каждым своим коротким вопросом.
— Не время рассуждать о войне теперь. Каждый патриот России нынче там, — ответил Николай.
Звонят. Коля пошел открывать.
— Ну и времена. Кто может подумать, что в три часа ночи явятся гости? Кто это? Любопытно, — сказал Бальмонт.
— С доброй ночью, господа, — воротился Коля, с ним Клюев, весь взъерошенный, пиджак нараспашку, и поручик с правой рукой на перевязи. Шинель — левая рука в рукав, а правая пола накинута на плечо.
— Простите за столь позднее вторжение. Я только что с фронта, с румынского. Мне в Павловск. Отпуск по случаю ранения, а ночь. Вот Клюев и уговорил меня к вам зайти: все же ближе, чем на Выборгскую сторону, — несколько смутившись, сказал поручик.
— Знакомьтесь, Владимир Трубецкой, — представил Клюев.
— Левушка, организуй, будь добр, чаю. Выпить нечего: сухой закон, господа, — попросил брата Коля.
— Ну, как там, на Румынском? — в один голос спросили Лева и Бальмонт.
— Неделю, как германцы прорвали оборону. Наступают, теснят нас здорово. Все, что за лето отвоевали, в три дня противник занял. Страшное дело, газ какой-то ядовитый на наши окопы пустили, солдаты задыхаются, сознание теряют, синеют и мрут, а что к чему — никто понять не может. Конец света прямо! Чуть ветерком сдуло, их артподготовка — по очумелым и мертвым. Я чудом выскочил, через кисет с табаком дышал. Сам не знаю, как сообразил. Но не удушился. А вот руку задело. Во взводе моем только двое живых, не считая меня.
— Звери они, нелюди! Это же не выдумаешь, газами травить, словно крыс, — воскликнул Коля, — а вы, господа левые социал-демократы! Война не нужна, с немцами целоваться! Как они нас! — он гневно посмотрел на Бальмонта.
Коля Бальмонт явно стушевался, пытаясь что-то сказать в оправдание, но его никто не слушал.
— Я в ополчение добровольцем записался. Завтра сбор у Казанского собора, — сказал Клюев.
— Вот и Коля Бруни в санитары уходит, — с волнением воскликнул Бальмонт.
— Они правы, господа, подлинные патриоты. Только так и должен поступать русский гражданин. Эх, выпить бы за родину, за царя, за отечество, да вот сухой закон, — взмахивая здоровой рукой, подытожил Трубецкой, — спасибо вам, братцы.
Левушка принес стаканы, сахар, чай.
— Пейте хоть чай, господа. Того гляди, что и его негде достать будет.
За окном стало светать, и загремел совком дворник. Молочница проехала. Занялся новый, неспокойный день…
5
М.А.Полиевктовой
Милая моя Машенька!
По всей вероятности, по возвращении из Флоренции, тебе не удастся застать меня ни в Петрограде, ни в любезной моей Первопрестольной. Место мое определено будет Богом и совестью моей. Знаю только, что это будет фронт, и занятия мои уместятся в простом понятии «санитар». Прошу помнить, что это временная отсрочка свадьбы нашей не по моей вине, а по причине, от нас независящей. Коли буду жив, буду помнить тебя, как нынче помню. «Черное небо, большая острая звезда около креста колокольни Ивана Великого. Кажется, мне было не более семи лет… Я сидел на подножке коляски у ног моей возлюбленной, и сердце колотилось, когда касалась меня коленями. О, как сладостно сидеть у ног возлюбленной, когда кругом ночь, и никто не видит твоего счастья! Я знаю, что это была настоящая любовь! И от любви — я помню, как сердце обогрелось еще другой любовью к твоей матери и сестре, которые сидели тут же на извозчике.
Маша!
Маша! Мария! Ты и (тогда) была моей невестой, я не изменял тебе, когда мы встретились, в мою комнату вошло счастье — оно красное, как солнце, когда зажмуришь глаза и видишь свет сквозь веки — кровь и огонь. И в каждой вещи (о, сколько их было — коробочки, камешки, кольца, маленькие книги, немецкие и французские стихи, и серое дорожное пальто, и ожерелье из пасхальных яиц на золотой цепочке, и зонтик с белой ручкой, которую я незаметно целовал).
Боже мой! В каждой вещи был целый мир, страны всего света — Индия, Персия, Китай, старая Франция. Но я любил тебя (и сейчас люблю), как русский любит русскую женщину. Я помню вечер, когда я ждал тебя, как купец Калашников (мне почему-то приходил тогда в голову этот образ) ждал свою жену в страшный вечер, когда целовал ее царский мученик. Я ждал тебя, в висках стучала кровь, и я был, как перед казнью; ждал приговора: жить или не жить! И ты пришла, и я держал тебя в своих объятиях, и опять все было: кровь и огонь!» (5).
Даст бог, увидимся, и ты станешь моей женой. Я буду писать Левушке, а как узнаю, что вы вернулись, напишу в Москву. Кланяюсь Татьяне Алексеевне и сестричкам твоим.
Храни Вас Бог. Коля Бруни.
6
Стройный ряд старых каштанов вдоль дороги, вымощенной черной брусчаткой. На каждом каштане, примерно в сажени от земли, белая кольцеобразная полоса шириной в аршин. По дороге обозы, обозы: туда — снаряды, пушки, в разрозненном, нескладном строю серые солдатушки российские. Обратно — кибитки с красными крестами, телеги с раненными, пешие в бинтах, кто сам еще идти может. Лица изнурены страданием. Слева, прямо на поле, несколько палаток с крестами: полевой госпиталь. Щуплый, усталый санитар ведет раненого. Ранение в живот. Несчастный обнял санитара правой рукой за шею, левой придерживает рвань из штанов, гимнастерки и внутренностей на животе. Стонет…
— Милый потерпи. Уже дошли, братец, слышь, не помирай, Христа ради. Вот госпиталь, помогут, — почти кричит ему санитар.
— Не доживу я, — стонет боец и сползает с шеи помощника. Кончается. Навстречу санитарка.
— Давай, браток, помогу, — тащат вместе. Внутренности валятся на траву.
— Нет, не донесем. Царство ему небесное, — говорит барышня. Ни слезинки на ее лице, ни сострадания. Только оцепенение. — Тридцать восьмой нынче с утра, да и шить его некому, еще шестеро дожидаются, а военврач всего один и не спал уже трое суток.
— Царство ему небесное, — крестится санитар, — вот ведь не донес совсем немного. Пойду я обратно, в трех верстах уж фронт. Вам команда сниматься и отступать.
— Как же сниматься, у нас столько тяжелых! Господи! Услышь нас, господи! — Николай Александрович бежит обратно, в голове шум, в глазах туман кровавый. Канонада не утихает. Бой продолжается. Присесть бы, отдышаться. Некогда. Да вот и траншея, и шинели свои. За бруствером сырое кочковатое пространство, за ним холм.
— Вот немец из-за кустов на пригорке из пулемета льет. Видишь? — говорит прапорщик Семенов Николаю.
— Да, вижу. Вон двое наших братишек лежат: один ничком, другой левее на боку… Да он шевелится. Попробую, может, вынесу.
— Ты что, спятил? На смерть верную под пулемет! — кричит прапорщик.
Николай, втянув голову в плечи и становясь немного короче, выползает на бруствер, катком опрокидывается в кусты, в хлябь болотную и вот уже ползет к ближайшей воронке.
— Дьявол, заметили! Мать твою черту в рот, — кричит прапорщик.
Санитар уже скрылся на дне воронки. Земля столбиками пляшет по ее краю. Плотно пули ложатся!
Пулемет на мгновение смолк.
— Можно успеть, пока ленту переложит, — вслух думает Коля. Встает в полный рост. Бежит. До следующей воронки шагов двадцать-двадцать два. Камнем падает…
— Сняли, гады. Ай, нет, жив вояка, — вскрикивает прапорщик.
Пулемет строчит с новой яростью. Снова столбики пыли вокруг воронки. Николай лежит, не поднимая головы…
— Никак замолчал? — шепчет он, — Помоги, господи. Вперед! — бежит, падает у кустика. Пулемет молчит. Бежит. Падает у солдата, уткнувшегося в землю ничком. Пулемет молчит. Слушает.
— Браток, жив?
— Не знаю.
— Терпи, милый, — тянет за плечи. Несколько рывков, и Николай с раненым в кустах. «Та-та-та» — залаял пулемет. Столбики земли совсем близко. «Фьють», — свистнула пуля. Мимо! Еще рывок — и в воронке. «Та-та-та» ложатся в глину пули… Стихло. Бросок.
— Ух, и тяжел ты, братец, — отдувается Коля на дне следующей воронки, — да ты жив?
— Жи-ив?
— Ну, вот и траншея. Братцы, помогите!
— Дурья башка, разве можно так? И не страшно?
— Страшно, ваше благородие, — отвечает Коля, — да и второй, кажется, жив. Спаси Христос! Я пошел…
Тем же маршрутом, лишь немного правее от кустов да дальше немного, под пулями. Чудо! Жив сам и раненого вынес.
— Смирно-о, — кричит прапорщик, — господин вахмистр…
— Не нужно, Семенов, сам все видел. Николай Александрович, храбр, бестия, представлю к награде.
— Рад стараться, — Коля без сил садится на дно траншеи в сырость и слякоть глины, — жив, благодарю тебя, господи…
Непостижимо, как столь тонкой души человек, музыкант, мог более двух лет видеть все это, слышать, участвовать в этом жутком, нечеловеческом действе, имеющим одно устремление — убивать, убивать ни в чем не повинных людей. Колю охватило какое-то отупение, он не помнил ничего, кроме войны, жил только войной. Бывали, правда, часы военного затишья, и тогда он вновь на некоторое время пробуждался от войны, оглядывался по сторонам, видел окружающий мир, начинал осознавать тот принятый людьми порядок вещей, который был для него привычным во все предвоенные годы. В такие минуты он писал брату и матери, но писать Марии Александровне Полиевктовой не мог. Война вытеснила из его души любовь на эти страшные два года. В это время Николай Александрович написал повесть «Записки санитара-добровольца».
В 1916 году Николай Александрович перешел на строевую службу. «Окончил курсы Авиации при Политехническом институте в Ленинграде (Петрограде) и Летную школу в Севастополе со званием военного летчика, после чего был направлен на фронт в 3-й Армейский Авиационный отряд, где получил три георгиевских креста и был произведен в прапорщики».
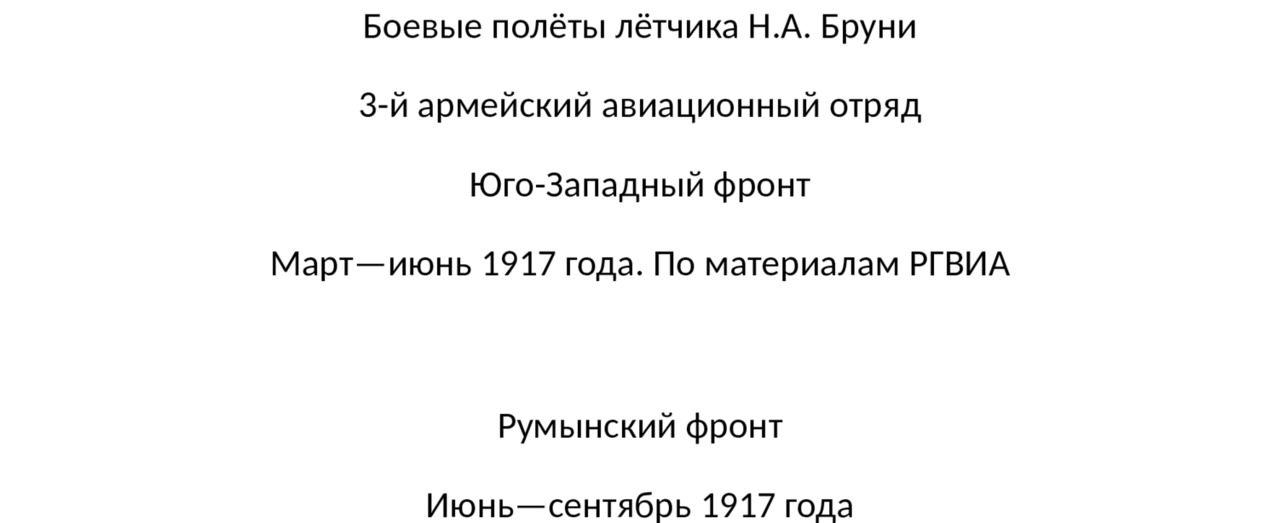
Все даты приведены по старому стилю.
Март 1917 года
После окончания Севастопольской военной авиашколы Бруни прибыл на должность лётчика в 3-й армейский авиаотряд.
Информация о его полётах в марте 1917 года пока не найдена. Поиск продолжается.
Согласно приказу по 7-му авиадивизиону Бруни «с 29 марта 1917 года переименован в старшие унтер-офицеры за успешные полёты».
Апрель 1917 года
3-й армейский авиаотряд
1 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, 2ч10мин
7 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, 1ч25мин
13 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, разведка и бомбометание, 1ч35мин
16 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, охрана. 1ч10мин.
18 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, фотографирование, 1ч40мин.
18 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, бомбометание, 1ч20мин.
19 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, бомбометание, 2ч30мин.
20 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, фотографирование и разведка, 1ч13мин.
20 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, бомбометание, 2ч10мин.
22 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, 2 полёта = 3ч50мин.
25 апреля. Старший унтер-офицер Бруни, 2 полёта = 3ч25мин.
Итого за апрель 1917 года Бруни совершил 13 полётов= 22 часа 28 минут.
РГВИА. Ф.6048. Оп.1. Д.3. Л.47
Май — июнь 1917 года
В приказе по 7-му авиадивизиону от 11 мая 1917 года объявлены полёты:
3-й армейский авиаотряд
2 мая 1917 года. Старший унтер-офицер Бруни, корректирование с штабс-капитан Ложкиным. 2ч15мин.
3 мая 1917 года. Старший унтер-офицер Бруни, корректирование с штабс-капитан Ложкиным.
4 мая 1917 года. Старший унтер-офицер Бруни, перелёт на базу, 1 час.
4 мая 1917 года. Старший унтер-офицер Бруни, перелёт с базы, 1 час 10 минут.
РГВИА. Ф.6048. Оп.1. Д.3. Л.73
РГВИА. Ф.6058. Оп.1. Д.10 «Журнал военных действий 3-го армейского авиаотряда,
16 мая — 15 июня 1917 года. 8-я армия».
16 мая 1917 года. Лётчик младший унтер-офицер Бруни. Наблюдатель штабс-капитан Ложкин. Аппарат «Ньюпор-10». Задание: охрана разведывательного аппарата «Морис-Фарман» [экипаж: штабс-капитан Карачевский и наблюдатель подпоручик Яковлев]. Маршрут: Павельче — высота 337—Посочь — Старые Богородчаны. t = 18,50. Подъём в 6ч50мин утра. Охрана выполнена. РГВИА. Ф. 6058. Оп. 1. Д. 10. Л. 1.

«Ньюпор-X». (Nieuport-X, «Ньюпор», «Ньюпор-Бебе»). Истребитель и разведчик («скаут»). Двухстоечный двухместный полутораплан с деревянным каркасом и полотняной обшивкой, с мотором «Гном» или «Рон» мощностью в 80 лошадиных сил. Завод В. А. Лебедева и завод «Дукс» строили аппараты этого типа по лицензии. Также эти машины поставлялись в Россию из Франции. Основные технические характеристики: длина — 7,1 м, размах крыла — 8,2 м, площадь крыла — 17,6 кв. м., масса пустого — 435 кг, взлётная масса — 610 кг, максимальная скорость — 145 км/час.
17 мая 1917 года. Лётчик младший унтер-офицер Бруни. Наблюдатель подпоручик Яковлев. Аппарат «Морис-Фарман». Задание: разведка. t = 190. Подъём в 6ч30мин утра. Разведка выполнена. РГВИА. Ф. 6058. Оп. 1. Д. 10. Л. 1.
18 мая 1917 года. Лётчик младший унтер-офицер Бруни. Наблюдатель штабс-капитан Ложкин. Аппарат «Ньюпор-10». Задание: фотографирование позиций противника. t = 260. Подъём в 9ч30мин утра. Снимки произведены.
РГВИА. Ф. 6058. Оп. 1. Д. 10. Л. 1об.
19—20 мая 1917 года боевых полётов нет — облачность и дождь.

22—23 мая 1917 года боевых полётов днём не было — облачность 8—10 баллов. Но в 23.40 поднималась эскадрилья из трёх самолётов «Морис-Фарман» на бомбардирование складов станции Циснысув. Все самолёты освещались тремя прожекторами и обстреливались артиллерией противника, но все вернулись домой благополучно.
25 мая 1917 года боевых полётов не было вследствие неисправности самолётов.
27 мая 1917 года боевых полётов не было — мгла, облачность 10 баллов, t = 100.
28 мая 1917 года боевых полётов не было — мгла, облачность 10 баллов, t = 100.
29 мая 1917 года боевых полётов не было — мгла.
31 мая 1917 года боевых полётов не было.
1—2 июня 1917 года боевых полётов не было.
3 июня 1917 года. Лётчик старший унтер-офицер Бруни. Аппарат «Ньюпор-17». Задание: охрана фронта. 2 часа*. РГВИА. Ф. 6058. Оп. 1. Д. 10. Л. 4.
4 июня 1917 года. Лётчик старший унтер-офицер Бруни. Аппарат «Ньюпор-17». Задание: фотографирование района Ценнув-Дольне (?), высота 362, Посечно. 1 час 30 минут*. РГВИА. Ф. 6058. Оп. 1. Д. 10. Л. 4.
4 июня 1917 года. Лётчик старший унтер-офицер Бруни. Аппарат «Ньюпор-17». Задание: охрана фронта. Вылет вечером. 2 часа 30 минут*. РГВИА. Ф.6058. Оп.1. Д.10. Л.4.
5 июня 1917 года боевых полётов не было — облачность.
6—7 июня 1917 года боевых полётов не было — облачность.
10 июня 1917 года боевых полётов не было.
12—13 июня 1917 года боевых полётов не было.
15 июня 1917 года боевых полётов не было — облачность.
* Продолжительность полётов объявлена в приказе №164 от 13 июня по 7-му авиадивизиону.
РГВИА Ф. 6048. Оп.1. Д.3. Л.108

«Ньюпор-17» (Nieuport XVII, «Ньюсемь»). Истребитель. Одноместный полутораплан с мотором «Рон» мощностью в 110 лошадиных сил. Вооружение: один-два пулемёта (курсовой «Льюис» на верхнем крыле и синхронизированный «Виккерс»). Основные технические характеристики: длина 5,8 метра, размах крыльев 8,02/7,76 метра, площадь крыльев 14,7 квадратного метра, масса пустого 375 килограммов, взлётная масса 560 килограммов, максимальная скорость 164 километра в час. С конца 1916 года эти аппараты поставлялись в Россию из Франции. Завод А. А. Анатры и завод «Дукс» строили аппараты этого типа по лицензии.
Примечание: Всего за период с 16 мая по 15 июня 1917 года Бруни выполнил 6 боевых полётов. Общая их продолжительность пока не известна, так как в журнале эти данные не отображались.
Сведения о полётах 3-го армейского авиаотряда за 11—15 мая и за 16—30 июня 1917 г. пока не найдена. Таким образом, общее количество и продолжительность боевых полётов Бруни за май — июнь 1917 года пока остаётся неизвестным.
В 1917 году после февральского переворота был выбран делегатом от 7-го авиационного дивизиона на Всероссийский съезд авиации».. (3)
Август — сентябрь 1917 года
За август — сентябрь 1917 года о полётах Бруни на Румынском фронте в составе 3-го армейского авиаотряда 8-го авиадивизиона сведений нет.
Из дневника Н.А.Бруни
Петроград. Сентябрь 4, 1917 г. (5)
Здесь другой мир и чувствуется, что немцы близко. На самом же деле не так уж они и близко, и права Москва, смотрящая пока спокойно и на немцев, и на всех Корниловых. Вероятно, северная столица несколько преувеличивает свое значение, а Россия живет себе по-своему и где-то складывается общественное мнение, копятся силы для спасения страны от «врагов внутренних и внешних». На себе же приходится заметить, как не в силах голова вместить сотни противоположных мнений людей, говорящих в трамваях и гостиных. Да и свои-то впечатления никак не привести в порядок. «Штатские» люди ищут «тихого угла», все говорят о катастрофичности событий, а нашему брату все привычно. Впрочем, пожалуй, покойная бабушка была права, когда говорила о конце мира!
Только один день, здесь проведенный, не дает права решительного суждения, но, по-видимому, здесь люди находят только одну необходимость: бить немцев. Кажется, нужно заметить, что и на меня произвел впечатление рассказ об одном бежавшем из плена русском солдате, который, услышав оратора-большевика-интернационалиста, вскочил на трибуну и, сорвав с себя одежды, показал такие шрамы на плечах, какие бывают на воловьих шеях от плохого ярма…
— Братцы! — Воскликнул пленный к толпе, — да разве можно с немцами брататься, разве может немец признать русского человеком!
Действительно, были случаи, когда немецкие крестьяне запрягали русских пленных и пахали землю, как на волах.
Сентябрь 6, 1917 г.
…Зашел в кафе. Пусто! Каких-нибудь 10—15 человек сидят и пьют голый чай. Пустые полки, хотя бы сухарь какой завалящий. Брюхо подводит.
Сентябрь 7, 1917 г.
Наконец и в Питере я встретил хорошего человека, интернационалиста Колю Бальмонта. В конец света не верит, зато в народе видит совесть и здравый смысл…
В городе пустынно, на реке ни пароходов, ни барок, на улице изредка встретишь автомобиль или извозчика.
Полутемные трамваи одни только неизменно забиты людьми и облеплены, как мед мухами.
Всероссийский съезд авиации завершил свою работу, и Николай Александрович уехал куда-то на фронт, вероятно в Бессарабию, куда был направлен 7-й авиационный дивизион для продолжения военных действий.
Сентябрь 22, 1917 г.
Одесса. Путешествия по революционной России не очень-то приятны, а пришлось проехать порядочно: Петроград — Москва (ему так и не удалось нигде побывать, а ведь Машенька — его, невеста его желанная, должна была быть здесь, и мама, и Левушка. Так проездом с одного вокзала на другой) Киев — Могилев Подольский — Ст. Ларга (Биссорабия) и, наконец, Одесса. Господи! Когда же кончится это скитание мое. Когда же, наконец, Господи, ты вернешь меня моему искусству!
Впечатления сумбурные — разноголосица российская! Кто за войну, кто за мир, кто за царя, а кто за анархию любезную…
Нашим праздным зевакам самое разлюбезное дело.
Такое настроение, что и писать не хочется, и все-все равно безысходно, бездельно и не видно конца.
Неужели ты гибнешь, Россия? Такое большое слово, Божье слово — Россия!
Глядя на Бессарабскую пустынну степь, опять думал о Мусоргском и Бородине, о неизбывности русской мелодии и страстные желания смерти овладевали мною.
Не могу я больше переносить этого лунного света, этих мертвых белых колонн старинного барского дома и страшный голос степи — тишину ночную! Царь небесный, утешителем души, истиной приди, вселись в мя…
Несколько тренировочных полетов, немного строевой подготовки — и учеба кончилась, начались боевые вылеты. Снова фронт. Только теперь уже не Крым, а Бессарабия. Бомбить пришлось нашу исконную славянскую землю. Больно, трудно, но необходимо. Полеты часто, только и успеваешь, пока заправка поесть, да два-три часа, пока ночь непроглядна осенняя, поспать. И опять: «Мотор, от винта», — полет.
Ощущение почти неописуемое. Аэроплан мелкой дрожью колотит. Воздух густой, холодный, в расчалках свист. Вот вдавило неведомой силой в сиденье — и вдруг провал, и уж невесом пилот, и снова вдавило. А машина послушна разуму и рукам твоим. Восторг охватывает неземной, божественный…
* * *
Поля! Поля! — Разбег, полет! —
Под крыльями метель метет!
Проклятого бензина чад,
Цилиндры черные стучат;
Колотит сердца вечный бой
И стонет воздух голубой!
Рвануться бы! Сорвать узду!
Ах, мне б разбиться о звезду,
Ах, мне бы так ворваться в рай.
Кричать России: «Догорай!»,
Кричать, кричать… — проклятый чад!
А крылья кренятся назад —
Туда, где кружат города,
Где бьет бескрылая беда! (6)
29 сентября 1917 года очередной боевой вылет. Аэроплан резко вздрогнул. Как-то неуверенно застучал, потом несколько раз чихнул мотор и замолк. Впереди возник, наискось разрезающий обзор, неподвижный винт, Запахло гарью. Мелкие, похожие на пламя свечи язычки огня, стали быстро пожирать перкалевую обшивку левого крыла. Огонь, разбежавшись по ее плоскости, разрастался. «Надо немедленно сбросить бомбы, иначе взрыв — конец», — пронеслось в голове летчика. Быстрыми, заученными движениями отправлены за борт все восемь оставшихся бомб. Пламя охватило всю машину. Аэроплан уже не летит, а падает. С неистовой быстротой приближается земля. Вот уже отчетливо видна мокрая тропинка через росистое поле. Стая куропаток шарахнулась в сторону, став на крыло.
Прыжок, прыжок… Резкий удар, острая боль в ногах, из ушей и носа хлынула кровь, сознание угасло. Это конец, но подумать так он не успел…
Потом, толи в бреду, толи в короткие минуты сознания, Николай Александрович молился: «Господи, если выживу, а если выживу, то только волей Твоей, Господи, я посвящу свою жизнь служению тебе, Господи!»
Худой, изможденный бессонными ночами военный хирург — подполковник Савельев, окончив полостную операцию бойца с тяжелым ранением, спросил у сестры милосердия: «Вера Васильевна, что у нас там еще?»
— Летчика разбившегося доставили. Говорят, он около суток в сгоревшем аэроплане пролежал, в поле. Сильно покалечен, и ожоги есть.
— Давайте смотреть, — усталым голосом приказал военврач.
На носилках лежало изуродованное тело, мало чем напоминающее человеческое. Голова же, лицо, волосы каким-то чудом не пострадали, не считая большой ссадины с запекшейся кровью на лбу и кровоподтеков из носа и ушей.
— Бедняга, — вздохнул врач и приступил к тщательному осмотру летчика. Во время осмотра выяснилось, что ожоги не очень значительные, просто ужасающее впечатление создавала жуткая грязь и сажа, покрывшая тело и обгоревшую одежду, два перелома левой руки, очень сильный вывих локтевого сустава правой руки, открытый перелом правой ноги в районе стопы и, видимо, очень сильное сотрясение мозга. — Будем готовить к операции, и как можно скорее. Приготовьте ацетон — мыть, мыть и мыть. Введите противостолбнячную сыворотку.
Летчика перенесли в операционную… Несколько часов спустя, покрытый, как панцирем, гипсом, Николай Александрович полулежал-полусидел на растяжках в послеоперационной палате.
Через сутки он пришел в сознание. Ему принесли письмо от брата Левушки. Нянечка прочла. Из письма явствовало, что Мария Александровна счастлива замужем за норвежским посланником господином Кристенсеном и недавно родила. Николай Александрович выслушал это сообщение спокойно, но скоро устал и забылся тяжелым сном.
25 октября (7 ноября по новому стилю) 1917 г.
Николай Александрович собственною рукой записал в дневнике: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитому мечом. Здесь терпение и вера святых».
Откровение Иоанна Богослова гл. 13 стр.10
В Петербурге в это время свершилась Великая Октябрьская Социалистическая Революция.
Одесса пока жила еще прежней жизнью. Она не знала о свершившемся…
Глава III
1
Из дневника Н. А. Бруни
Одесса, октябрь, 26, 1917 г.
Марии Полиевктовой
С тех пор, как мой экипаж завернул на дорогу, выезжая из ворот «Плесецкого», где я похоронил свою юность, — с тех пор прошло четыре года… Я, как старик с разбитыми ногами, сижу один в чужом городе, наряженный в больничный синий халат. Тем более невероятно кажется мне письмо твое, написанное тем же почерком, теми же словами юности! (В меня вошли силы от этих слов и подкрепили мой дух. Спасибо тебе!) Ты спрашиваешь о моем здоровье. Ты улыбаешься: я состарился, но старость не сделала меня разумным, и я не верю сам себе! Мне страшно думать о человеке, который войдет в дом моего сердца, ибо там тюрьма.
Милый друг!
Я думаю, что за четыре года скитаний, разбитый, со сломанными ногами я искупил перед Богом свою вину, а ты, счастливая, давно забыла меня, а, значит, и простила.
В тот день, когда я получил предписание ехать на фронт, (23 августа 1914 г.), меня известили о твоей свадьбе! Теперь, когда я при смерти, я узнаю, что ты стала матерью. Господь с тобою! Наши судьбы различны, но я верю, что моя дружеская любовь к тебе — радостное желание сил твоему мужу и ребенку оправдают в твоем сердце то, что я назвал тебя другом.
Коля Бруни
Петроград, 26 октября 1917 г. Революционные матросы блокировали подходы к посольствам иностранных держав. Товарищ Чечерин вынужден во избежание обострения и так очень напряженной политической обстановки разрешить ряду посольств выехать из Петрограда в свои страны. 27 октября, побросав посольское имущество, спешно выехали представители посольств Англии, Франции, Норвегии, Испании и ряда других государств в страны, которые они представляли.
Было разрешено выехать норвежскому посланнику господину Кристенсену с его женой и детьми. Однако он не уехал, и семья еще на долгие годы осталась в России.
Из дневника Н. А. Бруни
Одесса, октябрь, 31, 1917 г.
Я больше не буду оправдывать себя!.. Мое глубокое отчаяние, мое душевное опустошение не помогут, нет! Но есть истина, которая стоит, как смерть, у моей постели — любви той, незапятнанной, гениальной, той любви нет! Той любви, когда я был, как оживший тополь, тяжелый весенними соками… Ее нет, нет ее, которую я называл бессмертной. И не будет ее, она не придет! Мы не научились ценить друг друга, а любовь есть то, что любо, чем любуешься. Но мы не научились любоваться друг другом! Любоваться собою! Любоваться любовью! О! Подойди к возлюбленной своей, и ты сделаешься прекраснее, ибо ты затаишь в себе восхищение!
2
Холодный ноябрьский день нес тонкие и колючие струйки сухого снега, загоняя сугробы в самые потаенные уголки московских дворов. Ветер выл в печных трубах, вызывая грусть из глубин девичьей души Ани. В доме было как-то необычно пусто. Отец с утра уехал в клинику, Маша теперь не жила с ними, мама отправилась по своим хозяйским делам.
Аня с самого утра никак не могла найти себе по душе занятие, ходила по дому, прибывая в меланхолии. Она ждала чего-то неприятного. В голове мелькали картинки из воспоминаний дней ее недавнего детства. В этом году ей исполнилось девятнадцать лет. Она невольно поймала себя на мысли, что во всех сегодняшних воспоминаниях обязательно присутствует милый юноша Коленька Бруни. То они вместе с Ниночкой Бальмонт, Коленькой и Левушкой катаются на коньках на Патриарших прудах, то Коленька с ее мамой в четыре руки играют Шопена, а вот Коленька читает свои стихи, разрумянившийся и взволнованный. «Коленька, Коленька, друг ты мой милый! Я, кажется, понимаю: он мне дорог, бесконечно дорог. А может это …? — она сама испугалась недодуманного слова, покраснела и тут же мысленно улыбнулась. — Да, да, конечно, я люблю его. Он такой милый. Но он так давно не бывал у нас. Он, наверное, стал совсем взрослым и что ему теперь до нее, молоденькой девушки? — она взглянула в окно, на дворе уже наступали ранние осенние сумерки. — Что же это я так расхандрилась, нужно чем-нибудь заняться, нехорошо бездельничать». Аня зажгла лампу, взяла в руки книгу и села в гостиной на диван. Чтение не получалось, в голову лезли воспоминания, и в них обязательно был Николай.
Внизу в парадную позвонили.
«Наверное, мама вернулась», — подумала она и пошла открывать.
На пороге стоял Левушка Бруни. Он был очень огорчен чем-то. Это выдавали его грустные глаза и бледность лица.
— Здравствуй, Анечка, — совершенно упавшим голосом проговорил он, — большое несчастье: Коленьку сбили. Он весь разбился, он умирает. Письмо из Одессы, из госпиталя.
Аня побледнела, закачалась и чуть было не упала. Левушка подхватил ее за плечи.
— Левушка, как же это?
— Я больше ничего не знаю. Нужно ехать в Одессу.
— Коленька, милый, — вырвалось сокровенное слово у Ани, — я тоже поеду с тобой.
— Что ты, Аня, там же война, фронт где-то рядом.
— Причем тут фронт, он умирает. Я должна ехать, мне очень нужно.
Они так и стояли по разные стороны порога парадной двери и молчали. На улице к этому времени особенно разыгралась метель. Колючие иглы снега вихрем влетали в прихожую и очень скоро в ее углу, рядом с входом образовался маленький холодный сугроб.
Первым из оцепенения вышел Левушка.
— Анечка, да что же мы стоим. Ты совсем застыла.
— Ах, правда, я замерзла очень. — Левушка вошел, закрыл за собой дверь, и они поднялись в гостиную.
— А когда поезд на Одессу? — уже довольно спокойно спросила Аня.
— В половине десятого вечера. Да успеем, сейчас только четверть седьмого, — сказал Левушка, глядя на большие стенные часы, висевшие в простенке между окнами.
— Тогда я напишу записочку маме, и мы поедем. Правда же, ты возьмешь меня с собой?
— Ну, хорошо, хорошо, только мне тоже нужно собраться. Давай, чтобы не терять времени, с вещами встретимся на Брянском вокзале, — Левушка поклонился и вышел. Аня слышала, как хлопнула парадная дверь, пошла в отцовский кабинет и наскоро написала записку о своем решении ехать. Она сложила в чемодан несколько платьев и еще кое-какие вещи, взяла из бюро в кабинете деньги и, одевшись, отправилась на вокзал.
Брянсний бурлил, как муравейник. Солдаты, мужики с мешками, женщины с плачущими детьми, узлы, узлы. Всюду грязь. Кассы не работают.
Левушка разыскал какого-то железнодорожника и спросил, как быть с билетами.
— Какая вам Одесса, барин. Если и будет поезд, то до Калуги, и то только по командировкам и мандатам Московского Совета. Иначе не уехать.
— Но нам очень надо! Брат при смерти! — горячился Левушка.
— Вся Россия при смерти, мил человек, — посочувствовал железнодорожник, — да и если поедите, то бог знает, где окажитесь, да еще с барышней. Так что лучше и не пытайтесь.
Левушка еще бегал к коменданту вокзала, что-то доказывал, объяснял, но сделать было ничего невозможно, и они вернулись домой.
— Я напишу ему, — сказала Аня.
— Я, право, не знаю. Письмо от 11 октября, а сейчас ноябрь на исходе. Может, и нет его уже? — стал более спокойно рассуждать Лев.
— Да, пожалуй, нужно подождать еще.
— Слышишь? Татьяна Алексеевна, кажется, воротилась…
— Мамочка, Коленька Бруни разбился!
— Насмерть?!
— Нет, пишут, при смерти. Да письмо-то старое, октябрьское…
— Господи! Петя убит, а теперь Коля. Боже, за что ты нас караешь! — Татьяна Алексеевна уронила на пол платок. Заплакала…
3
Николай Александрович полулежал, опершись головой о железную дужку госпитальной койки. Стонал во сне майор — сосед с ранением в шею. Мысли роились мрачные, прежние: «Одиночество. Город чужой. Нога болит нестерпимо. Смогу ли я вообще когда-нибудь встать? Смогу ли ходить? Отлетался… Отлетался, сокол…»
Дождь за окном кончился, и в разрывах низких осенних туч показалось солнце. Оно озарило унылую больничную палату, бликами заиграло на белой стене, осветило лицо Николая.
Страшно представить, что с ним сделалось за годы войны: каштановые кудреватые волосы его поредели, щеки осунулись, на переносице легла глубокая, косая складка, подбородок укрыла бородка с серебринками проседи. А главное — глаза. Те глаза, которые всегда искрились веселым задором, угасли, глубоко запали под надбровные дуги и блестели холодом, леденящим, мертвенным холодом.
А солнце светило, светило, как в те далекие и счастливые дни, когда еще не было ни левых, ни правых, ни эсеров, ни большевиков, ни войны, ни революции. Оно также играло на гребнях морских волн, отражаясь бликами золотыми в широких одесских окнах…
Вошла сестра милосердия, осторожно потрогала лоб спящего майора. Повернулась к Николаю и заговорила вкрадчиво: «День добрый. Как мы нынче себя чувствуем?»
Из-под ее накрахмаленной сестринской косынки выбились вороньего крыла кудрявые локоны, в зеленых огромных очах был виден молодой задор, подчеркивая прелесть золотисто-карего южного загара на ее щеках. И губы, губы сочные, алые, жаркие, полные влекущей влаги. Вся ее невысокая фигурка с тонкой талией, крутыми бедрами и немного полными, но стройными ногами была столь уместна с этими губами, локонами, белой косынкой и таким же белоснежным халатом.
— Да вы, мой милый, так грустны, что хоть в гроб клади. Разве можно так? — ласково склонившись к Николаю, сказала она.
— Да нет, очень нога болит, и одиноко мне, — ответил Николай.
— Хотите, я после дежурства к вам зайду? Поговорим о чем-нибудь, или я почитаю вам, а сейчас давайте ногу перевяжем.
— Да; спасибо вам за заботу вашу, сестрица. Простите, я не знаю, как вас называть.
— Меня зовут Сара, Сара Слеозберг, а вас-то как?
— Николай, — просто ответил он.
Сара осмотрела его бинт, размотала, потрогала мягкими, теплыми пальчиками опухоль на правой ноге, положила мазь.
— Не очень больно?
— Терпимо, — Коля ощутил нежность ее прикосновения, и тепло женских рук проникло в мышцу ноги и разлилось по всему телу.
Она не спешила бинтовать, а погладила затекшую ногу выше стопы, задержала ладони у колена.
Волнами, волнами разливалась благодать по телу Николая, и боль в стопе, тупая, ноющая боль, на время утихла. Она взяла свежий бинт и ловко, в то же время ласково, виток за витком, укутала ногу.
— Врач наказал выдать вам завтра костыли, будем учиться ходить, — сказала она, привстала с края постели, склонилась к его лицу и поцеловала его в лоб. — Не унывайте, мой милый, жизнь продолжается, еще все у вас будет. Я к вам еще загляну вечерком. До свидания.
— Спаси вас бог, Сара, — ответил Николай и подумал: «Как странно и сладко звучит ее имя, и мила она, очень мила».
Сара вышла, и сразу в палате потемнело толи от ее ухода, толи из-за того, что солнце вновь скрылось в тучах…
Утром следующего дня Николаю принесли костыли. Сара помогла ему встать. Пошли. Три шага до двери палаты. Передышка. Три шага до кровати. Коля весь взмок. По вискам катились струйки пота.
— Отдохните, голубчик, немного позже еще походите, — ободрила его Сара.
Николай Александрович молчал. Он весь был в ходьбе. Трудно, очень трудно встать на ноги…
Через неделю он уже самостоятельно доходил до конца коридора и обратно в палату.
Часто по вечерам к нему приходила Сара. Иногда они читали попеременно, т. к. Николай быстро уставал. Иногда они просто сидели, и она рассказывала о своей жизни.
— Мой отец до войны играл в оркестре оперного театра на скрипке, а сейчас театр закрыт, и мы очень бедствуем. Мама моя умерла, когда я была совсем ребенком. Отец занимается тем, что продает на рынке наши вещи — вернее, меняет на продукты, что удастся выменять. Все деньги в доме — мое сестринское жалование. А дороговизна невероятная!
— Да, трудное время, я понимаю. Что с нами станется — один бог ведает, — отвечал Коля.
— А я слышала, вы пианист? — глаза Сары горят приветливо.
— Да, я в Петербурге консерваторию окончил.
— А в летчики как, в прапорщики?
— Пути господни неисповедимы, а дороги военные еще невероятнее. Я был три года санитаром, а только потом летчиком стал. А тут вот катастрофа.
— Давайте завтра в садике погуляем, если погода позволит, — предложила Сара.
Все неслось скоротечно. Прогулки в саду у госпиталя сменились прогулками по городу: вначале днем, а затем и вечером. Потом поцелуи у госпитальных ворот, признания, любовь. Так пролетел ноябрь — последний осенний месяц, вернувший в душу Николая надежду, весну, жизнь.
28 ноября Николай Александрович выписался из госпиталя и поселился в небольшой комнатке маленького домика вблизи пляжа Аркадия, которую хозяева сдавали приезжим отдыхающим на море. Вернуться в дивизион было невозможно, он перестал существовать.
Из дневника Н.А.Бруни
Декабрь, 2,1917 г.
Аркадия. В городе вчера был бой между большевиками и гайдамаками; сегодня перемирие.
Март, 13, 1918 г.
Аркадия. Город заняли австрийцы.
Без даты.
(С. Слеозберг)
Когда-нибудь ты пробовала представить себе катастрофу, которую я пережил в день моей последней исповеди?..
Нет! Ты не можешь себе представить этого, ты не знаешь, что было для меня еврейская религия; что было для меня еврейство! Как разум единого Бога, как гений, нашедший источник энергии мира, как молитва ослепленного Моисея на вершине Синайской горы, была любовь моя к тебе — еврейке.
Март, 15, 1918 г. (Аркадия)
…Я шел по песчаной дорожке сада, опустив голову, погруженный в созерцание своего (тогда такого пламенного молодого чувства и нечто божественное, еще более влекущее, голос сильный, перед которым я был пылинкой, мне сказал, что скоро меня здесь не будет, и что жизнь моя больше не принадлежит мне!
И не был ли этот властный, затопивший мою волю поток — не был ли единственно руководителем моим за все эти годы войны, которые отняли у меня мою юность! И не тот ли поток увлек мою юность! И не тот ли поток увлек с собою и Колю (Колю Бальмонта) и даже неверующего, сомневающегося Воровского, да и многих еще! И никакие силы, ничто не смогло бы удержать нас… от чего?.. от встречи со смертью!!
Кто скажет мне, что это случайность?! Кто посмеет отрицать здесь Божью волю!
А Сара?.. Я вспоминаю ее письма, начиная с короткой открытки, которую я получил, приехав в Аркадию, — как была она далека от того, что я переживал! И как медленно она поспевала за этим потоком, увлекшим меня!
Впрочем, я это не умею сказать, и она будет спорить! Ах! Она будет отрицать! Как и теперь она не понимает, как странно было чувство, звавшее меня в Москву, в Россию, и как неуместно было ее личное, все счеты в наших отношениях перед этим огромным, единым! Душно мне! Тесно! О! Если бы мы знали одного Бога, разве могли бы так не понимать друг друга!
Супружеское счастье — это перевес на весах великой веры, когда личные счеты на втором плане…
А эгоизм? Что это значит?? Разве я сам себя не забываю перед лицом Бога, когда я жертвую своей жизнью?! Так это же тут говорят про жизнь — конечно — я могу забыть и ее, т.к. предполагаю — единым ее устремление с моим, если она может быть моей женой!..
Апрель, 19, 1918 г. (Аркадия)
Конец будет хорошим и для нее, и для меня, ибо наши чувства не реальны — плод глубокой любовной жадности с ее стороны, так же, как и с моей.
Апрель, 12,1918 г.
Прощай Одесса!
Он стоял у Потемкинской лестницы, тяжело опершись на костыль. Вот и кончились долгие месяцы… Удивительно: на море штиль. Он, упруго поставив здоровую, ногу правую внес на ступень — жизнь открыла страницу нам новую, впереди только завтрашний день. И зубами скрипя от страдания, от еще не залеченных ран, вверх по лестнице мироздания он шагал в мирской океан. А Россия растерзанно-дикая, словно мать, призывала его! Впереди еще битва великая, и побьет на ней свой — своего…
4
Путешествие в Москву сложилось довольно удачно, вот только в Саратове пришлось застрять на две недели. Шли бои, и поезда не ходили. Из освобожденного Красной Армией Саратова до Москвы Николаю Александровичу удалось добраться за одни сутки. Невероятно для того времени!
9 мая 1918 года Николай Александрович прибыл в Москву. Единственное место, где он мог остановиться, был дом Полиевктовых. Радость, которая охватила его хозяев, была безмерна…
«Приехал, жив, господи», — то и дело повторяла Татьяна Алексеевна. «Коленька, милый, как я рада, что ты вернулся!», — ликовала Аня. Примчался Левушка, обнимал, целовал, похлопывал по плечам брата, бегал по комнатам и не находил места от радости. Николай Александрович улыбался, но на вопросы отвечал односложно, больше молчал. Левушка рассказал ему о том, как они с Аней не смогли уехать к нему в ноябре 1917 (7). Николай слушал, слушал и молчал, и только Аня своей кроткой, преданной улыбкой сумела расположить его к беседе. Но и эта беседа была больше похожа на рассказ Ани, а не на диалог, но все же в измученной душе Николая что-то произошло, стало теплее, он почувствовал ее, Анны, горячую и нежную любовь. Его заледеневшее сердце понемногу начало оттаивать.
Непостижимо! Сколько может вынести душа человеческая и все же остаться живой? Да и выносимо ли все это: нечеловеческая физическая нагрузка, душевные страдания при виде несчетного количества крови и смертей, осознание надвигающейся гибели России, ежеминутный риск и возможность погибнуть самому, катастрофа, приведшая к увечьям и утрате здоровья, разрушенная любовь к одной женщине и ко второй тоже. Как не потерять тут всякую веру. Веру? Ему и оставалась только вера в Господа Бога, да надежда вернуться в небо.
Эта вера и эта надежда спасла его душу от гибели. Именно надежда и повела его, не считаясь с его убеждениями, в Красную Армию. Лишь бы была возможность летать.
Из дневника Н.А.Бруни
…Крылья-то у меня не отнять, а за ними и смерть со мною, и тот мир, который я, кажется, не научился бояться.
12 июня 1918 года в качестве военного летчика Царицынского авиаотряда Николай Александрович совершил свой первый полет над Москвой.
Российский государственный военно-исторический архив. Ф.25883. Оп.5. Дело 986 «Приказы по Рабоче-Крестьянскому Красному Воздушному Флоту Московского Военного Округа.
Лист 69
Приказ №54 от 11 сентября 1918 года. г. Москва.
§10. Военный лётчик Царицынского авиаотряда Бруни переведен в 1-й фотографический авиаотряд с 2 сентября.
Нынче я впервые после падения взлетел и поднялся над Москвою. И было чувство гнетущего одиночества, и полет был такой неуверенный. И, кажется, впервые в жизни я испытал чувство страха!..
Я стар и хил, и крылья стонут,
Когда взлетаю высоко…
Николай Александрович взволнован и растерян: с одной стороны, им овладело нежное чувство к Ане, с другой — страх от мысли, что он искалечит жизнь девушке, находясь рядом с ней, своей измученной, истерзанной, полумертвою душой.
Неужели вся жизнь моя была ошибкой и вот нем я, как родившийся вновь, и нет у меня прошлого?
Ребенок мой, мой Ангел, не знаешь ты, как страшно мне приблизиться к тебе с моею старою душою, как замирает мое измученное сердце!
И вот вся жизнь моя в одном имени: Анна.
Любовь чистейшей девушки рассеяла его душевные муки. Он стряхнул запавшие в сердце переживания.
Встреча
В этот миг, исполненный тоскою,
На острие зажглись века.
И куполами над землею
Соединились облака.
И ветр божественным порывом
Из синей глубины времен
Шагами женщины по нивам
К лесам был страстно устремлен.
И в неком девственном волненьи,
Средь вздрагивающих огней,
Деревья ветр встречали с пеньем
Всем трепетом своих ветвей.
Воздушное развеев платье,
И тайной дрем окружена,
Невеста бросилась в объятья —
Нововенчанная жена…
Н.А.Бруни
22 декабря 1918 года Николай Александрович и Анна Александровна Полиевктова венчались. Была свадьба, довольно широкая по тому тяжелому времени. Было много друзей Николая Александровича. Константин Дмитриевич Бальмонт читал написанные к свадьбе стихи.
«…невозможность лечения еще не заживших ран, которые причиняли мучительные страдания, потрясающее впечатление империалистической войны и ужасной пережитой аварии окончательно подорвали нервные силы, чему особенно способствовали переживания, связанные с работой в передовом отряде Красного Креста, где приходилось оказывать помощь сотням окровавленных, изувеченных и умирающих людей.
Все это не дало возможность вынести строевую летную работу до конца гражданской войны». (8)
Николай Александрович не прошел летную комиссию и был списан из Красной Армии.
Он помнил свой обет пред Богом и Отцом. Минуя уйму бед, нельзя вдруг стать лжецом! Раз выжил — не погиб, так, значит, вновь в дорогу, пройдя сквозь столько битв, служить он должен Богу, и верою своей он в хаосе страданья для множества людей откроет покаянье, и дивный, светлый сад откроет перед братом, введет во Горний Град его порывом святым. О! Дай же, дай Господь ему в пути не сбиться, идя сквозь тьму, сквозь ночь ни в чем не ошибиться!..
4 июля 1919 года Николай Александрович Бруни в Харькове был рукоположен в сан диакона рукою харьковского Владыки Сергия — родного брата Екатерины Алексеевны Бальмонт — жены поэта К. Д. Бальмонта.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.