
Бесплатный фрагмент - Странники среди звёзд
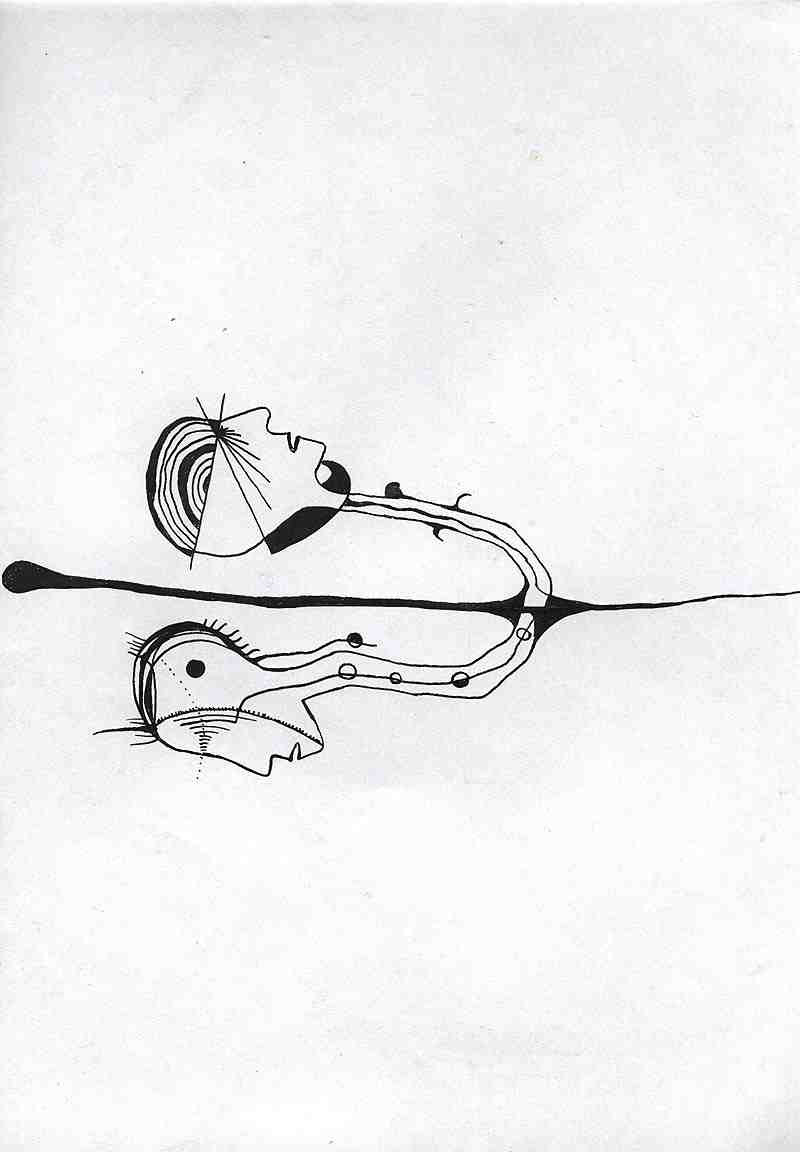
Странники среди звезд
Все мы странники среди звезд. Мы пришли ниоткуда и уйдем в никуда. Мы не знаем своей дороги, мы не знаем своего пути. Единственное, что мы можем, — это познать самих себя.
«Познай самого себя — на самом деле означает, что звезды, например, мы можем тоже, конечно, познать, но это очень далеко от нас. И, поэтому, то же самое, столь же существенное, что вытекает из познания звезд, можно извлечь, углубившись в близкое, в себя. В том смысле, что мы можем стать людьми. Человеческое появляется тогда, когда появляется связь с чем-то вневременным. Само по себе время несет хаос и распад (неопределенность). А если есть человек, то есть и какая-то упорядоченность».
Так писал великий философ Мераб Мамардашвили.
Время и человек — понятия между собой связанные, хотя в определенной системе координат время объективно, а человек всегда субъективен. В познании себя нас множество и мы похожи, но в этом — познай — мы индивидуальны и одиноки. Нельзя познать за меня, нельзя понять за меня, нельзя любить за меня, в этом Я индивидуален, одинок, личностен. И еще нельзя помнить за меня. Все приходит вместе со мной, и уходит вместе со мной. Память не сохранится не только обо мне, но и моя индивидуальная. Но где-то там, среди звезд, хранится все то, что есть Я.
Даже зафиксировав слово, мы забудем его на земле, оставим во времени, но там, среди звезд, оно сохранится обязательно. Недаром порыв евреев к единобожию так тесно был связан со Словом. Господь сказал, и Авраам уводит народ свой в пустыню, бросая город и блага его во имя Слова Божьего. Моисей выводит народ свой из Египта в землю обетованную, повинуясь Слову Божьему, но оставляет в самом Египте порыв к Богу Единому.
Жарким июльским вечером 1911 года в российской глубинке, в черте оседлости, в еврейском городке Николаеве играли на скрипке, били в бубны, посвистывали на флейте; раввин прочитал молитву и пожелал счастья молодым, а также много детей, чтобы они радовали душу и украшали дом. Но только странная это была свадьба. Глаза невесты сверкали огнем, пышные черные волосы, собранные в высокую прическу, еще больше подчеркивали стройность ее фигуры, но вот только невесте было 41 год, а жениху всего 28 лет и он вовсе не выглядел счастливым. Это были мой дед, которого в нашей семье никто не видел и не знал, и моя бабка Рахиль, чья страстность, властность, сильный характер, прочитываются даже на фотографиях. Ей было 24 года, возраст замужества, когда умерли родители, и на ее руках остались шестеро младших братьев и сестер.
В конце девятнадцатого века эта молодая девушка сумела не растеряться, не пойти по миру, а получить специальность массажистки и повивальной бабки, поднять всю семью на ноги, дать возможность выжить, получить образование и продлить свой род. Но молодость ее прошла. И что же? Младшая сестра, достигнув зрелости и самостоятельности, нашла себе прекрасного жениха. Вот теперь, когда они выбились в люди и держали шляпный магазин не только в Бердичеве, Одессе, но и в самой Москве, именно теперь этот приказчик, получивший образование за границей, прекрасно играющий на пианино, немного рисующий, сочиняющий стихи, такой умный, начитанный, утонченный, он должен достаться Розе? Нет — это ее приз. Сначала должна выйти замуж старшая сестра, в конце концов, таков древний обычай. И вот теперь она выходит за него замуж. «Иаков полюбил Рахиль и сказал Лавану: Я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее…» (Бытие. глава 29). Через семь лет сыграли свадьбу. Утром же оказалось, что это Лия… В нашей семье роль Лавана сыграла сама Рахиль.
А ровно через год, переехав в Одессу, в присутствии Одесского раввина она потребует от своего мужа расписку, которая до сих пор хранится в нашей семье, что он, Яков Кобылер, не будет претендовать на сына, который должен родиться (непременно сын), и к его воспитанию не будет иметь никакого отношения. Расписка эта датирована июлем 1913 года, а когда в декабре родился мой отец, то его воспитывали две женщины — собственная мать и тетка Роза, которая считала этого мальчика, рожденного от любимого человека своим собственным сыном.
Она никогда не выйдет замуж. Всю свою жизнь она посвятит воспитанию моего отца, а когда он умрет — его памяти. А его мать, моя бабка Рахиль, отравилась через 40 дней после смерти сына. Ей было 84 года, и она не хотела больше жить. Тетка провела на кладбище последние пять лет своей жизни и, умирая, вероятно почувствовала облегчение. Меня же три года, а мне было 9 лет, когда умер отец, держали в своеобразном заточении: закрытые шторы, ни радио, ни телевизора; мне разрешали только ходить в школу и читать книги. В 12 лет я взбунтовалась. Во мне вспыхнул тот бешеный гнев, который был присущ моему отцу, и портил жизнь этому необыкновенно умному и чистому человеку.
Отец многое не успел сделать: он мечтал увидеть мир, но умер за железным занавесом, он хотел написать книгу, но не успел, он хотел уехать в Израиль, но за него это сделала моя старшая сестра, дочь отца от первого брака, которая так не хотела уезжать. Она была тяжело больна. В России начала 90 годов ей не удалось бы выжить, в Израиле ей продлили жизнь. Выстрадав свою жизнь в России, там, в стране обетованной, она умирала, примиренная с Богом. Еврейка, принявшая христианство, она была счастлива тем, что обошла все святые места, и все же, умирая, говорила мне: «Хоть на день бы в Россию».
Страшно то, что сестра знала, что умирает, душа ее долго протестовала, но, смирившись, она приняла смерть легко, только очень тосковала по России. Странная, противоречивая огромная страна. Пока её столица погрязала в воровстве, алчности и лжи, в провинции продолжалось духовное движение, поиски смысла бытия.
Пожалуй, ни один спектакль не производил на меня столь сильного впечатления, имел столь решающее действие на мою судьбу, как инсценировка «Маленького принца» на сцене сельского клуба в российской глухой деревне на краю казахских степей. В сорокаградусный мороз маленький зал сельского клуба был полностью заполнен. Пахло жареными семечками и свежей краской. Я не помню имени мальчика, который играл одновременно и Принца и Лиса. Можно говорить о мастерстве маститого актера, о культуре, традициях, темпераменте и т.д., но как рассказать об игре мальчика-подростка? Он не перевоплощался, он жил на сцене.
Никакой мастер не в силах так играть, как жил на сцене мальчик с тонким светящимся лицом. Он был уверен, он знал, что все люди хотят, чтобы их приручили. Это так просто и почти невозможно. Помните, Лис говорит:
«Узнать можно только те вещи, которые приручились. У людей уже не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня! Если ты меня приручишь, моя жизнь точно солнцем озарится».
И весь зал замер при этих словах. Не потому, что публика неискушенная, а потому, что этот мальчик так сказал слова, как не под силу иногда даже великому актеру. Вот почему моя сестра так скучала по России. Где еще в сорокаградусный мороз на сцене маленького клуба самодеятельный актер так сыграет Экзюпери?
Можете ли вы представить в другой стране философа, писателя, затерянного где-то в лесной глуши или бесконечных степях, знающего, что никогда не опубликуется, никогда не увидит своих произведений или размышлений в печати, но упрямо пишущего в стол, для себя? Наташа любила именно эту Россию.
Наташа похоронена в Иерусалиме, на православном кладбище в греческом монастыре, который стоит ближе всего к Сионской долине, куда Господь прейдет, чтобы судить всех последним судом.
Она не успела приехать перед смертью в Россию… Увидеть Иерусалим и умереть…
Люди, о которых я рассказываю, весьма необычны, разновелики по уровню таланта, ума, образования, а между тем они, как и тысячи других, не состоялись, ушли в небытие, не оставив следа. Значит, принадлежат к той колоссальной массе людей, которую мы называем мещанством. С точки зрения высокой поэтики, если следовать словам Германа Гессе.
«Мещанин по сути своей — существо со слабым импульсом к жизни, трусливое. Боящееся хоть сколько-нибудь поступиться своим „я“, легко управляемое, большинство интеллигентов, подавляющая часть художников принадлежит к этому типу (Степного волка). Лишь самые сильные из них вырываются в космос из атмосферы мещанской земли, а все другие сдаются или идут на компромиссы, презирают мещанство и все же принадлежат к нему, укрепляют и прославляют его, потому что, в конечном счете, вынуждены его утверждать, чтобы как-то жить. Трагизм этим бесчисленным людям не по плечу, по плечу им, однако, довольно-таки злосчастная доля в аду, в котором довариваются до готовности и начинают приносить плоды их таланты… У всех этих людей, как бы не назывались их деяние и творения, жизни, в сущности, вообще нет, то есть их жизнь не представляет собой бытия, не имеет определенной формы, они не являются героями, художниками, мыслителями в том понимании, в каком другие являются судьями, врачами, сапожниками, учителями, нет, жизнь их — это вечное, мучительное движение и волненье, она несчастна, она истерзана и растерзана, она ужасна и бессмысленна, если не считать смыслом как раз те редкие события, деяния, мысли, творения, которые вспыхивают над хаосом такой жизни».
Это определение нескольких поколений, это проклятый ХХ век, пронесшийся над Россией, как ураган, сметающий все на своем пути; это время, уничтожавшее творческое начало слабых, зато вознесшее сильных духом. «Степной волк» сказал нам о том, что есть времена, когда «целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищенность и непорочность». Эти времена в России длились весь ХХ век, они съели мою семью и моих друзей.
Но я хочу рассказать о тех, кто даже в такое время сохранили свою личность. Личность, согласно Лосскому, «есть существо, обладающее творческою силою и свободою; она свободно творит свою жизнь, совершая действия во времени и в пространстве». И хочется посмотреть — каков же этот акт собственного со-творения.
В своей жизни мы должны стремиться к полноте бытия. Только тогда она осуществится, но почти всегда, когда жизнь уходит, мы понимаем, что этого не произошло. Я понимаю.
Моя жизнь прошла не так, как должна была пройти. В детстве мне были присущи какие-то любопытные особенности. Я помню себя месяцев примерно с восьми. Мы жили в глухой молдавской деревне, куда буквально убежали из Москвы, я помню, что проснулась ночью с неудержимым желанием — непременно быть на улице, увидеть то, что мне неизвестно. Когда тебе 7 — 8 месяцев есть только один способ заставить себя услышать — заплакать. Моя мать решила, что у меня болят уши и, завернув в одеяло, вынесла меня на улицу. Я увидела то, что хотела увидеть, но еще не знала этого: я увидела звезды. Огромные, сияющие на фоне черного неба, они казались такими близкими! И еще одно воспоминание: мне, видимо, год. Меня везут на телеге, я лежу на сене лицом вверх и вижу над собой бесконечно чистое синее небо…, когда я, много лет спустя, читала у Толстого о небе Аустерлица, открывшемся перед князем Андреем, мне было понятно все, что чувствовал он. «Над ним не было ничего уже, кроме неба, — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нему серыми облаками… Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его».
Еще одна из моих особенностей открылась несколько позже: я умела читать чужие мысли, чувствовать, не переживать, а именно чувствовать, чужие ощущения. Мне было девять лет, когда умер мой отец. Его увезли на «скорой» с подозрением на инфаркт. Воспользовавшись тем, что в доме нет взрослых, я вертелась перед зеркалом и вдруг в зеркале увидела, как умирает отец. Пока я была подростком, эти особенности заставляли меня отдаляться от детей и жить своей замкнутой жизнью. Но я так настрадалась от одиночества в детстве, что в годы юности я захотела быть такой как все: иметь семью, детей, друзей. Я подавила все, что мне дано было от природы, я выбрала себе обыденную жизнь и это была моя самая большая ошибка. Замечательная фраза Льва Толстого: «жизнь Ивана Ильича была самая обыкновенная, то есть самая ужасная» просто не воспринималось мной во всей ее суровой правде. Когда я добавила к тексту Льва Толстого слово — и потому — самая ужасная, — тогда я поняла, насколько это соответствует всему, что произошло со мной. Только в моменты сильных любовных переживаний я вновь возвращала себе и ясновидение, и вещие сны. К сожалению, люди, которые любили меня или которых любила я, мало разбирались во всем этом. Они пугались проявлений непонятного, говорили мне о скромности, о том, что таких вещей в нормальном состоянии не бывает, о том, что надо жить как все… «Мудрость, которую мудрец пытается передать другому, смахивает на глупость». Герман Гессе, как всегда, прав.
Теперь подобные явления называются модным словом — «проскопия», а тогда за такие штучки можно было и в психушку попасть. Проскопия, как ее определяют, — сверхчувственное восприятие, это некое получение информации через психику определенного человека. Предсказание событий касается как будущего, так и прошлого, то есть будущее предсказывается, а прошлое провидится. Сколько событий прошлого покрыто тайной, которую хочется или нужно узнать!
Мой отец был историком и, несомненно, обладал даром проникновения в будущее и прошлое. По-видимому, он не отдавал себе в этом отчета. Просто все считали, а так оно и было, необыкновенно умным человеком. Он всегда предсказывал, что рано умрет, и умер в 45 лет. На могиле отца друг его юности с такой характерной фамилией — Рабинович — многое рассказал мне об их юности. Отец тогда был высок, черноволос, голубоглаз — очень красив и необыкновенно умен. Они поступили в Историко-архивный институт в 1933 году и после экзаменов как Герцен и Огарев поднялись на Воробьевы горы, чтобы поклясться в вечной дружбе и верности, и любви к Родине. Но отец, глядя на расстилавшуюся перед ними Москву, которую он очень любил, предсказал, что будет с этой страной ближайшие 20 лет: новые лагеря, массовые аресты, войну, легкую оттепель после смерти Сталина, а дальше он ничего не мог сказать. Неудивительно. Он умер в 1958 году.
Многое предвидя, он смог спасти от ареста и лагеря сначала одну любимую им женщину, а через некоторое время другую. Первая жена отца, Лиза, мать моей старшей любимой сестры, приехала из Польши вместе со своей семьей и подругами в 1934 году. Эти еврейские юноши и девушки уехали из предфашистской Польши в Советский Союз — строить коммунизм. Судьба тех, кто остался в Польше, хорошо известна: все их родственники, друзья и подруги погибли в Освенциме. Но и до этого, как рассказывала тетя Лиза, если еврейские дети учились в одной гимназии с поляками, они должны были стоять весь урок, они не имели права сидеть в присутствии поляков. Понятно, что приехав в Советский Союз, они по-своему были счастливы. Но после ареста Бухарина все изменилось. Все, кто так или иначе был связан с Бухариным или деятельностью Второго Интернационала, были арестованы. Посадили и расстреляли брата тети Лизы, Брука, активного деятеля Интернационала. Посадили в психушку одну из ее подруг, и она провела там всю жизнь, до конца 60-х годов, пока тетя Лиза не нашла ее; отправили в лагерь еще одну ее подругу, удивительную женщину, с которой я познакомилась в конце 60-х и была поражена ее умом, задором, жизнелюбием, благородством. Как когда-то декабристы, вернувшись из ссылки, стали нравственным идеалом для целого поколения, так и эти люди, прошедшие лагеря, были духовными наставниками шестидесятников.
Но вернемся к отцу. Когда арестовали брата тети Лизы, а он входил в ближайшее окружение Бухарина, отец просто-напросто посадил Лизу и ее мать на телегу и увез в какую-то деревню. Там они жили полгода. За это время к ним три раза приходили из НКВД, но не смогли найти, когда компания кончилась, отец привез женщин домой, и больше их не трогали.
Еще Миша Рабинович рассказывал мне там же, на могиле отца, как он, Рабинович, верный данной им на Воробьёвых горах клятве любить Родину, добровольцем ушел на фронт, служил десантником, был ранен, получил орден. Мой отец, который почти ослеп перед войной, — у него была опухоль мозга, — был отправлен в тыл с архивами НКВД. Его удачно оперировали, вернули зрение, но, в сочетании с больным сердцем, это сделало его негодным к военной службе. Учитывая его способности и диссертацию, которую, к сожалению, он так и не успел защитить — «Русские архивы эпохи Ивана Грозного» — отца отправили в эвакуацию в Киргизию, в город Ош с архивами НКВД. Там, кстати, он и познакомился со своей второй женой, моей матерью. Можно себе представить, что он прочел в этих архивах, если, — я уже хорошо помню это, — когда отец садился в электричку, — а жили мы в подмосковном поселке с историческим названием Тайнинская, — и, увидев знакомое лицо, он громко говорил: «Как я рад тебя видеть, давай поговорим по-еврейски, как я ненавижу советскую власть». Если я скажу, что было это в 1955 — 56 годах, то понятно, почему собеседник бледнел и скисал.
С Мишей Рабиновичем после войны, поступили соответственно национальному признаку. Вернувшись в 1945 году из эвакуации в Москву (надо понимать с сохраненным архивом НКВД), отец стал одни из организаторов Музея истории и реконструкции Москвы. Когда Миша Рабинович вернулся с фронта со всеми своими медалями и ранениями, отец взял его к себе в музей, но в 1947 году уже начала разворачиваться компания борьбы с безродными космополитами. На собрании, — все мы теперь знаем, как проходили подобные собрания, — осудили безродного космополита Рабиновича и постановили, что надо уволить его с работы как недостойного заниматься советским музейным делом. Мой отец был единственным человеком, который встал и сказал, что если многоуважаемый коллектив не устраивает человек воевавший, раненый, получивший награды, то он, безродный космополит, не проливавший кровь за Родину, тоже не имеет права на столь ответственную работу. До конца жизни отец так и не смог больше найти достойную работу, а Рабиновичу, к счастью, повезло больше. В конце 50-х годов он попал в Исторический музей, где и работал до самой смерти в 70-е годы.
«Эта эпоха никак не могла понять и усвоить, что все мы, люди, происходим от Адама, все мы связаны родством, что уже генетически доказано, созданы Богом по образу и подобию Его. Вначале, у истоков, откровение бытия было непосредственной данностью. Грехопадение открыло перед нами путь, на котором познание и имеющая конечный характер практика, направленная на временные цели, позволили нам достигнуть ясности.
На завершающей стадии мы вступаем в сферу гармонического созвучия душ, в царство вечных духов, где мы созерцаем друг друга в любви и безграничном понимании.
Все это символы, а не реальность. Смысл же доступной эмпирическому пониманию мировой истории — независимо от того, присущ ли он ей самой или привнесен в нее нами, людьми, — мы постигаем, только подчинив ее идее исторической целостности…
И тогда перед нашим взором разворачивается такая картина исторического развития, в которой к истории относится все то, что, будучи неповторимым, прочно занимает свое место в едином, единственном процессе человеческой истории и является реальным и необходимым во взаимосвязи и последовательности человеческого бытия». (Карл Ясперс).
К сожалению, в те времена историю понимали несколько иначе, впрочем, и сейчас полно фальсификаторов. Цена исторических фальсификаций — миллионы человеческих жизней.
Мой отец, измученный и больной, зная лучше, чем кто бы то ни было, о времени и нравах, запретил мне и старшей сестре даже думать о гуманитарных ВУЗах, понимая, что именно стремление к гуманитарному познанию может сломать нам жизнь. Сестра послушалась отца. За два года до его смерти она не стала поступать в театральный институт (актриса — это не профессия). А поступила в Лесотехнический институт, чем отец очень гордился, но такая «практичность» поломала ее жизнь, и искалечило судьбу. Через 10 лет, когда она поступала на актерский факультет, ее спросили, «где же вы были раньше», — и оставили на режиссерском факультете. Я же (через 8 лет после смерти отца) поступила, как и хотела, на филологический факультет МГУ и полжизни все искала работу, как и предсказывал отец.
Не надо ссылаться на времена. «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Во всем существует личностная вина или доблесть.
Странно, для того, чтобы это понять понадобилась целая жизнь. Как тут вновь не вспомнить Германа Гессе: «Я говорю то, в чем убедился на деле: передать можно другому знание, но не мудрость, Последнюю можно найти, проводить в жизнь, ею можно руководиться, с ее помощью можно творить чудеса; но передать ее словами, научить ей другого — нельзя».
Мне не хватило смелости ни в чем. Ни в том, чтобы стать археологом, как я хотела изначально, потому что люблю даже запах истории, ее пыль, ее прах, ее смещение времени, ее актуальность для меня в тот момент, например, когда вижу надпись на раскопках дома в Иерусалиме: это дом имярек, и мы вспоминаем, что имя это звучит в Библии; потому что любила путешествия без комфорта и вида из окна, а пешком, в пыли, чтобы копаться в прошлом и говорить с людьми, неважно, живыми или мертвыми. Потому что долго боялась писать, делая перерывы в несколько лет — ведь мое окружение пожимало плечами, — а жить не как все было страшно. Я глубоко понимаю Ницше, вот отрывок «О чтении и писании»:
«Из всего написанного я люблю только то, что пишется собственной кровью. Пиши кровью: и ты узнаешь, что кровь есть дух.
Нелегко понять чужую кровь: я ненавижу, читающих из праздности…
Некогда дух был Богом, потом сделался человеком, теперь же — станет чернью…
И еще:
Вы говорите мне: «Тяжело бремя жизни». Зачем же вам тогда ваша гордость утром и смирение вечером?
«Тяжело бремя жизни»: не прикидывайтесь такими неженками! Все мы выносливы, как вьючные ослы».
Справедливые слова! В юности я бродила по многим дорогам с неким историко-туристическим кружком. Какие только приключения не сопровождали эти путешествия! И под лед зимой проваливались, промокшие, добирались до места ночевки. Скрывались от местных хулиганов в сугробах, чтобы не попасть в переделку. И ничего, не болели.
В юности влюблялась я постоянно, всегда несчастливо, переживала целые бури, зажав их в себе и боясь, чтобы они не вылились наружу. Но это мне мешало понять в каких дивных местах мы бываем, например, устье Волги: широкая, огромная, водная гладь, бесконечный простор воды, у берега поросший желтыми кувшинками и огромными розовыми водяными лилиями, бесконечная голубизна неба над головойЮ и воздух, который можно пить.
Я также до конца не понимала, с какими необычными людьми сводила меня судьба. В маленьком Поволжском городке тихо жил человек, друживший с Аллилуевым. И в 15 лет, задолго до всех изданных воспоминаний, или книг Солженицына, прочитанного много позже, я узнала и о смерти Надежды Аллилуевой, и о погибели всего окружения Сталина, или, например, об эпизоде, когда Сталин ощипал живого петуха, пока нес его с базара домой. Какого же было мое изумление, когда я прочла об этом случае сначала у Марка Алданова, а потом у Фазиля Искандера. Видно сцена так поразила спутников будущего вождя, что они разнесли историю по свету.
Там, в походах я впервые столкнулась со странным своим даром — чувствовать смещение времени. Произошло это в Орше. Вечером, сидя на высоком берегу реки и впервые слыша объяснение в любви, я вдруг физически почувствовала, как сместилось время, и длинный ряд моих возлюбленных предстал передо мной. Я так ничего и не смогла ответить на слова человека, которого до сих пор вспоминаю с теплым чувством, — слова первой любви, — потому что я увидела будущее.
В начале очень короткого пути, который кажется нам таким длинным, мы можем увидеть будущее, в конце — только вспоминать о прошлом.
Наступает момент, когда мы чаще говорим с умершими, чем с живыми, и тогда уже все равно, жили ли они тысячу лет назад и донесли свои чувства, боль и печаль через слово, дарованное им Богом, или были твоими близкими друзьями, родными, возлюбленными.
Каждый из нас когда-нибудь будет повторять слова «Надгробной песни» Ницше:
— «Там остров могил молчаливый; там могилы юности моей. Туда отнесу я вечнозеленый венок жизни.
От могил ваших, возлюбленные покойники мои, доносится до меня сладкое благоухание, слезами облегчающее сердце мое. Поистине, аромат этот волнует душу и несет облегчение одинокому пловцу.
Я все еще богаче всех и до сих пор возбуждаю сильную зависть — я, одинокий! Ибо вы были со мною, а я и поныне с вами: скажите, кому падали с дерева такие румяные яблоки, как мне?
— Поистине, слишком скоро умерли вы, беглецы».
Я не могу не поверить этим словам.
Знаки свыше ведут меня всю жизнь, но я притупила свою интуицию. Убив в юности какие-то тонкие материи, подаренные мне, я навсегда обрекла себя на некую душевную тупость, нерасторопность души, если можно так сказать.
«Все дни да будут священны для меня», — так говорила некогда мудрая юность моя; поистине, то была речь веселой мудрости!» (Ницше).
Но и в юности я наделала много непростительных ошибок, я не знаю — буду ли прощена. Сама я не могу простить себе, что уничтожила три страницы из рукописи отца, а их было всего четыре. Мне в 16 лет они показались неинтересными, я решила, что по сохранившемуся плану напишу лучше. Отец перед самой смертью задумал написать историю своей, тогда большой семьи, некую сагу о Моргулисах, живших в Бердичеве и Одессе. Вся большая «мишпаха» перед первой революцией в начале прошлого века перебралась в Одессу, и там прошла шумная, бурная и веселая юность детей дружной еврейской семьи, двоюродных братьев и сестер.
Семья Моргулисов.
Роман в трех частях.
У истоков.
Мираж
Кровью сердца.
Первая часть называлась «У истоков» и имела свой план.
Свадьба в Бердичеве.
Братья и сестры
Жизнь и мечты
Переезд Рахиль в Одессу
Одесса-мама
Михаил Григорьевич Моргулис и его семья.
8. Приезд семьи в Одессу в 1903 году. Погром в Кишиневе.
9. 1905 год и погром.
(Знаменитые погромы в Кишиневе и Одессе моя семья прочувствовала на своей шкуре)
10. Яша и работа на угольном портовом складе.
Об этом периоде я знаю только то, что отец, обожавший море, поспорив с двоюродным братом _ Михаилом Моргулисом, — с которым будит дружить всю жизнь, поплыл в бурю к буйкам. Он доплыл. Но сердце не выдержало.
Порок сердца с тех пор мучил его всю жизнь и стал причиной ранней смерти.
А вот седьмой пункт очень меня удивил, учитывая материальной положение семьи. Пожилые родители умерли довольно рано. Примерно в начале 90-х годов Х1Х века. Младшей, Розе было тогда толь лет 10. Старшей, Рахили, моей бабке, значит 24. Но, возможно, они были моложе, когда остались одни. И вот Рахиль берет на себя заботу обо всех младших братьях и сестрах.
Она выучилась сама и подняла всю семью.
Отсюда и жесткость ее характера, и непримиримость ко всему, что не нравилось ей.
Вот как выглядит пункт 7, из книги, так и не написанной моим отцом.
7. Учение Рахиль на курсах по акушерству, фельдшерству и массажу. Выпуск 1901 года. Швейцария, доктор Райх. (Ну как могла моя бабка попасть на эти курсы?! Ведь они были бедны, образование в такой семье давали только мальчикам). А уже потом:
8. Приезд семьи в Одессу в 1903 году. Погром в Кишиневе.
9. 1905 год и погром.
10. Яша и работа на угольном портовом складе
На этом я прерву план так и ненаписанной отцом книги. Нет, потом я его продолжу, но сейчас мне хочется немного поразмышлять о том, как мы «ленивы и нелюбопытны». Пока были живы носители этой старой семейной культуры и родового знания мы ничего не спрашивали у них. В своем молодом эгоизме мы были уверены, что жизнь, истинная, великолепная жизнь, именно нам дана, а все предыдущие поколения только почва для нашего появления, для нашего дыхания. Например, моя бабка со стороны отца, бабка Рахиль, обладала незаурядным характером, силой воли и умом. Вся беда заключалась в том, что она ненавидела весь окружающий ее мир. Единственным светом, любовью, счастьем был ее сын, мой отец. Свою сестру, нашу общую тетю — тетю Розу, она только терпела за любовь к своему сыну, всех остальных, включая меня, она ненавидела. Я появилась в доме, (о нем, о доме, отдельный рассказ), — я появилась в доме, когда мне исполнилось четыре года, и сразу столкнулась с безграничной любовью отца, равнодушием тетки Розы и ненавистью бабки Рахиль. Раньше я просто думала, что она ревнует сына к моей матери, потому что отец ее, мою маму, очень любил, и только с возрастом поняла, что это была еще и ненависть к стране, к миру, который ее окружал и к тому строю, в котором она прожила вторую половину своей жизни.
Я помню как тогда, а это был 1953 год, часто по радио звучали Варшавянка или Интернационал, и я, как всякий ребенок, пыталась подпевать песне, которую слышала. Рахиль начинала трястись и кричать, чтобы я замолчала. Сквозь слезы я отвечала ей, что это песни революции, что вся страна их поет. Тогда я услышала ответ, который запомнила на всю жизнь, что мы, евреи, не имеем права участвовать в жизни страны, потому что, — чтобы здесь не происходило, — во всем будут виноваты евреи. Прошло много лет, прежде чем я осознала всю драматичную истинность и печаль этих русско-еврейских отношений. А тогда бабка рассказала мне о том, что во время революции 1905 года она жила в Одессе. На одном конце города были баррикады, и рабочие противостояли полиции и армии. Она, Рахиль, конечно, была там, и как медсестра помогала раненым рабочим, а ее братья сражались на баррикадах. Это спасло им жизнь. Когда они вернулись в еврейский квартал, то увидели груды мертвых тел, разграбленные и сожженные дома, и те же рабочие, которых она только что перевязывала, с упоением тащили все, что можно было разграбить.
Тогда Ребе сурово осудил еврейскую молодежь и сказал, что евреи должны заниматься наукой и торговлей, но не политикой, иначе все евреи будут уничтожены. Если учесть, что основная масса еврейства тогда жила в Российской империи, то Ребе был абсолютно прав. Именно после революционных погромов 1905 года несколько миллионов евреев уехали из России в Америку и потом составили основу благополучия этой страны.
А теперь продолжим план той самой ненаписанной отцом книги.
11. Гриша и конфеты.
12. Моня и босяки
13. Коля и Моня
14. Женитьба братьев и отъезд Мони в Австро-Венгрию. Замужество Рахиль 1911 год. Николаев. А я думала 1912 год Бердичев!
15. Революция 1917 года. Февраль — Октябрь.
16. Австро-Венгерская оккупация Одессы (4-ая Станция).
17. Гражданская война (4-ая Станция)
18. Голод 1920—21 года. Жизнь у дяди. Южная.
Я не знаю, что за всем этим стоит, я не знаю, что хотел написать отец. Я только знаю, что где-то во времени и пространстве исчез мой дед Яков Кобылер, что в Австро-Венгрии должны были жить некие Моргулисы. Что с ними стало после 30-х годов; что в Америке живут некие Маргулисы, (перемена буквы — игра времени и грамматики), потомки знаменитого одесского адвоката, одного из многочисленных двоюродных братьев Моргулисов. Двое его детей — брат и сестра — одновременно повесились, как шепотом передавали в семье из-за случившегося инцеста. Остальную часть своей семье он после 1905 года увез в Америку.
Никогда не прощу себе, что уничтожила несколько страниц из ненаписанной отцом книги. Остался только листок, напечатанный на машинке. О, машинка это была его гордость. Новая «Оптима», 1956 года выпуска, единственное, что он завещал мне. Как будто чувствовал, что я попытаюсь что-то написать. Но ее продали, чтобы поставить памятник отцу, на кладбище в Мытищах, где, надеюсь, похоронят и меня.
Вот эта страница, написанная отцом.
«Наверное, всякая работа это каторга. Предвижу, что лицемеры, охотники поработать, ученые и прочие «знатные от работы» люди, накинутся на меня и с пеной у рта, будут ругать меня, доказывая, что только, мол, труд в поте лица дает удовлетворение, являясь основой жизни, прогресса и многих иных вещей, против которых трудно спорить.
Человек изобрел атомную и водородную бомбу, привел в движение космические силы природы, и в ужасе дрожит перед своими открытиями, которых он выпустил из бутылки, как в старину выпустил древнего духа зла.
Это было лет тридцать пять тому назад. В одно прекрасное летнее утро 1924 года. Еще не взошло солнце. Десятилетний мальчик, загорелый с выцветшими рыжевато-белыми от морской соли волосами, сбегал с большого обрыва к морскому берегу.
Удивительны эти высокие глиняные обрывы, возвышающиеся над морем в пригороде Одессы. Бескрайняя степь, полная запахов травы, соломы, цветов и созревающих под солнцем хлебов, бахчей, огородов, подсолнуха, вдруг обрывается на всем своем великом протяжении и подмытая морем, двумя крутыми глиняными уступами ниспадает в голубое море, несущее прохладу и чудесные, неведомые степи морские запахи соленой воды, водорослей, гниющих ракушек или как их тут называют — мидий».
Вот и все, что успел написать отец. Я понимаю, что он хотел сказать. Он хотел противопоставить красоту жизни бессмысленному труду, который приводит как к разрушению личности человека, так и к разрушению мира через блага цивилизации. Он поднимал вопрос, который стоит всегда очень остро. А что такое цивилизация, к чему она привела? Кроме того, это пишет человек, который всю жизнь трудился как каторжный, чтобы прокормить семью, а основное, творческое свое дело так и не довел до конца.
Как писал Ницше: «Напрасен был всякий труд, в отраву обратилось вино наше, дурной глаз опалил наши поля и сердца».
Неужели все эти люди с их страстями, желаниями, недюжинным умом ушли, не оставив следа? И неужели же нет будущей жизни, там, где мы все встретимся и все поймем? Ведь только бессмертие души оправдывает все наше существование, все надежды, все чаяния.
«Высшая идея на земле лишь одна, — писал Достоевский, — и именно идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные „высшие“ идеи жизни, которыми может быть жив человек, лишь из одной ее вытекают». Вот почему я пытаюсь найти ту нишу, которую занимает мой род в бесконечной цепи генетической культуры человечества.
Одесса, о которой писал мой отец, — это Одесса Бабеля, то же время, те же герои. Наверное, дети из хорошей семьи жили несколько в другой обстановке, чем Беня Крик, но это тот же город, его улицы и быт местечка. И погромы те же самые. Бабель описывает погром в Николаеве, но какая разница…
«Случай этот был еврейский погром, разразившийся в пятом году в Николаеве и в других городах еврейской черты оседлости. Толпа наемных убийц разграбила лавку моего отца и убила деда моего Шойла. Все это случилось без меня, я покупал в то утро голубей у охотника Ивана Никодимыча. Пять лет из прожитых мною десяти я всею силою души мечтал о голубях, и вот когда я купил их, калека Макаренко разбил голубей на моем виске».
А в другом рассказе Бабель опишет мечту русского мужика.
Жид всякому виноват, — сказал он, — и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается?
Десяток миллионов, — ответил я и стал взнуздывать коня.
Их двести тысяч останется, — вскричал мужик
Вот и Бунин в книге «Окаянные дни» вспоминает, как старый еврей сокрушается, что все режут друг друга, а потом будут говорить, что во всем виноваты евреи. «Я, — пишет Бунин, — видел и красных и белых. Евреев среди них единицы, но мы точно будем кричать, что во всем виноваты евреи, надо же оправдаться».
Мужик оказался прав. Сейчас в России не больше двухсот тысяч евреев. Но, по мнению, 140-миллионного большинства, — они, евреи, во всем виноваты.
Вот история другой семьи, и произошла она через четверть века в 1941 году в Киеве. Семья моей подруги жила в самом центре Киева. Дед ее еще до революции был известным портным. И это портновское благополучие продолжалось и в 30-е годы. Платье ведь всегда шьют. Бабушка была дивной кулинаркой. Когда она пекла пироги, весь двор замирал. Дети знали, что вот-вот откроется дверь, и им вынесут пирожки, каждому достанется и не один… Немцы заняли Киев в 1941 году так быстро, что никто не успел уехать, кроме партийных работников. Молодой комсомольский вожак, живший в этом же доме, немедленно переоделся в форму полицая, и теперь вместе с немцами обходил все квартиры, указывая, где живут евреи, он также спокойно указал и на их дверь, хотя еще несколько дней назад получал теплые пирожки из добрых рук. В Бабий Яр повели деда, бабку, мать моей подруги и ее сестру. Девочкам было 18 и 16 лет. Им повезло, их колонну конвоировали немцы, а не украинские полицаи. Женщины сняли с себя все украшения, достали заветные запасы, и отдала немцам. Девочкам дали возможность убежать. Всю войну они батрачили за еду на хуторе… После войны девочки взяли русские имена, и в графе национальность они с сестрой написали — русские. Младшая вышла замуж и уехала в Москву, а вот ее сестра каждый день видела во дворе служебный автомобиль ответственного партийного работника, того самого полицая, который отвел их родителей в Бабий Яр. Больше всего на свете они боялись, что им кто-то напомнит, что они евреи.
Над Бабьим Яром памятников нет…
Часть этой семьи, дети той сестры, что осталась в Киеве, уехали в Америку, сын московской сестры — в Германию, а здесь в России остались три несчастные женщины — старшая, пережившая Бабий Яр. Ее дочь и внучка… Больше потомков нет, евреи не выжили в России.
Так и наша семья. Все разбрелись по свету, здесь остались те, кто накрепко, смертью и кровью, смешением племен связаны с землею, которая их отвергает.
Мой отец во времена борьбы с космополитизмом все пытался найти работу, достойную его ума и знаний, все писал автобиографии. Сейчас рассылают резюме, где главное все-таки показать свои навыки и знания, а тогда главным было доказать идеологическую правильность, что, впрочем, не всегда подтверждалось биографией, а главное — умение писать доносы, вот этого мой отец не умел. Один из моих знакомых написал в своей книге о тех временах: «Формула большевизма как неограниченной власти — жизнь ради уничтожения жизни во всем ее многообразии». (А. Викторов).
Вот в такие времена отец писал о себе:
Кобылер Михаил Яковлевич.
Я родился в 1913 году в г. Одессе. Мать моя до революции работала массажисткой, а после революции швеей и медсестрой. Отец развелся с матерью до моего рождения. В 1923 году я поступил в школу, которую окончил в 1928 году. В 1929 году семья переехала в Москву, я поступил на работу на бумажную фабрику в начале в качестве помощника мастера, а потом мастером на копировальных машинах до 1932 г.
В 1933 г. я поступил в Историко-архивный институт ГАУ МВД СССР, который окончил в 1937 г. и был оставлен в аспирантуре, которую окончил в 1941 г. В 1936 г. я начал учительскую работу в вечерних школах г. Москвы. С 1941 по 1945 год я работал начальником отделения госархива НКВД по Ошской области и одновременно преподавал историю в г. Ош. С 1946 по 1949 год я работал учителем истории в школе рабочей молодежи и зав. учебной частью. В 1949 году я тяжело заболел и был вынужден уехать в село Кельменцы УССР, где работал учителем истории и завучем школы рабочей молодежи до 1953 года. В это время тяжело заболела моя одинокая мать, и я был вынужден вернуться в Москву. Я женат и имею детей».
Здесь все полуправда. Отец пытается найти работу. Он хотел преподавать, он любил и умел это делать, но ему не позволили. Через двадцать лет после его смерти ко мне подошла незнакомая женщина и спросила: «А вы знаете, каким умницей был ваш отец?» Но в автобиографии он пишет не о том, что может, а что должно писать.
Он не пишет о том, почему уехал в село Кельменцы — тогда это была Западная Украина, — а уехал, потому что в 1947 году началась борьба с космополитизмом. Моя мать еврейка, врач, не могла оставаться в Москве, и перед моим рождением отец отправил ее в г. Черновицы, где жила мать моей матери, бабушка Ида, а после моего рождения, когда мама получила назначение в поселок Кельменцы, между Украиной и Молдавией, приехал к ней, преподавал историю и был завучем вечерней школы. Существовали и личные причины отъезда, в письмах родителей говориться только о них. Мать вышла на работу, когда мне было две недели, отец потом часто рассказывал, как он шел со мной через весь поселок в местную больницу, где работала мать, чтобы она покормила меня, при этом он гордо говорил: «Я вскормил тебя грудью». Когда я подросла, он сажал меня к себе на шею и так шествовал со мной, — где бы мы не жили, — в Кельменцах или в Тайнинке. Он был высокий — метр девяносто — полный и казался огромным, поэтому, фигура усаживания меня на шею называлась «на слона». С высоты «слона» я обозревала весь мир, что, несомненно, было очень интересно. Вообще все в доме имели прозвища. Мама называлась обезьянкой, я обезьяной, облагороженной человеком, отец, конечно слоном, тетка Роза тигрицей, и только Рахиль прозвищ не имела.
Как я понимаю теперь, в глуши Молдавии — Кельменцы теперь, если я не ошибаюсь, относятся к Молдавии — в глуши Молдавии родители недолго были счастливы. Отцу пришлось уехать, потому что тяжело заболела его мать, и тетка, никого не спросив, продала часть дома в Тайнинке. Тем самым она практически сократила жизнь всем обитателям дома и, в первую очередь, отцу. О доме я еще расскажу, а пока отец уезжает один, а мы не можем ехать с ним все по тем же политическим и семейным причинам. Помню только короткие наезды отца летом, видимо, в отпуск и какие-то эпизоды. Например, купания, что в деревенских условиях непросто. Но отец любил наливать горячую ванну, потом, наблюдая, как мать моет меня, пищащую от горячей воды, повторяет: «Запарим овцу, запарим овцу!» Или эпизод, запечатленный во мне как фотография. Отец лежит на раскладушке под распустившимся сливовым деревом, — в Кельменцах был у нас сливовый сад с клейкой смолой деревьев и зарослями травы под ними, — отец лежит на раскладушке такой большой, он даже не умещается на ней, а я подкрадываюсь со стороны головы с поленом в руках и хочу ударить его по голове, мне интересно: он такой огромный — почувствует что-нибудь или нет. Когда отец вскакивает и уличает меня, я совершенно спокойно объясняю ему свою задачу. Или такое воспоминание. Под окном возле крыльца цветет огромный куст роз, весь усыпанный нежными цветами с дивным ароматом. Мать только что собрала с него лепестки; она сидит на крыльце и растирает их для варенья, варенья из лепестков роз, а над домом и за домом, и за моей спиной над садом раскинулись огромная многоцветная радуга. Так прекрасно, что я вновь хочу подняться к небу, как ночью со звездами, или ясным утром в чистую синеву. Первое познание красок, звуков, запахов.
В марте 1953 года от отца из Москвы пришла телеграмма. Я в это время собирала клейкую смолу со слив и слушала, что кукует кукушка — весна в Молдавии ранняя. Мать вышла на крыльцо и сказала: «Отец пишет: и прочитала. — «Сталин умер. Возвращайся в Москву». На всю жизнь я запомнила текст этой телеграммы. Лично меня она обрадовала. Во-первых, едем к отцу, во-вторых, в Москву, а значит, я больше не увижу местных детишек, они не хотели со мной играть, кидали в меня песком и кричали: — «Убирайся, Москалька, жидивка».
Москва поразила меня встречей с родней, которую я не знала раньше, и непривычным для меня холодом. В июне 1953 года в Москве выпал снег. Холодное лето 53 года.
Я не могу сказать, что мать и тетка отца, то есть моя бабка Рахиль и её сестра, встретили меня дружелюбно. Я уже писала, что Рахиль ненавидела всех, — в том числе и меня, свою внучку, — кроме своего сына, которого она обожала, а после инсульта и потери памяти просто боготворила. Однажды, когда она уже стала ходить и речь частично вернулась к ней, кто-то из соседей подошел к ней, спросил о самочувствии и как поживает ее сын. Тогда она встала, руки в боки, и закричала: «Вы не имеете права даже имя его произносить». Легенду об этом случае мне рассказывали все соседи. Тетка Роза тоже не любила меня, она любила мою старшую сестру, которую я только теперь узнала. Наташа, дочь моего отца от первого брака.
Вот Наташа, будучи на 10 лет старше, полюбила меня всей душой, всем своим огромным темпераментом. Возилась со мной, воспитывала меня, и для меня не было большего счастья, чем приезды Наташи. Я вылетала на крыльцо и бросалась ей на шею. Наташа была то, что называется умница и красавица. Высокая, стройная, с пышными черными волосами и мраморным лицом, она поражала не только внешностью, но и пылкостью натуры и незаурядным умом. Старомодные и странные понятия семьи во многом искалечили ее жизнь.
В детстве мне было хорошо в Тайнинке, в старом и странном доме. Любовь отца и Наташи, живой и странный дом компенсировали мне все. Когда шёл дождь, отец садился на крыльце, усаживал меня на колени и вместе слушали шум дождя.
«Как семейно шуршанье дождя»!
Иосиф Бродский «Дождь в августе».
Мать я почти не видела в детстве. Так получилось, что именно ее заработок стал основным в семье. Отец уже был очень болен, а старухи все наши получали мизерную пенсию.
О чем это я пишу?
«И скальд опять чужую песню сложит, и как свою ее произнесет» (Осип Мандельштам).
Вообще все деньги, но и не только деньги, а и жизни нашей семьи съел дом, Старый Дом в поселке с названием — Тайнинка. Теперь это почти Москва, но до сих пор там остались реликтовые сосны, течет родниковая вода, а в детстве кажется, что там рай земной. На самом деле — кусок земли, зажатый между Москвой и индустриальными Мытищами. Когда строили и выравнивали в начале 30-х годов Кремлевский комплекс, то снесли домик, купленный моей бабкой по приезде в Москву, а им дали место на болоте. Шесть соток бывшего озера. В детстве моем помню старика-охотника, жившего в доме напротив. Высокий, сухопарый, с длинными усами он ходил всегда с двумя рыжими, как и он, охотничьими собаками, старик этот не раз говорил мне, какое глубокое и красивое озеро было на месте нашего дома, и как он там уток стрелял. Но мои получили уже кусок болота в 1934 году. Засыпали его землей, построили сарай, в котором прожили целый год (сейчас в нем даже дрова сырые), а они прожили целый год, к дороге добирались на лодке, но строили свой дом, дом, который их съел. Не зря говорят, что на болоте не строят.
За то время, что строили дом, отец написал диссертацию о русских архивах эпохи Ивана Грозного, которая хранится у меня. В 1939 родилась Наташа, а 1940 году отца оперировали — оказалась доброкачественная опухоль мозга. Его прооперировали настолько удачно, что к нему вернулось зрение и работоспособность, но началась война, эвакуация в город Ош с архивами НКВД, и совсем другая жизнь.
Во время войны дом заняли чужие люди. За воротами располагался заградотряд СМЕРШа, стрелявший по своим, если они отступали, и это чудо, что дом выстоял и остался жив. После войны отец приложил все силы, чтобы убрать чужих людей, наверняка ему помогло то, что он в эвакуации заведовал архивами НКВД.
Вот что пишет об этом доме моя дочь Аня. «Это дом страшного одиночества. Он пропитан одиночеством: дедушки Миши, бабушки, мамы — всех, всех, кто в нем жил. Все они были одиноки. И в тоже время этот дом пропитан духовной работой этих людей. Поэтому в нем так хорошо и… одиноко. „Что-то серое жило в углу… сквозь себя процедив тишину и укутав квартиру в молчанье“ — это одиночество. Но, к счастью, дом помнит и несколько лет, когда тут жило пять человек, и вместе мы не были одинокими. Нам было очень хорошо. Тогда мне было лет пять…»
А когда ей исполнилось семь лет, я уехала в московскую квартиру, разошлась с мужем, моя мать осталась одна после отъезда племянницы, дочери брата… Я помню печальную картину. Мать сидит у горящей печки, смотрит на огонь, а рядом очень печальный, тоже чувствующий одиночество, черный кот, и никакие наши частые приезды не могли изменить это одиночество. Как просить теперь прощение у них, как молить Бога за них? Только одна надежда, что для них рай существует…
«Как много их упало в эту бездну»… Марина Цветаева.
«…в этой части вселенной, — пишет Павич, — время научилось останавливаться. Может быть, как раз здесь мы имеем дело с каким-то прирученным временем. Жизнь возможна только в таком времени, которое не мгновенье остановилось, и невозможна тогда, когда оно течет неприрученным». Если развить эту знаменитую мысль, то можно сказать, что смерть — это продолжение свободного времени. Тогда мы вновь должны признать, что свободное, неприрученное, вольное время есть только у Бога, может быть, перейдя черту небытия, мы идем по дороге абсолютного времени к Нему?
Мои родители прожили вместе очень недолго — с 1943 года, когда они познакомились в эвакуации в Киргизском городе Ош, и до смерти отца в 1958 году. Но и большую часть этого недолгого времени они провели в разлуке, может быть, поэтому их любовь, их страсть только возрастала. После окончания войны отец вместе с архивом НКВД вернулся в Москву. Так он потерял возможность преподавания в институте и надолго расстался с моей матерью, женщиной, которую он безмерно любил. Он отказался от места зав. кафедрой истории СССР в Ростове Великом, потому что в Москве его ждал Дом, который надо было спасти, обустроить и вызвать туда (а тогда в Москву можно было попасть только по вызову) любимую женщину, и начать новую жизнь после развода с первой женой, конфликты с которой были постоянными и непереносимыми.
Вот письмо моей матери, написанное отцу в декабре 1945 года, сразу после их разлуки:
Добрый вечер, мой единственный!
Я говорила, что напишу тебе, когда получу твою телеграмму или открытку, но сегодня почты нет, а поболтать с тобой хочется. Мне только что было очень одиноко, и снова я почитала немного твое письмо. Я прочла лишь последние три страницы, наполненные нежной страстью, а первые страницы, где дело касается моих действий, я читать не захотела. Слишком больно.
Сейчас ночь. Все кругом спят, лишь я сижу со своей тоской в сердце. Ночи сейчас такие чудесные — теплые, тихие, лунные.
Рассказать по порядку, что я делала в эти дни
Позавчера вечером, после того как ты уехал, я устроила себе баню. Обмылась вся, вступая в новый этап моей жизни — этап великого целомудрия… Днем была у наших знакомых Х., возвращалась домой часов в 8 вечера. Пустынные улицы были залиты лунным светом и напоминали о сладости быть рядом с тобой в такую ночь.
Сегодня у нас начала работать в качестве гинеколога Б. Она мне кажется очень славной. Мы с ней просидели после работы часов до семи и, захлебываясь от восторга, говорили о своих возлюбленных: она — о муже, я — о тебе. Кто меня сейчас так понимает, как она?
Вот тебе отчет за два дня. Я пишу тебе все очень подробно. Я требую того же от тебя. Каждое действие, каждая встреча должны быть точно зафиксированы и сообщены. И — никакой лжи. Договорились? И, пожалуйста, напиши подробно, любишь ли ты меня еще так нежно, как любил в час расставания — на карасуйской дороге. Я знаю, твой независимый нрав возмутится такими требованиями. Я, конечно, шучу. Пиши, мой дорогой, о чем продиктует твое сердце. Врачи знают лишь, что оно дистрофично, а я знаю, что оно горячее и нежное и единственное, мною любимое.
Будь здоров, Мишуля. Целуя тебя, мой любимый, ох, как сильно целую… Твоя Рита.
Пиши чаще. Твои письма будут единственной моей жизнью, помни это.
Странная судьба. Маленькая, некрасивая женщина с невероятным обаянием и влюбленный в нее красавец, никогда в жизни, до конца своих дней, не взглянувший на другую женщину.
Отцу было 45 лет, когда остановились его сердце. Оно ведь было дистрофично. Мать пережила его на 25 лет. Двадцать пять лет одиночества и самоотверженного труда.
Они встретились взрослыми людьми, много уже пережив. Отец — тяжелую операцию, опухоль мозга, и неудачную первую женитьбу. Мать — гибель первого мужа в декабре 1941 года, еще до рождения сына. Отец моего брата был юристом, а значит, имел бронь, но добровольцем ушел на фронт. Сохранилось его последнее письмо, неизвестно как прошедшее кордоны цензуры. Видимо в декабре 1941 года даже СМЕРШу было не до порядка. Письмо страшное в своем отчаянии. «Ритуля, я не понимаю, что происходит. Мы стоим под Москвой. За пол года враг прошел пол страны, и теперь мы должны защищать Москву. Но мы идем с одним ружьем на пятерых. Танков нет, самолеты гибнут на наших глазах, мы бессильны. Голодно, иногда за целый день только кружка кипятка. Прощай. Не знаю, увидимся ли».
Добавьте к этому пулеметы заградотрядов, поливавших свинцом всех, кто пытался отступить, и вы поймете, какой ценой страна выиграла войну.
Первый муж матери — Иван Просвиркин — погиб в декабре 1941 года под Москвой, так и не увидев своего сына, моего брата Славу. Мать всю жизнь поддерживала отношения с его сестрами, и когда через два года она в 1943 году встретила моего отца и написала об этом, видимо с чувством вины, одной из сестер — Валентине, мудрая женщина ответила: «Нельзя вернуть отца Славику, но можно найти друга тебе, делай так, как подсказывает тебе твое сердце». А сердце было переполнено большой любовью к большому человеку.
Уехав с архивом из города Ош, этой Богом забытой дыры, которая спасла им жизнь, отец писал матери нежнейшие письма. А в город Ош мать попала по распределению после Одесского медицинского института в 1940 году. Загадка, почему ее, маленькую хрупкую еврейскую девушку послали в пограничный далекий — где-то на Памире — город, осталась для всех неразрешимой, но я считаю, что по промыслу Божьему. Там она встретила своего первого и второго мужа, родила первенца, избежала ужасов войны. Все, кто имел распределение гораздо лучше — Украина, Молдавия — все либо попали в плен, либо побывали в гетто. Их спасло от неминуемой смерти только то, что эту территорию оккупировали не немцы, а румыны. Но после войны выехать из Киргизской глуши, да еще в Москву можно было только по вызову и со специальным разрешением.
Отец пишет в своем письме:
Единственная цель моей жизни, и все, о чем я прошу Бога одно — дожить до того дня, когда я смогу увидеть тебя.
Больше мне уже ничего не нужно. Крепко, крепко обнимаю тебя и Славика.
В апреле 1946 года мать ответит ему:
Мой дорогой и любимый! Получила сегодня твое письмо. Во-первых, следует выговор — три дня 29, 30, 31 марта ты тосковал и не писал мне, ни единого слова! У меня последние дни настроение очень неважное. Вчера узнала, что Б. Вызывают во Фрунзе, я волнуюсь, возможно, это слухи, но без вызова не уехать. Давай подумаем о заочной регистрации…
(Они обсуждают, кого из семьи смогут взять с собой — маму, Славика, Марика, брата матери, вернувшегося с войны без руки). И дальше в письме: Я готова, родной мой, и отдать и взять, лишь бы быть рядом с тобой. Только ты не сердись, если первое время не все будет хорошо — ведь я не привыкла ко всему этому. Но со временем, конечно, научусь. Не боги горшки обжигают. Я изо всех сил буду стараться не тревожить твой покой. Ведь я, в сущности, очень покладистое и послушное существо.
Ты находишь, что я болтлива. Прости, если я тебя немного огорчила. Или это тебе нравится? Целую тебя.
Только осенью 1946 года мать попала в Москву. Думаю, что родители были очень счастливы. Но попала она в семью, в которой две другие женщины безумно ревновали ее к единственному и любимому Мишеньке, где наличие чужого ребенка вызвало бурю гнева, и только любовь отца спасала ее от нападок свекрови и тетки. Уже в октябре 1948 года она вынуждена уехать к своей матери в Черновицы, а затем в глухой поселок Кельменцы и вслед ей отец пишет.
Дорогая и родная моя Риточка!
Я уже тебе писал, что работать приходится много, но все бы ничего, если бы не пошаливала крепко моя голова. Нет времени сходить к врачу. Утром готовлюсь, вечером читаю лекции, а в выходные лежу и даже не играю в шахматы, совершенно отказываюсь от жизни…
Особенно тяжело действует на меня наша разлука и боюсь, что долго этого не переживу. А главное тоска по тебе, моя дорогая. Я даже не знаю, как ты будешь теперь ко мне относиться. Я стал таким нервным, таким больным, что боюсь сойти с ума.
Мне очень трудно без тебя. Я всякую грызню вынести готов, лишь бы ты была около меня.
Напиши мне подробно, какие виды на будущее, как ты себе мыслишь, сколько это все будет продолжаться?
Но в конце уже совсем не выдерживает и пишет: напиши мне скорее, что из себя представляет район Черновицкий, найду ли я там работу.
Действительно, после моего рождения, когда бушует дело безродных космополитов, срывается и приезжает к нам. В глуши он находит работу — станет преподавать историю в вечерней школе и будет там завучем. Вновь короткий период счастья, но болезнь бабки Рахили разучила их.
Эти постоянные разлуки были и драмой и счастьем. В начале 1949 года мать напишет отцу:
Дорогой мой Мишуля! Пару дней назад получила твое письмо и сразу отвечаю. Спасибо, дорогой мой, что пишешь часто. Твои письма являются для меня большой радостью. Я тоже буду стараться писать тебе почаще. Если ты себя плохо чувствуешь, то бросай все и приезжай ко мне отдохнуть. Ты сможешь пожить несколько месяцев, год — как потребует твое здоровье. Я, правда, не верю в твою решимость оставить маму в Москве и самому приехать. Я знаю, что ты не сможешь прожить без мамы и месяца, ну что ж, привози и маму. Это ответ на твой вопрос — нужен ты мне или нет, конечно, нужен, какие могут быть разговоры. Ты мой, я — твоя, и другого быть не может.
Вчера меня осматривали врачи. Моя беременность уже около 6 месяцев, а значит рожать мне в середине июня. Пока чувствую себя хорошо. Яков Михайлович брыкается (ждали непременно мальчика, и назвать хотели в честь деда). Все было бы хорошо, если бы только мы были здесь вместе.
Будь здоров, мой дорогой, ты только нос не вешай. Помни, что я буду любить тебя вечно.
Это письма великой любви, написанные в постоянной разлуке. Вокруг бушуют сталинские репрессии, семьи моих родителей тяжело страдают от этого, но в этих интимных письмах, ни слова об окружающем мире. Он там, за пределами их дома, их любви, их писем. Одно письмо отца начинается со строк неимоверного волнения.
Дорогая моя и родная женушка! Чем я заслужил такую немилость и волнение? Вот уже три письма и одну телеграмму отправил я тебе, а от тебя нет ответа. Конечно, я оставил тебя уставшую, заброшенную с долгами, без дров — муж твой незавидный товарищ в жизни. Возможно, ты подумала все таки кого либо другого найти, напиши, я, по крайней мере, буду знать. Но сначала напиши мне о дочери. Вы обе у меня перед глазами. Мытарства в Москве ужасные. Мать болеет, меня смотрели в глазном институте. Отслоение сетчатки. В клинику пока попасть не могу. Кругом цинизм, продажность и низкопоклонство. Ужасно, что я не работаю и сижу у тебя на шее и еще дань Чингизхану (так отец называл свою первую жену). Она пишет жалобу в прокуратуру, требуя алименты, даже зная, что я не работаю и лежу в больнице.
Такая жалоба по тем временам — это минимум три года лагерей, если бы отец не представлял справки из бесконечных больниц. Его угнетала не только болезнь, но и то сложное положение, в которое попала моя мать. Но в ответ она с неизменной любовью и кротостью пишет ему:
Поверь мне, что я тебя никогда ни в чем упрекать не буду. (Я, по-моему, никогда не упрекала тебя в материальных затруднениях). Чтобы я никогда не слышала «сижу у тебя на шее», «зачем я тебе нужен». Ведь и для тебя и для меня ясно, что это все временно, что ты отдохнешь, поправишь свое здоровье и потом снова станешь трудоспособным. Ты пишешь работе в Московской области. Хорошо. Но узнай все подробно. Здесь мы хоть как-то устроены. Хотя ты знаешь: грязь непролазная, казенная квартира в частном доме, неблагоустроенном. Отсутствие русских школ, необходимость, поэтому учить Славу в Черновицах, — все это не совсем хорошо, но другого выхода пока нет, а для восстановления твоего здоровья нужно будет придумать что-то более подходящее. Напиши, люба моя, как ты решишь, так все и будет.
Они жили и любили друг друга в странной стране, где, по словам Горького, «трупы живые, а души мертвые», в тяжелейшее время. Анатолий Викторов в книге «Быль о голых королях» пишет об этой эпохе: «Прослеживая масштаб и характер репрессий 20-х — 40-х годов, нетрудно было прийти к выводу, что устрашение было лишь первым этапом этого пути. Политика массового террора преследовала более глобальную цель. Подавляя и уничтожая наиболее способных и активных людей, режим формировал новый биологический генотип, официально называемый «советским человеком».
Вот в этой стране, в этой обстановке встретились два нормальных, теплых человека, умеющие любить, готовые к самопожертвованию и к счастью. У каждого из них был за плечами опыт. Гибель маминого первого мужа, неудачная женитьба отца. Поборы в виде алиментов. Не потому, что не хотел их платить, наоборот, мою старшую сестру поили и кормили в семье вдвойне, сетуя на «брошенность» ребенка, но, не работая по инвалидности, отец часто испытывал трудности с деньгами. Нельзя упрекать и Лизу, первую жену отца. Она была человеком очень честным и порядочным, но обладала странной прямолинейностью души и взглядов, совершенно не согласующихся с действительностью. Так моя мать, стремясь наладить отношения со всей семьей, хотела подружиться и с Лизой, и уж во всяком случае, до конца своих дней искренне любила мою сестру.
Мать пишет отцу из Оша в 1946 году:
Вчера была у Наташи. Отнесла ей немного белого хлеба, но Лиза заявила мне, что она могла принимать небольшие подарки, пока Наташа была больна, а сейчас они ее оскорбляют, и она просит ничего больше не приносить. (Это во время войны и голода!). Прямо беда, — сетует мать, — никому я не нужна, все хотят доказать, что обходятся без меня.
Мать была искренне огорчена. Как человек теплый она была глубоко привязана к девочке, почти ровеснице ее сына, как врач, она всегда и всем стремилась помочь. В ее поведении были элементы святости, во всяком случае, большой души, и разглядеть эту душу сумел мой отец под некрасивой внешностью, отсутствием нарядов, неустроенностью в жизни. Отец дал матери шутливое прозвище — обезьянка — и письма начинались так:
Дорогой мой Обез!
Но дальше слова тоски по любимой женщине:
Родной мой и любимый! Я думаю, что мы оба сделали большую ошибку. Я, потому что отпустил тебя, а ты, потому что уехала… Я страшно соскучился по тебе. Даже ни о чем думать теперь не могу… Стремлюсь увидеть свое будущее чадо, это одно меня поддерживает. Ну, мой родной, больше не могу писать, одиночество ужасное. Никуда и ни к кому не хожу. Я должен кончить письмо, иначе я завою.
А в другом письме через несколько лет.
Жёны! Родная моя! Каждое твое письмо для меня такое волнение, рождение счастливейшего человека в жизни. Надеюсь, что мы скоро будем вместе, — уже сил нет, — и снова будем счастливы. Наша доченька сидит у меня на пузе, глазенки блестят. Я думаю, что Бог благословил нас чудесным созданием. Только, когда приедешь, не будем ссориться. Это так отравляет жизнь, так угнетает и так тяжело отражается на моем здоровье, что оставляет глубокие рубцы.
Родная… Я очень соскучился. Целую тебя, все родимые места. Приезжай скорей, не могу без тебя…
…Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему; он пасет между лилиями…
Мой прадед со стороны матери был управляющим в поместье Блаватской. Пока знаменитый теософ разъезжала по Европе и пропагандировала свою теорию, ее благополучие зависело от успехов по хозяйству моего прадеда. Тем не менее, все его сыновья должны были пахать вместе с ним, чтобы прокормить семью, но старший сын, по обычаю еврейской общины, получил блестящее образование, был биологом, учился вместе с Вавиловым, что потом сыграло роковую роль в его судьбе. Мой дед, Моисей Погорельский вернулся в родной поселок Рыбницы в Молдавии после революции, чтобы создать еврейскую школу. Это было время надежд и увлечений. Он женился на мужественной и волевой девушке — Иде Белинкис, — и они вместе поднимали эту школу. Существует фотография, где они, молодые, увлеченные, вместе со своими учениками сняты на фоне красного флага с надписью на идише. Классы были небольшие, примерно по 10 человек. Весь выпуск моей матери — дети, с детства знавшие друг друга, состоявшие в дальнем родстве, и составившие после окончания школы, счастливые семейные пары. Только у моей матери была своя, особая судьба, только у меня и у моего брата особая, непохожая на судьбы остальных жизнь.
К 1938 году прежняя национальная политика, которую курировал Бухарин, была признана несостоятельной, школу закрыли, а деда моего посадили. Кто-то видел его в Саратове перед войной, он развозил воду на тюремной кляче. В семье были убеждены, что посадили его по национальным делам. Какого же было наше удивление, когда после реабилитации мы получили справку, что осужден он был по делу Вавилова и, по-видимому, сидел вместе с ним. Моя мать в это время уже училась в Одесском медицинском институте, а ее брат, Марк Погорельский, ставший потом крупным физиком, заканчивал школу. Участь моей бабушки Иды была определена судьбой — она осталась одна, но всегда, до последних дней, пока была в силах, воспитывала своих детей, своих внуков, детей в школе. Мы все, в какой-то мере, ее чада.
Уезжая во время войны с сыном из Молдавии, она оставила там на попечении соседей девяностолетнюю мать, слепую и немощную, в надежде, что такого старого человека война не коснется. Немцы закопали старуху живьем. Для фашистов, отвергающих человеческие ценности, это нормальная процедура.
Вторая моя прабабка — жена того самого управляющего, — не успела по старости уехать до наступления немцев. Она пришла в село, где когда-то жила, много и щедро помогала крестьянам. Теперь она просила у них хлеба и воды, но никто ей даже дверь не открыл. Когда она умерла, ее похоронили на сельском кладбище. Но вскоре начался голод — война ведь. Однако крестьяне решили, что голод потому настиг их, что на кладбище похоронена еврейка. Останки выкопали и выбросили из могилы…
…Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;
Научитесь делать добро; ищите правды; спасайте угнетенного; защищайте сироту; вступайтесь за вдову… (Пророка Исаии. гл.1)
Мои родители были обречены на разлуку. Дань времени и судьбе, но она же и укрепляла их чувства. После моего рождения отец примчался в Кельменцы, но, пробыв там меньше года, вынужден был, как я уже писала, уехать. Вслед ему мать напишет:
Дорогой наш папочка! Наконец получила сегодня твое первое письмо. Очень довольна, что ты доехал благополучно, но что скажут московские специалисты о твоем здоровье? Хотелось бы знать поскорее, напиши обо всем подробно.
У нас, слава Богу, все в порядке. Славу отправила в лагерь, осталась одна с дочуркой. Скучно и тоскливо ужасно. Ничего не клеится, ни за что браться не хочется. Славу отправила в лагерь с постельными принадлежностями — матрацем, подушкой, одеялом. Думаю, что он будет доволен, там прекрасный сад, кормят неплохо.
(В подростковом возрасте брат любил разорять птичьи гнезда, что меня, в мои три года, ужасно возмущало. Когда мать оставляла нас одних, а он лазил по деревьям, я орала не своим голосом, привлекая внимание взрослых к тому, что выразить словами еще не могла, за что мне крепко доставалось от брата).
Дочке нашей вчера минул год. Ты наверно забыл об этом, так как не поздравил ее. Я никого не приглашала, но на всякий случай купила колбасы, два литра белого вина и поручила Вере Александровне испечь торт. Пришли гости. Все было хорошо.
Будь здоров, мой дорогой и любимый муж. Крепко целуем тебя. Твои жена и дочь.
Прошло три года. Отец приезжал к нам. Вновь возвращался в Москву. За это время его старухи (как он нежно называл мать и тетку) продали часть дома, и это стало подлинной драмой семьи. Купив одну террасу, эта пробивная семья сумела захватить и часть земли и даже комнату отца. Через суд комнату отвоевали, а землю не вернули и из-за нее, я помню, мужчины чуть не дрались на топорах.
В марте 1953 года, когда отец отправит ту самую свою телеграмму: «Сталин умер, возвращайся в Москву», тому было много бытовых препятствий, и началась интенсивная переписка родителей.
В мае отец напишет:
Дорогая моя радость! Я только что получил на почте письма твои для мамы и для меня. Спасибо тебе большое за ласковое письмо маме. Почему ты, родная, так мало пишешь о себе и дочке? Больше всего меня интересуете вы, а ты пишешь обо всех, а о себе и дочурке почти ничего. Сегодня я, наконец, выселил своего негодяя, и занял свою комнату. Что касается устройства, то тут ничего не изменилось, и таких, как я становится все больше и больше. Мы должны думать, как и где будем жить.
Девочку мою крепко поцелуй. Я ее так люблю, так люблю, как никого и ничего до сих пор так не любил. Целую крепко. Миша.
В другом письме:
Дорогая Рита! Родные, любимые, нежное мое семейство!
Ты, Рита, такая красивая стала, что мама, Роза и все знакомые восторгаются. Как ты похорошела без мужа!
Живется хорошо, никто не мучает…
Я так хочу обнять и поцеловать мою дочурку, я так устал, так мне все с трудом достается. Мой тип просит отсрочить выселение, но я против. Я так соскучился по семье, просто сил нет. Он живет в моей комнате с женой и ребенком, а я должен жить один, где же справедливость?
Поцелуй доченьку за меня, скажи ей о папе, неужели ты не говорила обо мне? Ребенок забывает меня, это так больно, так больно, обидно, тяжело. Целую тебя крепко и дочурку мою.
Это письмо предшествовало предыдущему и звучит как крик души, и если бы отец не выиграл суд, не знаю, чтобы с ним было.
Теперь можно было семье воссоединиться, но так же, как и после войны требовалось множество справок. Москва была каким-то режимным городом. Отец в следующем письме перечисляет». Справка о том, что ты увольняешься с работы, справка о том, что у тебя двое детей, свидетельство о браке, свидетельство о рождении дочери. (Кто не жил в несвободной стране, тот не поймет, для чего при переезде из одного места в другое нужно столько справок). А все это разворачивается на фоне неудержимой тоски и одиночества отца. «Пешком бы пошел к вам и жил бы в любой дыре, — пишет отец. — Не пора ли нам, Ритуля, перестать расставаться. Ведь жить осталось немного (ему — всего четыре года), а вместе мы почти не были. Помнишь ёлочный праздник, новогодний вечер. Как было хорошо даже в нашей бедной комнатке! Целую и обнимаю вас бесконечно. Ваш папа».
В июне 1953 года мы с матерью приехали в Москву. В конце июня выпал снег. Это было холодное лето 1953 года. Тогда я впервые увидела наш дом, встретила любимую сестру и навеки полюбила своего отца.
Двадцатый век перевернул все понятия, в том числе и понятие о доме. Сейчас это место, где существуем мы и наша семья, а всегда ранее — от пещеры первобытного человека до средневекового замка или крестьянского дома, — дом — то же, что и «я». Там жили столетиями. Дом, мебель обретали душу. Они впитывали в себя энергетический покров человека, недаром говорят, когда человек умирает, частица его души остается в доме.
Я — старый дом,
Печалью насладившийся,
Из грязи вставший,
Чтобы жить, грозя.
Я — в прошлое
Корнями уходивший,
Хочу погибнуть.
Но еще нельзя!
Это Ефим Друц написал о моем доме. Доме, в который вложена душа уже нескольких поколений. Эти дома обречены. Их обступает новодел новостроек, квартирный бетонный «рай», без души и сердца, где жить и чувствовать себя полноценным человеком нельзя, недаром «новые русские» с таким фанатизмом и размахом строят себе замки.
Нищую Марину Цветаеву всю жизнь преследовало чувство бездомности. Потеряв в юности свой дом, свою Москву, свою страну, она напишет в 1931 году в Париже:
Меж обступающих громад —
Дом — пережиток, дом — магнат,
Скрывающийся между лип.
Девический дагерротип
Души моей…
Когда я смотрю сегодня, в 2002 году, на свой дом, меня охватывает то же чувство, что и Марину Цветаеву.
Из-под нахмуренных бровей
Дом — будто юности моей
День, будто молодость моя
Меня встречает: — Здравствуй, я!
Меня этот дом принял сразу как свою. Там было много мест, где можно было прятаться, когда плачешь, чтобы никто не видел твоих слез, там обследованы все чердаки и подвалы, проходы под сваями, крыши и сараи. Там было любимое корыто, в котором меня купали, а после купания — обязательный ритуал — мать заворачивала меня в большое полотенце и читала непременно Лермонтова: «Спи, младенец мой прекрасный…» и «Погиб поэт…». Так навсегда для меня и осталось: Пушкин — дневной, светлый поэт, — его сказки мне читали днем, они были напечатаны в большой книге с тяжелым переплетом, а картинки переложены папиросной бумагой, а Лермонтов — поэт ночной, печальный и всевидящий.
Там посреди комнаты стоял большой круглый стол, под который я пряталась, когда брат хотел дать мне по голове томом Пушкина, потому что я ябедничала. Его жизнь в этом доме не сложилась, он не вошел в эту бурную и непростую семью. Матери пришлось отправить его обратно к бабушке в Черновицы, и сохранилась огромная переписка матери и бабушки, где они с глубокой нежностью пишут друг другу о Славе и обо мне. Я была тихоня и отличница. Первая двойка повергла меня в состояние стресса. А вот мой брат, всего один год проучившись в местной школе, оставил там неизгладимый след. Поскольку со мной не было проблем, мать появилась в школе только на выпускном вечере и тогда преподавать физкультуры, у которой учился брат, с удивлением спросила, узнав мать: Как, Слава Погорельский твой брат?
Слава был сложным подростком, ему предрекали не очень хорошую перспективу. А вышло все наоборот. Его в полном смысле слова спасло небо. В семь лет он поклялся, что будет летчиком, и стал им. Небо — это его жизнь и он один из немногих людей, о которых я с гордостью могу сказать: он настоящий мужчина и сильный человек.
Так в детстве оказалось, что я надолго потеряла брата, но обрела сестру. Не просто сестру, а друга, которого я обожала и почитала. Когда Наташа приходила к нам, а это было два-три раза в неделю, я вылетала на крыльцо в любую погоду, бросалась ей на шею и целовала до тех пор, пока меня не оттаскивали от нее. Разница между нами была в 10 лет, но это не мешало нам играть в детские игры или вести взрослые разговоры. Наташа была человеком искренним, честным и любящим. Мы делились самыми сокровенными тайнами, высказывали самые глубокие мысли. Нет ее писем, нет никаких записей, а между тем она была человеком ярким, умным, оригинальным. Каждая прочитанная книга, каждые просмотренный спектакль, выставка, фильм были предметом ее глубоких и умных рассуждений и переживаний.
В отличие от брата ей не хватило силы духа осуществить свою мечту. Человек актерского темперамента, необыкновенной красоты, переживающий искусство, как свою собственную жизнь, она не могла стоять за чертежным столом. В 26 лет она поступила, как я уже писала, на режиссерский факультет. Но это были 70-е годы, и с ней сделали тоже, что и с нашим отцом.
Поначалу все было хорошо. Уже учась на режиссерском факультете, она попала на телевидение и два года была счастлива, живя работой, и даже жертвуя в чем-то личной жизнью, но появился во главе телевидения товарищ Лапин и приказал, чтобы в 24 часа ни одного еврея на телевидении не стало, и их не стало. В том числе и моей сестры, которая была в таком состоянии, что мы боялись за ее жизнь. К счастью, вскоре состоялся ее второй брак, очень удачный, но все равно не счастливый. Наташа вышла замуж за известного сценографа Михаила Кунина, человека красивого, умного, светского, глубоко порядочного. У них было так много общего с сестрой, казалось, вот люди нашли свое счастье. Но жить вместе оказалось невозможно. Лед и огонь, волна и пламень не столь различны меж собой. Бурный темперамент моей сестры и светская холодность Михаила Кунина просто не могли ужиться под одной крышей, а между тем их связывало глубокое чувство. Через много лет после развода, когда сестра была тяжело больна, он столько сделал для нее, сколько могут делать только самые близкие люди. Да благословит его Господь!
Все это будет потом, жизнь спустя. А пока, я даже не успела освоиться в своем, большом для меня доме, как дом сгорел. Это произошло летом. Я играла во дворе с соседским мальчиком, как услышала крики и почувствовала жар. Обернувшись, мы увидели, что дом уже полыхает — стояла жара — и отец едва успел вытащить Рахиль и тетку Розу из горящего дома. Через год, с трудом отстроив дом, отец напишет любимому двоюродному брату печальное письмо:
Дорогой мой Мшуха! Я получил твое письмо. Сижу у себя на втором этаже и печатаю ответ. Руки мои последнее время работают неважно, и я принужден все работу свою делать на машинке.
Жизнь моя прошла как во сне. Потратил много сил и энергии на создание жилища — все пустое. Тебе не советую строить дом. Последние силы береги для себя и детей. Теперь идет большое государственное строительство, частные дома обесценены, а живущие в городе массами стали получать квартиры.
Сколько горя я пережил со своим домом… Старухи мои, пусть они будут здоровы, сначала продали без нужды комнату, потом подожгли этот несчастный дом, теперь у меня с двух сторон соседи, которые доставляют мне бездну «удовольствия» и ко всему мне все время чудится пожар. Нет, Мишуха, не строй дом, пожалей себя самого. Дети скоро вырастут, поедут учиться, женятся, они сами себе все приобретут, а нам с тобой довольно будет иметь казенную квартиру и пенсию.
Наши все слава Богу немного поправились… Лето всех оживляет. Только у меня на душе так нехорошо, так грустно, что я с трудом взялся за это письмо.
Хотелось бы мне тебя повидать, посидели бы, поговорили, правда, вспомнить нечего, а будущее покрыто мраком. Есть такая книга «Жизнь во мгле», советую почитать…
Это письмо написано за полгода до смерти, оттого оно такое печальное.
То, куда мы спешим,
Этот ад или райское место,
Или попросту мрак,
Темнота, это все неизвестно,
Дорогая страна,
Постоянный предмет воспеванья,
Не любовь ли она? Нет, она не имеет названья.
«Это вечная жизнь: поразительный мост, неумолчное слово», — так Иосиф Бродский продолжил свое удивительное стихотворение.
Вот еще одно печальное письмо отца, предназначенное моей матери:
Дорогая моя!
В моей жизни рыдать и плакать мог заставить меня только один человек — это ты. Как это странно и печально.
Я пережил этой зимой ужас и надежды, отчаяние и горе, беды и победу, голод и холод и много другого, что не перескажешь. Но самое большое переживание было у меня вчера в метро, когда я возвращался после работы и магазинов домой…
В вагон зашла молодая семья: отец, мать и маленькая девочка лет трех — четырех с задорным курносым вздернутым носиком. Отец поставил свой чемоданчик в моем углу, я уступил уютное местечко, а девочка села на чемоданчик. Мать, очевидно сердитая, осталась у двери. Тогда отец послал девочку за матерью… Мать-злюка что-то пробурчала и отослала девочку к отцу. Ребенок подошел, сел на чемоданчик, отвернул лицо к стенке, прислонился и заплакал… Плечики вздрагивали и волосики растрепались.
В эту минуту меня охватило такое чувство тоски, горести и отчаяния, что мне захотелось умереть, только умереть и больше ничего. Представилась мне моя доченька, целыми днями одна, среди чужих и грубых людей, без надзора, без режима, без отца, который ее так любит.
Я проклял свою жизнь и себя.
Невольно прошло перед моими глазами все прошлое…
Осенью 1953 года будет десять лет как мы сошлись. Три года, до 1946 года мы жили врозь. С 1948 осени по июль 1949 года жили врозь, восемь месяцев я провел в больницах Москвы — жили врозь, шесть месяцев ты была на курсах в Одессе — жили врозь. И вот теперь год, как ты выгнала маму и меня, и мы живем врозь. Таким образом, из 10 лет мы прожили вместе только три с половиной года и то плохо. Я далек от мысли, что ты меня любишь и ты мне верна, но ребенок… Я так люблю мою дочурку и мне так тяжело без нее.
Мозг мой лихорадочно ищет выхода из положения, но как видно мои мысли тебя не тревожат. Я недолго протяну, Рита. Смерть разлучит нас навсегда. Я думаю, что когда ты посмертно осознаешь, что у тебя был муж, плохой, конечно, (мало зарабатывал, много ел), но отец, любивший свою доченьку, и, может быть, даже, нежный и любящий человек.
Я часто старался тебе представить всю закономерность наших отношений для бытия, но все напрасно. Но помни, дочь — это для меня все в жизни, единственный любимый человек на земле, моя маленькая, жалкая лебединая песнь.
Ты счастливее меня. У тебя есть семья, дети, твои дети… У меня нет ничего, и то, что ты мне предлагаешь — это вечная неопределенность и беспокойство в своей собственной семье. Мать и Роза меня уверяют, что будут любить Славика и сделают все, чтобы было хорошо. Какая горькая судьба. Как поздно приходит к моим смирение. Если бы это было сделано в 1947, 1948 годах все было бы гораздо лучше, и я не мучился бы столько. Но все люди, которые меня любят, на самом деле никогда по существу меня не жалели и думали только о себе. А жизнь уходит, уходит безвозвратно, глупо и навсегда. Вот и у тебя уже здоровье не то. Я очень волнуюсь за тебя. Ты единственная опора детей и поэтому береги себя. Не изменяй мне ни с кем.
Сегодня воскресенье… За окном проливной дождь и на душе серая туча тоски и печали. Понимаешь ли ты это? Испытываешь ли ты что-либо подобное?
Дочурку мою поцелуй, приласкай и шепни ей, что папка ее обожает, ее боготворит.
Будь здорова и счастлива и да хранит тебя Бог.
Какое правдивое и грустное письмо! Два человека так любят друг друга и все время должны расставаться. Я уже писала, что кроме причин общих — дело врачей-вредителей, аресты, — были и причины частные: в семье отца не могли смириться с тем, что мать пришла со своим ребенком. Бабка моя обладала характером гневным и бурным и любила только одного человека в мире — своего сына, моего отца. Но воспринимала его как собственность, ей принадлежащую. С появлением любимой жены пришлось смириться, но чужой ребенок… На Славика орали, топали ногами, били, унижали. Только его здоровая натура помогла ему отбросить эти переживания детства. А что было делать матери? Она сбежала из этой семьи в глухую молдавскую деревню, отец немедленно поехал за ней, они были счастливы, пока бабка не приехала к нам. Рахиль не могла жить без сына. Она буквально питалась его энергией. Жизнь без него была бессмысленна. И все началось снова. Тогда-то мать и выгнала их обоих. И снова письма любви и разлуки. А ведь моя мать так хотела любить и быть любимой, так умела любить и хотела, чтобы все было хорошо. Бог дал ей любящего человека, но не все будет хорошо. В начале их любви, какие страстные и теплые письма пишет мать моему отцу из Киргизии!
Одно из писем 46 года — предзнаменование будущего, того, что будет, и о чем они не догадываются.
Мой дорогой и любимый! Прошлая ночь была полна происшествий. Ночью разбудил меня стук в дверь и крик: «Рита, вставай, театр горит». Я кинулась к окну и остолбенела от страшного зрелища: среди ночной мглы театр горит как огромный костер, языки пламени тянутся высоко к небу и искры разносятся далеко вокруг. Начался пожар часа в три ночи, и к утру его еле потушили. Театр сгорел дотла — зрительный зал, все костюмерные, все декорации. Остались лишь второстепенные помещения. Говорят, убытки исчисляются в миллионы рублей, только на ремонт было потрачено 150 тысяч.
С увольнением пока не получается, но ты не забывай меня и люби и все будет хорошо. Мои чувства к тебе останутся неизменными, даже если судьба разлучит нас (не дай Бог!) на много лет.
Судьба, действительно, разлучала их постоянно, много лет. Но по-прежнему они молодо и пылко любили друг друга. И пожар тоже повторится. Дом, сгоревший в июне 1956 года. До сих пор снится мне огонь, пожирающий все, что мы называем прошлым. Отец так и не смог очнуться после этого пожара. До конца своих дней будет он писать о своем доме и об этом пожаре. Дом был местом, где мы все жили, единственным гнездом, точкой опоры, но он был и страшной обузой и напоминал Кроноса, который пожирает своих детей. Зная это, отец напишет матери в 50-м году трогательное и грустное письмо.
20.9.50 перед вечером Нового года (еврейский Новый год).
Риточка! Дочурка, родная, жизнь моя в будущем!
Я много передумал за эти дни, много перестрадал, и сейчас, когда я должен отдать отчет Богу о моих делах и помыслах, я говорю, что видит Он, как я относился и отношусь к своей семье. Еще в августе я составил завещание, в котором одну вторую дома я завещал маме и Розе, а другую тебе и дочери. Но я хочу и стараюсь еще больше обеспечить вас, еще вернее и не быть вам обузой… Вот почему я так стараюсь продать этот дом. И я думаю, что мне это удастся. Дорогая моя Риточка, трудно в письме все рассказать, все описать. Дай Бог, чтобы на Новый год, наш, еврейский, вы все и я, и мама, и Роза, и дочка наша — все мы были живы и здоровы, счастливы и чтобы горя не знали.
Моя родная жена, я так люблю тебя и наших деточек, так люблю, что тебе даже трудно представить. Поздравляю тебя с Новым годом. Скоро взойдет и первая звезда, и я буду поститься, и писать уже больше нельзя. Целую вас — родные мои, любимые, милые, желанное мое семейство.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.