
Бесплатный фрагмент - Психоаналитик в нормативных и ненормативных кризисах: путеводитель по уязвимости
«Профессиональный кризис психоаналитика — не дыра в контейнере, это его дно. Это голос аналитика, который ещё не замолчал. Психоанализ не спасает. Он позволяет выжить в том, что нельзя вылечить. И аналитик — не исключение», — Автор
ОТ АВТОРА
На момент публикации этой книги мне 54 года, я — практикующий психоаналитик. Не «доктор», не «гуру», не «хранитель истины». Просто женщина, которая (на момент публикации) восемнадцать лет сидит в кресле рядом с кушеткой, слушая то, что трудно сказать, что больно вспомнить, что невозможно вынести в одиночку.
Я писала книгу как та, кто прошёл и продолжает проходить через составляющие глубину профессии — сомнения, открытия, утраты, этические дилеммы, молчаливые победы.
Книга родилась не только из моих кризисов. Это не исповедь. Здесь нет возвышения над страданием. Она — и из кризисов моих коллег: тех, кто приходил после суицида пациента, кто терял веру в метод, кто в середине жизни спрашивал: «А зачем я это делаю?».
Из тех кризисов, которые не предсказывали ни школы, ни учебники: когда умирают близкие, и ты больше не можешь слышать пациентов; когда пациент просит помочь ему обманывать, и исчезает понимание, как остаться аналитиком; когда «известность» приводит к пустоте, а вакуум и тишина громче любых литавр; когда супервизор предлагает «личный анализ»; когда институция, призванная защищать, становится источником травмы.
Эти переживания — не исключения. Они — часть профессиональной реальности. Их можно классифицировать, но нельзя «просто устранить».
Различаю нормативные кризисы — закономерные этапы профессионального становления, и ненормативные — внешние удары, ломающие привычный ритм, а также самые коварные — гибкие кризисы. Все они требуют не ремонта, а трансформации.
Здесь нет рецептов «как выжить за 7 шагов». Это — попытка систематизации профессиональных кризисов и путеводитель по уязвимости, написанный для тех, кто ищет не идеал, а подлинность.
Я «насчитала» 28 кризисов. Двух не хватило до круглого счёта. Возможно, вы, уважаемые читатели, коллеги, дополните список.
Некоторые из выявленных кризисов будем разбирать чрезвычайно подробно (потому, что о них меньше говорят вслух), некоторые — менее (потому, что «кое-что» известно), а какие-то просто обозначим (потому, что известно).
Центральная идея: кризис — не сбой в системе, а сама система в действии. Он — признак живой, рефлексирующей практики. Голос, который говорит: «Я не знаю», «Я устал», «Я сомневаюсь» — это не слабость, а способность слышать.
Уязвимость — не дефект, а главный инструмент. Только тот, кто знает свою ограниченность, способен удерживать амбивалентность, терпеть неизвестное, не спешить с интерпретацией.
Особое внимание уделено этическим дилеммам, остающимся за кадром: разочарования в супервизоре, давление институций, уходы из профессии — даже до начала практики (самый «тихий» кризис).
Показано: институция, которая заботится о своих аналитиках, заботится и о пациентах. Усталый, изолированный аналитик не может быть контейнером для чужого страдания. Он рискует стать источником травмы.
Изоляция — один из главных врагов. Коллегиальность, лишённая иерархии, создаёт пространство, где можно говорить о страхах. Это не роскошь — это необходимость.
В книге — не только теория. Предложены практические инструменты: тесты для рефлексии. Они не вполне серьезные, но могут помощь интегрировать теорию.
В первом варианте авторского слова предлагаемые вашему вниманию результаты опроса коллег я назвала «вишенкой на торте».
Но, после «обсчета» и интерпретации результатов вишенка превратилась в остов (слегка похожий на монстра), который перевернул структуру повествования и заставил переписать некоторые главы, и я пошла за коллегами.
Это подтверждение: психоанализ не только «скорее жив, чем мертв», но и остается процессом, который можно прекратить, но не завершить.
Книга — призыв приветствовать кризисы как знаки жизни.
Если вы читаете эти строки, возможно, вы в кризисе или на его грани. Тогда знайте: вы не сломались — вы живы.
Здесь нет рецептов. Есть честность. И надежда, что путь продолжается — даже через утрату, сомнения, тишину.
С благодарностью и надеждой,
Автор,
Екатеринбург, лето 2025
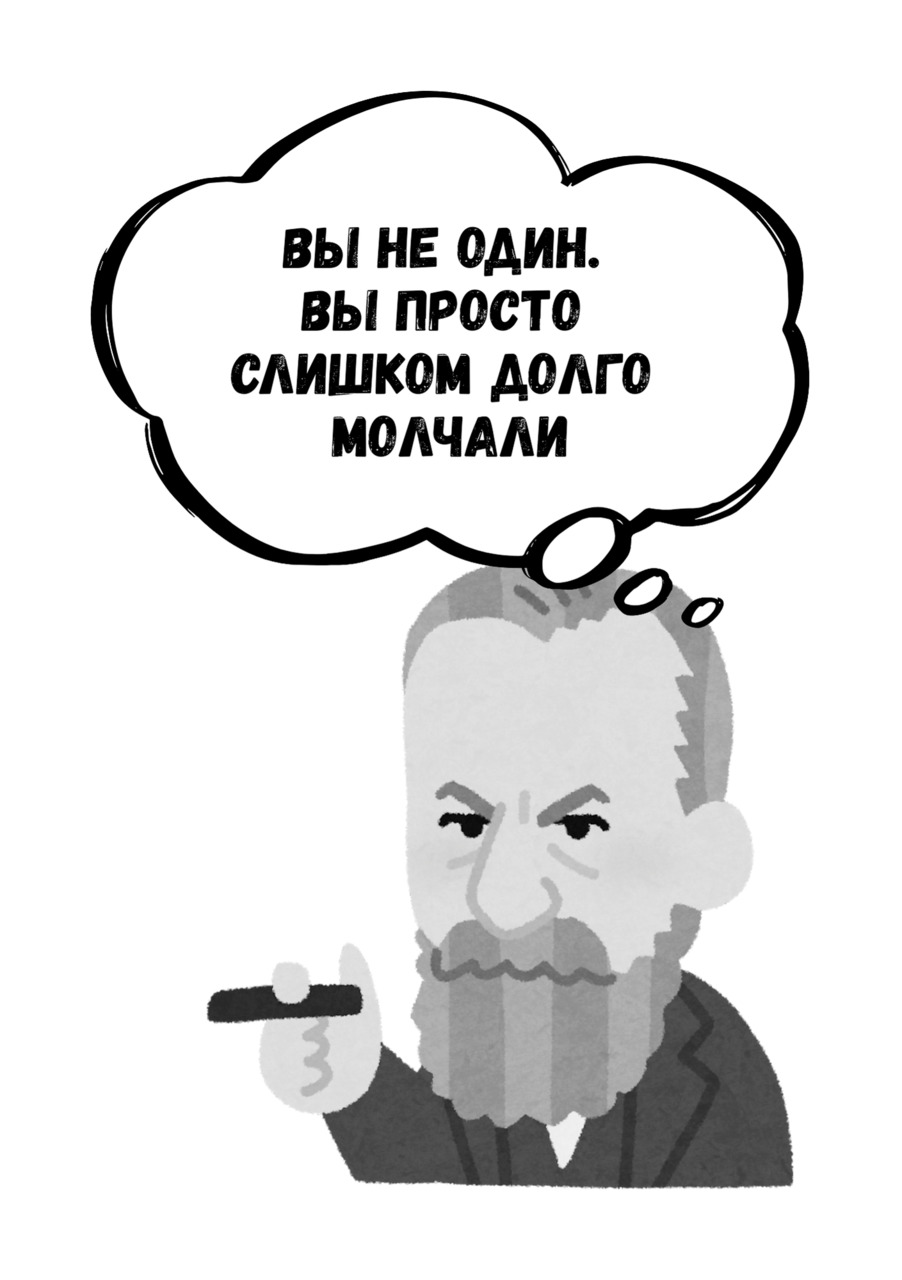
КРИЗИС КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО СТАНОВЛЕНИЯ
Кризисы, сопровождающие профессиональный путь психоаналитика, не являются признаком несостоятельности, а, напротив, свидетельствуют о живом, рефлексирующем и глубоко вовлечённом субъекте.
Однако понимание природы этих кризисов, их динамики, причин и последствий имеет ключевое значение для сохранения профессиональной устойчивости, этической целостности и терапевтического эффекта.
Психоанализ как дисциплина изначально задумывался как процесс, требующий не только технического овладения методом, но и глубокой личной трансформации.
Зигмунд Фрейд, провозгласив необходимость «самоанализа» и последующего институционального закрепления личного анализа, заложил основу для понимания психоаналитика не как нейтрального наблюдателя, а как субъекта, вовлечённого в сложный диалог между собственной бессознательной жизнью и бессознательным пациента.
На этом пути неизбежно возникают кризисы — моменты внутреннего напряжения, переоценки, утраты уверенности, экзистенциального сомнения и профессионального переживания «недостаточности».
Эти кризисы могут быть как нормативными — то есть ожидаемыми, закономерными этапами профессионального развития, — так и ненормативными, вызванными травматическими событиями, экзистенциальными утратами, патологическими переживаниями или системными нарушениями в профессиональной среде.
Отсутствие внимания к этим кризисам ведёт к риску выгорания, этических нарушений, утраты терапевтической эффективности и, в крайних случаях, к деструкции профессиональной идентичности.
В то же время осознанное проживание и интеграция кризисов могут стать мощным ресурсом для профессионального роста, углубления эмпатии и клинической мудрости.
Сразу представляю статистику в сокращенном варианте, котораяполучена она уже после завершения книги, глубокого анализа выявленного и опроса коллег.
Современный контекст
Когда мы говорим о кризисах психоаналитика, мы не можем игнорировать ту почву, на которой он работает, потому здесь мы более подробно рассмотрим исследование — Gabbard’s Treatments of Psychiatric Disorders / G. O. Gabbard (Chief Editor). — 5th ed. — Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2014. — 904 p. — ISBN 978-1-58562-442-3.
Кризис — это не только внутреннее переживание аналитика, но и ответ на сложность, с которой он сталкивается каждый день: тяжесть страдания пациента, давление диагноза, необходимость выбора между методами, этические дилеммы, вызовы эффективности.
Именно поэтому хочу обратиться к одному из ключевых источников современной психиатрической и психотерапевтической мысли — к «Gabbard’s Treatments of Psychiatric Disorders», пятому изданию, вышедшему под редакцией Гленда О. Габбарда.
Эта массивный, многоголосый труд, в котором более сотни ведущих специалистов из США и других стран обобщают современные знания о лечении психических расстройств. Она — срез состояния психиатрии в начале XXI века.
Я не буду пересказывать целиком. Но хочу выделить несколько аспектов, которые особенно важны для нас — практикующих аналитиков, и которые помогают понять, в каком контексте мы находимся, когда переживаем свой кризис.
1. Акцент на доказательной базе и его пределы.
Одна из центральных установок этой книги — ориентация на доказательную практику. Авторы настойчиво подчёркивают, что рекомендации должны основываться на контролируемых исследованиях, мета-анализах, клинических испытаниях.
Это, безусловно, важно. Мы не можем лечить людей, опираясь только на интуицию или традицию. Но здесь возникает парадокс, который особенно остро переживают аналитики.
Психоанализ, как метод, плохо укладывается в рамки. Его процесс длительный, индивидуализированный, основан на уникальной динамике пары «аналитик–пациент». Его эффекты не всегда измеримы шкалами, но ощущаются в глубине личности, спустя годы.
И всё же в «Gabbard’s Treatments» есть главы, где психоаналитические и психотерапевтические подходы представлены с уважением:
— когнитивно-поведенческая терапия;
— приемлемость и терпимость (ACT — Acceptance and Commitment Therapy);
— мотивационное интервьюирование (Motivational Interviewi
— психообразовательные вмешательства (psychoeducational interventions);
— семейная терапия.
Это показывает: доказательная база расширяется, и она всё чаще включает не только медикаменты, но и психосоциальные вмешательства.
2. Интеграция биологического и психического.
Исследование построено по принципу биопсихосоциальной модели. Каждое расстройство рассматривается с трёх сторон:
— биологической (медикаменты, нейроимиджинг);
— психологической (психотерапия);
— социальной (семья, среда).
Это особенно важно для нас, потому что в кризисе аналитик часто чувствует себя изолированным от медицинской системы. Он слышит от клиентов: «Почему бы просто не назначить антидепрессант?» или думает сам: «Может, просто перенаправить пациента к врачу-психиатру, у которого есть право на назначение медикаментозного лечения?».
Но «Gabbard’s» показывает: даже при тяжёлых расстройствах — шизофрении, биполярном, ПТСР — психотерапия не просто дополнение, а необходимая часть лечения.
Например, в главе о ранних стадиях шизофрении подчёркивается важность психосоциальных вмешательств наряду с медикаментами. В главе о пограничном расстройстве личности — центральная роль отводится трансферу, контрпереносу и длительной терапии.
Это подтверждает: наша работа — клиническая необходимость.
3. Признание сложности диагностики и симптомов.
Одна из глав, которая мне показалась наиболее интересной, — это глава о соматоформных расстройствах, переименованных в DSM-5 в «расстройства соматических симптомов и связанные с ними состояния».
Авторы (Attia, Gerstenblith, Stern) отмечают: «Из-за значительных изменений в диагностике DSM-5 существует нехватка исследований, напрямую касающихся лечения этих вновь определённых состояний».
Это — важное признание. Мы часто работаем с пациентами, у которых нет чёткого диагноза, но есть страдание. Их тело говорит то, что словами сказать невозможно.
Именно в таких случаях аналитик становится последним оплотом — там, где медицина говорит: «У вас всё в порядке», а пациент кричит: «Но мне больно!».
И здесь — источник особого кризиса: чувствовать ответственность за то, что нельзя измерить, лечить то, что не поддаётся фармакологии.
4. Этическая честность и прозрачность.
Особое впечатление на меня произвело признание финансовых интересов авторов.
В конце перечислены: кто получил гранты от фармацевтических компаний, кто является консультантом, кто получает роялти.
Это — редкая для психиатрии этическая смелость. Она напоминает нам: ни одна наука не существует в вакууме.
И если мы, аналитики, требуем от себя рефлексии, мы должны требовать её и от всей системы.
5. Что это значит для аналитиков в кризисе.
Привожу это исследование не для того, чтобы «доказать» ценность психоанализа. Я делаю это, чтобы показать: мы — часть более широкой клинической реальности.
Когда мы переживаем кризис — будь то сомнение в методе, усталость от работы с тяжёлыми случаями, чувство изоляции — мы не одиноки. Даже в мире, ориентированном на быстрые результаты и измеримые эффекты, наша позиция — слушать, удерживать, присутствовать — остаётся необходимой.
«Gabbard’s Treatments» — это признание того, что психическое страдание требует многомерного ответа. И что в этом ответе есть место для нас — для тех, кто готов сидеть в тишине, слышать то, что не сказано, и переживать кризис как часть пути.
Не предлагаю вам читать 900-страничный первоисточник. Но призываю помнить: мы работаем не в изоляции, а в диалоге с другими дисциплинами. И даже в самых «медицинских» руководствах — есть пространство для человеческого контакта, для уязвимости, для неопределённости.
Именно это пространство — наше. И кризис — не признак того, что мы не справляемся. Он — признак того, что мы всё ещё в этом пространстве.
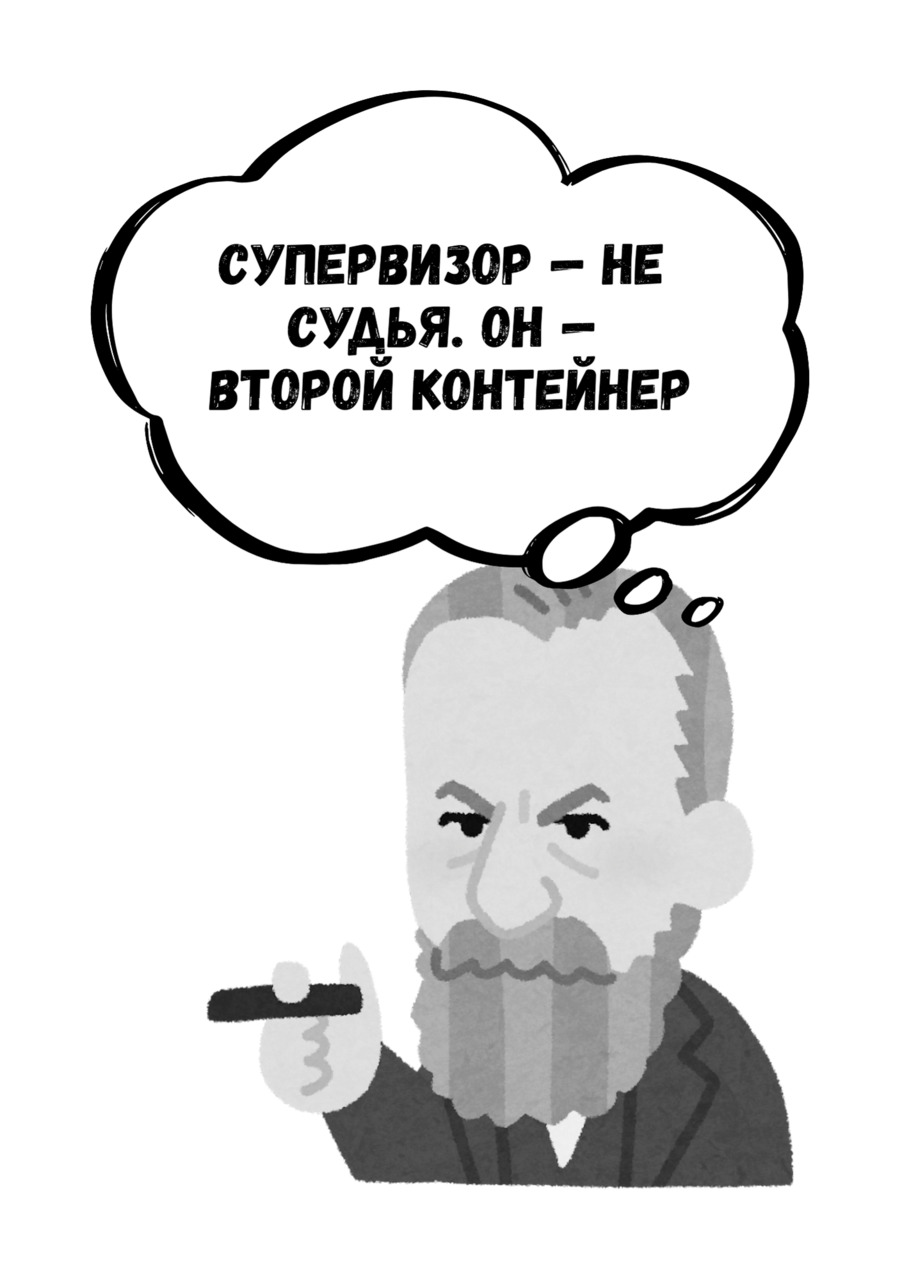
Понятийный аппарат и теория
Кризис (от греч. krísis — «решающий момент», «поворотный пункт») традиционно понимается как состояние острого напряжения, при котором привычные механизмы адаптации утрачивают свою эффективность, а субъект сталкивается с необходимостью переосмыслить свои убеждения, поведение или идентичность.
В психологии кризис рассматривается не как патология по умолчанию, а как транзитное состояние, способное привести как к деструкции, так и к трансформации.
В контексте психоаналитической практики кризис приобретает особую глубину. Психоаналитик — не технический исполнитель метода, а субъект, вовлечённый в процесс глубокого эмоционального и экзистенциального соприкосновения с бессознательным другого.
Его инструмент — не только знание теории, но и его собственная личность, включая её уязвимости, защитные механизмы и исторически сложившиеся конфликты. Именно поэтому кризисы в его профессиональной жизни неизбежны и, более того, неотделимы от самой сути психоаналитического опыта.
С точки зрения психологической теории, кризис — это нарушение равновесия между требованиями среды и ресурсами личности.
В профессиональной деятельности психоаналитика такими требованиями выступают:
— постоянная эмоциональная вовлечённость;
— необходимость удерживать амбивалентность;
— работа с травмой, смертью, агрессией;
— этическая ответственность за другого;
— изоляция, связанная с конфиденциальностью.
Ресурсы, в свою очередь, включают:
— личный анализ;
— супервизию;
— коллегиальную поддержку;
— внутреннюю рефлексивность;
— способность к символизации и терпимости к неопределённости.
Когда ресурсы истощаются, а нагрузка возрастает, возникает психологический кризис, который может проявляться в виде тревоги, деперсонализации, бессонницы, физического утомления или снижения клинической эффективности.
На экзистенциальном уровне кризис связан с вопросами смысла, подлинности и свободы.
Психоаналитик, сталкиваясь с глубинными страданиями пациентов, неизбежно сталкивается и со своими собственными экзистенциальными темами: смерть, одиночество, свобода, бессмысленность.
Кризис в этом измерении — это вопрос: «Для чего я это делаю? Имеет ли это значение?». Такие переживания свидетельствуют о подлинной вовлечённости в профессию.
Наконец, профессиональное измерение кризиса связано с идентичностью, статусом, компетенцией и местом в профессиональном сообществе. Кризис здесь может выражаться в сомнениях: «А действительно ли я аналитик?», «Не обманываю ли я пациента?», «Достоин ли я носить это звание?».
Эти вопросы являются нормальной частью профессионального становления, особенно на ранних этапах практики.
Подробные определения кризисов будут далее.
Здесь (пока кратко) обозначу классификацию кризисов, которую предлагаю:
— нормативные кризисы — предсказуемы;
— ненормативные кризисы — непредсказуемы;
— гибкие кризисы — могу содержать признаки нормативных и ненормативных.

Философские и психоаналитические основания
В психоанализе кризис не просто допускается — он конститутивен. Зигмунд Фрейд, описывая процесс анализа, подчёркивал, что изменение возможно только через страдание, разрушение иллюзий и переживание боли.
Аналогичным образом и сам аналитик, чтобы быть эффективным, должен пройти через собственные внутренние кризисы, которые становятся точками роста.
Философская традиция — от Кьеркегора до Хайдеггера — рассматривает кризис как момент истины, возможность подлинного выбора. В психоаналитическом контексте это означает, что кризис может стать поворотным пунктом, в котором аналитик либо отступает в защитные структуры (например, в техницизм, формализм, отстранённость), либо идёт навстречу своей уязвимости, углубляя эмпатию и клиническую честность.
Мелани Кляйн ввела понятие депрессивной позиции («Вклад в психогенез маниакально-депрессивных состояний»// A contribution to the psychogenesis of manic-depressive states, 1935).
В этой статье она впервые подробно описала депрессивную позицию, как важный этап развития, характеризующийся переживанием утраты, скорбью и заботой о благополучии других) — состояния, в котором субъект переживает утрату, вину и желание восстановить целостность. Это состояние болезненно, но именно оно открывает путь к интеграции, состраданию и ответственности.
Профессиональный кризис аналитика часто соответствует переживанию депрессивной позиции: осознание своей ограниченности, чувства вины за «неудачу» с пациентом, желание «исправить» — всё это признаки не слабости, а зрелости.
Уилфред Рупрехт Бион, развивая идею «контейнера-содержимого», показал, что аналитик постоянно подвергается воздействию «безформенного страдания» пациента.
Когда этот поток становится слишком интенсивным, аналитик может испытать кризис восприимчивости — неспособность «вместить» переживания. Однако именно в этот момент, если он не бежит от переживания, а остаётся в нём, возможна трансформация страдания в понимание.
Кризис психоаналитика — это не только эмоциональная реакция на нагрузку или травму. Он является симптомом динамики бессознательного, вовлечённого в процесс встречи с пациентом. Мы не будем подробно останавливаться на первоисточниках, так как коллеги и без меня хорошо подготовлены, но обозначу основные моменты, ведь теория позволяет нам увидеть в кризисе не сбой, а выражение глубинных конфликтов, защит, трансферентных структур и этических дилемм, присущих самой позиции аналитика.
Фрейд и «анализ анализирующих»: необходимость постоянного самопонимания
Фрейд первым поставил вопрос: может ли тот, кто анализирует других, избежать собственного анализа? В своих поздних работах, особенно в «Анализ конечен или бесконечен?» (1937), он подчёркивает, что анализ никогда не завершается полностью. У самого аналитика остаются «остатки» бессознательного, которые могут проявиться в контрпереносе, ошибках интерпретации, вытесненных фантазиях.
Фрейд вводит понятие «анализ анализирующих» — идею, что аналитик должен регулярно возвращаться к собственной работе, чтобы не превратиться в «механизм интерпретации», лишённый самопонимания.
Кризис, таким образом, может быть сигналом о пробуждении вытесненного — например, детской травмы, сексуального фантазма, бессознательного желания власти.
Аналитик, переживающий кризис после разрыва с пациентом, в личном анализе обнаруживает повторение сцены отвержения, пережитой в детстве. Кризис оказывается не профессиональной неудачей, а повторением бессознательного сценария.
Фрейд предупреждает: аналитик, прекращающий работу над собой, рискует проектировать свои конфликты на пациента, превращая анализ в сцену собственного бессознательного театра.
Мелани Кляйн: параноидно-шизоидная и депрессивная позиции в профессиональной жизни
Мелани Кляйн предлагает динамическую модель психического развития, которая чрезвычайно продуктивна для понимания кризисов аналитика. Её концепция параноидно-шизоидной и депрессивной позиции позволяет увидеть, как аналитик, сталкиваясь с интенсивными переживаниями пациента, может регрессировать в более примитивные психические состояния.
В параноидно-шизоидной позции доминируют:
— страх преследования;
— расщепление на «хорошее» и «плохое»;
— проекция;
— идеализация и обесценивание.
У аналитика это может проявляться как:
— восприятие пациента как «агрессора», «испорченного», «намеренно сопротивляющегося»;
— стремление «вылечить» или «уничтожить сопротивление»;
— идеализация собственной техники или, наоборот, полное самообесценивание.
Аналитик, работающий с пациентом с пограничным расстройством, начинает чувствовать, что «этот человек хочет меня уничтожить». Он избегает сессий, интерпретирует всё как манипуляцию. Это — параноидная тревога, вызванная перегрузкой от проекций пациента.
Депрессивная позиция и кризис интеграции и сострадания — это способность видеть объект как целостный, с добром и злом, и переживать вину, скорбь, желание восстановить.
У аналитика она проявляется в:
— осознании своей ограниченности;
— переживании вины за «неудачу»;
— желании «исправить» утрату;
— способности к состраданию.
Кризис в депрессивной позиции возникает, когда аналитик понимает: «Я не могу спасти этого человека. Я — часть процесса, но не его создатель».
После суицида пациента аналитик переживает глубокую скорбь, вину, желание «вернуть всё обратно». Это — признак того, что он не отстранился, а вступил в депрессивную позицию. И именно из неё может начаться процесс интеграции утраты.
Бион: «контейнер-содержимое» и кризисы восприимчивости
Бион разработал одну из самых мощных моделей для понимания работы аналитика как приёмника страдания.
Концепция «контейнера-содержимого» описывает, как пациент проецирует в аналитика непереносимые фрагменты своего «я» — страх, ярость, безнадёжность (содержимое), а аналитик должен вместить, переварить и вернуть в символизированной форме.
Но что происходит, когда контейнер переполняется?
Кризисы восприимчивости — когда аналитик сталкивается с интенсивными проекциями (например, при работе с психотическими или травмированными пациентами), он может:
— потерять способность к символизации («я не могу думать»);
— начать чувствовать телесные симптомы (головная боль, удушье);
— избегать пациента;
— агрессивно интерпретировать;
— или, наоборот, полностью отстраниться.
Это — кризис контейнера. Аналитик больше не может «переваривать» страдание. Он сам становится «содержимым».
Атаки на связь — Бион описывает, как пациент может атаковать саму возможность связи — например, через сарказм, молчание, абсурдные интерпретации. Аналитик, подвергаясь этим атакам, может начать сомневаться в реальности, в собственном уме, в смысле своей работы.
Ресурс: аналитик нуждается во внешнем контейнере — супервизоре, аналитике, коллегиальной группе, — чтобы «переварить» то, что он не может вместить сам.
Винникотт: «достаточно хорошая» аналитическая среда и уязвимость аналитика
Дональд Винникотт смещает фокус с «техники» на создание безопасного пространства. Он говорит о «достаточно хорошей» среде — не идеальной, но достаточной для развития.
Применительно к аналитику это означает:
— он не должен быть «идеальным»;
— он имеет право на ошибки;
— он может быть уязвимым;
— но он должен оставаться «живым» и присутствующим.
Кризис возникает, когда аналитик теряет это присутствие — из-за страха, усталости, травмы. Он может:
— превратиться в «техника»;
— начать играть роль;
— уйти в интеллектуализацию.
Винникотт подчёркивает: подлинность важнее компетентности. Пациенту нужно не «правильное» толкование, а встреча с живым человеком.
Аналитик, переживающий личную утрату, боится показать свою боль. Он становится холодным, отстранённым. Пациент начинает «терять веру» в процесс. Только когда аналитик в супервизии признаёт своё горе, он может вернуться к живому контакту.
Лапланш: «всеобщий психоанализ» и травматичность передачи знания
Жан Лапланш предлагает радикальный взгляд: анализ не начинается с пациента, а с аналитика. В концепции «всеобщего психоанализа» он утверждает, что каждый человек изначально травмирован чужим, непонятным сообщением — взрослого, родителя, общества.
Аналитик, таким образом, не «нейтральный наблюдатель», а носитель чужого, потенциально травматичного знания. Его слова, интерпретации, даже молчание — могут быть восприняты как навязанное, непереваренное вторжение.
Кризис аналитика в этой перспективе — это осознание своей травматичности как фигуры знания.
Он может переживать:
— вину за «насилие интерпретации»;
— страх «исказить» пациента;
— сомнение в праве говорить.
Лапланш призывает к этике незавершённости: аналитик не должен претендовать на истину, а должен оставаться в положении вопроса, в открытости к неизвестному.
Теория показывает: кризисы психоаналитика — воплощение глубинных психических процессов, заложенных в самой структуре анализа.
Они — следствие:
— бессознательных конфликтов (Фрейд);
— динамики позиций (Кляйн);
— перегрузки контейнера (Бион);
— утраты присутствия (Винникотт);
— травматичности передачи (Лапланш).
Понимание этих механизмов позволяет не патологизировать кризис, а интерпретировать его как сигнал, приглашение к более глубокому самопониманию и этической ответственности.
Теперь, когда мы рассмотрели теоретические основания, перейдём к практической диагностике.
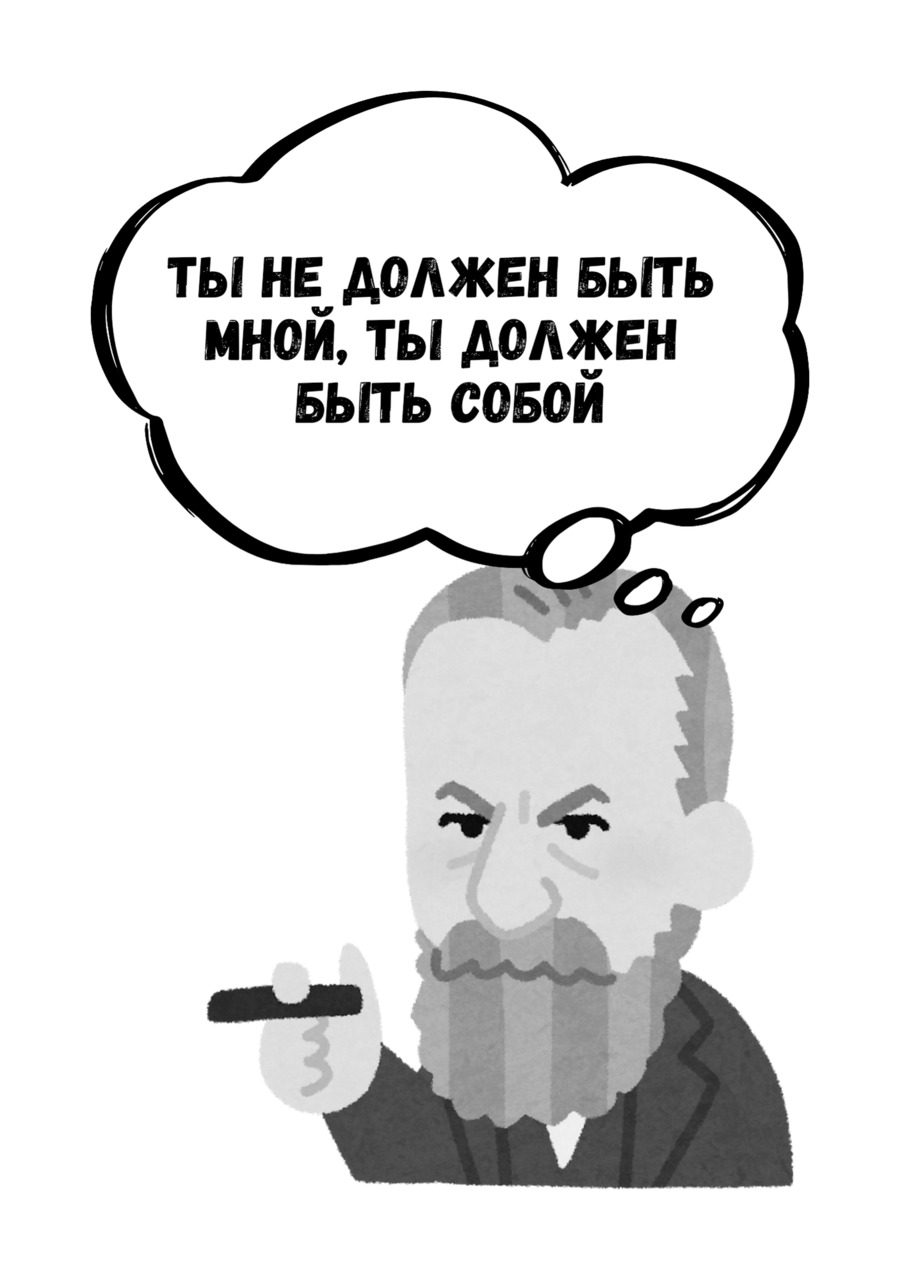
РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СТРЕССОМ, КРИЗИСОМ И ПАТОЛОГИЕЙ
Важно провести чёткое различие между кризисом, стрессом и патологией, чтобы избежать как излишней патологизации нормальных процессов, так и недооценки серьёзных нарушений.
Стресс — это кратковременная реакция на внешнюю нагрузку (например, перегрузка сессиями, сложный пациент, административные задачи). Он может быть функциональным, мобилизующим ресурсы, и не всегда требует вмешательства.
Стресс управляем через отдых, реорганизацию графика, техническую поддержку.
Кризис — это более глубокое и продолжительное состояние, затрагивающее идентичность, смысловую структуру и профессиональное самоощущение. Он требует рефлексии, поддержки и, зачастую, пересмотра профессиональных установок.
Патология — это уже нарушение психического функционирования, которое мешает профессиональной деятельности и может угрожать пациенту.
Сюда относятся:
— депрессивные эпизоды с суицидальными мыслями;
— панические атаки, мешающие работе;
— психосоматические расстройства;
— нарушения границ (например, сексуализированные отношения с пациентами);
— психотические или параноидные переживания.
Ключевое различие:
кризис включает рефлексию и потенциал роста, тогда как патология часто сопровождается отрицанием, защитным ригидным поведением и утратой способности к самонаблюдению.
Важно, чтобы институции и коллеги умели распознавать эти различия: не превращать нормативный кризис в повод для стигматизации, но и не игнорировать признаки патологии под видом «профессионального выгорания».
Мы установили, что кризис — это неотъемлемая часть психоаналитического пути, имеющая психологическое, экзистенциальное и профессиональное измерение.
Он может быть как нормативным, ненормативным, гибридным и его значение определяется не столько самим событием, сколько реакцией на него и наличием поддерживающей среды.
В следующей главе рассмотрим нормативные кризисы — те, которые закономерно возникают на пути профессионального становления психоаналитика. Мы проследим их динамику от обучения до зрелой практики, покажем, как они связаны с этапами развития идентичности и какие функции они выполняют в формировании подлинного аналитического субъекта.
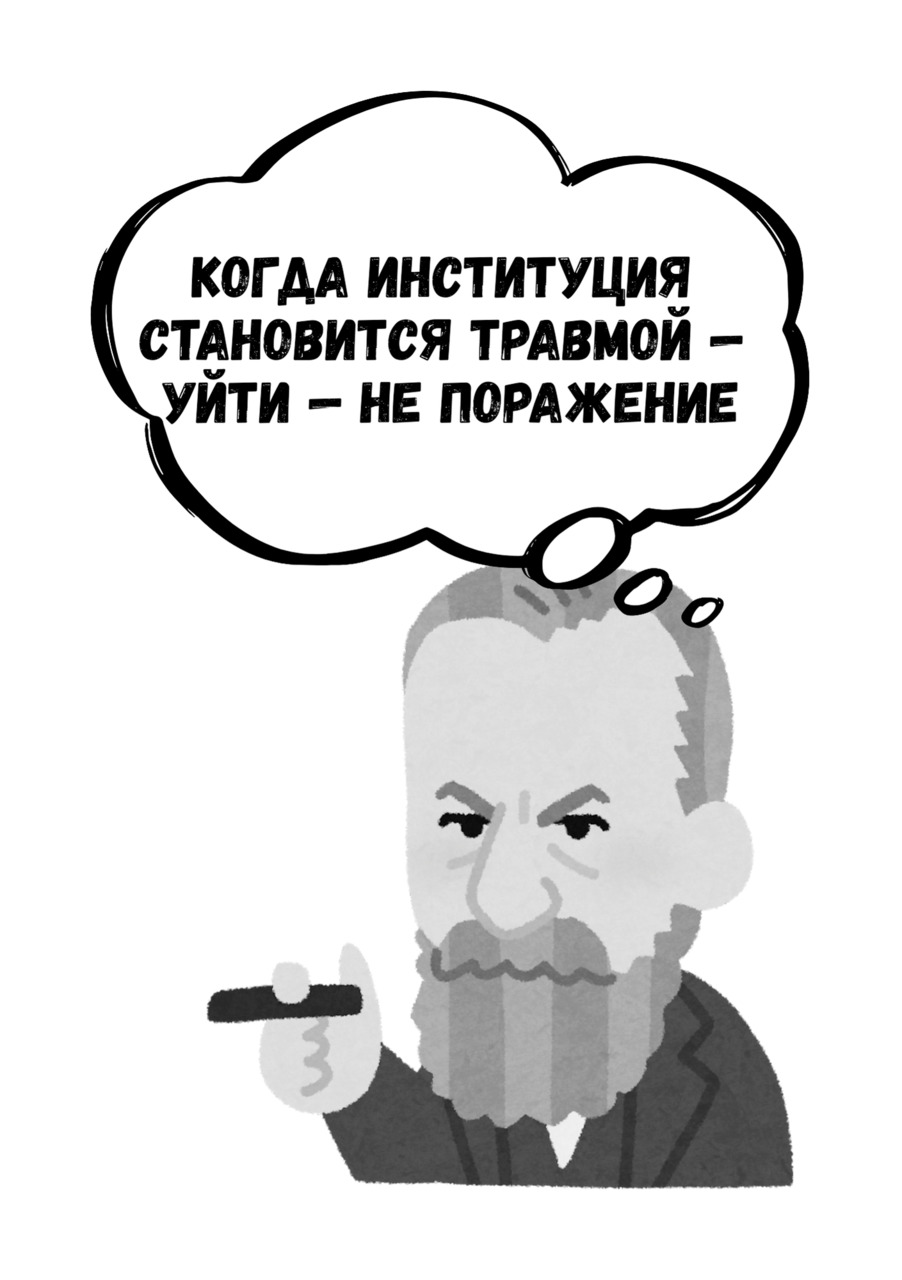
НОРМАТИВНЫЕ КРИЗИСЫ
Нормативные кризисы — это внутренние переломы, возникающие в ответ на объективные этапы профессионального развития.
Они предсказуемы, повторяются у большинства аналитиков и, как показывает клинический опыт, неизбежны для формирования зрелой, рефлексивной и этичной практики.
Мы опираемся на модели профессионального развития, предложенные Гиллом (Gill, 1982), Эттингером (Etchegoyen, 1991), Хорни (Horney, 1950), а также на данные супервизионных групп и личных анализов.
Далее выделяем ключевые нормативные кризисы, описываем их динамику, проявления и потенциал для роста.
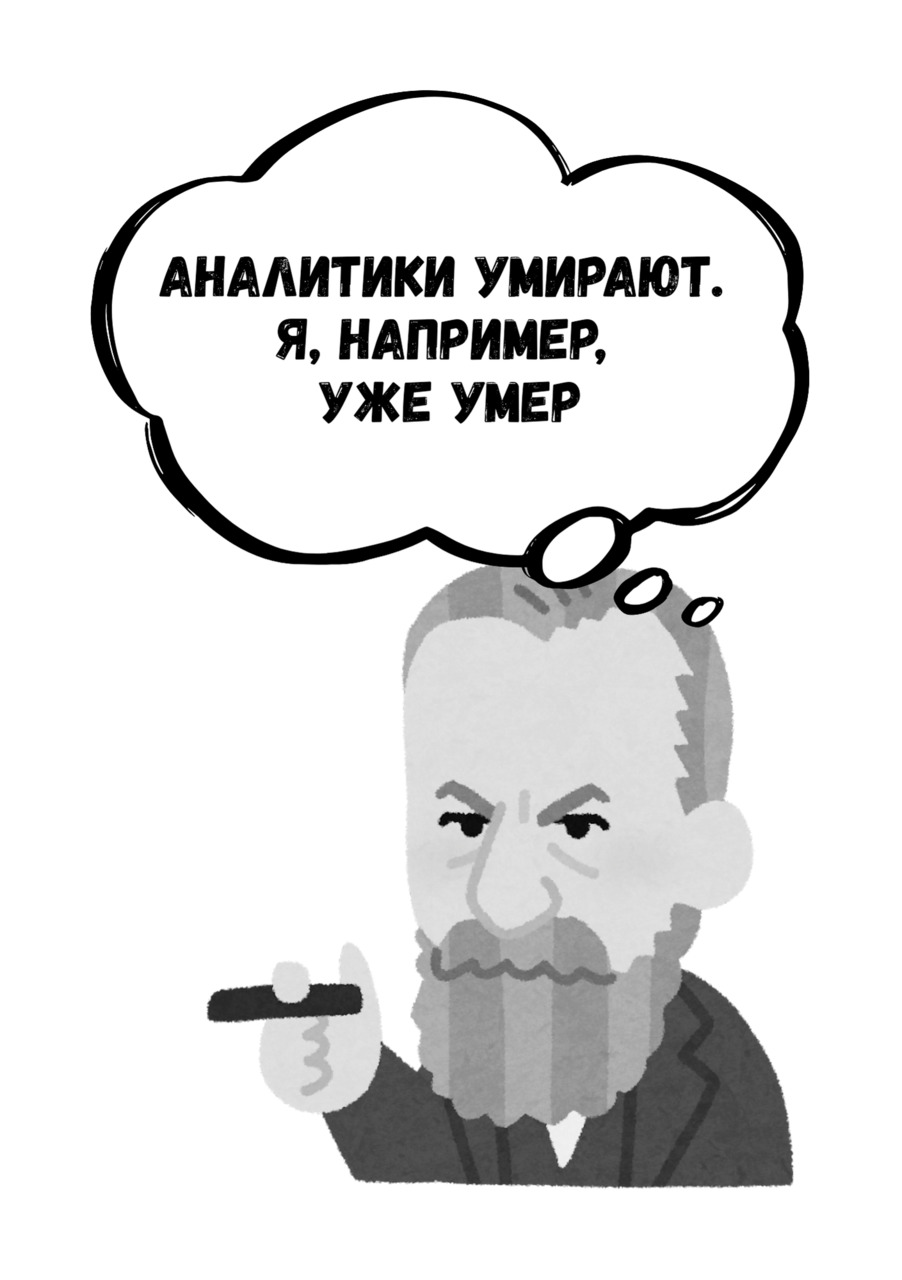
Этапы профессионального развития
Профессиональный путь психоаналитика можно условно разделить на несколько фаз, каждая из которых сопровождается своим кризисом.
1. Фаза обучения и формирования идентичности:
— зависимость от учителей, теорий, техник;
— поиск «правильного» способа ведения анализа.
Типичный кризис фазы: сомнение в собственной подлинности.
2. Фаза начала независимой практики:
— первые пациенты, страх «недостаточности»;
— попытка воспроизвести стиль наставников.
Типичный кризис фазы: импостер-синдром, боязнь ответственности.
3. Фаза зрелой практики (середина карьеры):
— устойчивая техника, но возможная рутинизация;
— вопросы смысла, усталость от повторяющихся тем.
Типичный кризис фазы: экзистенциальное сомнение, утрата энтузиазма.
4. Фаза поздней практики (старение, передача опыта):
— рефлексия на всей карьере;
— переживание утрат (пациентов, коллег, собственных сил).
Типичный кризис фазы: значение жизни как психоаналитика.
Каждый переход между фазами сопровождается кризисом отрыва и переосмысления, который, если проживается, ведёт к новому уровню профессиональной и личной интеграции.
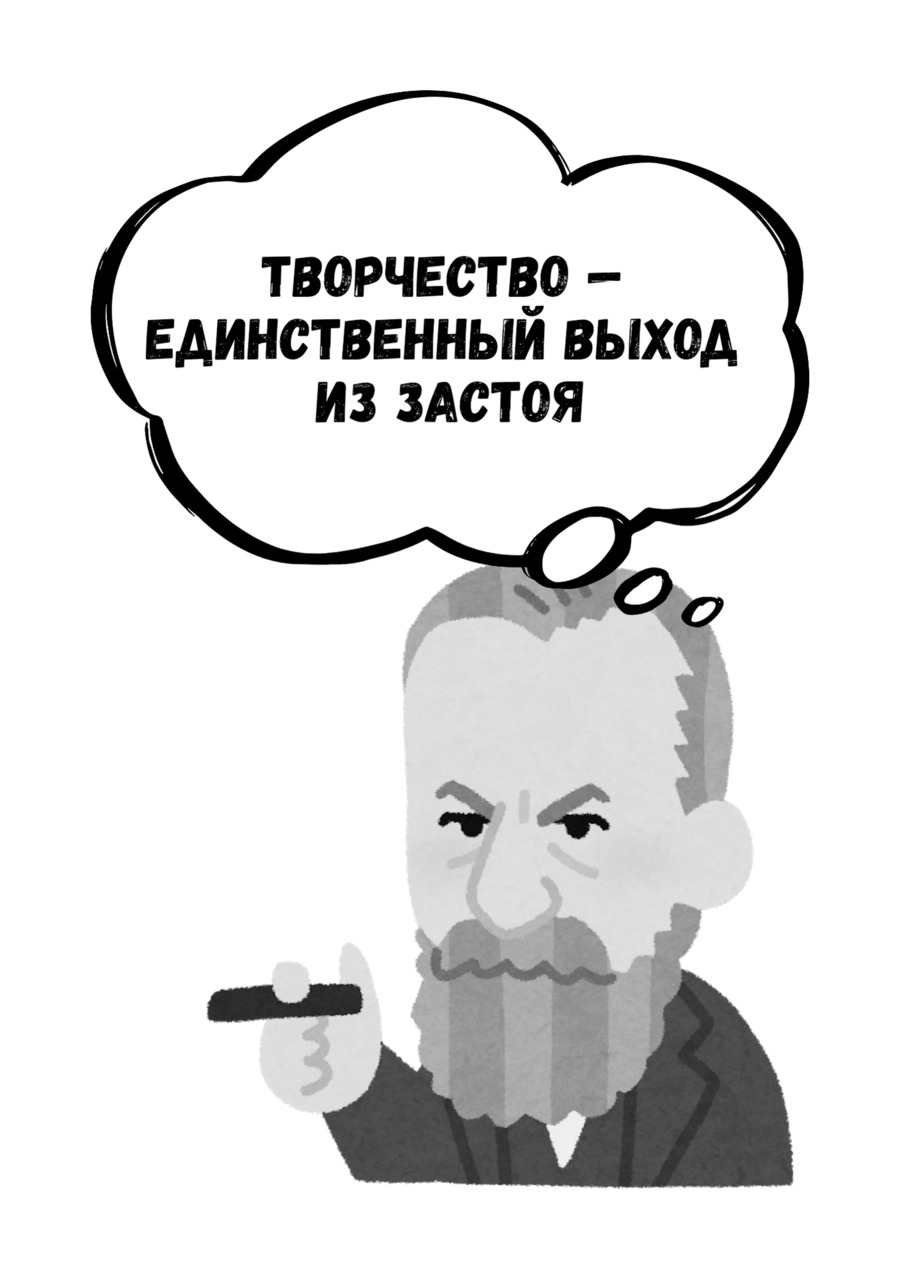
Кризис идентичности: «Кто я — как аналитик?»
Этот кризис возникает на ранних этапах обучения, когда будущий аналитик сталкивается с расхождением между образцами (Фрейд, Кляйн, Лакан и др., а также фигурами преподавателей во время обучения) и собственным внутренним голосом.
Он слышит разные интерпретации, разные стили, разные теоретические рамки — и начинает задаваться вопросом: «А кто я в этом поле? Могу ли я быть собой — и при этом оставаться аналитиком?».
Часто этот кризис проявляется как подражание: молодой аналитик «надевает» маску наставника, использует чужие формулировки, избегает собственных ассоциаций, интерпретаций и вообще «собственного».
Это защита от страха «ненастоящести».
Однако по мере личного анализа и супервизии возникает необходимость отказаться от маски и начать говорить от первого лица.
Ресурс: «Если я — не имитатор, то — кто?».
Допустим, супервизанд, прошедший личный анализ в лакановской школе, начинает практику и обнаруживает, что его внутренние реакции на пациента не укладываются в рамки «лакановского дискурса анализа». Он испытывает сочувствие, тревогу, желание «помочь» — что воспринимает как «отклонение». Мы работаем с его страхом «предать» школу. Постепенно он приходит к пониманию, что аналитическая позиция — не имитация, а аутентичное присутствие в ситуации.
Поделюсь одной неочевидной, но очень важной рекомендацией для начинающих коллег. Да, вы слышите от преподавателей всё необходимое: «отслеживайте себя» до «постепенно формируйте идентичность». Но есть ещё кое-что, о чём редко говорят: не только вы наблюдаете за собой — мир начинает наблюдать за вами. И важно наблюдать за тем/чем, кто/что наблюдает за вами.
Представьте: вы только начинаете практику или даже ещё не начали — просто учитесь, думаете, анализируетесь. Вы ещё не считаете себя «настоящим» аналитиком. Но вдруг — что-то сдвигается во внешнем мире.
Таксист, который обычно молчит, вдруг начинает рассказывать вам о своих отношениях, о детстве, о страхах — и в конце поездки удивлённо говорит: «Странно… Я же не болтливый. Почему я вам всё это выложил?».
Случайный знакомый вдруг задаёт вопросы, которые обычно задают пациенты в кабинете, хотя вы не сообщали о том, что вы — психолог. Родственник замечает: «Ты стал (а) другим» — и не важно, говорит он это с восхищением или с лёгким раздражением.
Это — проекция, перенос, но не иллюзия. Это — реакция мира на вашу внутреннюю трансформацию. Вы ещё не носите табличку «аналитик», но вы уже излучаете позицию, на которую начинают реагировать, том числе совершенно посторонние люди.
Когда я сама была в кризисе профессиональной идентичности, я зашла в магазин одежды, чтобы купить подарок мужу. Продавец — молодой человек — начал «следовать» за мной. Но не как агрессивный менеджер, а как кто-то, кто хочет быть полезным, но боится переступить границу. Он предлагал варианты, задавал уточняющие вопросы, но при этом был как будто напряжён и смущён.
Уже у кассы он вдруг громко засопел, как будто хотел задать вопрос, но не решался. Я посмотрела на него вопросительно. Подождала. И продавец собрался с духом:
— Можно задать вам личный вопрос?
— Да, конечно.
— Кто вы по профессии?
— Психоаналитик.
— Точно! Я так и подумал, как только вы вошли — или преподаватель, или врач! От вас что-то исходит…
Где в случае с продавцом «случился анализ»? Не в том, что продавец «был замечен» мною, не в разрешении задать «личный вопрос». И даже не в «посмотрела на него вопросительно». А в «подождала».
Важно замечать такие сигналы. Не как подтверждение: «Я теперь крутой аналитик». А как индикатор внутреннего сдвига. Что вы уже в процессе.
Что ваше присутствие меняет динамику встречи, даже если вы молчите, — главный маркер, пожалуй.
Это — не основа идентичности. Но это — поддержка извне, которую легко пропустить, если не обращать внимания.
Возможно, «настоящий аналитик» — тот, кого мир таковым признаёт. Заметьте, — не преподаватели, не личные аналитики, не наставники, не супервизоры, не те, кто учится вместе с вами, не институция, а мир. И вы лично.
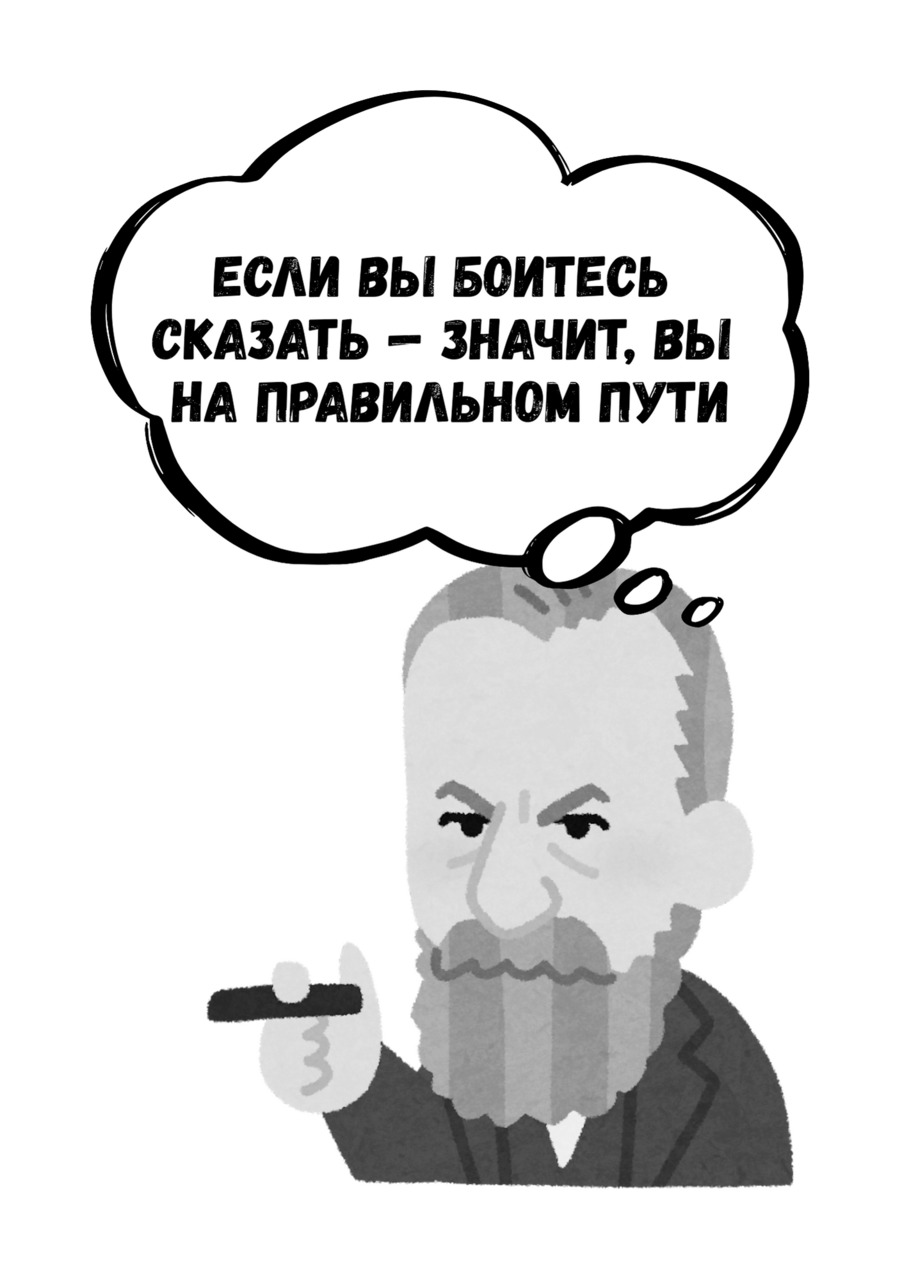
Кризис компетентности: страх «недостаточности» и импостер-синдром
Этот кризис особенно остр в первые годы независимой практики. Аналитик, впервые сидящий один на один с пациентом, может испытывать глубокое сомнение в своей способности «держать» процесс.
Он может опасаться:
— не услышать важное;
— дать вредную интерпретацию;
— потерять контроль;
— оказаться «разоблачённым» как «ненастоящий».
Импостер-синдром в психоанализе имеет особую глубину: он связан не просто с неуверенностью, а с внутренним обвинением в «обмане».
Ведь аналитик — это тот, кто «знает», «понимает», «лечит». А если он сам страдает, сомневается, боится — значит, он «недостоин»?
Между тем, именно сомнение — признак живого аналитика. Тех, кто не сомневается, следует опасаться: они, вероятно, застыли в защитной иллюзии всеведения.
Ресурс: признание своей ограниченности как условия подлинной встречи.
Винникотт писал о «достаточно хорошем» родителе — аналогично, «достаточно хороший» аналитик — это тот, кто не идеален, но присутствует честно.
Интересно, что импостер-синдром редко затрагивает тех, кто только пришёл в профессию. Он приходит после первых шагов, после того, как аналитик уже «выдержал» несколько месяцев практики, уже получил сертификат, уже вёл пациентов. То есть — в момент, когда снаружи всё говорит: «Ты — аналитик», а внутри звучит: «Но я-то знаю, что это не так».
Этот разрыв — между внешним признанием и внутренним отрицанием — и есть ядро кризиса. Он не про нехватку знаний. Он про неспособность принять легитимность своей позиции.
Психоаналитик, в отличие от врача или юриста, не получает объективного подтверждения своей компетентности. У него нет анализов (медицинских, например), решений суда, видимых результатов. Его работа — в тишине, в непредсказуемости, в отсутствии контроля. И потому единственным критерием становится его собственное ощущение: «Я — тот, кто может это делать».
Но это ощущение не приходит с дипломом. Оно не приходит вообще. Оно — процесс. И пока аналитик ждёт, когда он «появится», он остаётся в ловушке: «Я должен быть уверенным, чтобы быть аналитиком». Но, как показывает практика, именно сомнение и делает его аналитиком.
Есть и ещё один парадокс: чем больше аналитик изучает, читает, анализируется, тем сильнее становится импостер-синдром.
Потому что знания расширяют горизонт неизвестного.
Он начинает видеть: сколько он не знает, сколько не может понять, сколько ошибается. А это — не признак слабости, а признак зрелости.
Так что импостер-синдром — признак того, что аналитик стал слишком честным с собой. Он перестал верить в миф о «всезнающем аналитике» — и пока не научился жить без него.
И здесь особенно важна роль супервизора. Не как оценщика, не как хранителя догмы, а как того, кто может сказать: «Да, ты не знаешь. И это — нормально. Продолжай». Потому что доверие к аналитику — не следствие его компетентности. Оно — её основа.
Именно поэтому Винникотт (додумываю за классика) писал о «достаточно хорошем» родителе. Не о «совершенном», не о «всегда правильном». О том, кто может быть неидеальным — и при этом оставаться опорой. То же самое — и с аналитиком. Он не должен быть «всезнающим». Он должен быть достаточно присутствующим, достаточно честным, достаточно живым.
Остальное — приложится.

Кризис после завершения личного анализа: утрата опоры и поиск автономии
Завершение личного анализа — формальный ритуал, но для многих он становится глубоким экзистенциальным кризисом.
Аналитик теряет:
— регулярное пространство для самопонимания;
— фигуру аналитика как зеркало;
— чувство защищённости в процессе.
Многие описывают это как «падение с небес»: «Теперь я один. Кто будет меня анализировать, если я сорвусь?».
Этот кризис — первый шаг к автономии. Он требует перехода от зависимого анализа к постоянному самонаблюдению.
Аналитик должен научиться быть своим собственным аналитиком — не в смысле отказа от поддержки, а в смысле внутренней рефлексивной позиции.
Клиническая работа с этим кризисом включает:
— развитие привычки к саморефлексии (ведение дневника, письменный анализ собственных реакций);
— систематическую супервизию;
— участие в коллегиальных группах;
— готовность к повторному анализу (re-analysis) в будущем.
Все мы знаем, что личный анализ не заканчивается — он переходит в другую форму, и его (психоанализ) невозможно «развидеть».
Ресурс: развитие контакта с интроектом бывшего аналитика и его «перенастройка под себя».
Здесь сообщаю о своей книге, адресованной бывшим клиентам (как аналитикам, так и не аналитикам) — «Завершение личного психоанализа. Что будет дальше?» (Ridero, 2024).
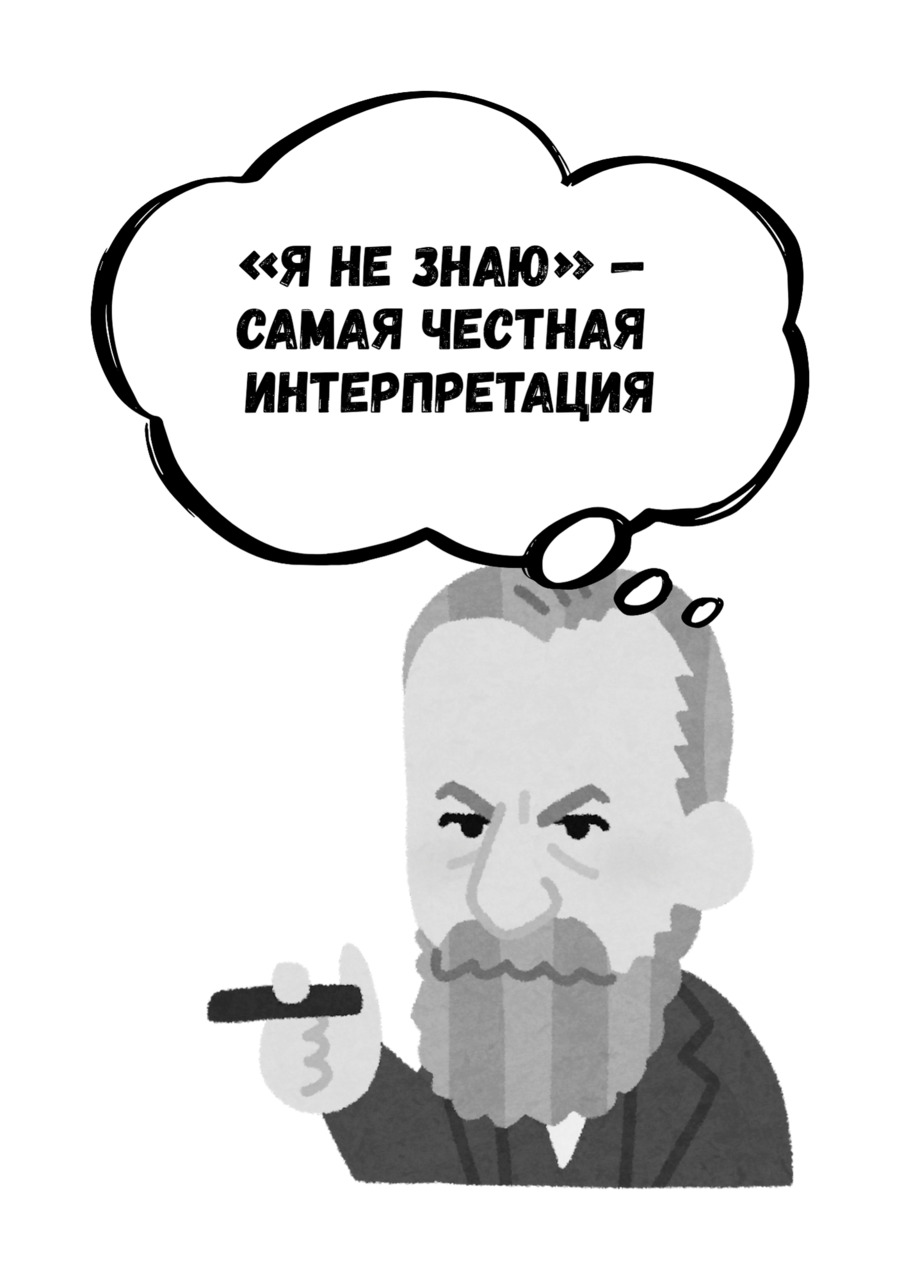
Кризис «первого разрыва»: прекращение анализа с пациентом
Первое завершение анализа с пациентом — особенно, если оно не по инициативе аналитика — часто переживается как личная неудача.
Даже если пациент уходит «успешно», аналитик может испытывать:
— чувство утраты;
— вину («Я не сделал достаточно»);
— тревогу («А вдруг он сломается без меня?»);
— пустоту («Кабинет пуст, а я — никому не нужен»).
Этот кризис связан с переживанием депрессивной позиции по Кляйн: осознание, что объект (пациент) существует независимо, и что аналитик не может «владеть» процессом. Это момент, когда аналитик отказывается от иллюзии всесилия.
Ресурс: анализ не принадлежит аналитику.
Он — пространство для пациента.
И его окончание — не провал, а свидетельство того, что пациент обрёл автономию.
Супервизорская задача: помочь аналитику пережить утрату, не превращая её в вину, и увидеть в завершении подтверждение эффективности.
Аналитик больше не может считать процесс «своим». Он больше не может быть «создателем» изменений. Он — свидетель, сопровождающий, контейнер, который в какой-то момент должен освободиться.
Но этот переход болезнен. Он требует переживания скорби — не за умершего, а за ушедшего. Скорби, которую нельзя озвучить публично, которую нельзя оплакать. Скорби, которую аналитик должен переварить в себе, не перенося её на следующего пациента.
Интересно, что этот кризис особенно остр у тех, кто сам недавно завершил личный анализ. У них ещё свежа память о собственном уходе — о чувстве благодарности, вины, свободы, страха. И когда они сами становятся теми, кого оставляют, они проживают этот разрыв дважды: как аналитик и как бывший анализанд.
Некоторые аналитики пишут прощальное письмо (которое не отправляют), ведут дневник, делают заметку в календаре. Это — не сентиментальность, а символическое признание окончания.
Когда аналитик впервые переживает такой разрыв — и остаётся в профессии, он делает шаг из фантазии всесилия в пространство подлинной встречи. Где любовь — не привязанность, а свобода. Где помощь — не удержание, а отпускание.
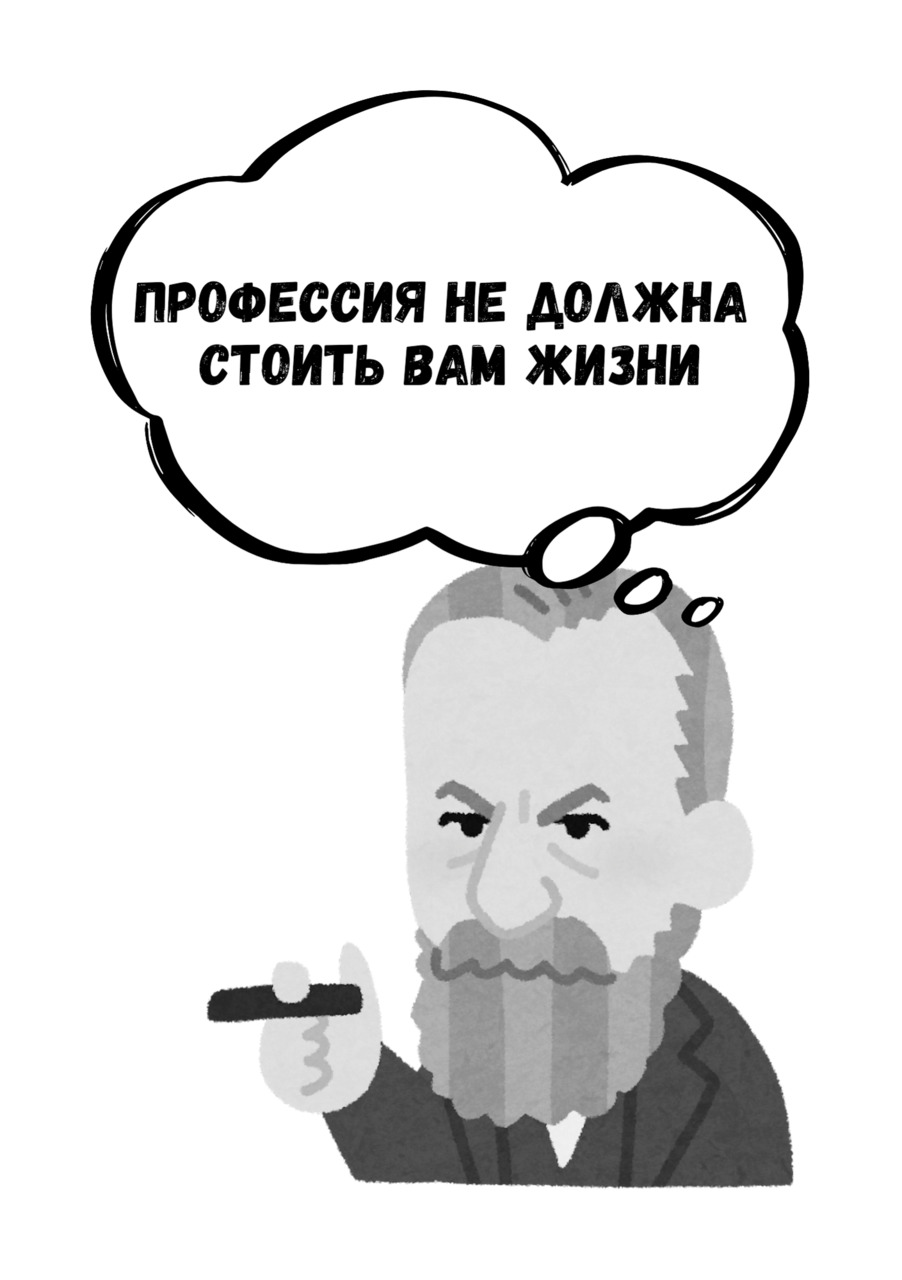
Кризисы, связанные с переносом и контрпереносом
Перегрузка контрпереносом — когда аналитик длительное время работает с тяжёлыми случаями (психоз, травма, нарциссические расстройства), он может испытывать накопительную травму.
Это проявляется в:
— эмоциональном истощении;
— соматизации;
— снижении способности к символизации;
— ощущении «загрязнённости».
Бион назвал это «инвазией безформенного» — пациент «вливает» в аналитика то, что не может вместить сам. Если аналитик не имеет дополнительный контейнер (супервизора, аналитика, группы), он может распадаться под давлением.
«Слияние» с пациентом, потеря границ особенно характерно для работы с пограничными состояниями.
Аналитик может начать чувствовать:
— мысли пациента как свои;
— его тревогу как свою;
— его желания — как свои.
Это состояние не является «эмпатией», а — нарушением границ. Оно опасно как для аналитика, так и для пациента.
Перенос на аналитика как фигуру власти и «хранителя истины» — когда аналитик начинает воспринимать себя как носителя истины, он попадает в ловушку нарциссического переноса — своего или пациента.
Это ведёт к:
— техницизму;
— интерпретационной агрессии,
— отстранённости,
— потере живого контакта.
Ресурс: второй контейнер.
Такой кризис требует глубокой рефлексии, часто — повторного анализа и смены супервизора.
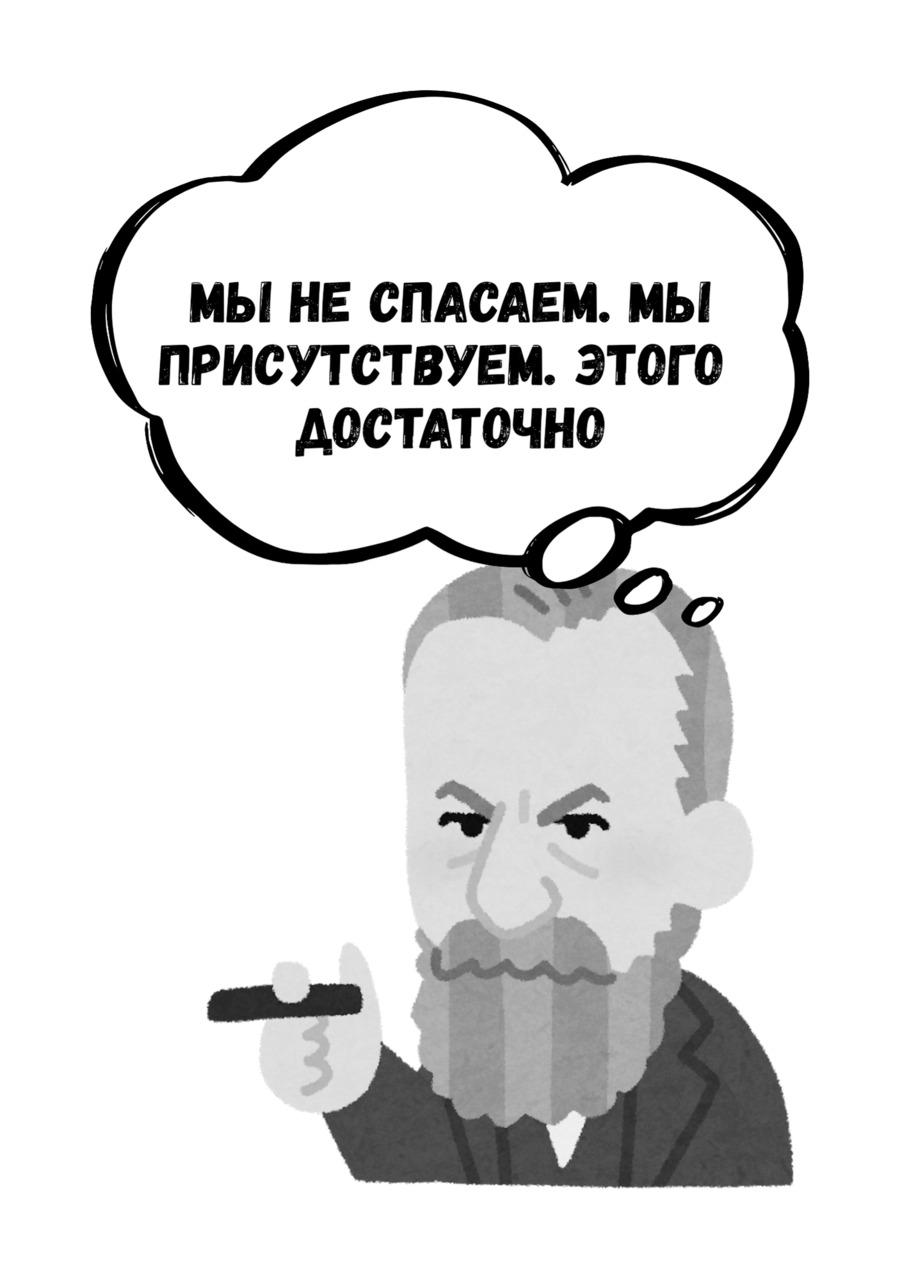
Кризис середины карьеры: переосмысление практики, утрата энтузизма
Через 10–15 лет практики многие аналитики сталкиваются с внутренним утомлением. Они видят одни и те же сцены: травмы детства, насилие, одиночество, поиск любви.
Возникает вопрос: «А меняется ли что-нибудь на самом деле? Или мы просто кружимся в одной и той же боли?».
Этот кризис — экзистенциальный вызов.
Он связан с усталостью от повторения, с ощущением бессмысленности, с тоской по «большему» — по социальному воздействию и взаимодействию, по творчеству, по выходу за пределы кабинета.
Именно в этом кризисе возможен второй виток развития.
Аналитик может:
— начать преподавать и писать/ публиковать;
— углубиться в исследование;
— заняться общественной работой;
— пересмотреть свою технику;
— открыться новым теоретическим влияниям.
Опытный аналитик, переживающий кризис рутины, начинает вести группу для коллег по обсуждению «непонятных» случаев. Это оживляет его клиническое любопытство и возвращает чувство сообщества.
Ещё до начала своей активной практики и в её первые годы я заметила повторяющийся феномен.
Когда более опытные коллеги представляли результаты своей работы — на конференциях, в супервизии, в публикациях — становилось очевидно: наибольшие трудности у них возникали при рассказе об особенно сложных случаях.
Это проявлялось не только в логических сбоях, в бесконечных уточнениях, в попытках «договорить» то, что уже было сказано, но и в эмоциональной вовлечённости, которая нарушала границы научного доклада.
Коллега как будто застревал в этом клинической случае — пересказывал его снова и снова, возвращался к нему через месяцы или даже годы, включал в каждый новый доклад, даже если тема была другой.
Становилось ясно, что перед нами — незавершённый внутренний процесс, непрожитый кризис.
Со временем заметила закономерность: каждый из таких коллег находился на рубеже 10–12 лет активной практики — на пороге того, что можно назвать началом середины карьеры.
Именно в этот период формируется «профессиональный нимб» — не буквальный, конечно, а метафорический.
Это — ощущение устойчивости, компетентности, внутреннего порядка. Аналитик уже прошёл через импостер-синдром, освоил технику, наладил практику, стал преподавать, выступать, писать. Он чувствует: «Я знаю, что делаю. Я — опытный».

Это не высокомерие. Это — закономерный этап интеграции, когда хаос первых лет уступает место системе.
Но в тот же момент аналитик становится похожим на того самого водителя, который на третьем-четвертом году вождения, утвердившись в своей «опытности», тут же попадает в аварию. Как будто сама жизнь «ставит на место», подрезая крылья, которые существуют только в воображении водителя.
И именно в этот момент, словно по закону драматургии, приходит пациент, который «переломит через колено». Когда я сама подошла к рубежу десятилетия практики, то… и ко мне пришел «такой» пациент, и я называла его «переломным клиентом».
Не потому что он «особенно тяжёлый», агрессивный или психотический. Он вообще может быть «не тяжелым». А потому что встречает аналитика там, где он перестал быть уязвимым.
«Переломный клиент» приходит не для того, чтобы быть «проанализированным», а чтобы показать аналитику его собственную иллюзию.
И он делает это с поразительной точностью и бесцеремонно.
И в этот момент «нимб» падает. Иногда с грохотом, а иногда -с тихим звоном — как стекло, треснувшее от перегрева и под возглас аналитика: «Так вот оно как на самом деле!».
«Переломный клиент» — высвобожденный архетип, пришедший не во вред, а во спасение.
Он приходит не для того, чтобы разрушить (хотя известны случаи, когда после «переломного клиента» психоаналитик покидал профессию или уходил в длительное «личное пике»), а чтобы разрушить иллюзию стабильности, чтобы аналитик снова стал ищущим, а не «знающим».
И, может быть, именно в этом и есть подлинная мудрость кризиса середины карьеры — снова научиться «ничего не понимать».
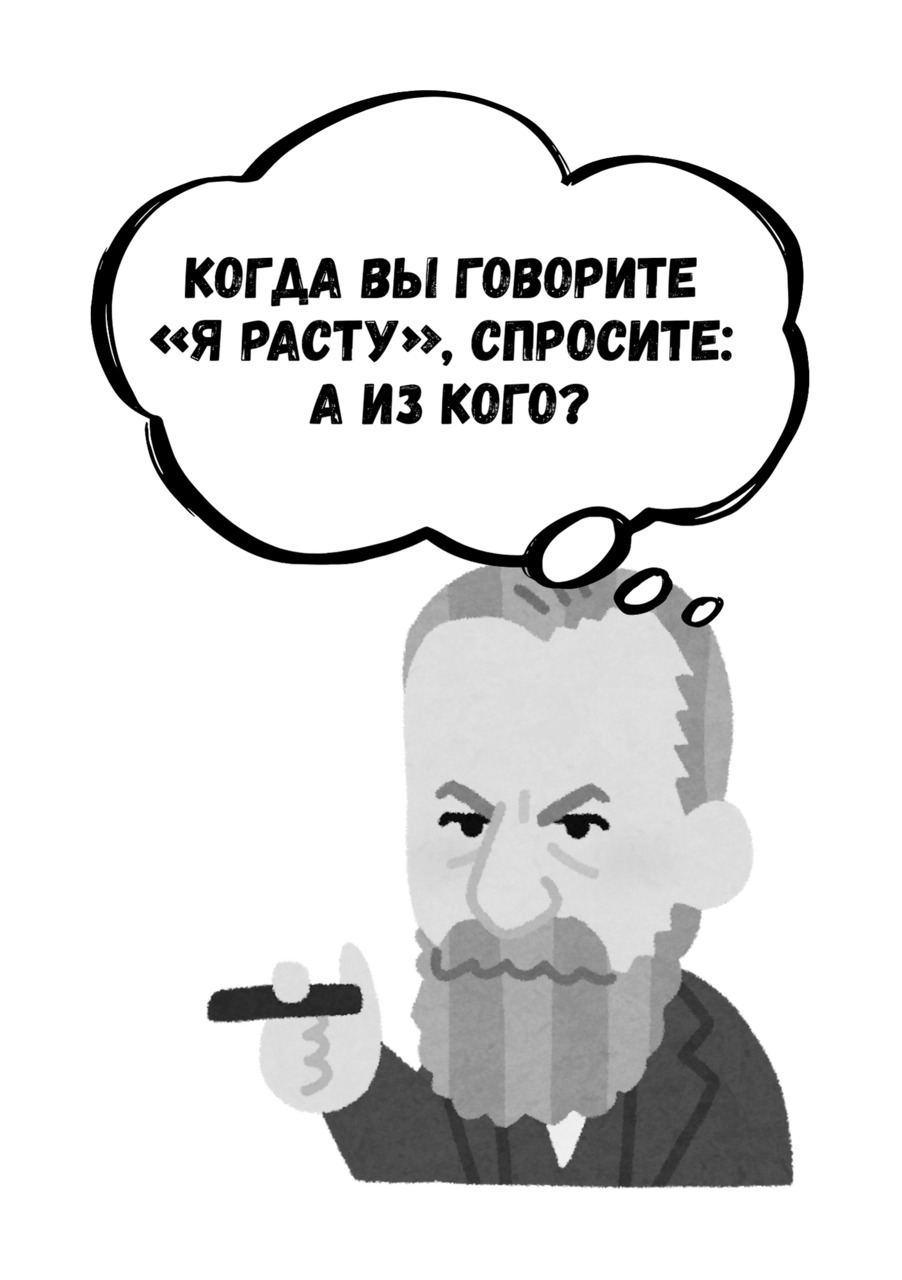
Кризис аналитика-матери/отца: профессиональная идентичность в контексте родительства
Профессиональный путь психоаналитика редко развивается в вакууме, отделённый от личной жизни. Напротив, он глубоко интегрирован в биографический контекст, включая ключевые жизненные события — в том числе рождение ребёнка и вступление в роль родителя.
Однако в профессиональной литературе и образовательных программах эта трансформация остаётся на периферии внимания.
Кризис «аналитика-матери/отца» — один из немногих нормативных кризисов, связанных не с этапом профессионального становления, а с этапом жизненного цикла, — систематически недооценивается, хотя затрагивает фундаментальные аспекты идентичности, времени, границ и этики.
Этот кризис проявляется не как внезапная травма, а как постепенное накопление напряжения между двумя системами требований: с одной стороны — неотложность материнства/отцовства, с другой — неукоснительность терапевтического контракта.
Аналитик сталкивается с невозможностью совместить непредсказуемость потребностей ребёнка — кормление, болезни, ночные пробуждения — с жёстким графиком сессий, требующим абсолютной пунктуальности и внутренней готовности.
Может возникнуть хроническое чувство вины: перед пациентом за опоздание, перед ребёнком — за отсутствие, перед собой — за невозможность быть «достаточно хорошим» и там, и там.
Особенно остро этот кризис переживается женщинами-аналитиками. Хотя формально современные школы декларируют гендерное равенство, институциональная культура психоанализа по-прежнему не адаптирована к материнству.

Отпуск по уходу за ребёнком, если и предоставляется, редко сопровождается поддержкой при возвращении к практике. Нет механизмов гибкого графика, нет наставничества для молодых родителей, нет признания того, что перерыв в практике — не признак ослабления профессиональной вовлечённости, а закономерный этап биографии.
В результате многие женщины-аналитики либо вынуждены уходить из профессии, либо возвращаются в состояние хронического напряжения, пытаясь «наверстать упущенное».
С точки зрения психоаналитической теории, этот кризис можно интерпретировать как конфликт между двумя позициями заботы.
С одной стороны — позиция аналитика как «достаточно хорошей матери» по Винникотту, способного терпеть неопределённость, откладывать действия, быть «пустым» для пациента. С другой — позиция реальной матери, которая не может позволить себе быть «пустой», потому что её тело и время заняты прямым уходом.
Этот конфликт может проявляться в соматических симптомах (усталость, бессонница, тревожные состояния), в нарушении границ (попытки вести сессии во время кормления, перенос времени в последний момент), в избегании новых пациентов из-за страха не справиться.
Более того, сам процесс материнства — особенно в первые годы — связан с глубокими переживаниями регрессии, зависимости, потери автономии, которые аналитик, как правило, старается не переносить в терапевтическое пространство. Однако именно эти переживания могут активировать незавершённые собственные конфликты, связанные с детством, что усложняет контрпереносную работу.
Аналитик может бессознательно проецировать на пациентов свои чувства по отношению к ребёнку — как заботу, так и раздражение, — или, наоборот, отстраняться от пациентов с детьми, чтобы избежать эмоциональной перегрузки.
Для мужчин-аналитиков этот кризис проявляется иначе.
Он связан не с физиологической вовлечённостью, а с трансформацией семейной идентичности и перераспределением ролей.
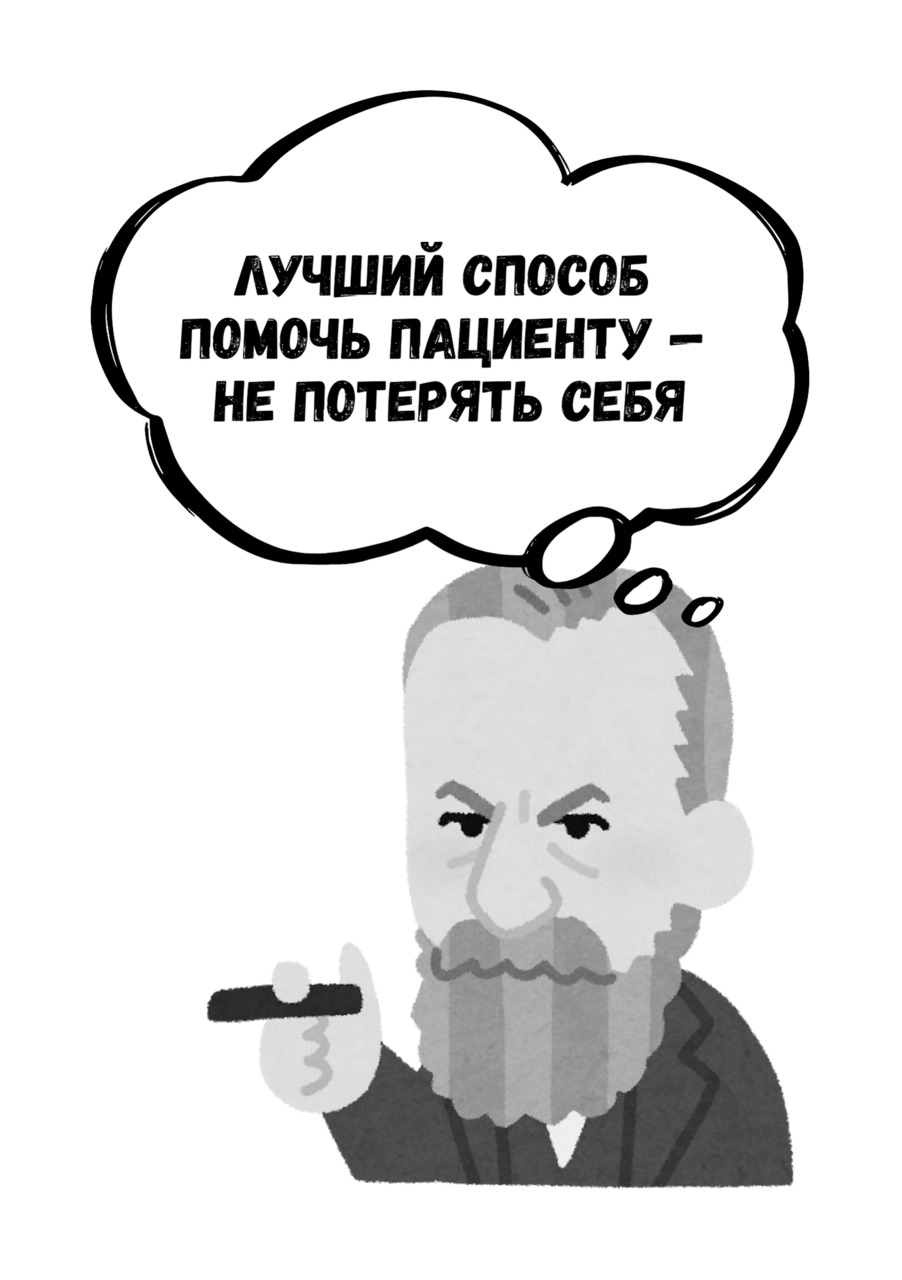
Мужчина-аналитик может столкнуться с давлением быть «основным кормильцем», что усиливает зависимость от количества сессий и снижает возможность сокращения практики.
В то же время его участие в уходе за ребёнком может быть недостаточно признано как профессиональный вызов, что усиливает чувство изоляции.
Институционально этот кризис часто не существует.
В уставах школ, в образовательных программах, в этических кодексах нет положений, регулирующих положение аналитика-родителя. Нет анонимных консультаций, нет групп поддержки, нет или недостаточно обсуждения в супервизии вопросов совмещения.
Более того, сам запрос на гибкость может восприниматься как снижение профессиональной компетентности.
В результате аналитик оказывается в положении двойного молчания: он не может говорить о своей уязвимости как родителя, и не может говорить о ней как аналитик.
Международный опыт показывает, что некоторые ассоциации, в частности Британская психоаналитическая ассоциация, начинают внедрять политику поддержки родителей, включающую:
— продление срока супервизии после возвращения из отпуска;
— гибкие формы обучения;
— группы для аналитиков с детьми;
— признание периода ухода за ребёнком как части профессионального пути.
Такие меры не ослабляют стандарты, а, напротив, укрепляют этическую целостность профессии, поскольку позволяют аналитику оставаться в профессии без риска для психического здоровья и терапевтической эффективности.
Кризис «аналитика-матери/отца» — экзистенциальный вызов, связанный с необходимостью переосмыслить профессиональную идентичность в контексте биографической трансформации. Он требует как индивидуального преодоления, так и системной рефлексии и институциональных изменений.
Признание этого кризиса как нормативного — важный шаг к созданию более гуманной, гибкой и этичной культуры психоанализа, в которой «быть человеком-родителем» не противоречит «быть аналитиком».
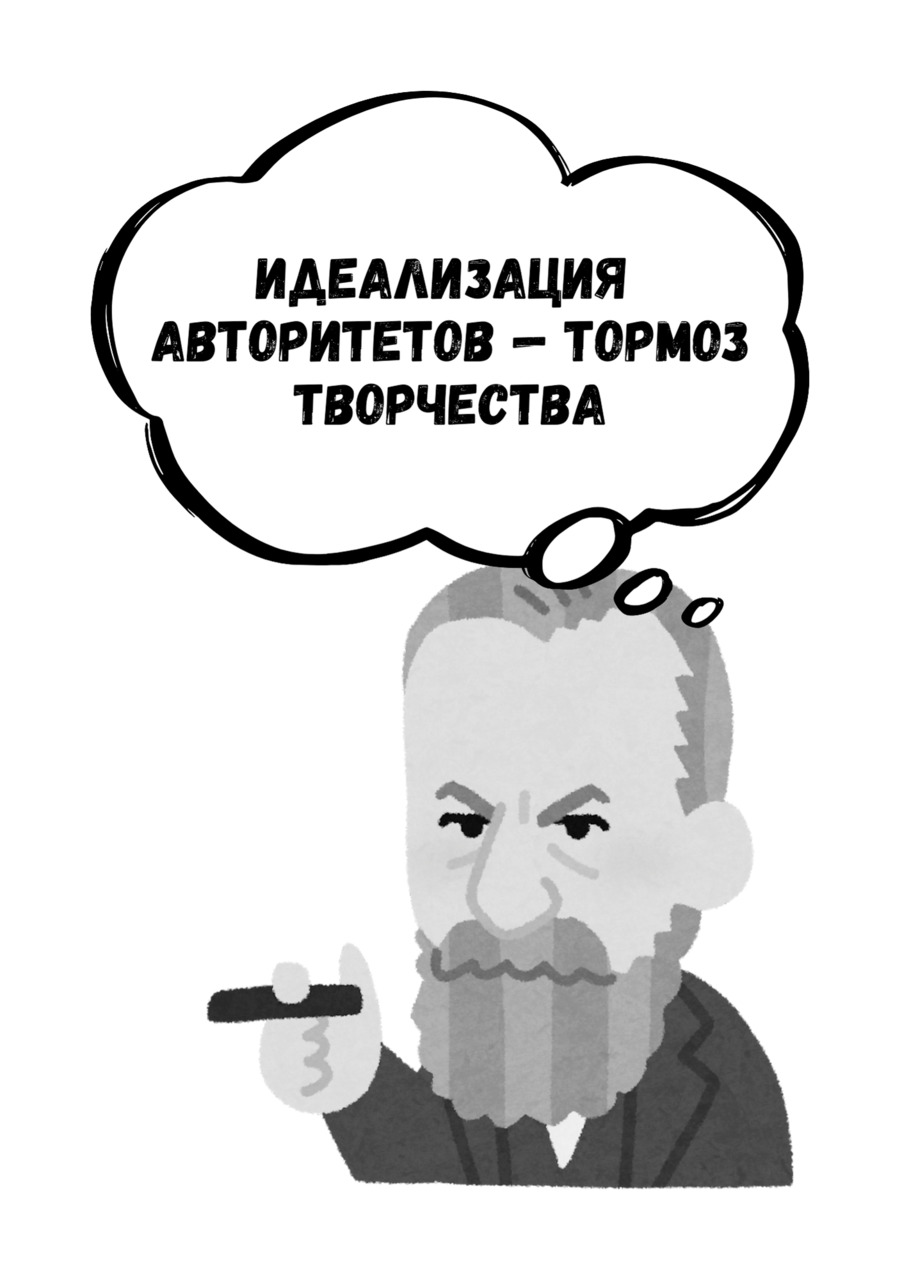
Профессиональная деформация, как симптом нормативных кризисов и «хождение в народ»
Профессиональная деформация — это не самостоятельный кризис, а симптом, сопровождающий и проявляющийся в рамках нескольких типов кризисов. Она не возникает сама по себе, а является клиническим выражением напряжения между личным и профессиональным, между внутренним миром аналитика и требованиями его позиции.
Профессиональную деформацию можно отнести к следующим типам кризисов:
1. Кризис границ (нормативный).
Это — основной контекст, в котором проявляется профессиональная деформация. Она возникает, когда аналитик теряет способность удерживать границы между «из жизни — в профессию» и «из профессии — в жизнь».
Вместо того чтобы использовать профессиональные навыки в терапевтическом контексте, он начинает автоматически «анализировать» друзей, родственников, чиновников, водителей такси.
С точки зрения теории, это связано с нарушением контейнирующей функции (Бион). Аналитик, не имея достаточного контейнирования со стороны супервизора или личного анализа, начинает «выливать» функцию контейнера в повседневную жизнь.
Деформация в этом случае — не признак силы, а признак перегрузки.
2. Кризис идентичности (нормативный).
Профессиональная деформация часто сопровождает кризис формирования профессиональной идентичности, особенно на ранних этапах практики.
Когда аналитик ещё не сформировал устойчивую позицию, он склонен «надевать» профессию как маску. Он не «является» аналитиком — он «играет» в аналитика.
Эта игра проявляется как деформация: излишняя интерпретация, навязчивое слушание, попытки «лечить» всех подряд.
На этапе обучения аналитик ищет ответ на вопрос: «Кто я — как аналитик?». Пока этот вопрос не решён, профессия становится внешним атрибутом, а не внутренним состоянием. И тогда деформация — это попытка утвердиться в новой идентичности, пусть даже и через искажение.
3. Кризис середины карьеры (нормативный).
В фазе зрелой практики, когда возникает вопрос «А зачем я это делаю?», профессиональная деформация может проявляться иначе: не как навязчивость, а как механизм выживания.
Аналитик, уставший от рутины, может сознательно использовать свои навыки вне кабинета — как способ почувствовать свою силу, значимость, эффективность.
Как в примере с бюрократом (далее): «Хм, а это, оказывается, работает!» — это попытка восстановить чувство агентности.
В этом случае деформация становится ресурсом, позволяющим пережить экзистенциальную усталость.
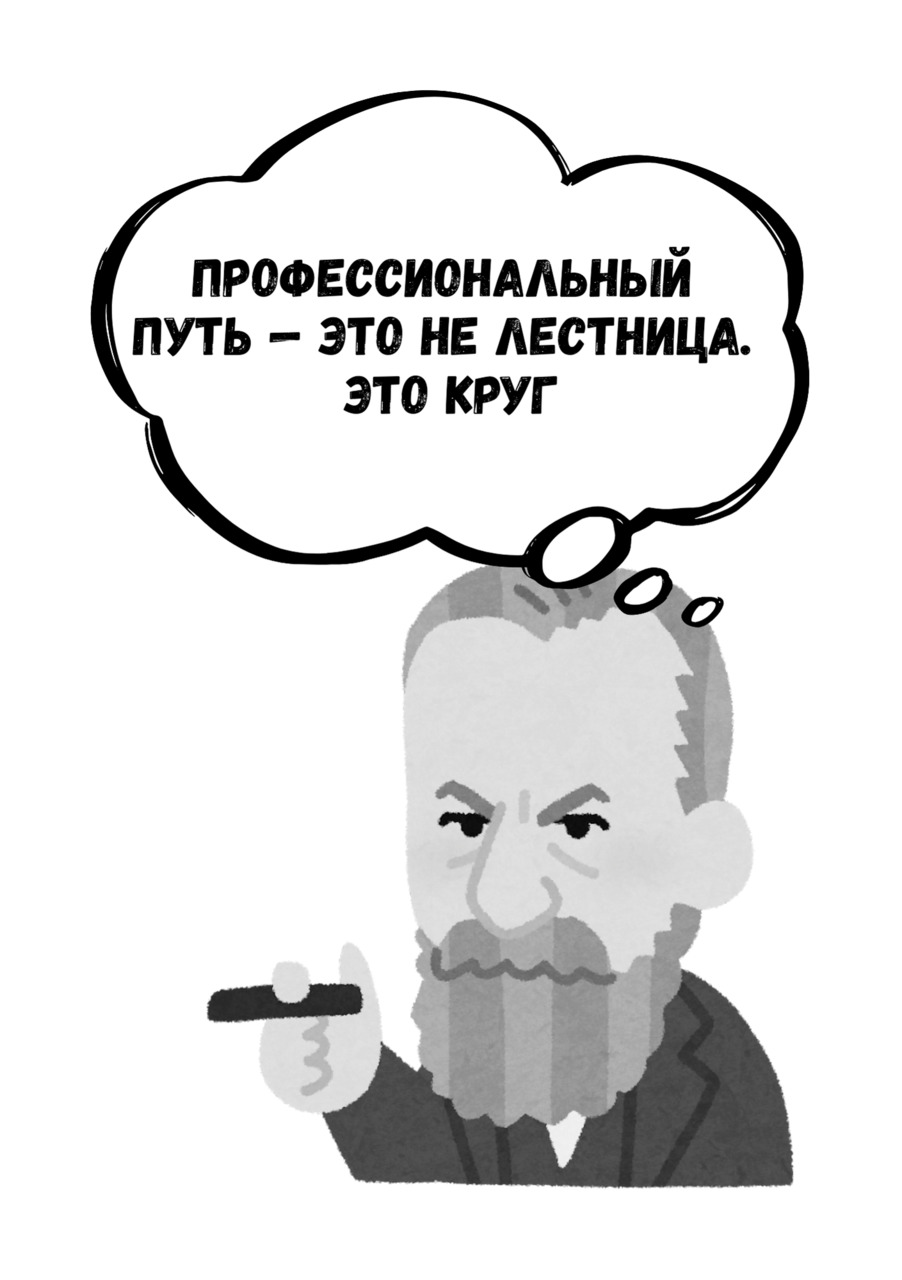
4. Кризис выгорания (ненормативный).
Когда аналитик переживает хроническое эмоциональное истощение, профессиональная деформация может выступать как защитный механизм от полной дезинтеграции.
Он продолжает «работать» — но уже не в терапии, а в быту. Это может быть формой самосохранения: если нельзя больше слышать пациента, то хотя бы можно «услышать» того, кто не пациент.
Однако в этом случае деформация уже приближается к патологическому состоянию, так как свидетельствует о потере способности к отдыху, к бытию «просто человеком».
5. Кризис «аналитика-матери/отца» (нормативный).
Когда аналитик совмещает практику с родительством, деформация проявляется особенно остро. Он начинает анализировать собственного ребёнка, интерпретировать его поведение, искать в нём перенос.
Это — не злой умысел, а результат отсутствия разделения между ролями. Профессия, требующая постоянного присутствия, не позволяет «выключиться», и тогда деформация становится побочным эффектом вовлечённости.
Профессиональная деформация — это не болезнь, а индикатор.
Профессиональная деформация — это не кризис сам по себе, а маркер кризиса.
Она указывает на:
— потерю границ;
— незавершённость идентичности;
— усталость от повторения;
— потребность в признании;
— перегрузку контейнера.
Если она осознана и контролируема, она может стать ресурсом — как в примерах (далее).
Если она неосознанна и неконтролируема, она превращается в механизм вытеснения, угрожающий и аналитику, и пациенту.
Поэтому задача не в том, чтобы «избавиться» от деформации, а в том, чтобы научиться с ней жить, распознавать её проявления и вовремя возвращаться к себе — к телу, к тишине, к простому бытию.
Перейдем к размышлениям и примерам
Термин «профессиональная деформация» — один из тех, что повисают в воздухе профессионального дискурса, как старая пыльная штора: все на неё смотрят, все знают, что она есть, но никто не хочет её снимать.
Само выражение, честно говоря, давно набило оскомину. Оно звучит как приговор, как признание слабости, как признак того, что ты «перегорел» или «слишком глубоко вошёл в роль».
И всё же, если отложить клише и взглянуть на феномен с юмором и чуть большим вниманием, можно обнаружить, что профессиональная деформация — это не только искажение, но и трансформация, не только утрата границ, но и расширение способности видеть.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
