
Бесплатный фрагмент - Происшествия, приключения, фантастика, фронтовые и исторические хроники
Книга 6
ВИКТОР МУЗИС
КИМБЕРЛИТОВАЯ ТРУБКА «НАТАША»
Каждое кимберлитовое тело (трубка, дайка или жила) получают свое название. Обычно это название местности, ручья, где они были найдены, или произвольные, посвященные какому-нибудь событию — Мир, Заполярная, Удачная, Зарница, Космос и т. п. В нашей партии было принято зашифровывать в названиях имена сотрудниц Лорик, Шарик, Мери… Белик, старейшина Амакинской экспедиции, даже назвал трубку «Тюха» — по имени своей собаки, сопровождавшей его при полевых работах и он первый дал название по имени своей сотрудницы — «Ирина».
После этого и мы перестали стесняться и с благоволения нового начальника партии Леши Тимофеева (Осташкин улетел в Африку) я, наконец-то, назвал очередную трубку именем дочери — «НАТАША».

Узнав об этом, один из клиентов у нее на работе даже подарил ей маленький алмазик (официальный — в коробочке).
Найти трубку оказалось довольно просто — на местности, на выположенной площадке склона, среди задернованной поверхности хорошо выделялись небольшие мелкие развальчики магматических мелкокристаллических пород ультраосновного состава серого цвета. Из-под дерна я даже извлек глыбку сантиметров 20х30 прямоугольной формы. Диаметр трубки был небольшой — метров 15, и хорошо просматривался среди дресвы вмещающих ее карбонатных кембрийских пород.
А вот в маршруты по ее поиску пришлось ходить дважды и не зараз, а в двух разных полевых сезона.
Первый раз я сплавлялся с верховьев Малой Куонамки (правой составляющей р. Анабар) с рабочим и на двух счаленных вдоль жердями резиновых понтона 500-ток. Одна спарка у меня, вторая у него. Наученный горьким опытом от сплошных мелких перекатов и вообще мелководья я брал по две, а то и по три лодки на человека.
По совету Шахотько Л. И., начальника соседней партии, тоже базирующегося в поселке Оленек, мы подвешивали груз как бы на веревочном гамаке, а на днища стелили надувные матрасы — так предохраняли от намокания продукты и вещи от случайных порезов днища лодок камнями на перекатах. А большое количество понтонов часто освобождало нас от разгрузок и перетаскивания вещей на мелководных перекатах, хотя приходилось иногда и разгружать, когда перекаты были почти сухие (воды по щиколотку). В основном, приходилось просто идти бурлаком по колено в воде, таща лодки за собой.
Такими были все речки в районе в своих верховьях. Я помню, вылетев в верховья р. Укукит (притока реки Оленек) мы пролетели место высадки, там начиналось русло с песчано-галечными косичками и можно было надеяться на возможность сплава. Я кинулся к пилотам, а у них карта то ли миллионка, то ли полумиллионка — какая уж тут точность. Они тут же посадили вертолет на заболоченную плоскостину среди густого кустарника карликовой березки (штанодера). Сообщив начальнику отряда Уфлянду А. К. о том, что нас высадили выше чем надо, я пошел уточнить это. Выбрав площадку посуше мужики стали ставить лагерь, а я, пройдя с километр, точно определил место высадки и вернулся.

Русло здесь было достаточно глубокое, но узкое, только по ширине понтонов и плыть было совершенно невозможно, только когда впереди идущий тащил лодку на веревке, а второй отталкивал ее от берега веслом — такие заболоченные места в верховьях речек с узкими руслами на Енисее называют «Галеями». По таким когда-то шел «Волок» с Оби на Енисей — баржи перетаскивали.
На следующий день протащить лодки удалось только до предполагаемого по началу места высадки. Мы потеряли день, а каждый день был дорог, т.к. вода падала на глазах. На второй день мы шли с работой и протащили лодки на несколько км. Все измучались. И тут Александр Константинович принял мудрое решение: оставляем часть груза — потом вызовем вертолет и заберем. Я бы не решился — очень уж ответственно относился к вызову вертолета и пользовался им только как оказией, когда его вызывали по необходимости в какой-нибудь из отрядов. Сложили вещи на берегу, накрыли светлым выгоревшим брезентом и придавили его валунчиками из речного аллювия. А вода падала. Промучившись еще пару дней мы опять оставили часть груза. Так мы оставляли и еще пару раз. А вода падала и падала. К месту, где уже пошли плесы, мы подошли уже без палаток, печек, личных вещей, вьючных деревянных ящиков и с минимумом продуктов. На ночь останавливались, делая из 4-х легких больших тентов что-то наподобие палатки, каждый раз новой конструкции. Вызвав вертолет, легко слетали и собрали наши «лабазы».

А когда мы с рабочим (по прозвищу «Гангрена») сплавлялись вдвоем с верховьев Малой Куонамки, то сознательно высадились в таком же месте, как и с Уфляндом, но этого требовала работа, нужно было провести опробование укрупненными шлиховыми пробами русла реки как можно выше по течению. И вода позволяла.
Когда русло чуть-чуть расширилось и можно было уже сплавляться, мы уселись на носах наших счаленных вдоль понтонов, свесив ноги в болотниках в воду и поплыли. У нас было по байдарочному веслу («подобрал» на складе) и когда гребли, когда отталкивались от берега.
В одном месте проплыли мимо сохатого, спокойно стоящего среди тальника так, что только башка и грудь торчали из кустов.

В другом, ветка тальника подцепила ручку двуручной пилы, лежащей на брезенте, укрывавшем груз от дождя и брызг, и подсунутой под веревку. Пила медленно взвилась в воздух, спружинила и отбросилась в воду позади моей счалки. Я, замерев, как в замедленном кино, наблюдал эту процедуру, представляя что будет, если она полоснет по борту понтона… Но обошлось. Искать пилу было совершенно бесполезно — слишком глубоко и течение, хоть и слабое, уже относило нас от этого места. Но с тех пор, пилу при сплаве я всегда заворачивал в плотный брезентовый пол от 2-х местной палатки.
Но не одно, так другое! Через несколько дней, когда в соседний отряд прилетел вертолет, я попросил сбросить нам пилу, если будет такая возможность. Вертолет действительно залетел к нам, мы были недалеко, и сбросил пилу. Но, как пилоты любили «развлекаться», они зависли прямо над палаткой. Воздушный вихрь чуть не поднял ее в воздух. Мы подбежали и схватились за ее стойки. Но полы палатки выдернуло из-под придавливающих их вещей (раскладушек, ящиков, рюкзаков) и взметнуло вверх. Они затрепыхали от ветра, а из под них вымело все, что «плохо» лежало… Понтоны лежали сдутые на берегу, а они, не надутые, были достаточно тяжелые, чтобы их снесло. Самое страшное в таких случаях то, что если топилась печка, то трубу выдергивало, она повисала на разделке, а пламя начинало бить из горловины печки в брезент палатки… Пилотам хиханьки, а мы материли их «почем зря»…
Вертолет улетел и мы, снова укрепив палатку, пошли осматривать нанесенный нам урон и собирать разнесенные ветром вещи. Подбирая разбросанные на косе вещички, я увидел в воде трепыхавшийся течением, зацепившийся за торчащий кустик-веточку светлый бумажный листочек. Это была наклеенная на кальку топографическая карта… Вот было бы ЧП, если бы ее унесло…

Но урон все-таки был. И достаточно серьезный — унесло и утопило на плесе все 4-ре насоса-«лягушки», лежавшие рядом с понтонами. Плес был достаточно глубокий и широкий и, хоть вода была прозрачной, найти их не удалось.
Мы стояли с Гангреной на берегу и чесали в затылках… Что делать? Но чеши не чеши, а надуть понтоны как-то нужно. «Проявляй солдатскую смекалку», — говорил мне отец. И надули! Все четыре! И довольно хорошо! Как? Ротом! Сам удивился, как это получилось. И как только дыхалки хватило! У Гангрены-то глотка «луженая», а от себя я такого «подвига» не ожидал… «Лягушку» мы, конечно, заказали («хоть одну» — попросили), но это опять нужно было ждать оказии, а работа не ждала, нужно было сплавляться дальше.

Справившись с этой бедой, мы поплыли дальше. По дороге, занимаясь УШО (укрупненным шлиховым опробованием) притоков речки, мы заверяли и фотоаномалии «трубочного» типа — темные пятна на сером фоне, присущим карбонатным породам Кембрия. Очень я надеялся на пару пятен ниже пикета на зимнике из Оленька в Анабар. Там, по правому притоку речки, в нескольких километрах от устья притока на его левом склоне наблюдались две хорошие фотоаномалии, на которые я возлагал большие надежды. И была еще одна — тоже хорошая, на правом склоне чуть ниже по течению от первых двух. На местности аномальные участки обычно опознавались по сгущению кустарника ольхи.
Доплыв до намеченного участка, мы «разбили» лагерь, половили на удочку хариуса, поужинали и завалились спать. Утром, собрав лотки, лопату с укороченным черенком, а на обед — котелок, краюху хлеба, сахар и чай, отправились в маршрут.
Идти было недалеко-неблизко — километров пять, но проходимость оказалась не то что плохой, а какой-то противной, неприятной. То ли кочки чуть повыше, чем обычно, то ли заболоченность нижней части склона чуть побольше, чем обычно, а то ли и то и другое, но, несмотря на легкие рюкзаки, идти было как-то мерзко. Да еще этот радиометр в руках, будь он проклят — была среди нас такая шутка: — «Без радиометра хоть на край света»! В общем, намучились мы прилично.
Идти я решил до дальних участков на левом склоне, чтобы, после их заверки, на обратном пути заверить и нижний участок на правом склоне. Выйдя к намеченному месту, а оно опознавалось по характерным признакам: наличию ручьев и изгибов русла, хорошо заметных на аэрофотоснимке, мы полезли на склон. Намеченные участки выделялись на склоне не так хорошо, как ожидалось, но ошибиться было сложно, и, отобрав по несколько пробных мешков суглинка из делювия вдоль склона, мы спустились к ручью и промыли набранный материал.
Размяв суглинок в воде и смыв постепенно легкие частицы и мелкие камешки, мы домыли шлихи до желтого песочка, а затем до серого шлиха. Рассмотрев шлих под 4-х кратной лупой, я не увидел ни одного «знака» минералов-спутников кимберлита. Ни единого обломочка пикроильменита! Это было так неожиданно, я так надеялся на наличие здесь небольших кимберлитовых тел, что ощутил сильное разочарование…
Столько пройти, так намучаться и все напрасно… Я был так расстроен, что, возвращаясь к лагерю, «махнул рукой» на участок на правом склоне, уже не веря, что здесь что-то есть. Тем более, что вечерело, а идти нужно было опять мучаясь от проходимости.
Мы дошли до лагеря и на следующий день поплыли дальше. Так закончилось первое посещение этого участка. А впереди нас ждали другие притоки и аномальные участки, которые нужно было обработать.
Еще раз я попал на это место, когда мы сплавлялись по Малой Куонамке с Геной Ивановым, моим коллегой и приятелем. У него была любительская кинокамера и он снимал попутно наш сплав. Поэтому я и запомнил эпизод, где, проведя 500-тку через перекат, где воды было по щиколотку и сев в нее на плесе, я взмахнул веслами и… это были штыковые лопаты, насаженные на листвяшки (проявляй, солдат, смекалку) — свои родные я раздал рабочим.
И еще запомнился эпизод, как мы выплываем из-за поворота, а на склоне стоят Камазы. Они были оставлены до зимы, застигнутые, видимо, ранней весной. Ниже в воде стоял тяжелый гусеничный трактор — видимо тащил груз (балок или сани), просел под лед и вытащить его не смогли. И тут пленка у Гены кончилась…

Но вернемся к участку. Я не мог смириться, что там ничего нет, что он «пустой», и решил сходить еще раз, как бы мне не хотелось страдать от неприятной дороги (хотя слово «дорога» здесь совершенно неуместно).
— Сходи, — ответил он. И добавил: — И на правом склоне заверь.
И мы пошли… Вышли на то же место — там была характерная излучина петлей, отлично различимая на фотоснимке, особенно в 4-х кратную лупу, постоянно висевшую у меня на шнурке и опущенная в нагрудный карман энцефалитки. Во втором кармане я всегда носил плоский флакон из-под «Красной Москвы» с «Дэтой» (от комаров). Мы опять отобрали шлиховые пробы вдоль склона под аномальными участками и спустились к ручью. Промыли… И опять пусто! Ничего! Я опять расстроился… Но, «слезами горю не поможешь», и мы пошли обратно. Но километром ниже мы все же полезли на правый склон к намеченной на снимке фотоаномалии и даже долго искать не пришлось…
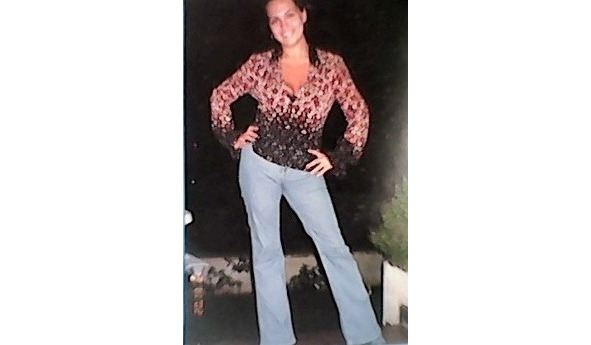
Хорошо различимые на задернованной поверхности обломки магматических пород лежали прямо на поверхности. К сожалению, это была не брекчия, а кристаллическая порода, что исключало ее алмазоносность. Определив ее диаметр, четко прослеживающийся обломками и высыпками, мы набрали образцов и материала для промывки и спустились к ручью. В шлихах — зерна пикроильменита в «рубашках». Я повеселел и чуть ли не запрыгал к лагерю. Я порадовал Гену находкой, а начальника Лешу Тимофеева с новой найденной трубкой в Куронахском поле.
А назвал я ее — «НАТАША»!
2018 г.
= = = = = = = = = =
КОЛЫМА
1. ВСТУПЛЕНИЕ
Написав это магическое для меня слово — КОЛЫМА, — я не могу не посвятить этому региону хоть несколько строк. Слишком большое значение этот район сыграл в моей жизни, в моем становлении, моем опыте работ… Все регионы, в которых я затем работал — и горное Верхоянье, и сопки Сибирской платформы на реках Оленек и Анабар, я всегда сравнивал с Колымой. С проходимостью, бытом, охотой, рыбалкой. И понимал, что работать мне становится все легче и легче…
2. БОЛОТА
Кочкарник
Колымские болота!.. Кочкарник по речным долинам в пойме — 100 метров от стоянки на речке до склона… и я уже без сил… Кочки высокие, и если пробовать идти между ними, то постоянно садишься на попу, если пробуешь скакать по ним, прыгая с одной на другую, то соскальзываешь и, опять же, валишься. Это здорово выматывает.
На Оленьке ничего подобного я припомнить не могу. Кочкарник гораздо мельче и ходить по нему было гораздо легче. Но, по возможности, мы предпочитали передвигаться по галечнику высохших русел или по пабереге рек.
А в Верхоянье все долины были так засыпаны мелким щебнем алевролитов, что я постоянно думал, как просто было бы здесь ездить на Камазе или ГАЗ-69. Но это было невозможно, т.к. никакая машина не смогла бы подняться на перевалы, на которые карабкался наш старенький вечно перегруженный вездеход. Хотя на армейском Урале можно было бы и попробовать.
3. СКЛОНЫ
Верхняя граница древесной растительности
Склоны на Колыме, я работал в левобережной низменной ее части, тоже были в кочкарнике, но не таким высоким, как по долинам, но все равно неприятным. И были они сильно залесены. Помню, спускаясь с водораздела вниз по склону, мы подошли к границе леса и Шульгина пропустила меня вперед. Я посмотрел на вершину сопки напротив — как ориентир, и, опустив голову, чтобы не хлестали ветки, «врезался» в лес.
Пройдя метров триста мы вышли из леса и я поднял голову… Мы стояли на том же месте, как до входа в лес. Вершина сопки-ориентира была у меня за спиной… Я сделал круг «на пятачке»… Можно сказать, «в трех соснах» заблудился… Этот случай я запомнил на все последующие годы и он стал мне очередным уроком.
Верхоянье
В Верхоянье, где были распространены флишоидные толщи — чередование алевролитов с пластами песчаников на крутых склонах гор, мы по склонам, практически, не ползали. Идя по долине, описывали их визуально, отмечая слои на хорошо дешифрирующихся аэрофотоснимках. А затем переносили данные на карту.
А на Сибирской платформе склоны сопок были залесены не так густо, как на Колыме, и заболочены не так сильно и проходимость здесь была несравнимо легче.
4. ВОДОРАЗДЕЛЫ
Плоские водоразделы сопок
А вот верхние части сопок на Колыме и их водоразделы это было сплошное раздолье. Они были плоские и выше 300-й горизонтали совершенно чистые от растительности. Лишь отдельные кустарники стланика с мелкими кедровыми шишками. Были сезоны, когда из-за жары комар пропадал и мы ходили в маршруты по водоразделам вообще в шортах.
Июль. Можно и в шортах.
Брусники и голубики по склонам было достаточно много и часто я просил Шульгину приготовить густое варенье. Чем еще порадовать в маршруте в обед молодой организм, как не чайком с куском свежего хлеба с маслом и вареньем…
На платформе вершины сопок были залесены так же как склоны. Негустым лиственничным лесом с подлеском из тальника и ольхи и слабо заболочены.
5. РЫБАЛКА
Очень любил я ловить хариуса на маленький тройничек с самодельной мушкой. Вода в ручьях и бочагах была настолько прозрачна, что хариуса было видно как в аквариуме.
В первые годы работ я выбирал и срезал ровное длинное удилище из молодого тальника и очищал его от коры. По началу оно было тяжеловато, но со временем высыхало и становилось легче. Я возил его с собой все лето, даже при перебросках на вертолете, но осенью, при возвращению на базу в Лобую, где у каждой партии была своя полка для снаряжения, я его не брал, как-то неудобно было. Так что по весне, при заброске на место работ, каждый год вырезал себе новое.
Но со временем я купил пластиковую складную (выдвижную) удочку, самую длинную из продающихся. А перейдя работать на Сибирскую платформу, где реки были более крупными и рыба была крупнее хариуса, приобрел и раздвижной металлический спиннинг с простой металлической катушкой. Леску использовал 0,8 мм с металлическим поводком от щук.
Колымский хариус
Жарили хариуса целиком на больших сковородах, а, потянув за хвост, легко отделяли хребет и ребра. Оставалось чистое мясо.
Как наживку можно было насадить на крючок несколько крупных комаров. А в жару появлялось большое количество слепней (оводов) — я их ловил на энцефалитке или собирал залетевших в палатку. Набивал два-три спичечных коробка, где они со временем засыхали, но их тоже можно было использовать, осторожненько насаживая на тройничок. И хариус, и ленок хватали его моментально.
На удочку с поплавком…
Блесну специально я не подбирал. И ленок, и таймень брали на любую. Наши рабочие утаскивали из столовой персональные металлические ложки и изготавливали блесна из них. Так что свою ложку я после обеда уносил с собой.
Как-то на реке Березовка, в конце августа собрался на полевой базе весь коллектив партии Боброва. Вдруг раздался крик Жени Дыканюка:
— Хариус идет!
Женя Дыканюк
Все, похватав удочки, высыпали на берег речки. Рыба скатывается, обычно, дня три. И пошла потеха… Заброс, поклевка… заброс, поклевка… Кто ловит, кто потрошит, кто засаливает… Все дружно, на всех… Через три дня засолки можно развешивать для просушки и завяливания! Есть гостинец, которым можно родных в Москве угостить.
Ленок
В Верхоянье мои приятели-коллеги предпочитали ловить хариуса на удочку с поплавком, т.к. вода часто была не так прозрачна. Они даже брали с собой из Москвы коробку с землей и червяками, которых они подкармливали спитым чаем.
А на притоках Оленька хариуса практически не было — его вытеснял ленок. Ловил я его и на телескопическую удочку и на спиннинг, жарили кусками. Я очень любил, отварив ленка и отделив кости, перемешать его с майонезом, баночки с которым отправлял из Москвы по весне авиагрузом.
Рабочие моего отряда в маршруте в обед говорили:
— Мы пробу сами отмоем, ты ленка поймай, салатик сделай…
Ленков мы жарили, засаливали, вялили. Порой их было столько, что ловить можно было просто из спортивного интереса: поймаешь — отпустишь… поймаешь — отпустишь…
Иваныч с тайменями на р. Оленёк
На самом Оленьке можно было и тайменя крупного вытащить. Он предпочитал стоять у устьев небольших ручьев, откуда поступала более прохладная вода.
Я помню, как Осташкин научил меня ловить тайменей. Мы вышли на вездеходе на р. Оленек и встали на стоянку у устья ручья. И одновременно к нам подплыл на плоту из бочек отряд Осташкина.
Как только палатки были установлены — 15 минут и они стояли — жерди для них я возил с собой (даже в вертолете), вместо колышков — металлические пальцы от траков гусениц вездехода, и раскладушки, чтобы не терять время на изготовление нар. И Осташкин, взяв спиннинг, сказал мне:
— Пойдем, посмотрим…
Он подошел к устью ручья, откуда в Оленек текла более холодная вода и закинул блесну в Оленек.
Первый заброс… и он выволок на берег здоровенного тайменя, килограммов на двадцать.
— Давай, кидай… — сказал он.
Я взмахнул спиннингом… и моя любимая раритетная медная блесна, которую я нашел недавно в старой избушке, блеснув на солнце, сорвалась с лески и плюхнулась в воду метрах в 50-ти от берега… Я только рот открыл от удивления — как это я умудрился ее так плохо закрепить. А Осташкин уже вытащил второго… Закрепив на поводке новую блесну, я опять взмахнул спиннингом, и, не успела блесна уйти под воду, как я почувствовал резкий рывок. Есть! Схватил!
Таймень
Испугавшись, что я его не вытащу, я протянул спиннинг Осташкину и крикнул:
— Игорь Михайлович! Вытащите…
— Давай, давай сам… — сказал он.
Я поднял спиннинг вертикально вверх, как это делал он, и пошел пятясь назад, но лицом к воде.
Таймень послушно и спокойно шел за мной. Подведя его поближе, я убыстрил шаг, наклонил спиннинг поближе к земле и побежал от воды. Таймень сам выскочил на берег. Мы вытащили тогда штук семь этих рыбин. И ведь что интересно, чем мельче таймень, тем больше он сопротивляется. А крупные тащатся как чушки. Они шли как торпеды и сами пулей вылетали на берег.
А однажды, сплавившись недалеко от поселка Оленек с Лешей Шишковым, мы поставили палатку и поставили небольшую сетку. Проверив ее через пару часов, мы вытащили приличного тайменя килограммов на десять и даже задумались, что с ним делать — рыбина большущая, а нас всего двое. И Алексей показал мне, как коптить рыбу в ведре. На дно ведра он положил веточки тальника, а на ведро сеточку из проволоки и в нее порезанную рыбу. Накрыл крышкой. Ведро поставил на угли. И пока мы готовили еще и уху из тайменя, часть его потихонечку коптилась.
Щука
На Оленьке и ее притоках мы ловили и щук. Они водились у берега в траве, где охотились на молодняк. Они на молодняк, а мы на них.
Бывало, закинешь блесну подальше и тянешь к берегу, а у берега из травы вдруг торпедой выскакивала щука и хватала блесну. Пришлось к блесне металлический поводок приспособить, чтобы леску не перекусила.
Помню, как-то, я зашел в воду в болотниках подальше от берега и встал еще на небольшой валун, который был под водой. Кинув несколько раз спиннинг, я почувствовал, что к моей ноге кто-то подплыл. Я скосил глаза и замер: возле ноги видна была только голова щуки, да такая здоровая, что я даже испугался — как бы не тяпнула. А башка у нее была аж зеленая от старости, как говориться «мхом покрытая». Она постояла и так же тихо отошла. То-то я в этом месте ничего поймать не мог.
Этот случай напомнил мне, как на Колыме мы нашли нашу уплывшую с паводком сеть, а в ней здоровенную запутавшуюся щуку метра на полтора. Какие же здоровенные котлеты мы из нее сделали! И какие же они вкусные были!
Вот так, случайные эпизоды запоминаются порой на всю жизнь.
Небольшой сибирский осетр
Зато в нижнем течении Оленька наш Иваныч поймал в сеть осетра. Тот зацепился усом за сеть и так неподвижно и стоял. Одно дело видеть такое по телевизору, совсем другое, когда у тебя на глазах вываливают из рыбины целый таз черной икры…
Иваныч ее умело отделил от связующих тканей и засолил. Гена Иванов запечатлел этот эпизод на любительскую пленку и каждый год в день геолога мы смотрели, как Леша Тимофеев у Иваныча в балке уплетает бутерброд с черной икрой, одобрительно подмигивая в камеру… А где же я был в это время?.. Наверное, бороздил просторы района на вездеходе или понтоне…
Нельма-молодь
Порой на Колыме, кроме обычных сигов и щук, в сети нам попадалась полуметровая нельма. До сих пор помню, как повар привозил нам на разрез в обед жареную на большой сковороде нельму и чайник какао.
Я как-то с гордостью похвастался ею перед подплывшими мужиками Рыбнадзора. А они с улыбкой заметили, что это мол молодь, настоящая промысловая Нельма метра 1.5 — 2 длиной. Вот уж я удивился!
Нельма-монстр
А в устье речки Укукит, левому притоку р. Оленек, куда мы доплыли с Димой Израиловичем, в сети местного рыбака я увидел крупного чира. Килограммов под десять, наверное.
Рыбак перегородил сетью всю реку. Нам пришлось ставить свою рядышком, и я каждый день проверял ее. Заодно поглядывал на чира. В полупрозрачной воде его было хорошо видно. Он, зацепившись за сеть плавником, неподвижно стоял неглубоко от поверхности.
Чир
Я не решался взять его, нельзя брать рыбу из чужих сетей, да и ребята посмотрели бы косо — каждому хотелось бы взять его. Но рыбак не приезжал и Чир мог пропасть. И на четвертый день я не удержался и вынул его. Засолил, затем подвялил — такой гостинец в подарок семье в Москве!
6. ОХОТА
Но ни в какое сравнение не шло то количество сохатых, которые мы встречали на Колыме. Практически мы постоянно были с мясом. На сохатого можно было наткнуться везде и мы предпочитали стрелять недалеко от лагеря, чтобы далеко не таскать. Часто я просил Шульгину наделать котлет.
— Тогда крути мясорубку, — говорила она.
И я с удовольствием крутил.
А как-то, работая в партии Боброва, на лагерь пришел Женя Дыканюк и позвал всех перенести мясо убитого сохатого в лагерь. А я тогда взял с собой в «поле» спаниеля и мне было любопытно наблюдать за его поведением в таежных условиях.
Спаниэль
Собаку взял у сестры и я был первый, кто взял в тайгу спаниеля. Собака была домашняя, со всеми вытекающими последствиями… Но по ее поведению я четко видел, когда она чует куропатку, а когда поднимет ее на крыло. К выстрелам она относилась совершенно безбоязненно и, даже при взрыве взрывчатки на шурфе, тут же кидалась к нему с лаем. А когда я сбивал утку и та падала в озеро, спаниель несся на звук выстрела и, на указующий показ руки, стремглав, без раздумий стремительно кидался в воду.
Так вот, подойдя к лежавшей на земле туше сохатого, я взял спаниеля и бросил на тушу — посмотреть, как тот среагирует на звериный дух. А пес приземлился на тушу, уселся, как ни в чем не бывало, и глядел на всех удивленно большими круглыми наивными глазами. Мы пошашлычили, разделали тушу и перенесли мясо в лагерь.
Кто-то взял рога, кто-то камус с ног.
Запомнилась мне одна история, рассказанная Сергеем Петровым, техником-радистом, с которым мы часто говорили о качествах «тозовки». Он как-то осенью наткнулся на сохатого и выстрелил в него из малокалиберки. Попал прямо в лоб — судя по тому, что там появилась белая точка, тут же ставшая темной. Сохатый мотнул головой и исчез в кустах. Преследовать его не было смысла.
На следующий сезон, проезжая в этом месте на вездеходе, они наткнулись на вскочившего в кустах сохатого. Сергей выстрелил из карабина, сохатый упал. Подойдя к нему, его добили выстрелом в голову, чтобы не мучился. Но, когда стали разделывать, следов первого выстрела не нашли… И сам сохатый был до того тощий, что и мяса-то на нем почти не было — «кожа да кости», говорят в таких случаях.
Так вот, я думаю, сказал тогда Петров, что это мог быть тот самый сохатый, которому я угодил осенью в лобовую часть, где сходились рога. Удар от пульки, видно, поверг его в «ногдаун» и какому-то сотрясению… Кое-как перезимовав, он к весне, видимо, совсем ослаб и отлеживался в кустах, не в силах подняться. А, когда мы проезжали мимо, он вскочил из последних сил, испугавшись шума вездехода, ломившегося через кустарник, и тут же упал от бессилия… Вот такое могло случиться…
Я же, со временем, все чаще стал отдавать карабин другим — что-то тяжко как-то мне стало смотреть в эти большие, грустные, застывшие глаза сохатых… Только уж если по необходимости — обеспечить отряд мясом. Ведь даже говяжья тушенка с каждым годом становилась все дефицитней, все меньше мы ее получали и все чаще вместо нее присылали свиную, в которой с каждым годом жира становилось больше, чем мяса…
Любил я и куропаток пострелять. Особенно непуганые они были на Колыме. Они, глупые, выдавали себя еще издали тревожным гульканьем. Но не улетали, а начинали перебегать между кустиков. Один выстрел по цели на земле, второй — на взлете. Иной раз лежишь в палатке… и вдруг шум крыльев приземляющейся стайки и гульканье. Как говорится, далеко ходить не надо.
Далеко ходить не надо…
Поначалу я куропаток и уток ощипывал. Затем мне это занятие надоело и я стал их обдирать, отделяя и кожу и перья. И быстро, и не утомительно.
7. КОМАРЬЕ
Об этой твари хочется упомянуть еще раз. Она тучей висела в воздухе и издавала даже свой специфический гул. Гул становился звоном, когда вылуплялись эти полчища молодых и голодных, охочих до крови, ненасытных животных. Они не спешили садиться куда попало, как более крупные, подросшие, а норовили сразу спикировать и вцепиться в тебя, прицепившись на лбу, щеках, шее и запястьях. Перезимовавшие зиму — крупные, грузные (мы называли их «юнкерсами» или «бомбардировщиками» в отличие от мелких «мессершмитов») небольшими ордами кружили над головой, и, не спеша пикировать, выбирали место для точного удара.
Мы часто недоумевали, откуда их столько и как можно так долго висеть в воздухе, ожидая добычи, вроде редких здесь геологов. Оказывается, они отдыхали, рассаживаясь на траве и кустарниках ольхи и тальника, и терпеливо поджидали забредшего в их владения крупного зверя — сохатого или дикого оленя, в достатке бродивших в этих местах. Домашних оленей им «поставляли» местные жители, проезжавшие мимо них по каким-то своим делам или кочующие, перегоняющие небольшие стада в поисках новых мест корма — ягеля.
«Твар такая» — как говорил Коля Твердунов
Но уж дождавшись добычи, они набрасывались на бедное животное всеми близ сидевшими ордами и облепляли его со всех сторон. Толстую мохнатую шкуру им было не прокусить и они сосредотачивались на их ногах и морде, залепляя глаза и ноздри. Кое-как стряхивая их с головы об ветки кустарника, одуревшие сохатые уже перли напролом сквозь чащу, только бы добежать до речки, где был ветерок и слегка продувало и залезали в воду…
У нас шкура не такая толстая и поэтому приходилось приспосабливаться по своему, с каждым годом совершенствуя свои навыки… По началу спасал диметил и накомарник. Я даже бороду отпускал, чтобы на курчавой бороде запах диметила держался дольше. Затем на руки стал надевать брезентовые рукавицы, а во время отмывки шлиха перчатки — резиновые тонкие (для супеси) или толстые (для суглинка).
На речке — и от гнуса спасение и покормиться можно
Накомарник сменил на пчеловодный, случайно увидев его на прогулке по Ленинскому проспекту (в обеденный перерыв) в витрине магазина «Пчеловод». Я показал его на работе своим коллегам, но и ребята, и женщины, к моему удивлению, отнеслись к нему как-то равнодушно и покупать не стали.
Пчеловодный накомарник
А мне он нравился, так как был больше, удобнее и спереди от лица сетку оттягивала дополнительная круглая проволока. Поскольку ткань накомарников была тонкая и комары легко протыкали ее своими хоботками, накомарники старались надеть кто на шляпу, кто на кепку, кто просто на капюшон энцефалитки.
А еще позже я сменил накомарник на «Сетку Павловского», которой пользовались геологи 50-х. Она носилась в маленькой специальной клеенчатой сумочке, была пропитана специальным густым составом на основе диметила и представляла собой матерчатую сетку с крупными ячейками и двумя тесемками. Тесемки завязывались на лбу, над козырьком шляпы или кепи, а сетка свисала по бокам, не загораживая лица. По виду она напоминала распространенную в 60-х «авоську». Мне сетку подарил отец. Запах диметила в ней давно выветрился, но я спрыскивал ее спреем от комаров «Дэта», который нам стали выдавать, и стал пользоваться ей.
Гена Иванов в «сетке Павловского»
Поначалу житье гуртом в 4-х местной палатке меня развлекало, но, когда появилась возможность брать отдельную персональную палатку, я стал брать ее. Старался брать из стареньких, но светлых (выгоревших) и выбрать с уже нашитой на вход марлей. Часто на вход нашивали плотную марлю от пологов.
Когда стали выдавать марлевые полога, мы поначалу даже не поняли, что это такое. Но я вспомнил, что видел в Зырянке полога натянутые над кроватями в коридоре небольшой гостиницы и мы стали использовать полога по прямому назначению. Выспаться теперь можно было совершенно спокойно и только вылезать из-под него утром в звенящее от «Мессеров» пространство палатки было противно. Иногда, при стоянке на одну ночевку, мы даже не ставили палатки. Просто расставляли раскладушки, натягивали над ними полога, привязывая тесемки к веткам деревьев или кольям, а низы подтыкали под матрас, кошму или спальный мешок.
Полог геологический
Но, получая со временем отдельную 2-местку, надобность в пологе у меня отпала. На вход я набрасывал легкий тент, об который стряхивал спину перед тем, как зайти, а внутри палатки можно было перебить проникших комаров или рукавичкой на окнах или уничтожить их, спрыснув внутри репеллентом «Дета».
8. ТРАГЕДИИ
Не проходило сезона, чтобы не случалось ЧП в каком-нибудь из подразделений нашего «Объединения». А в нем 12 экспедиций по всему Союзу. А в каждой по несколько партий и отрядов…
Каждый раз, когда по рации раздавался позывной центральной базовой станции и в эфире звучало:
— Всем начальникам подразделений!.. — как все замирали у раций и тревожно записывали текст радиограммы.
Обычно он был сухой и официальный: — «В таком-то подраз-делении… такой-то партии… в маршруте… погиб… и т. д. Проведите дополнительный инструктаж по ТБ и об исполнении доложите!»
И каждый раз сердце замирало — ведь это были знакомые тебе люди, с которыми ты был знаком, заходя в комнаты подразделений, поболтать или с каким-нибудь вопросом, или на собраниях, или сталкиваясь в коридорах, или у кассы за зарплатой, улыбаясь и перекидываясь шуточками.
И каждый раз, принимая радиограмму, первым делом ты думал: — Кто? Кто на этот раз?
И какой же болью сжималось внутри тебя после этих сообщений, особенно если это были сотрудники, с которыми ты работал и жил порой в одной палатке…
И ведь какими же нелепыми были эти случаи…
Так, погибла в маршруте от переохлаждения, заблудившись в дождь жена Юры Николаева, с которой я был знаком по первому году работы. Она с рабочим не смогла даже развести костер. Рабочий каким-то чудом добрался утром до лагеря, но спасательный отряд спасти ее уже не успел… Нелепо!..
Или Володя — молодой, но какой-то несуразный светловолосый геолог-палеонтолог с белесовидными глазами, короткими ресницами… хоть и крепкий парень, но какой-то неприспособленный на первый взгляд для жизни в тайге. Я работал с ним в партии Шульгиной, где он учился у своего наставника и специалиста Сидяченко Григория Ивановича, а затем его перевели в другую партию, работавшую в горах.
В маршруте, он со студенткой спускались по снежнику, и та спустила ему на голову камень… И он заскользил вниз… Но, остановился, снял рюкзак, достал платок и стал утирать голову… Но, видно, голова закружилась и он опять поехал… А ниже дыра стока… он в нее и угодил… Возьми левее, или правее и все бы обошлось! Но он был, видимо, в полуобморочном состоянии…
Будь рядом с ним рабочий, он бы просто схватил его за куртку и остановил. А студентка, видимо, растерялась… побежала в лагерь… Дело было под вечер, идти в горы ночью в темноте не рискнули. Утром, как только стало рассветать, спасательный отряд вышел на место происшествия. На месте нашли окровавленный платок, где он протирал голову, а на краю лунки видны были следы окровавленных ладоней, которыми он цеплялся за лед, съезжая вниз. Он стоял там и смотрел остановившимся взглядом вверх… Он замерз!
Вытащить вверх его было невозможно и тогда подрубили внизу под обрывчиком уступа, в который он угодил, дыру на уровне его ног и через нее выдернули… Ну, разве ж это не нелепость?!
А случай с Добрияном Валерой (я описал его в рассказе «Самый трудный…")! Решив доказать, что отравившийся рабочий умер не от его завяленного карася, он специально съел еще одного… И «ушел» вслед за рабочим… Бутулизм! Нелепость на нелепости!
У одной из сотрудниц нашей экспедиции сын работал в территориальной Амакинской экспедиции. И пропал в одиночном маршруте… Так и не нашли! У нас одиночные маршруты уже давно были запрещены. Да и неприятное это чувство, я вам скажу, идти одному… Вдвоем уже совершенно другое дело. На охоту за ондатрой я только в одиночку ходил, а в маршрут никогда!
Или вот, как рассказывали сослуживцы, работали в партии два человека и относились друг к другу очень не дружелюбно. И все это знали. И, вместо того, чтобы распределить их по разным партиям, их свели в одной. Причем, один был начальником партии, а другой старшим геологом. И, конечно, они сцепились… И оба принципиальные… И этот второй пришел с карабином: — Извинись! — говорит. Как там дальше было, кто что говорит… Вроде помешать попытались, схватились за карабин… А палец-то на спусковом крючке… И не стало человека… Выясняй теперь, кто прав, кто виноват!
В какой-то мере я почувствовал суть их взаимного непонимания и на себе, когда сплавлялся с одним рабочим с самых верховий речки Укукит, левому притоку р. Оленек. Мы сплавлялись на резиновых понтонах 500-ках с работой, отмывая укрупненными шлиховыми пробами притоки речки и еще я описывал основные разрезы рыхлых отложений для отчета.
Так вот, до встречи на большой стоянке, где собрались отряды партии, я доплыл на грани нервного срыва. Мы сплавлялись дней 10—12 и под конец понял, что просто не выдерживаю больше общения со своим напарником. Нет, он не был рабочим быдлом, он был с высшим образованием и работал учителем в школе… Я не знаю, как передать свои чувства от жизни с ним наедине… Он был исполнителен, без проблем и напоминаний выполнял работу в маршруте и готовил на стоянках, и был очень говорлив… Мы ночевали в одной палатке и я не мог сказать ему: — Помолчи! Это было бы очень невежливо. Приходилось терпеть.
Это чувство неприязни шло откуда-то изнутри и было трудно объяснимым. Было просто невыносимо и все!
И вот, проведя на общем лагере с неделю, мне понадобилось продолжить работу в нижнем течении реки. Переброску намечалось сделать вертолетом, т.к. сплав занял бы дней десять.
А о сплаве до намеченного участка я просто мечтал. Я наметил все предстоящие стоянки и небольшие озера, где надеялся, заодно, поохотиться на ондатру. Но теперь, я понял, что этот сплав может стать мне просто мукой
А тут еще здорово поднялась вода. Течение, которого до этого почти не было, стало стремительным и сильным, и казалось бы теперь только и плыть… Я с завистью и грустью смотрел на этот могучий поток, представляя, как здорово было бы нестись по нему самосплавом, но понимал, что не могу…
И поменять рабочего не на кого — все при деле, а лишних нет. Тимофеев говорит: — Плыви! А я взмолился: — Не могу!
Пробовал объяснить, но как объяснить такое… И я все-таки выпросил переброску вертолетом. «Локти кусал», но ничего не мог с собой поделать. А там уже соединился с отрядом Димы Израиловича и с его отрядом закончил сезон!
Это был один из последних моих сезонов, а их у меня было около тридцати, и ни в одном из них подобных проблем никогда не возникало…
Но, продолжим, — случай с Лешко! Молодой здоровый красивый парень! Осенью в Лобуе собрались вывезенные с полевых работ партии, всех поместили на ночь в большой комнате строящегося магазина. Ну, и, конечно, посредине стол соорудили и дорвались до спиртного, «накушались»… И понесло его спьяну по базе шататься… Да еще и жену сотрудника нашего оскорбить… Пьяный ведь, не соображает, что говорит… А на столе нож лежал, хлеб им резали. И не стало Лешко, не довезли до Средне-Колымска…
А один мой знакомый, тоже молодой красивый, я с ним любил поболтать… Так несчастная любовь довела… Не смог жене забыть… Но ведь ребенок у тебя! Живи ради него! Нет… Поехал на весновку, а там вставил карабин в рот и привет… А родителям какого?!
9. ДОРОГА. ТУДА И ОБРАТНО
«Любая дальняя дорога начинается с первого шага».

Это было самое неприятное… Ладно было в Московских авиакассах выстоять несколько часов в очереди с лимитированной книжкой за билетами, ладно было поскучать на двух часовых посадках дозаправки ИЛ-18 при полете до Якутска… Самым тяжелым и неприятным было ожидание вылета из аэропорта Якутска в Зырянку. Ждать приходилось, бывало, по нескольку дней. Полегче стало через несколько лет, после введения бронирования для транзитных пассажиров.
Только на первый год в Якутске был арендован, помню, дом и машина с водителем. Мы шикарно прождали тогда вылета в Зырянку где-то с неделю. Ездили на Лену загорать, купались, цепляясь за стоящую на отмели брошенную баржу, мимо которой нас проносило течением и забирались на нее… А затем подбазу ликвидировали., видно денег уходило много.
Аэропортовская гостиница Якутска была всегда переполнена и удачей считалось поместить там на ночь кого-нибудь из наших женщин в комнату, которую уже удалось снять кому-нибудь из ранее прилетевших. Из гостинной прихожей нас вечером выгоняли, а на втором этаже здания аэропорта удачей считалось занять освободившееся кресло…
Но не сидеть же в нем целый день. И днем мы прогуливались в центре города, заходя в большой промтоварный магазин на центральной площади, затем шли в кинотеатр, а под вечер возвращались в аэропорт.

Причем нужно было еще дежурить у касс, надеясь зарегистрироваться на отходящий рейс, если оказывались свободные места. Стоило сотруднице аэропорта выкрикнуть, что есть несколько свободных мест на регистрируемый рейс, как к ней через плотную толпу желающих улететь, толпу, через которую невозможно было пробиться, тянулись десятки рук с поднятыми вверх билетами. Она отбирала в первую очередь сначала кто с детьми; затем кто по справкам, затем женщин, и только потом, если оставались места, остальных.
Помню, мы сгрудились на рюкзаках в конце коридора у окна на втором этаже, а нас стали прогонять. Мы зашумели, что не уйдем и вызванный милиционер предложил провести ночь в его комнате на кожаном диване. Там мы эту ночь худо-бедно и провели.

Но вот наконец-то мы все же вылетали до Зырянки.
В дороге нас обдавало тепло столовых в местах промежуточных посадок ИЛ-14 в Оймяконе и Усть-Нере.
Особенно запомнились подносы со свежевыпеченными теплыми булочками и стаканами какао и киселя…
В Зырянке партия Каца поставила две шатровые 10-ки рядом со зданием аэропорта у забора метеостанции и мы часто наблюдали за запуском шаров метеозондов.

Из Зырянки до Среднеколымска часа 2—3 на АН-2. А из него 18 км на МИ-4 или на БМК до поселка Лобуя.
В поселке Лобуя, бывшем лагере Гулага, база была организована в здании бывшей администрации лагеря. Теперь, после ремонта, его занимала наша администрация и работники бухгалтерии. Они же занимали и жилые комнаты.

Сохранились, глазеющие пустыми глазницами окон, бетонные коробки, где стояли динамо-машины. Их, почему-то не использовали под жилье, которого очень не хватало, когда на базе собирались коллективы всех партий экспедиции.

Здание на обрыве над Колымой использовалось под клуб.

Мы ходили в него посмотреть какой-нибудь фильм. Причем, показав половину, киномеханик выходил и собирал по 30 копеек с присутствующих. Затем продолжал показ.
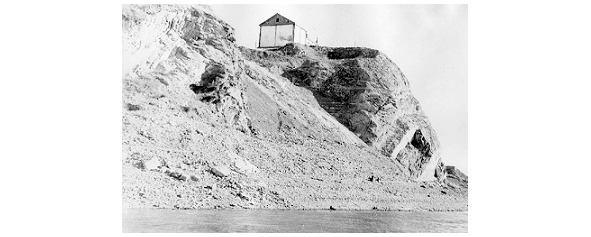
По краям поселка сохранились и остатки заборов с колючей проволокой.

Посредине площадки был построен склад, куда завозилось продовольствие и снаряжение для партий, откуда мы его и получали. В нем же были и полки для имущества партий. Построили и навес для столовой, где питались все сотрудники базы, где кормили и нас, что было очень удобно. Но жилья остро не хватало и позднее построили еще две бревенчатые избушки для начальника экспедиции и женщин бухгалтерии.
Мы же на ночь старались устроиться где придется. Это было проблемой и только одной осенью нас всех скопом разместили в строящейся новой избе магазина.

На сопке располагалась небольшая воинская часть радиосвязи с большими квадратными бело-красными антеннами.

Дорога осенью домой была так же неприятна, как и весенняя из Москвы.
Теперь обратно — до Средне-Колымска на вертолете или БМК, до Зырянки на АН-2, до Якутска на ИЛ-14.
Ну а в Якутске опять та же морока, только погода была уже даже не осенняя, а скорее предзимняя, холодная. Вылететь старались на любом проходящем рейсе — через Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Свердловск… Лишь бы вылететь!

Меня так раздражали эти ночевки в Якутске, что я придумал все-таки, как облегчить свою участь. Наученный горьким опытом этих ночевок, я стал брать с собой надувной резиновый матрас. Днем его можно было зафиксировать в положении «сидя», на ночь — «лежа».
Москва встречала меня обычно августовскими дождями и каплями дождя, стекающими по стеклу иллюминатора ИЛ-18 (или ТУ-104) в аэропорту Домодедово.

= = = = = = = = = = = = = = =
АНАТОЛИЙ МУЗИС
СТИХОТВОРЕНИЕ прО СНЕГ
Мы все морозным воздухом дышали…
Мы все любили быстрых санок бег…
И лыжный спорт, и зиму…
Но едва ли мы понимали, что такое снег!
А в эту зиму все пошло иначе…
Гудит война! И, всхлестнутый войной,
Над миром, с диким посвистом казачьим,
Гуляет зимний ветер ледяной!
Он бьет людей по одному и скопом,
Морозит ноги, обжигает нос…
Не в теплом доме, в поле по окопам
Переносить приходится мороз!
А если пули над тобою свищут,
А ты ползешь…
И ледяной пыльцой
Набьется снег тебе за голенища,
Забьет глаза, раскровянит лицо…
Когда по этой колкой белой пыли
До дзота вражеского все же доползешь
И дзот подняв наверх гремучей силой
Ты от снегов пехоту оторвешь,
И та пойдет вперед через ворота
Тяжелого саперного труда,
Ты, у тобою взорванного дзота, Поймешь тогда,
Тот, кто не видел черной крови сгустков,
Холодных губ и посинелых век,
Кто в зимний день не ползал по пластунски,
Нет, тот не знает, что такое снег!
1941
= = = = = = = = = =
О СМЕЛОСТИ
Четыре парашютиста безмолвно канули в черный провал люка и вслед за ними полетели тюки с радиостанцией, оружием, продовольствием. Настала очередь пятого. Он подошел к дверце и ухватился за ее край, готовясь к прыжку. И в этот момент у Телегина появилось ощущение, что сейчас произойдет что-то нехорошее.
Инструктор Телегин любил гармонь, тихие вечера на закате, рыбалку, а ему приходилось летать в тылы противника, выбрасывать литературу, оружие, группы подрывников и разведчиков. Отрываясь от площадки самолета, они падали на чужую, враждебную, неизвестную им землю. Одних Телегин знал и сочувствовал им: «Вот и они не увидят ни гармони, ни ласкового заката…». К другим относился равнодушно: «У каждого своя судьба, свое дело» — думал он. Его делом было подготовить парашютистов, проинструктировать их, проверить матчасть, помочь преодолеть ту самую секунду, что отделяет человека на твердой площадке самолета от пустоты зияющей бездны без опоры, без защиты. И на этот раз он также поторопил парашютиста.
— Ну!
Ответа не последовало. Парашютист не отвечал.
— Прыгайте!
Парашютист крепко сжимал пальцами косяк дверцы. Даже в темноте неосвещенного самолета видно было как он побледнел…
Телегин попробовал оторвать от косяка его руки, ничего не получалось. Впрочем, Телегин и сам знал, что рук парашютиста ему не оторвать. Самолет делал четвертый круг над вражеской территорией и Телегин нервничал. Темнота внизу молчала, но в любой момент их могли засечь вражеские зенитки и тогда, даже если бы и удалось уйти невредимым, задание все равно осталось бы невыполненным. Второй раз! Да, второй раз. Телегин возил этого парашютиста на выброс и второй раз повторялась с ним такая история.
— Бейте! — приказал он бортмеханику и стрелку-радисту.
Никакие человеческие пальцы не смогли бы выдержать подобное испытание. Парашютисту отбили левую руку, правую берегли — нельзя было выбрасывать разведчика без рук — но ничего не помогало. Парашютист стоял окаменев, не отпуская дверцу, не пытаясь оторваться и не произнося ни слова.
Вышел штурман.
— Долго вы еще?
— Да вот… — Телегин кивнул в сторону дверцы. Бортмеханик и радист все еще силились оторвать руки парашютиста, но тот, здоровый широкоплечий великан, стоял устойчиво, широко расставив ноги и вцепившись в дверцу мертвой хваткой. Два человека ничего не могли с ним поделать…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.


