
Бесплатный фрагмент - Праздник неповиновения
Забавный, несколько эстетский роман, полный фриков и нескучных приключений
Виталий Амутных
Праздник
неповиновения
РОМАН
Боги и люди совершают свои обыденные обряды.
Адипарва
Деятельность этих людей была занимательна
для меня только в смысле иллюстрации того
закона, который заставляет человека,
исполняющего самый несвободный поступок,
подделывать в своем воображении целый ряд
ретроспективных умозаключений, имеющих
целью доказать ему самому его свободу.
Лев Николаевич Толстой
* * *
Смрад поднимался от земли. Над колышущейся избурачерносерой массой, облепившей всю ширину площади, там и тут виднелись черные дымки мангалов, на которых жарилось мясо. К запаху жаренины примешивалась вездесущая здесь вонища горелой резины и керосина. Холодный сырой ветер то и дело накатывал зловоньем человеческих выделений.
— …а-а-а-а-а-а-а-а…
— …а-аньба-а! Га-аньба-а! Га-аньба-а-а!..
— Ой, а яки у ных тут магазыны! Зайдэшь — а унутрях, як у цэркви!
— Геть! Геть!
— Слава Українi! Слава Українi!
— Запысуйтесь у «Спильну справу»! Запысуйтесь у «Спильну справу»!
— Чай — кофе — капучино! Чай — кофе — капучино! Чай — кофе…
— Геть злочинну владу!
— Пойте Господу, живущему на Сионе!..
— Our people want to get to know your country still better. What youth societies have you?
— За безкоштовними обiдами — до польової кухнi! Кто пожрать — к полевой кухне!
— Can I have a veal cutlet? Why not? In which restaurant do they serve Welsh dishes?..
— Прильпни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселия моего!
— Україну в Європу! Януковича в жопу!!!
— What party do you belong to? Who is the leader of the your party?
— Геть! Геть!
— …а-а-а-а-а…
— Как сказал патриарх Майер Амшель Ротшильд, дайте мне управлять деньгами государства, и тогда мне дела нет до того, кто выпускает его законы…
— Слава Отцу и Сыну и Святому Духу…
— Олигархи дерут друг другу пейсы, а у хохлов чубы трещат!
— Вы ест сердце Европа! Этот день судьба Европа решается на Майдан.
— Україна понад усе!
— Абсурд… Абсурд…
— Москалiв на ножi!
— Українськi прапорцi. Купляємо! Купляємо!
— We invite you to the press conference.
— Мы будемо рвать тех собак, тех подлюк!..
— Україна — це Європа! Україна — це Європа!
— Пошла вон отсюда, тварь педикулезная!
— L’Ukraine était déjà la grande civilisation quand la Russie n’existait pas!
— …москалiв на ножi!..
— Цигарки-пиво-пирiжки! Цигарки-пиво-пирiжки!
— Араба, бардак, ками, анта, далга, элбиси, фаре, газете…
— Мы будемо рвать тех подлюк!..
Зыбкая черная пленка, одевавшая черную землю, едкая, вонючая; пленка, тем не менее, способная воспринимать и кое-как осмысливать внешние объекты, шумливая, лихая — этот образованный людьми субстрат становился все горче, все токсичнее. Все удушающей делались производимые им испарения, шум и главное — мысли. Все наглее, все настырнее ядовитый продукт жизнедеятельности расползающейся человеческой суспензии мытарил затерзанную землю. Все глубже проникал в ее тело, разъедая, отравляя, уязвляя его. Застонала земля, зарыдала, захлебнулась слезами. И тогда стали на землю сходить Боги… ………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Грациозно ставя узкую стопу на качкие студеные ступени черных с просинью, с белесоватым отливом, зимних облаков… Нет, не так. Твердо ставя могучие лохматые лапы на трепетные тучевые уступы… Хотя, может быть, вам не близок зооморфизм. Возможно, и миксантропизм вы не решились бы поддержать. Тогда так: подобные сполохам цветных молний, в рокоте громовных раскатов… Нет? Не по сезону? Быть может: в виде загадочных огней Святого Эльма Боги нисходили долу от своего небесного обиталища? Впрочем… Какая разница, какую форму может принять природа разумного духа! И почему непременно его местом постоянной дислокации должно признавать воздушное пространство? Туманными тенями, неявственными вздохами-лепетами, неизъяснимыми уплотнениями мысли… целиком или отдельными своими частями… Но все-таки Боги рассудили, что у них появились основания проведать многострадальную Землю. Навестить для блага всех миров.
Вообще-то, говоря о тех сверхсуществах, точнее было бы назвать их Полубогами, ибо, что бы там ни втирали в уши простолюдина служители отдельных религии, Бог, он у всех народов, во всех культурах всегда был один. «Многобожие» (если, конечно, слово не использовано в качестве стилистической фигуры, нарочитого нонсенса) — это феномен не культурный, не географический и не исторический, а социальный. Это чернь во все времена не могла собрать воедино даже несколько божественных аватар, инкарнаций всепроникающего аспекта Всевышнего. Как сказал бы Посидоний, — ипостасей. Просвещенное же сознание от начала времен никакой закавыки в данном вопросе не усматривало. Такое и прежде бывало: в напряженный час, к народам, претерпевающим бедствия или какие-то судьбоносные передряги, являлись Полубоги. (Для удобства будем называть их Богами). Если честно, то вряд ли кто возьмет на себя смелость объяснить, что понуждает их оставить свою Вайкунтху или какой иной Парадиз, зачем, собственно, они заявляются к нам с визитами. Впрочем, вряд ли когда человеку доведется постичь божественную природу. Не в том его (человека) назначение. Нельзя сказать, что припожалуют Боги к нам в драматичные моменты с целью в чем-то помочь, как-то облегчить нашу участь. Невозможно с уверенностью утверждать и обратное — будто как раз для того Боги иной раз посещают нашу жестокую юдоль, чтобы еще более наэлектризовать обстоятельства, еще сильнее воспалить ситуацию. Может, они и не исчезают никогда, а просто выказываются определеннее при многозначительных пертурбациях. А вот каковы их при том цели, задачи?.. Тайна великая.
В те дни жителям и многочисленным гостям города Киева приводилось сталкиваться с чем-то таким… запредельным, что вроде, как и невидимо, но как бы, и видимо… отчасти… иногда… С тем удивительным, что подчас кажется неподвижным, а временами — молниеподобным, о чем можно было бы сказать — «нечто, постигаемое одним только переживанием». Впрочем, далеко не каждый, кому выпадало такое свидание, способен был различить даже то смутное чувствование, ощущение рядом чего-то непреложного и вместе с тем тончайшего. Ведь большинство людей всечасно слишком заняты насущными проблемами отпущенной им повседневности.
Вот и напротив окон Андрея Платоновича, на уровне антаблемента здания, расположенного на противоположной стороне улицы, показалось что-то такое… Блеснуло?.. Вздохнуло?.. Но Андрей Платонович ничего не заметил, поскольку был, так сказать, увлечен обсервацией совсем иного явления, предметного, вульгарного, чреватого чем-то зловещим, потому что в это время смотрел вниз.
— Абсурд… Абсурд… — отступив от окна, проговорил про себя Андрей Платонович, и второе слово даже почти обрело звук.
Четверть часа он наблюдал, как под окном, в ущелье улицы, промороженной бесснежным чумазым началом зимы, протекала, меняя плотность, толпа. Бубнила. Ревела. Затаенно сипела. Редкие снежинки, чей тайный десант был выявляем светом того или другого окна, вдруг прочерчивали серые косые штрихи и надолго терялись в черноте. Стены домов, асфальт, сами бредущие люди — всё было черным… Или каким там?.. Может быть, избурачерным, смурым, и при том промерзшим, ледяным. Лед этот каменный тоже был черным, грязным, смутно посверкивал под дряблым электрическим светом. А всё то, что укрывалось в щелях и провалах, казалось каким-то мохнатым, точно было законопачено, заткнуто, затянуто звериными шкурами бусой шерсти. Однообразное это зрелище хоть и надокучило за последние дни, всё же приковывало взгляд, приневоливало сознание пытаться предугадывать события, способные из него произрасти.
Вдруг тьма спустилась, будто при затменье,
Я замер с орхидеями в руке…
Как грязен мир, как слеп и неразборчив!
Там губят все и завистью живут.
Непроизвольно Андрей Платонович вычертил губами эти строки Цюй Юаня — поэта, еще современниками признанного образцом благородства и непреклонности. Прошептал почти беззвучно. Повернулся. Какое-то время постоял, прислушиваясь к переменчивому рокоту за стеклом. После чего решил вернуться в свой крохотный зимний садик. Прошел через комнату, прошел через другую, выходящую в чудно´ тихий колодец двора. Эта комната имела довольно большой балкон, оборудованный под теплицу. Орхидариум. Который хозяин называл выспренно «Павильоном орхидей».
В это время года уж после трех часов Киевом начинают овладевать мутные безотрадные мерзлые сумерки. Теперь было вовсе темно, и в этом хмуром сумраке балкон-орхидариум озарял все вокруг просто неземным сиянием. «Как хорошо, что балкон выходит во двор, а не на улицу, — вновь подумалось Андрею Платоновичу, лишь только он притворил за собой белую дверь теплицы. — А то такой яркий свет только раздражал бы их… тех… тех… этих… людей…» Им созданная вселенная, столь антитетическая темному декабрьскому миру, состояла всего из нескольких кубических метров воздуха, теплого и тяжко влажного, насыщенного ослепительным светом, дерзкой яркости зеленью и странными ароматами нездешних цветов.
Прежде всего, в глаза бросались огромные цветы каттлей, с лепестками многокрасочными, удивительнейшего, диковинного излома… «Излом орхидей… Излом орхидей… — вдруг завертелось в голове Андрея Платоновича. — Откуда это?» К почину каттлей успели присоединиться некоторые цимбидиумы. Массивные гроздья тяжелых крупных цветов с толстыми лепестками, точно вылепленными из цветного воска, то зеленого, то коричневого, то розового с пунцовой крапиной, сгибали длиннющие пруты цветоносов, как бы испытывая их на излом. «Излом…. Излом орхидей… Странно…» Свесившая из пластмассовой корзинки чуть ли не метровую бороду толстых белых удивительнейших корней, голубая ванда также украсила себя цветоносом. Из имевшейся на нем дюжины бутонов раскрылся пока только один цветок — округлый, на белом поле лепестков синяя сетка ажурного узора. Декабрь. Во всю колосились метелки людизий, похожие на прореженные кисти белой сирени. Белые, они матово сияли на фоне темных листьев, точно вырезанных из пурпурно-коричневого, черно-зеленого, сумеречно-багряного бархата, прошитого нитями-жилками червонного золота. Именно эти ювелирные листья людизий, анектохилусов, макодесов, способные на свету переливаться десятками восхитительных оттенков, дали повод орхидологистам выделить их в отдельную группу и назвать ее — «драгоценные орхидеи». Свет, преломляясь на поверхности драгоценного листа, как бы обволакивает… «Излом… А! Конечно. „Излом орхидей“ — это название китайской пьесы».
Чу, призывные гонги —
«Излом орхидей"* за рекой!
Дружно лодки спешат.
Сами собой всплыли строки из поэтического цикла «Двенадцать лун», сотворенного Ма Чжиюань. «Да… Да… И с надорванным сердцем стоит человек у земного предела…»
Андрей Платонович не был синологом. Андрей Платонович не был ботаником-орхидологистом. Просто он любил орхидеи. Любил китайскую поэзию, китайскую каллиграфию, живопись, философию. У него имелся даже великолепный столик из тикового дерева, выполненный в лаковой технике династии Мин, красный, с интарсией, с ажурной царгой, на котором были удобно расположены перья, дорогие желтые волчьи кисти, заячьи и даже кисти из лебяжьего пуха. Кроме того, разумеется, там присутствовала изящная тушечница белого нефрита (как было особенно модно в эпоху Хань), брусочек самой туши (в которую, конечно, были подмешаны мускус и гвоздика) с рельефом дракона, и толстая пачка листов превосходной бумаги. гладкой, лощеной (источающей едва уловимый аромат сандала) цвета неотбеленного хлопка. Ведь хорошая бумага вдохновляет художника. А стиль обладает формообразующим значением. Поэтому с ним Андрей Платонович стремился согласовывать не одни лишь инструменты творчества, не только плоды вдохновения, но и свои мысли, поведение, окружение, всё — вплоть до этого красного тикового столика.
А работал Андрей Платонович в киевской мэрии. Служил. В департаменте общественных коммуникаций. В управлении по вопросам внутренней политики и связей с общественностью. Первым заместителем начальника управления. Будучи рожден в семье пусть не самых знатных, но и не последних партийных функционеров советских времен, Андрей Платонович был попросту обречен на светлое будущее. В обиходном, разумеется, осмыслении данного понятия. И то, занимаемая им должность представляла собой чисто синекуру. (Конечно, это было не столь урожайное место, как юридическое управление или департамент строительства и жилищного обеспечения, департамент земельных ресурсов). Ведь никаким серьезным трудом никто на том ярусе начальствования, на котором находился Андрей Платонович, обременен не был. Его заместитель (заместитель заместителя) Феликс Эфройкин любил время от времени повторять веселую сентенцию, знанием которой он очень гордился: посвящать делам службы следует не более пятнадцати минут в день — чтобы успеть раздать подчиненным задания. Но то, что было естественно для Эфройкина, Андрею Платоновичу представлялось не столь праздничным. В то же время отказаться от доходного места он тоже воли не имел. Так и продолжал складывать некие отпечатанные на принтере бумажки в пластиковые файлы. Файлы — в канцелярские папки. Папки — на полки в шкафы. Подписи, телефонные звонки, встречи с какими-то людьми. Людьми настолько, с его точки зрения, странными, что те воспринимались Андреем Платоновичем едва ли не как фантомы, не очень умелые списки с человека, театральные образы-персонажи, вообще — некие аллегории, иносказания. И вновь — мокрые печати, звонки, бланки, звонки, ручки, скрепки, звонки, принтеры, степлеры… Да… Андрей Платонович с трудом переносил горечь официальной службы и, если честно, свои чиновничьи обязанности исполнял с отвращением.
Я весь в орхидеях,
цветущих в безмолвии гор.
О, как я хотел бы
бежать от мирской суеты,
Навеки забросив
чиновничий жалкий убор!
Весь в орхидеях, в данную минуту, Андрей Платонович прислушивался к беспокойному перегуду, упрямо стремившемуся просочиться сквозь микроскопические поры практически герметизированного балкона-теплицы. Сюда этот шум вкрадывался совсем хлипким, едва уловимым. Но и в таком, вельми притупленном качестве, он умудрялся удерживать некую отталкивающую физиологическую ноту — то ли стон недужного, то ли находящегося в течке животного…
Среди тонких струй орхидейных ароматов Андрей Платонович уловил проскочивший плесенный душок. Конечно, то заявил о себе бульбофиллум медуза. Это миниатюрная орхидея, чьи цветы напоминают пучок свисающих седых волос. Или — НЛО, шарящий тонкими лучами под собой, каковым изображают его популярные издания. Или в самом деле, может быть, этот цветок похож на медузу, морскую… либо на раскосмаченную голову мифической,… С чем угодно можно было бы сравнить тот цветок, но только не с цветком. Андрей Платонович взял в руки небольшой горшочек, в котором помещалось мелкое чудовище — запах плесени усилился. «Все-таки страшненькая какая», — подумал. Повертел горшок в руках, рассматривая растение с разных сторон. «Но ведь и та, дочь Форкия, со змеями вместо волос, чей взгляд всех смотревших на нее обращал в камень, тоже ведь в кралях не числилась. А между тем, из тела обезглавленной Медузы, как известно, родился Пегас — волшебный крылатый конь, да, тот самый, ударом копыта которого из горы Геликон был высечен источник вдохновения — Иппокрена. Ключ, чей ритм пробуждает некую поэтическую сущность, и по сей день (пусть и скудно) подпитывающую истощенный страстями мир. Одни скажут: диалектика. Другие скажут: сущность Безымянного — начала неба и земли». Андрей Платонович провел подушечкой указательного пальца по ярко-зеленому овальному лаковому листику, такому истинному, такому подлинному. Удивительная его гладкость представлялась таким же знаком бессмертия и вечности, как и любая другая форма, вышедшая из хлябей космической потенции и соединенная со всей вселенной одушевляющим ритмом. Воистину, вселенная скрывается в зернышке! Вселенная помещается в листике. Любуясь гроздьями созвездий, волнами облаков и гор, извивами рек, телом человека и прихотливым изломом лепестка орхидеи, у смертного есть шанс проникнуть духовным взором в их скрытую сущность и обрести кратчайший путь приобщения к Тому, кто имеет мириады имен, а, в конечном счете, не имеет имени. Несомненно, все эти зримые образы — всего лишь некие взлетные маячки для духа, готовящего себя к полету. Любуясь ими — ликами истины и красоты, просветляется зрение, очищается дух… Еще чуть-чуть и живописцу откроются самые-самые настоящие значения. Литератор, уняв метания и страх, найдет единственно верные слова. Но главное — и тот и другой только тогда и смогут ощутить удовлетворение от сознания исполненного долга.
Взгляд мирно скользил по дивным цветам, восхищаясь непостижимым вкусом, изобретательностью и даже юмором их создателя. А внутренний взор ухватывал той минутой некую мистическую взаимосвязь меж зрителем и этими сокровищами Творца. Сосредоточение внимания на данном объекте пробуждало мысль, что самое это внимание вызвано взаимодействием между духовным воплощением родственных явлений, между объектами одного и того же рода. Еще Конфуций говаривал, что вещи одного рода обречены на взаимотяготение. Огонь — к сухости. Вода — к влажности. Облака — к дракону… Что в состоянии соединить его, первого заместителя начальника управления по вопросам внутренней политики киевской мэрии, и удивительное существо под названием орхидея? Наверное, это способность ценить постоянство, без которого невозможно создать ничего значительного. Это способность контролировать дарованные свыше силы. Силы, необходимые для того, чтобы достичь процветания своих замыслов. Орхидеи, размышлял Андрей Платонович, как и его самого, можно назвать образцом терпеливости, силы воли и жизнелюбия. Во всяком случае, именно этими своими качествами невероятные растения мобилизовывали его мысль. Орхидеи восхищали тем, что, проживая на какой-нибудь ветке, между небом и землей, они способны создавать сами себя из воздуха и света да еще из дождевых капель, а плод их творчества — ошеломляющие цветы — обнаруживает красоту столь пронзительную, что устоять перед ней сможет разве что самое бездарное сердце.
Андрей Платонович столь глубоко погрузился в помыслы о данном предмете, что, похоже, дух его, действительно, стал освобождается от всякой частной мысли. Он уже был близок к тому состоянию, которое, по мнению Лу Цзи, одно дает человеку способность «заключить небо и землю в клетку слов». И в Андрее Платоновиче совсем уж вызрело намерение переместиться за стол… Нет, не тот, тиковый, для занятий шрифтом. Андрей Платонович имел еще одну заветную склонность — пописывать небольшие тексты, стихотворные либо прозаические, и для этого у него тоже имелось специальное место. Но тут из соткавшейся было почти мистической неги его вышвырнул внезапный всплеск за стеклами орхидариума почти увявшего было шума.
— Банду геть! Геть! Геть!..
— Європа! Ми є тобою!
И опять потянуло туда, к окну комнаты, выходящему на противоположную сторону дома. Андрей Платонович, еще раз любовно оглядев орхидею-Медузу, нехотя возвратил оную на принадлежащее ей постойное место и покинул орхидариум, плотно притворив за собой дверь.
Темный людской поток все тек и тек, все шли и шли рваной толпой смурые мужички и бабы, вышагивали какие-то в военном камуфляже, много молодежи — развеселой, точно попавшей на карнавал, эти — с желто-голубыми флагами атамана Калнышевского и Петлюры, черно-красными — анархо-синдикалистов и галичанских ультраправых начала двадцатого века, те — с дубинами, домодельными, эти — с дорогими магазинными бейсбольными битами. Фанерные щиты. Пластиковые щиты. Металлические щиты. Обрезки труб. Обрезки стальных прутов. Тут же плелись и маркитанты — кто с лотком бутербродов и пирожков собственной выпечки, иные — груженые бутылками пива и лимонадов с оптового рынка, в надежде выгодно их перепродать в месте столь многолюдном и страстующем. Здесь же волонтеры заморских организаций, якобы проповедующих человеколюбие, всем предлагали бесплатные презервативы. У одних толпежных людей были в руках лопаты, другие несли канистры, некоторые же шагали налегке, но шагали, не отнимая от уха мобильных телефонов, напряженно обсуждая что-то с далекими собеседователями.
— Нi корупцiї! Нi брехнi!
Среди торчащих из людской черной каши лопат, дубин, флагов были и сенные вилы Васыля Грыцюка — обычная селецкая железная тройчатка. Правда, украшенная бантиками из желто-голубых ленточек. Вилы Васылю выдали в штабе майдана. Сам он ни в жизнь не додумался бы прихватить из родной Яровки столь обыденную и непрезентабельную вещь. Начальник четвертой сотни, из рук которого было получено столь родное сельскохозяйственное оружие, велел нести его с достоинством, поскольку железная тройчатка будто символизирует трезуб — Знак Княжеской Державы Владимира Великого. Васыль в школе учился плохо. А вернее сказать, так и вовсе почти не учился. Может, оно дело и хорошее, ученье, коль о том постоянно говорят, а только нет в сельском укладе столько времени, чтобы много тем заниматься. Корова, свинья и зимой есть хочет. Дел всегда столько, что имей хоть сто рук, всё равно всего не переделаешь. А ведь хочется, чтобы огород не хуже, чем у Порошенчихи. Чтобы братья Семищенко злыднем не обзывали. Чтобы накопить на мотто-косу, как у Петра Наливайко. И забор вечно так и норовит покоситься. И в курятнике… И… А крыша, как дождь, так и норовит прохудиться. Да и школу, из-за ветхости ее, частенько закрывали. Так что, ходить по науку надо было в соседнее село. А это уж… К тому же в сельскую школу Васыль захаживал первые два класса, курс одного из которых по причине неуспеваемости ему пришлось прослушать дважды. В десять лет Васыля сдали в интернат. Там дисциплина, конечно, была армейская. Да и «дедовщина», не иначе, оттуда же позаимствована. Надо было исхитряться, чтобы добывать какие-то копейки в качестве дани старшим и наиболее агрессивным однокорытникам. Опять же — на сигареты. Ведь сигареты — это и валюта, и откуп от внеочередной зуботычины, и респект. Короче, на многие вещи приходилось отвлекаться. Посему Васыль Грыцюк до своих тридцати четырех лет так и не сподобился узнать, кто такой Владимир Великий, и чем он там велик. Не знал он, что до Владимира князя такой же значок внушал расположение и Рюриковичам, Чингисхану, и хану Джучи, и хану Батыю. А до эпохи героев он будто бы был симпатичен и Богам — Агни, Варуне, Шиве и его Дурги, а также Ишкуру, Тешубу. Пользовался им даже Посейдон… У римлян — Нептун. Вот про Нептуна Васыль что-то такое слыхивал. Кажется, в пионерском лагере, куда ему единожды привелось проникнуть, не смотря на то, что для колхозной детворы в летнее-то время находились занятия куда более важные. Попал в пионерлагерь как раз перед тем, как эти воспитательно-оздоровительные учреждения из самых обычных и общедоступных превратились в удовольствие, вероятное разве что для детей самых богатых перекупщиков и самых удачливых фермеров. Там, в пионерлагере, было что-то связанное с Нептуном… У Нептуна имелись, возможно, какие-то вилы… Праздник, что ли, какой-то? Больше про трезубец Васыль Грыцюк ничего не слыхивал.
— А шо, їй там i краще. Вдома, — на ходу отвечал кому-то из своих новоявленных дружков Василь Грыцюк, и голос его при том в обстоятельствах возбудительных, пьянящих, насквозь проникнутый непреходящей приподнятостью, сообщал несложным речам его изрядную долю потешности. — Вона — жiнка. А я — козак. Я тут можу майданувати хоч сто рокiв!
— Нравится здесь? — из общего гуда разноречия и шаркающих-топочущих ног бодро вынырнула веселая подначка.
— А що ж може бути ще краще?! Лiжко — задарма. Кулiш — задарма. Iж, хоч лусни. Одяг ось дали теж задарма. А Даринi, їй вдома i краще… їй i без мене добре житии. Нехай вдома…
— Дарина — то жинка твоя?
— Ну… так. Цивiльна. Ми до церкви не ходили. Так жили… їй там кращє. Сина народила. Краще, щоб вона там… їй I без мене добре жити. Не голодує. Звикла. А я тут можу майданувати хоч сто рокiв!
— А кем хочешь в Самообороне быть?
— Завхозом хочу, — простодушно признавался Васыль, и на его грубом носатом лице проступила легкая улыбка провидца, мысленным взором распознающего осуществление мечты. — А жiнка нехай вдома сидить…
— Ну а как захочешь кочерыжку попарить? — задорно хохотнул вышагивавший рядом с Васылем только недавно обретенный им корешок.
— Так це… того… — переконфузился было Грыцюк, поскольку никогда в неистовых селадонах не числился; но с младых ногтей усвоивший науку своей касты возводить в кумир женолюбие, скоро нашелся: — Так якщо треба кудись качан припасувати…
Раздавшийся несколько из-за спины женский смех, грубый, разбитной, заставил его оглянуться. Хохотали две кургузые бабенки, обе лет на десять старше Васыля. У одной в руках был желтый плакат на палке с синей надписью «Не всеремось! #Евромайдан», у другой — флаг партии «Свобода» — желтая кисть руки, оттопырившая три пальца, на голубом поле. Как бы застуканный врасплох, Грыцюк смутился более прежнего, оттого и бухнул шутоломом громче обычного:
— Якщо качан припасувати, так я он у дiвчат попросю. Вони не видмовлять!
— О-ой, кобелюга! — еще бедовее зареготала пара крепких коренастых женщин, в соответствии с каноном простонародного кокетства резко повышая голоса, отчего те сделались пронзительными до невыносимости. — Кочан у него! Ты слышала: кочан!
— Пристроить захотел! Да кочан ли там у тебя?! — особенно боевито выкрикивала та, у которой поверх серой вязаной шапки был надет аляповатый венок из тряпичных подсолнухов, роз, маков и прочих больших и ярких цветов. — Да у тебя, может, там огрызок от сосиски, а не кочан!
Блудливое гоготание соседей, слышавших нарочито зычные выкрики развеселых баб, залило краской ту часть щек Васыля Грыцюка, которая не была прикрыта долгой щетиной. На этот гогот спереди наплывал время от времени истошный голос невидимого закликалы:
— Україна!..
— Понад усе! — всякий раз отвечали его призыву десятки людей. Сзади несколько человек не слишком слаженно драли глотку:
— Україна — це Европа!
Какие-то голоса, нетвердые от усталости, также присоединялись к ним. И все-таки в этой части толпы бенефицианткой была, несомненно, шутиха в цветочном венке.
— Я бы, может, и дала, — не переставала она орать, чуя поддержку стаи, инстинктивно порываясь услужить артельному вожделению, — так ты давай-ка мне вот покажи… — всё продолжала перетирать одну и ту же шутку бойкая бабёха.
* * *
Звали ее Маричкой. Приехала она сюда с Любкой Сандуляк, вдовой кумой двоюродного брата. Из села Жабьего, что рядом с Говерлой, и рядом с румынской границей. Может, Маричка и не поперлась бы в такую даль, но товарка застигла ее в таком состоянии, в таких растрепанных чувствах…
На весну, на лето жабинцы отправлялись на заработки. Некоторым удавалось добраться до Киева, до Москвы даже, и там, по местным представлениям, грести деньги лопатой. Кому особенно повезет, поселялись там и жили годами, работали кем придется, и только слали своим родственникам добытые деньги, чтобы те где-то надежно их схоронили либо употребили на поддержание хозяйства. Самым счастливым удавалось вырываться в Мишкольц, Белосток, Кошице, Люблин. Кто-то добирался даже до Лодзи, Кракова, Варшавы и Брно. Но не всем, далеко не всем так везло. Большинству приходилось изыскивать менее прибыльные и более хлопотные занятия. Как только приходили первые теплые деньки, жители поселка бросались в лес ломать красные ветки верб, обсыпанные белыми пушистыми цветочными почками — котиками. Этот товар на месте не стоил ничего. Да и вообще, чтобы вязанки этих веток сделались товаром, их нужно было вывезти в крупные города, и там, проводя по перекресткам на мартовском морозце дни за днями, этот прутняк мог превратиться в деньги. Нужно ли говорить, сколько трудностей, сколько опасностей подстерегало в этом предприятии: и в борьбе за лучшее место, и в договорах с местными милициантами, хулиганами, всякими передрягами под кровом снятых лачуг… Да что там! За вербой шли подснежники. Но с каждым годом этого товара становилось все меньше, ибо первые пролески и прочие первоцветы каждый год выкашивались сотнями корзин. Дальше — по сезону. Каждый из обитателей поселка имел какой-то клочок земли, и то немногое, что тот мог произвести, надо было вывезти туда, где у людей водились деньжата. Огородная зелень, клубника, фрукты. У кого пасека — мед. Потом опять в лес — за ягодами. И Маричка вместе со всеми специальным таким совком, с широкой вилкой впереди, косила чернику-ягоду. За черникой шла голубика, лечебные травы, орехи, шиповник, клюква… Кто держал овец, тащил на продажу в большие города мотки шерстяных ниток, вязаные рукавицы, носки, свитера. Кто горазд был что-то ладить из лозы, вез разновидные лукошки, плетеную мебель и абажуры. Все это было чрезвычайно хлопотно, и не то, чтобы этим способно было взаправду обогатиться. Но прочие занятия, какие возможно было отыскать в поселке и его околотке, были крайне редки и приносили уж вовсе смехотворное вознаграждение.
А как заканчивалась клюква, Маричка шла работать в детсад, От отца ей достался старый немецкий баян, который ее дед в сорок пятом вывез из Германии в качестве трофея. Дед и научил ее кое-как играть. Инструмент тот уже не понятно как держался, дышал на ладан, но звуки всё еще издавал. С их помощью Маричка вводила жабинскую малышню в мир музыки, прививала, так сказать, любовь к искусству. Ну и воспитателем — чуток по совместительству.
Вот и в тот декабрьский день, когда прискакала к ней Любка, Маричка, стиснув от злобы и безысходности зубы, наяривала на своей кнопочной рухляди, тешившей «рокотом густых басов и перезвоном ладов», видать, еще во времен битвы в Тевтобургском лесу какого-нибудь Арминия.
Мы круг ялынкы спиваем,
Взявшись за рукы в танку, —
День Новоричный стричаем
В нашим дытячим садку.
Любка хитро подмигивала ей из щели приоткрытой двери и делала какие-то знаки.
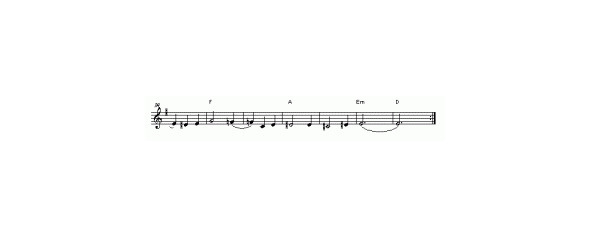
Под ударом Маричкиного пальца вылетело наконец последнее фальшивое «фа». Крепкие руки Марички с силой сдвинули черные мехи баяна, на прощанье издавшего стон умирающего животного.
Просто последние дни привели Маричку едва ли не в состояние истерии. Да что там — последние дни! Последние годы. Издохли последние надежды, что устоявшийся ход тягостных обстоятельств когда-то переменится, что явится некая сила, способная разметать нагромоздившиеся вороха незадач, всяческих жизненных рогаток, сотен больших и малых несчастий…
Опять целый день дети кричали как сумасшедшие. Как вчера, как позавчера… Опять кто-то кого-то укусил, а все остальные, вся средняя группа детсада «Сонэчко», воспаленная чужим возбуждением, пришла просто в форменное неистовство. Каждый из дней, складывавшихся в годы, Маричке казалось, она сдерживается уже из последних сил. И только боязнь потерять рабочее место заставляла ее, предпринимая нечеловеческие усилия, крепиться. Только страх оказаться, как говорится, на улице не позволял дать волю переполнявшим ее чувствам. Эти безмозглые дети при каждом подобном инциденте теряли всякую возможность контролировать себя, — и тут же всем скопом становились абсолютно неуправляемыми.
Да, возможно, Маричке, как работнице учреждения для общественного воспитания детей дошкольного возраста, стоило прилагать больше усилий для обуздания собственных нервических порывов. Но как это возможно, когда все вокруг шатается, валится… Зарплату, вроде добавили, но тут же цены буквально на все выросли настолько, что уже и покупая лук, задумаешься: «А, может, все-таки на полкилограмма меньше взять?..» Здоровье — ни к черту. Мужики… О-ох, мужики…
Вот даже утром того дня — дочка Дорошенок разбегалась, точно ей скипидаром задницу натерли. Бегала, бегала, да и зацепила цветочную горку — с самой ее верхушки сверзился горшок с рождественником. Вдребезги разлетелся. Ботаника Маричку никогда особенно не волновала, но земля, грязь по всему полу — убирать-то ей. Так она к девчурке той подскочила, да так… посмотрела (и слова-то еще не сказала), что та на том же месте и уписалась. То есть, к землюке еще и лужу добавила. Ну как тут нервам здоровыми быть?! Надо бы, конечно, каких-нибудь таблеток усмиряющих купить. Рекламу вот постоянно крутят… Так у них же цена как у золотых! А стали за детьми родичи приходить… Богдашки папаша, нет, чтобы поскорее сынка своего забрать (всем ведь домой надо), так он, вишь, апельсин достал, чистить стал. Почистил — протягивает детенышу своему. А Маричка-то, она вчера только в поселковый мегамаркет (вывеска такая на нем) заходила. Между прочим, и к апельсинам приглядывалась. Дороги!
— Ну чего ты прилезла? — простонала-проревела Маричка, когда Любка наконец приблизилась к ней. — О! Еще и нажралась. Ты хоть думай — дети же тут все-таки.
— Ой, уж и нажралась! — хихикнула та. — Ленька Безручко американским коктейлем «Лонд Айлад» в баре угостил. А что, я женщина свободная. Вот кто мог двадцать лет назад подумать, что у нас в селе свой бар будет, да?
— Чего надо? — не слишком приветливо откликнулась Маричка.
— А поехали-ка, подруга, в Киев.
— Блин, вот ты, я вижу, точно уже поехала. В Киев! Отчего же не в Париж?
— Дура ты, Мара, я ведь тебя зову не деньги развозить. А наоборот — на заработки.
— В бригаду штукатуров?
— Интереснее, — хитро пропела Любка, делая ударение на предпоследнем слоге. — На майдан. Самое меньшее — триста гривен в день. А можно и пятьсот, — она изобразила на своем красноватом лице еще более хитрую мину, добавила со значением: — И четыре тысячи, говорят, бывает. Это в день!
Маричка уж готовилась, по обыкновению, обругать Любку… но тут в ней что-то оборвалось.
— Ну уж… четыре…
Маричка, как и прочие насельники здешних палестин, с младых ногтей проходила школу — мол, жизнь-то одна, и все лучшее, что в ней есть, — это, понятно, удовольствия. Удовольствия предоставляют деньги. А деньги добываются беспрестанным напористым трудом. А тут… Хоть и не верилось, чтобы прям уж четыре…
— Так чего, едем до Киева!
— Щас, только шнурки поглажу! Дуру нашла! — гордо ответствовала Маричка.
А через два дня в страховитом веночке она уже шагала по Крещатику в пахучей голосистой толпе себе подобных.
Куда же тек весь этот многочисленный люд? Куда стремился? Его влекло туда, где наибольшая масса толпы, в соответствии с законом гравитации, неумолимо тянула к себе ничтожные окраинные частицы. Континуум пространство-время-масса следил за исправностью процесса. Люди шли туда, где земля сплошь была покрыта многочисленными их соплеменниками, вид которых от возбуждения был ужасен.
— Україна — понад усе! Зека геть!
Они шли туда, где удрученная земля, перегруженная остервенением своих желавчивых детей, зловонием развернутого ими всесожжения, неистовостью ярых хватальщиков наслаждений, туда, где измученная, страдающая земля медленно погружалась в топь ненависти, исправно перемешанной со сладострастием. Неделю назад там каким-то чудесным образом возникло пятнадцать армейских брезентовых палаток и два десятка тентов. Кто, какой чародей установил их? Никто из бредущих людей о том не задумывался. А ведь сами они таковского инвентаря не имели.
— Сеня, я сейчас в толпе — плохо слышно. Давай я тебя потом наберу, — говорил, казалось бы, сам с собой кургузый человек, с крупным мясистым носом и жирными, по моде небритыми щеками; однако тонкие проводки наушников, пробиравшиеся сквозь черную щетину и нырявшие под трикотажную шапочку, подсказывали, что человек тот не сумасшедший — он был соединен мобильной связью с неким абонентом:
— Хорошо, хорошо. Давай сейчас все обсудим. Шо ты бежишь, как на срачку? Успеем… Да, слышно плохо. Ну, говори. Кто кричит? А ты таки слышишь? Да одна тут, — он оглянулся, — поцарша. Буфера? Она ж в куртке. Зато вижу, мадам сижу у нее будь здоров. Да, я понял. Почему нет? Палаток им еще привезем, вот только добазаримся… Утепленные армейские палатки. Первый сорт. Отапливаются буржуйками. Электричеством. Генераторы поставлены. Пока десять поставили. Мы только за них пятнадцать штук денег отслюнили. Еще подвезем. Бензина жрут дофига, соляры. Ну сколько… Где-то полтонны бензина в день. Хавчик народу возим. Я всего несколько дней, как с Одессы. Пока возвращаться не собираюсь. Мишу знаю, конечно. Последний раз видел его в «Фанкони». Да, это на углу Ланжероновской и Екатерининской. Он обещал тоже подкинуть… Или бабла… Или медицины всякой… Понятно — у него ж сеть аптечных складов. Да, хозяин будет доволен. А шо я? А шо у меня? Вашим врагам такие доходы! Палатки привез… Хавчик возим… Шо? Скорее да, чем нет. Шо? Скорее нет, чем да. Сеня, не крути мне мудебейцалы. Я говорю: баки не забивай.
Крики:
— Богородиця, Янека прожени!
К этому моменту человек из Одессы проскочил улицу Липскую и, влекомый толпой по Институтской уже был вынесен общим движением к правительственным кварталам. Однако еще не поздно было попытаться свернуть на Шелковичную. Иначе дальнейшее продвижение в прежнем русле должно было бы вытолкнуть его в средоточие инкубатора страстей, чью инфраструктуру (по его же словам) он и его соумышленники развертывали, налаживали и опекали.
— Так, Сеня, — вытащив из складок шарфа микрофон наушников и приблизив его к пухлым губам, обведенным толстой щетиной, раздельно проговорил одессит, — не делай мне беременную голову. Ты меня заболтал — я уже чуть на майдан не выперся. Пора валить. Сегодня здесь будет жара. А мне отъехать в местный Валиховский переулок что-то пока не интересно, так что — конец связи. Ну шо ты по третьему разу? Я всё уже понял. Всё будет хип-хоп. Ладно, кончаем балясы-белентрясы.
И кургузый принялся энергично выдираться из человеческого потока. Это было непросто, так как на том рубеже толпа успела изрядно уплотниться. Щиты, дубины, черно-красные и желто-голубые полотнища, лопаты и вонючие канистры, всё это немало осложняло продвижение, но человек из Одессы о наступающей ночи знал больше, чем несомые страстью статисты, и никак не хотел себе дополнительных осложнений.
— Ми проти полiцейської держави! Банду геть!
Кто знает, какое число недружественных локтей ему довелось пересчитать, прежде чем достичь относительно безопасной береговины. Были среди них и острые злые локти Маркияна Кнура и жены его Соломии. Впрочем, активист из Одессы серьезных тычков успел получить всего несколько. И то лишь потому, что, выбираясь из быстрины рока, невольно перерезал дорогу также несомой людским потоком чете Кнуров. Дело, казалось бы, в такой-то толпе самое обычное… Но единожды только пересекшись взглядом с Маркияном, одессит невольно перетрухнул — столько какой-то нечеловеческой ненависти вырезалось на физиономии случайно задетого им человека. Привычно восприняв это внезапное проявление чувства неприкрытой неприязни проявлением ксенофобии, пришелец из города у моря очень вежливо извинился, а про себя подумал: «Шагай, шагай, вуйко с полоныны, сейчас еще тебе жратвы подвезут. Жри пока…» Однако приняв Маркияна Кнура за инсургента, восставшего против действующей власти и ведомого так называемой оппозицией, одессит ошибся. Кнура приманили сюда вовсе не эфемерные перспективы. Отнюдь не какие-то маловразумительные петиции о получении свободного выезда в Европу (на что бы он выезжал?), о превращении всех судей и прочих чиновников из мздоимцев в людей кристальной честности (это уж смеху подобно!), о доведении материального достатка тутошнего обывателя до уровня благосостояния челядинцев Эвелина Ротшильда… Или самого Ротшильда? Чушь какая! Никаким блесткам столь дешевого шарлатанства Маркиян Кнур не верил и в укреплении своего довольства полагался исключительно на себя. В развернутой кампании по свержению действующей власти было создано немалое число способов, быть может, не так, чтобы значительно, но быстро обогатиться. И все-то эти пути казались Маркияну слишком шаткими, слишком опасными… Короче — для дураков и безнадег. Кнур признавал только верность. Благословляя обстоятельства, он, как и большинство в этой толпе, уповал на упроченье своего материального положения. Но совсем иным путем. В кармане его кожуха лежал очень неожиданный предмет. Это был ключ для закатывания крышек, какой используют при консервации в стеклянных банках овощей и фруктов. Рядом с владельцем сего инструмента шагала верная его худосочная жена Соломия. С ними (женой и ключом для консервации) Маркиян связывал куда как больше надежд, чем с разрекламированным шутовским подписанием Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом и прочим шельмовством, рассчитанным на глупость и жадность ненасытной толпы.
— Мешков сколько взяла? — на ходу выплюнул несколько слов Маркиян.
— Так три, — с поспешностью отвечала Соломия, — как и сказал.
— Сказал… — недовольно просипел Кнур, не находя зацепки для праведности возмущения.
А через несколько шагов добавил:
— Давай, Солома, выбираться из этого Первомая. Сколько мешков взяла?
— Три. Три, как ты хотел.
— Откуда ты знаешь, сколько я хотел? — огрызнулся Супруг.
Длинное смуглое лицо супружницы Маркияна еще вытянулось, на нем обозначились тщетные содрогания мысли, но на ответ Соломия не решилась.
— Бараны… — супруг перелил свое раздражение на бредущий толпой люд, а затем жене: — Надо будет потом в церковь зайти. Пусть долгогривый грехи снимает. Что?
Кнур оглянулся на жену, скорбно поджавшую тонкие губы, отчего те и вовсе исчезли. Она боязливо потупилась, точно опасаясь того, что благоверный прочтет ее мысли. Нехитрые думы ее он, надо быть, без труда уловил, но они отнюдь не усугубили его недовольство, а напротив — взвеселили:
— Снимет, снимет, — вдруг как-то странно захихикал Кнур; странно, поскольку хихиканье это больше походило то ли на фырканье кошки, то ли на урчание пса, то ли… на подражание голосу какого иного животного. — Снимет. Хорошо заплатим, так и снимет. За мной иди.
И он бросился поперек течения. Соломии приходилось немало напруживаться, чтобы не быть унесенной толпой.
— Кияни — на майдани! Слава Українi!
Люди шли, шли, шли… Все уже было приготовлено для них. Не только палатки посреди главной площади Киева, не только жаркие митинги и развеселые концерты со знакомыми по телеэкрану песельниками, не только неограниченно обильные даровые обеды… Была уж установлена и плата за бесплатные потехи. Но люди шли, шли, шли… Они были убеждены не только в том, что впереди их ожидает небывалое счастье, ткущееся вот сейчас, сию минуту, специально ради их удовольствия. Большинство большинства веровало, что это они, вечно возбужденные, вечно находящиеся в поиске выгоды, гневливые, страдающие, торопящиеся, требующие, вожделеющие, дрожащие, добывающие, нечистые, что это они создают реальность, а не реальность с их помощью воплощает какие-то свои невнятные задачи. И сия убежденность немало им облегчала тот поход.
Однако она же и не позволяла освободить мысль, освободить чувства, если уж от рождения никто из них не был награжден боговидением. Их глаза смотрели и видели яркие флаги, их уши слышали пылкие выкрики, их ноздри обоняли будоражащий запах гари и соблазнительный запах пищи. Способны ли были при том их оглушенные чувства различить нечто более тонкое да еще и необычное? А между тем, многие в эти минуты могли бы ощутить некое уплотнение воздуха, как бы его пульсацию, колебание. Могли бы и уловить странное, едва распознаваемое свечение, наполнившее пространство. Не то, чтобы странное… но какое-то не такое… Белесое фосфористое свечение, искажающее перспективу и неожиданно изменяющее объемы окружающих предметов. Или, предположим, у кого-нибудь из текущих людей как-то по-особенному защемило бы сердце… Но нет. Если у кого что и щемило, то, определенно, никак увязать такой симптом с приближением чего-то невероятного он и не попытался бы.
* * *
Между тем на пятидесятиметровом каменном столбе, торчащем с краю площади, который еще недавно венчала черная с пятнами позолоты бронзовая баба, возникло нечто. Нет, баба никуда не исчезла, она просто была отодвинута в сторону и висела теперь на той же высоте в нескольких метрах от столба, слегка покачиваясь. А на варварски щедро напиханной золочеными листьями капители (как бы коринфского ордера), на освободившемся абаке теперь помещалось существо, видимо, огроменное… Нездешнее. Конечно, то был кто-то из Богов. Но как же его назвать и как обрисовать столь необычную внешность? Да и возможно ли это? Одни, вероятно, сравнили бы его стройность с «тонким, прекрасным омелы побегом». Иные, обладай они даром различать подобные явления, могли бы сказать: «Опаляет живущих он сияньем». И это даже несмотря на то, что мрак налезавшей зимней ночи все безудержней пожирал любые проблески света. А кто-то и вовсе утверждал бы, что то была женщина, «цветом лица подобная гирлянде темно-синих лотосов»… Да вот только некому там было утверждать ни то, ни другое, ибо… Ах, недаром же говорят: «Люди — как пахтанье, Боги — как масло, человеки и Боги — как мякина и пшеница!»
— Самграма, — сказал тот, кто занимал сейчас на столбе место бронзовой бабы.
И это можно было бы перевести так, используя более доступную нам, так сказать, систему словарно-грамматических средств.
«Глядя на эти полчища, трудно представить, что люди были созданы духовными, что были они обладателями Божественного Знания. Но жадность подтолкнула их к соглашательству с неправедностью. Они оправдали вреждение, стали жить торговлей, не чуждались любой работы, лишь бы она способна была приносить им грубые удовольствия. Чтобы ничто не мешало им добывать их, неразумные стали переписывать данные им свыше законы, измышлять уставы, удобные их похоти, и, наконец, впали в неведение. Утратили чистоту. Лишились творчества. Сделались черными. В сознании людей этой ступени сознания, несомненно, существуют свои заповедные сады. Но те идеалы, те стремления неизменно материальны, телесны, имущественны. Оттого испокон веку если в каком народе расплодятся тучные стада трударей — всяческих мастеровых, землеробов, представителей рабочей силы, утративших единокровного вождя, то там непременно неподалеку становится на дежурство какой-нибудь паразитический народ. Не решаясь наброситься сразу, примериваясь и приготовляясь к броску, он долго с помощью различных отрав проращивает в избранной жертве болезнь, вьет силки, спеленывает соблазнами, наконец в обездвиженную душу народа впрыскивает похоть, чем и растворяет ее окончательно. Теперь захребетнику остается только вонзить в сплетенный им кокон свой жадный хоботок и высосать разжиженное сердце плененного им народа. Да… вместе с утратой желания размышлять, утратой щедрости, стремления к правде, совестливости, прямоты, терпения они взрастили зло и растеряли силу. Жалкие…»
И еще сказал тот, кто находился на столбе над площадью:
— Дхарма саммудха цетаса.
Но для того, чтобы перевести это, потребовалось бы слишком много человеческих слов… Да и точность такого перевода, бесспорно, была бы весьма и весьма приблизительна.
Толпа копошилась, удерживая курс. И что там происходило на высоте всего только пятидесяти метров, никто не способен был различить сквозь пласт черных облаков, налегших над их головами каменным потолком подземелья. Навершия древков с флагами царапали тот низкий свод. Сплетения азартных выкриков ударялось о него, и глухое эхо возвращало их косноязычные копии, то обрывая, то проглатывая отдельные слова.
— …краина! …опа! …краина! …опа!..
Гудело эхо.
Гудели люди:
— Хотiв один м'ясо їсти. А нам шоб нiчого не лишалося. Падлюга!
Это о президенте.
— Злочинна Влада! Гэть злочинну владу!
Это о клевретах президента.
— Україна — це Європа! Європа! Європа! Навiки разом!
Неделю назад прокураторов Союза европейских стран согнали в Вильно на так называемый «Саммит восточного партнерства», на котором украинская власть должна была торжественно поклясться (и подкрепить ту клятву подписанием необходимых документов), что добровольно и навеки переходит под юрисдикцию Лондона. Подобно прочим колониям и криптоколониям западной оконечности материка Евразии, обступающим ростовщическое сердце Британской империи. Как вдруг посаженный на киевский престол приказчик отчурался от этой почести. Однако ростовщики никогда не играют в одну игру и карт в их манжетах всегда предостаточно. Так что, на каждый случай (включая причуды иронии судьбы) их исследовательские институты, их статистические службы и всякие прозорливцы от науки разрабатывают отдельный сценарий. (А то и с привеском вариантов). Разумеется, отречение приказчика, надсматривающего над украинской территорией, не явилось чем-то уж вовсе нечаянным, негаданным и непоправимым. Тут же были открыты все шлюзы, были сорваны пломбы со всех рубильников, повернуты все вентили и запущены все двигатели загодя просчитанных и отрегулированных запасных лазеек.
Уже к десяти часам вечера того же дня через социальные сети Интернета, усилиями несчетных гуманитарный фондов, новостийных агентств и всевозможных институций — партий, профессиональных союзов, силами молодежных и детских учебных заведений было разослано предписание явиться на главную площадь Киева всем, кто желает плохую жизнь сменить на хорошую, болезнь на здоровье, нищету на богатство, ярем на вольную волю. Митинговать. Требовать шикарной и беспечальной жизни. В первый день таких набралось… может быть, тысяча. Филистеры пока только присматривались — почем будет этот праздник неповиновения? Крепки ли, богаты ли его устроители? Сможет ли эпатаж перерасти в по-настоящему доходное предприятие. В основном первый отряд мятежников был представлен (помимо профессиональных организаторов — тертых искусников) студентами, во все времена легкими на подъем. К тому же, со многими из них планировщиками кампании ни один год проводилась соответствующая «разъяснительная» работа. В эту же ночь как по волшебству на площади посреди города возник палаточный лагерь.
— Что это за власть?! Ну что это?! Перепуганная… Или из Лондона пришло указание не рыпаться? Да в первый же день, если бы как в Китае, на
Тяньаньмэнь, прокатили бы по ним танки, по всем этим активисткам, по журналисткам — давалкам госдеповским, так назавтра уже никому не захотелось тут шляться, — так говорил на пороге одного из пунктов общественного питания своему приятелю некий молодой мужчина, чьи усы, бородка клинышком и длинные волосы выдавали в нем лицо духовного звания.
Хоть речь того и была проникнута неким эмоциональным подъемом, говорил он не так, чтобы очень громко. И, тем не менее, его товарищ, постоянно озирался и, похоже, был немало напуган таким прямодушием. Действительно, находясь в непосредственной близости от стадного народа, возбужденного ссуженным ему неповиновением (ах, знали бы те люди, — под какой процент!), благоразумнее было бы не противоречить охватившей его лихорадке. Приятель облаченного в гражданскую экипировку попа был, вероятно, и сам попом. Но выглядел он намного провинциальнее. Одежда на нем была какой-то старомодной и по-захолустному невзрачной. Он даже не позволил себе длинных волос, надо быть, опасаясь в родной глухомани привлекать к себе излишнее внимание.
— Отец Вафусий, — в очередной раз вздрогнул он от очередного слишком откровенного высказывания, — вы бы того… Ведь услышать могут… А чьи то будут уши, нам ведь предугадать не дано… Темна вода во облацех воздушных!
Он успел поднатаскаться в каких-то расхожих сентенциях с сакраментальной, окраской. Однако отец Вафусий только поморщился, не оценив, как видно, просвещенческих потуг грамотея:
— Прокатили бы по ним танки, и никому назавтра уже блажить не захотелось бы. Ни за деньги, ни баловства ради. Эх, Егоруша… потерявшаяся власть… Да нет тут никакой власти. Вся власть в Лондоне сидит. А здесь смердюков на киевский престол посадили, за смердюками же и присматривать. Удержат ли они те букеты плотских утех, что свалились на их плебейские судьбы? — так велеречиво закончил свою тираду отец Вафусий, закончил — к немалому облегчению своего визави.
Егор приехал в Киев действительно из провинции. Из небольшого городка под Днепропетровском. Пару лет назад, на тридцать втором году жизни, зачислился в попы. Он сам был удивлен, с какой легкостью ему это удалось. Просто пришел в одну из мелких днепропетровских церковок киевского патриархата, сказал, хочу-де работать попом. Ему сказали: «Работай». И приняли. Он и предположить не мог, что данный вопрос решится с такой немыслимой легкостью. Пошел-то так — наобум. Церковка, правда, представляла собой нечто, напоминающее вагончик для строительных рабочих с «золоченой» оксидом титана маковкой над ним; всей-то площади метров семь на три. Но люди туда ходили. Деньги носили. Многие и десятину соглашались отдавать за содействие в чем-либо. Конечно, новобранцу велели выучить какие-то отрывки из еврейских книг, переложенные на украинский язык, ибо именно на этом наречии велась там служба. Наставники обучили нескольким па, объяснили их порядок. И всё. И сразу — к работе. Через полгода, правда, его все же направили на стажировку, как это ни странно (ведь киевский патриархат вел лютую войну с московским за стадо), в Московскую область, в Богородскую епархию. Но стажировка та была непродолжительной. Затем велели поступить в киевскую семинарию. И хотя обучение в семинарии Егорку ожидало заочное, и особенно напрягаться в богословских науках, в овладении догматами веры ему не приводилось, все же терпения хватило только на год. Впрочем, начальство на продлении обучения настаивать не стало. А вот теперь он был направлен в Киев своим руководством с куда более ответственной миссией. Егору уж приводилось бывать здесь с подобным заданием.
Его маленький коллектив душепитателей, душецелителей во имя укрепления благосостояния церквишки, ну и, понятно, ради паствы, одноисповедников решил наладить торговлю некрепким хмельным напитком, что когда-то варили из солоду и хмелю, а теперь… а теперь из чего бодяжат — одному Богу известно. Благословение на торг нужно было получить в Киеве. И таковое было добыто. Теперь же рукоположенные служители алтаря умозаключили расширить зело успешное предприятие и к торгу пивцом прибавить торгованье также солеными орешками к пиву, фасованной соленой рыбой к пиву, солеными сухариками с химической отдушкой тоже к пиву, а заодно уж присовокупить к тому и курагу, чернослив, мятные лепешки, батончики из соевого шоколада, китайские зажигалки для курильщиков, одноразовую посуду, ну… и еще кой-какие активно потребляемые мелочи.
Проведывая Киев, Егор на ночлег останавливался в маленькой гостинице для своих при Андреевской церкви, что возвышается над Андреевским спуском. Там-то он в этот раз и сошелся с отцом Вафусием — местным иереем. Хоть приютившее его подворье и принадлежало украинской автокефалии, договориться о постое с его хозяевами могли и поклонники второго лица святой троицы, приписанные к киевскому патриархату. Ведь чисто мирские, чувственные, политические пристрастия у них, вроде, были едины. Тем более неожиданными для Егора явились откровения отца Вафусия. Неожиданными и даже пугающими.
— Как же — танками? — негромко проговорил поп-пивоторговец, поминутно тревожно озираясь.
— А если не танками — так жди смуту. Они ж невменяемые. За полмиски вышкварок, за полбутылки горилки они маму родную ни то, что в цирк, в зоопарк продадут! Это ж чернь! Подлый народ.
Егор вновь кинул беспокойный взгляд на идущих, невольно поежился:
— А как же того… патриотизм там?..
Отец Вафусий повернул свое носастое лицо в профиль и выкатил на вопрошателя удивленный лошадиный глаз:
— Патриотизм? Чернь, конечно, может воспользоваться подобными мысленными отвлечениями… но только в том случае, когда их можно конвертировать во что-нибудь… съедобное или в каком ином смысле пользительное.
Эти слова отнюдь не привели чувства, владевшие Егором, к уравновешенности. Во-первых, он не очень четко представлял себе значение слова «чернь» и исподволь подозревал, что, может быть, сам имеет отношение к данному определению. Во-вторых, прежде ему приходилось сталкиваться со свидетельствами того, что работники автокефальной церкви, как и работники киевского патриархата, всегда держались националистического пафоса… А все эти революционные события, как и самое слова «майдан», будто бы выказывали шовинистические, украинские настроения… И вдруг такое ниспровержение клановых доктрин, такое… вольтерьянство. (Впрочем, ничего Егор из сочинений Мари Франсуа Аруэ никогда не читал). Он уже не рад был, что пригласил своего нового знакомца в эту ресторацию. Но с другой стороны — нужно ведь как-то налаживать отношения со столичными коллегами. А как их налаживать? Совместное питие — проверенный метод.
— Отец Вафусий, давайте уже пойдем отсюда, — вновь завертел головой Егор, — а то неровен час… сами знаете…
— Пойдем, Егорий, — отвечал Вафусий, ухватив себя за ус и подсовывая его вплотную к ноздре. — Всё ещё стерлядкой пахнет! Пойдем, а то ведь, чернь бунтует — чего не знает. В гостиницу?
Егор решил схитрить, чтобы как-то дипломатично отвязаться от опасного наперсника:
— Да я хотел еще туда… — он указал на противоположную сторону улицы. — Надо бы мне еще на Михайловскую. В семинарию заглянуть.
— Да кого ж ты там в таком часу найдешь?
— А! Да… — сник незадачливый обманщик. — Ну… тогда… куда… и туда можно…
Он потоптался в нерешительности на месте, оглянулся на сверкающие витрины ресторана:
— Дякуэмо тобi, Христе Боже наш, що ти наситив нас земними твоiми дарами — залопотал молитву по-украински, как то и прилично было работнику киевского патриархата, — не позбав нас i небесного твого царства.
Отец Вафусий вновь обратил на богомольщика изумленный взор. Под этим взглядом, как-будто, даже исполненным недоверия, у Егора почему-то приподнялось одно плечо, и он прибросил:
— Присвята Тройце, помилуй нас… В смысле… надо ведь как-то через улицу перебраться…
И тогда они ринулись поперек человеческого потока, то погружаясь в его волны, то выныривая, то теряя друг друга из вида, то вновь обретая…
А над улицами, истекающими людом, на столбе из белого мрамора с золоченой коринфской капителью, никем не подмеченные произошли перемены. Теперь там находилось уж не одно Божество, но сразу три. А поскольку места на абаке для этих титанов было недостаточно, двое из них болтавшуюся рядом бронзовую бабу привели в горизонтальное положение и сидели теперь на ней, едва-едва покачиваясь.
Уж говорилось, что крайне сложно недальнему человеческому уму, обремененному грехами, выразить божественный образ. Ну вот как, к примеру, пытались справиться с этим вопросом лучшие из нас, составившие самую первую из книг. Сверкающие, с ужасным обликом. Это о Богах. Яростные, как змеи. Впечатляет, но не слишком зримо выходит. Грозные, сильные, пышущие мощью, Ну это тоже никак не касается внешних черт. Быки, способные к волшебным превращениям, испускающие яркие лучи. Для нашего современника — пугающе зооморфно. Можно встретить иной описательный штрих. На груди — золотые пластинки, пронзительно яркие украшения, на плечах — шкуры антилоп. Избыточно причудливо. А вот… С лицом, обращенным во все стороны. Вот это, пожалуй, всего лучше. Но изобразительности, опять же, никакой.
Конечно, человеческие возможности восприятия весьма ограничены и весьма специфичны. Вот и сейчас, говоря о мраморном столпе, о зимних улицах, о городе, находящемся на периферии ойкумены Британской империи, непременно обращение не просто к человеческому методу осмысления действительности, но к самому первичному уровню анализа воспринятой информации. А ведь вовсе не исключено, что взгляд какого-нибудь более совершенного, более прозорливого существа увидел бы перед собой отнюдь не мраморную колонну, а… Допустим — богатую лунным блеском гору, а, может быть, не смотря на ночь, эти глаза различили бы гору, отражающую сияние солнечных лучей? Сверкают под солнцем зеркальные спины рек, обвивающих склоны. Те покрыты красивыми деревьями, способными давать плоды всех желаний (и нет среди них ни одного дерева без соцветий или плодов), окутана гора удивительными лианами с целебными листьями и осыпана невероятными цветами всех времен года. Среди тех цветов и чародейных трав бродят разные звери: звери, похожие на светло-желтых коней, звери, похожие на пятнистых коров, на росомах и львов, на слонов и черепах, а также сходственные со всеми другими известными нам зверями. Налетает ветер — и деревья проливают многоцветные цветочные дожди под ликующее жужжание пчел, под обольстительные рулады невесомых птиц. И вот на самой вершине той несравненной горы, среди блистающих изумрудных и сапфировых утесов, собрались Боги.
А подножие горы охвачено океаном. Распростирается во все стороны его безграничность, не на мили — на века и тысячелетия, и на сотни тысячелетий. Черные слизкие волны разбухшими языками жадно вылизывают подошву горы. Все азартнее, все яростнее. Уж поднимаются в черном далеке черные буруны, взвиваются черные смерчи, выказывая ту невероятную жизненную силу, что заключена в этих безднах черной слякоти. Ту жизненную силу, мельчайшие частицы которой, разметанные в неизмеримости черной прорвы, способны поднимать могучие шторма, приводить в неистовство просторы оцепенелой жирной слизи. Но, если добыть вытяжку из тука черного океана, если ничтожные йоты жизнедательной силы, рассеянные в его водах, распределенные среди населяющих океан мельчайших организмов и гигантских чудовищ, вступающих в сражения с самими китами, если собрать те животрепетные частицы воедино, то можно получить удивительный эликсир. Эликсир, который наделяет Богов всеми теми сверхъестественными качествами, о которых напрасно грезят смертные.
Черный океан, цветущая гора, недоступная ни только человеческому телу — недоступная для человеческого глаза и даже недосягаемая для мысли большинства из людей. И вот нет океана, нет горы. Но все еще стоит мраморный столб посреди мрачного Киева. И Боги у его резного навершья. А под ними люди, люди, люди… непреклонно текут к неким самостоятельно обозначенным или кем-то прописанным целям. Чего же хочет вся эта смурая публика? Но… чего может хотеть большинство, чьи действия обусловлены их природой? Черные, главным украшением которых является расторопность… Впрочем, обо всем этом они скоро сами расскажут. А пока попытаемся наугад выхватить еще несколько капель из этого потока неизбежности, несколько атомов мчащихся в темноте вечности.
Вот группа студентов из Дрогобыческого пединститута — полтора десятка наберется. Третий курс. Флаги, сине-желтые ленточки, небольшие транспаранты — все как положено.
— Хочу в Польшу на пмж!
— Если у тебя в роду были поляки…
— Прадед. Приехал из Польши в Советскую Россию строить коммунизм. Идейный был. Темнота!
— Czy Pani mo’ wi po polsku?
— М-м…
— Тогда учи польский, Если выучишь, можно получить «карту поляка». Как в Штатах. Можешь уточнить в консуляте.
— А зачем эта карта?
— Зачем? Зачем?! Карта поляка — это все. Это значит, можно там жить. И на работу можно в Польше. И полное медицинское обеспечение.
— Ничего не полное. Только в срочных случаях. Если припадок какой.
— У кого карта, тому разрешают машину водить. И ездить всюду по ЕС. И на работу можно в другие страны. Например, в Чехию. Там больше платят…
— Там — меньше!
— Да нет, карта поляка не дает права работать в других странах. Это ты ее перепутал с «картой по быту».
— Правда, поляки украинцев не любят. Презирают. Серьезно относятся только к тем, кто с восточной Украины — тех боятся.
— Но теперь им уже Америка сказала, чтобы никакого презрения не было. Чтобы дружили. Как все в Европе дружат и любят друг друга.
— Что вы, у поляков нет никакой к нам ненависти. Не осталось. Теперь мы в одном Евросоюзе… в одной стране, можно сказать, будем…
— А как там с овощами?
— Ой! Очень хорошо! Всего полно и все ужасно дешево.
— Там так чисто… говорят. Кругом одни цветы!
— Там каждый, кто захочет, может «Мерседес» купить.
— Каждый не может, не гони.
— Говорю, может. Нас на саммит украинско-польской дружбы возили. И там один говорил…
— Я, вообще-то, пшеков… не очень. Но я хочу жить в Польше.
— Единственный вариант — учеба. Или брак…
— Я не такая.
— А я такая. Я европейка!
— Для начала — поступить в польский вуз, Потом можно по программе Erasmus по обмену уехать из Польши в нормальную страну ЕС..
— Ничего себе! А Польша — что, ненормальная?!
— Смотря с чем сравнивать. Я читал, на сайте польского консульства пишут…
— Нужно открыть ООО. Это будет стоить где-то пять-шесть тысяч уе. Например, консалтинговую фирму.
— Ага, а уе откуда взять? Пять тысяч!
— Можно в Германии… Или можно даже в Англии гувернанткой устроится. Санитаркой. У Настки получилось. Ну… она писала, что получилось.
— Поэтому пусть нас в Евросоюз принимают!
— Слава Украине!
— Слава Украине!
Вот Толик Волощук. Толику пятьдесят четыре года. В этой сумасбродной толпе он один. Толик вчера лишь приехал в Киев. Приехал сам по себе, не подыскав попутчика. Да, если четно, так и не очень-то его выискивал. Толик был мужчиной самостоятельным. Хорошо чуял пульсацию всяческой конъюнктуры. При том имел энергию, задор, аппетит. Пил с мужиками из числа «нужных людей». Женщинами интересовался не так как большинство мужчин — подпевая канонам социума, а по взаправдашним требованиям организма. Короче, был особью, называемой в породившем его обществе «нормальным» и даже «стоящим мужчиной». И вот… кто бы мог такое предположить! С пьедестала, который слагали престижная должность, приличный оклад, квартира в хорошем районе, жена, вполне приемлемая еще внешность, почти спортивная, а к ней в довесок азартность… с этого постамента его опрокинула любовь. (Ну то, что в общежитии называется этим словом). Да-да, поверить в это было бы трудно даже ему самому. Но так случилось. Год назад, на пятьдесят четвертом году жизни, Толик влюбился в двадцатичетырехлетнюю сотрудницу Лену. Взглянув на Лену, понять Толика, вроде, было бы не сложно. Столько в ней было приманчивости: и приятное лицо, и в меру выдающиеся подтянутые ягодицы, и даже на вид твердая грудь, и, что уж редкость редкая в наши дни — почти покладистый характер. Но удивительным было то, что Толик был настолько «нормальным» и «стоящим», что подобные прелести никак не должны были бы поколебать железобетонные устои его признанной обществом добропорядочности. Однако поколебали. Скандалы. Развод. Утрата должности. Потеря жилья. И т. д. и т. п. Наконец вместе с Леной Толик оказался в маленькой съемной квартирке, нанятой у родственников за полцены. Для того, чтобы как-то содержать семью, пришлось заняться извозом на уже немолодой «шкоде» (октавия, десять лет, полный фарш, сто пятьдесят тысяч пробега) — единственном осколке былого благополучия, которому задалось прибиться к утлому островку его новой жизни. Но то был всего лишь пролог грустной пьесы, в которой Толику предстояло взять на себя одну из главных ролей. Буквально через несколько первых месяцев, еще пропитанных, прослоенных и осыпанных подарками сладострастия, у Лены обнаружилось серьезное заболевание. Серьезное заболевание вскоре оказалось раком щитовидной железы во второй степени. Наливная красавица в считанные месяцы сильно похудела, пожелтела, осунулась. Героизм оперного любовника уже собирался показать пятки, но тут же жизнь принесла очередную новость — Лена беременна. Лекари потребовали сделать аборт. Но Лена неожиданно проявила бесстрашие, неслыханное для современных женщин, развращенных эгоцентризмом: она ответила эскулапам, резать-де плод согласия не даст, ибо если уж ей не суждено жить, то пусть хоть ребенок останется. Врачи сдались, но больницы, теперь уже как одного, так и другого профессионального профиля, с беспощадной резвостью принялись высасывать изнурительным трудом добываемые Толиком тощие деньжонки. Как-то те маломощные резервы нужно было пополнять. С помощью извоза решить эту задачу оказалось невозможно. А сделавшиеся перманентными укусы обстоятельств делались все более жгучими: подозрительность и отступничество друзей, письма экс-жены, участившиеся «внезапные» встречи с экс-тещей, звонки кредиторов, боль, стыд, голод, отчаяние… И тут — кто-то там в Киеве собирает людей на бунты. Толику было абсолютно безразлично — кто собирает и против чего, кого надобно бунтовать. Для него не имело значения, какие партии, товарищества, какие национальные группы затевали ту возню — у него была больная жена, отсутствовало собственное жилье, вот-вот должен был родиться ребенок. К тому же, прежде пребывая на престижных должностях, Толик хорошо изучил кухню этих деловаров — сам не однократно переходил при смене конъюнктуры из партии в партию, провозглашал новые ценности, патетически отрекался от старых… Все это было ему знакомо. Не было секретом и то, что все массовые сборища, абсолютно все, имеют свою статью расходов. Что народ можно, конечно, завлечь в какую-то кутерьму праздником неповиновения, но останется толпа на площадях только в том случае, если отыщет в этих действиях некую свою нынешнюю выгоду. Непременно нынешнюю, сегодняшнюю. И каждый организатор брожений, безусловно, знает, что мятеж для черноты необходимо непременно превратить в коммерчески выгодное предприятие. Только тогда можно понадеяться на пособие столь переменчивого, столь вероломного компаньона, как черная толпа. Толик не сомневался, что из этой затеи сможет извлечь куда больше прибытка, чем добивать немолодую машину на дорогах, давно не знавших даже так называемого «ямочного» ремонта. И всё. А дальше — чемодан, вокзал, Киев.
Вот черные волны человеческого потока несут девицу лет двадцати. Если даже внимательный глаз присмотрится к ней, то и он вряд ли распознает, что девице вот только исполнилось четырнадцать. Когда же мимо шествующий какой-нибудь дядя в качестве предварительной рисовки забросит ей: «Киска, а как тебя зовут?», то киска с готовностью ответит: «Кристинка». Услыхав же ее голос, дядя лишь утвердится в предположении, что деваха давно уж совершеннолетняя (ни только зрелая, а и наторелая); но в ее ответе он непременно расслышит и другое — киска совсем не против продолжить знакомство. И даже нетрудно предположить, в каком направлении это знакомство ей хотелось бы развить. Спросит дядя: «Чиги-пиги-ай-лю-лю?» А девица улыбнется олигофренической улыбкой и ответит: «Джур-джур, коллега!» «Джур-джур» — это профанированное «бонжур». А «коллега»… Ну просто слово ученое и потому красивое. Вообще-то из родной Пеньковки (это под Жмеринкой) Кристинку принесло сюда с перепугу. В марте прошлого года по телику ей рассказывали, как в городе Николаеве одна девушка, правда, несколько постарше, напилась с тремя парнями водки, они пригласили ее в гости и там, как потом говорил телевизор, изнасиловали. После того, как изнасиловали, хлопцы ту горемыку слегка придушили и отнесли на стройку, где бросили в тлеющий костер. В течение нескольких месяцев телевизор в деталях (может, реальных, а, может, примысленных) расписывал ужасы того происшествия. И поскольку у Кристинки кавалеров было много, и все они во многом напоминали николаевских лиходеев, под воздействием телешлифовки девица струхнула. Убоялась, что ее не слишком учтивые поклонники могут и с нею учудить нечто подобное. А тут такая удачная оказия — все эти майданы. Не долго предававшись размышлениям, Кристинка поспешно стартовала. Имея внешность вполне сложившейся женщина и серьезный опыт общения с мужчинами самого разного возраста, она знала, что не пропадет. Да и хотелось на что-нибудь еще посмотреть, кроме Пеньковки и Жмеринки. На что-нибудь очень богатое. Съесть чего-нибудь очень вкусного. И много.
Когда страсть овладевает человеком, зарождается зло. Каково бы ни было основание той страсти, если вожделение пробило броню рассудка, ежели инфицированный изъявил готовность поблажать ему, зло непременно разбухнет. Кто-то млеет от куска жирной копченой мертвечины. Кто-то безотчетно влечется к обладанию (как ему кажется) чужими судьбами. Кто-то жаждет одури от веселящих токсинов. Иной пребывает в необузданном хотении сексуальных причуд. Но всякая алчба требует денег и она ненасытна. А значит — обязывает своего раба верно служить беспредельному стяжанию. Упрощенное сознание возводит богатство в символ поклонения. И душа продолжает дичать от вожделений. Скорее всего, потомство в этом случае тоже будет испорчено. И только счастливый катаклизм, благодатная катастрофа могла бы остановить вырождение народа. Но такую благодать, как всемирный потоп или вселенский пожар, тоже ведь нужно уметь заслужить. А как парализованный алчбой может достигнуть мысли, что даже набалованное богатством тело — все равно остается лишь инструментом души?
* * *
Точно разверзлась земля, и все упокойники прежних веков ринулись на поверхность, согласно растиражированному еврейскому эсхатологическому мифу; как фантазировал Ефрем Сирин, земля и море, звери, птицы, рыбы и гроба принялись отдавать назад, поглощенные ими тела мертвецов. И уже будто звенит в липком холодном воздухе синкопированная, чем-то неожиданно напоминающая творения Джона Кандера, секвенция «Dies irae». Подступившая ранняя зимняя ночь продолжала испускать потоки людей. То гудящие, то воющие человеческие реки соединялись, сливались, не останавливая движения, неся в своих колышущихся черных, извивающихся, тускло поблескивающих телах и знаменоносцев со стягами Евросоюза, и не сумевшего выехать на заработки в Румынию безработного тракториста из Кострижевки, и пробавляющихся случайными заработками братьев Кузьму и Павлика, и обученного в Пярну сотника с дневным окладом в сто долларов, и завезенного, в числе прочих, автобусом из Ровно пенсионера за вознаграждение — пятьдесят гривен в день плюс питание, и бескорыстную городскую сумасшедшую, прозываемую злыми детьми Жучкой… Бесноватый артист областного академического украинского музыкально-драматического театра из города Луганска, с «казацкими» усами, висящими едва ли не до груди. Котя, Мотя и Денис, все киевляне, с петлюровскими флагами, наброшенными на плечи, завязанными под горлом. Баба Шура из Винницы, обмороченная аферистами, изгнавшими ее из собственного дома. Ира-дыра из Луцка. Наталья Богдановна Усаченко, не так давно доведавшаяся, что ее доброкачественное образование на самом деле — метастазирующая синовиальная саркома. Дюжина учеников девятого класса средней общеобразовательной школы номер двести тридцать пять имени Вячеслава Черновола. Снайпер из Израиля, бейтаровец. Работница фонда «Фридом Хаус» из Кракова под ручку с местным СБУшником. Билетерша из краеведческого музея города Белая Церковь. Парень спортивной выправки. Разорившийся постижер. В коротенькой лаковой куртке порывистый молодой человек из Черновцов по прозвищу Шарлота. Грузин Пинхас, а с ним двое грузинских евреев — Додик и Сиприк, все профессиональные провокаторы еще со времен мятежей в Тбилиси в две тысячи третьем году, не однократно стажировавшиеся в Варшаве. За ними группа из двух десятков студентов Киево-Могилянской академии с огромными бело-красным грузинским флагом и бело-голубым флагом Израиля. Сотрудник «Ми-6». Поэтесса-аматёрка Снежана Лисняк из города Хмельницкого, публикующаяся под псевдонимом Украинка-Подолянка, накрапавшая стихотворение лиро-эпического характера «Смэрть москалякы», широко распиаренное интернет-ресурсами Цукермана. Сотрудница «Ми — 5». Трое мужиков в оранжевых пластиковых касках строителей. Девушка, жующая на ходу банан. Несколько молодых людей с оголенными бритыми головами, украшенными длинными «оселедцами». Женщина, которую месяц назад бросил муж. Женщина, случайно побывавшая в Лозанне, и мечтающая, чтобы такая же жизнь установилась в ее родном Цюрупинске Херсонской области. Одинокая женщина, прельщенная суетой, общением с людьми, рассчитывающая на неожиданные встречи, интересные знакомства, новую дружбу и неподдельную любовь. Парень спортивной выправки. Не вполне трезвая дивчина на плечах у парубка. Попукивающий при каждом шаге жирный тенор народной академической хоровой капеллы НТУУ. Романтичная молодая пара: не смотря на поздний час, у отца на плечах сидит пятилетний ребенок. Вышибленный с работы бывший вышибала стрип-клуба «Мятный носорог», что на улице Красноармейской в Киеве. Группа парней спортивной выправки со стеклянными глазами. Дядька в камуфлированном бушлате. Дядька в черном китайском пуховике. Дядька в смердящем отрепье, со связкой картонок под мышкой — бомж. Тетка в голубой вязаной шапке, с нашитыми на нее стеклярусом и блестками. Никитич — ночной сторож в трамвайном депо. Софа — владелица нескольких магазинов, торгующих секон-хендом. Фольклорный коллектив «Барвинок» в полном составе.
Уж очи неба окончательно смерклись, как вдруг блеснула из под мокрого холодного века лучащаяся литера «С». Но никто из людей этого не заметил. Впрочем, то скорее была не литера «С», а огненный гаммированный крест, свершавший едва уловимый вращательный разворот. Хотя… Может быть, и не крест… Скорее все-таки тот знак напоминал триграмму Гэнь… А точнее — вообще ничего такого там не было Просто один из Богов, обосновавшихся над главной площадью Киева, поднялся со своего места и произнес:
— Дэвана.
Что человеческий разум мог бы истолковать приблизительно так: «Раз уж нас направил сюда тот, кто над нами, мы не сможем уклониться от действия. И хотя каждый благоразумно предпочел бы недеяние, но кто бы смог отвильнуть от назначенного? Возможно ли отказаться исполнить предписанный долг? Мы ни в чем не нуждаемся, мы ничего не желаем, но для каждого установлены особенные обязанности. Всякому даны свои возможности. Самые неразвитые из людей, живущие только ради удовлетворения чувств, уверены, что пища Богов необыкновенно аппетитна и возбуждающа. Зная правду, они никогда не смогли бы понять, отчего пища небожителей абсолютно безвкусна. Итак, если уж нам предписана ответственность за удовлетворение тех или иных жизненных потребностей человека, то пусть каждый возьмется за труд природного ему поприща. Если бы мы этого не делали, люди давно бы уже уничтожили всё, данное им во временное пользование. Поэтому я предлагаю немедленно бросить кости — кто первым обратится к поступкам, кто вторым, и так далее».
Пока слагалось это решение, рядом с тремя Богами уловчились возникнуть еще несколько их сродственников. И тотчас перед всем собранием соткалась прямо из болтавшихся тут и там всяческих молекул пара костяшек. Невозможно утверждать с полной убежденностью, в какой именно материал соединились те молекулы — был то нефрит, мамонтовая кость или орешки дерева вибхитака. Но брякнулись они с каким-то странным стуком, ведь падали, вроде бы, с воздуха на воздух.
— Дьюта, — ответил собрату Бог, оседлавший расставшуюся с зависимостью от требований гравитации многопудовую бронзовую бабу.
Это был Бог… Какое бы подобрать здесь определение? Вот говорил же предыдущий трибун, каждому из них-де предписана ответственность за удовлетворение тех или иных жизненных потребностей человека. Так вот, этот Бог, что сидел на бронзовой бабе, был ответственен за такие области человеческой души, в которых могло зарождаться и отрастать все, что связано с необузданностью, дикостью, жестокостью.
Внешний же лаконизм высказывания, разумеется, как это наблюдается в природе Богов, размещал под собой колоссальный объем значений, из которых человеческое восприятие способно было бы уловить в лучшем случае самую малую толику. Если бы, конечно, кому-то привелось хоть что-нибудь распознать сквозь гул ощущений, посылаемых чавкающим человеческим прибоем.
— Дьюта, — сказал воинственный Бог, и это можно было бы попытаться объяснить следующим образом.
Прекрасно, мол, бросим кости и установим, кому предстоит первому спуститься в эту грязь, чтобы в очередной раз упорядочить их проточную жизнь. А в награду за наши хлопоты мы возьмем у них то единственно ценное, что помещается в этой черной слякоти, то единственно замечательное, чем они обладают. Это крошечные бессмысленные и бессильные по отдельности частички, сосредоточение которых создает провиант, который и делает нас бессмертными. Так пусть же брошенные кости обратятся битвой, в которой и человек, и Божество смогут различить свою задачу, смогут различить возможность свой награды, но последствия той схватки пусть остаются непроясненными, как неявственным остается до поры исход игры в кости.
Несколько агрессивно. Весьма возвышенно. Вполне в духе собственной природы высказался Бог Войны. Но там, где пребывает Бог Войны, непременно отыщется где-нибудь рядом Богиня Любовного Очарования. И действительно, она сидела с ним рядом. Заурядные чувственники из числа людей зачастую называют ее Богиней Любви. Что тут скажешь! Не имея даже приблизительного представления о предмете столь неблизком их жизнедеятельности, но прослышав от прозорливцев или вычитав в их творении\х о том, что любовь — это лучшее, скудоумы под понятие «любовь» подводят нечто наиболее им приятное. И здесь невольно вспоминается такой анекдот. Житель крайнего севера побывал в большом городе. Вернулся в родную ярангу — рассказывает о виденных, испытанных дивах. «А еще, — говорит, есть там такое… называется апельсин. Слаще его ничего нет». «Как он сладок, — уточняют одноплеменники, — как печень моржа сладок?» «Нет, гораздо слаще!» «Как жир тюленя сладок?» «Слаще! Сладкий… сладкий… как… как совокупляться!» Так и каста простецов любовью называет самое-самое сладкое для них — секс. А с чем им еще можно было бы сравнить прекраснейшее?!
Богиня Эротизма, произнесла… Встречаясь с этой Богиней (либо с ее эманациями, ее земными отражениями), человек как правило дает такое описание: обольстительное тело, как бы излучающее едва уловимое сияние, чарующее лицо, прелестные волосы… Да, приблизительно так она и выглядела. А очарование головки в обрамлении прелестных волос робко пытался поддержать венчик из свежайших весенних фиалок. На некоторых из них сверкали крохотные росинки. Взятая в кольцо трепещущими стайками воробушков фиалковенчанная Богиня как бы возлежала на энергии, вырабатываемой их крошечными крылышками. С виду воробьи весьма напоминали киевских. Ну, может, были почище, а их щебетание миловало мягкостью, слабостью и нежностью. Так вот, мягким, слабым и нежным голосом золотистая Богиня произнесла:
— Прити.
Некоторые из Богов переглянулись, а Бог Войны даже бестактно крякнул Ибо выраженная Богиней мысль означала следующее.
«Обратите внимание, людям не хватает любви. Да, именно любви. Хоть и называют они любовью случайно сопутствующие ей аксессуры. Гдн пронзительность со-чувствия? Где галантность в обхождении? Где амурные мадригалы и куртуазные поэмы? Разве их ученых, их политиков к деятельности побуждает любовь? Как, на каких принципах они воспитывают своих наследников? Они понастроили храмов, в которых говорят, будто Бог — это любовь. Но ведь просто болтают, переливают из пустого в порожнее. А поклоняются они… Да, тебе, Владыка Сокровищ. (Тут сладчайшая Богиня выразительно посмотрела на одного из Богов, которого отличало от прочих наличие трех ног и торчащих вперед трех зубов. Но на этом суть ее эмоционального порыва не исчерпывалась). Им нельзя без любви. Без любви они погибнут. Я уже посылала им предупреждения. Когда в последний раз они рассердили меня своим влечением к свинству, я наделила их отвратительным запахом. Вы чувствуете, как они воняют? Запах падали! Я была уверена, что это свойство повергнет людей в отчаяние, и все они, утопая в слезах и разрывая на себе провонялые одежды, незамедлительно кинутся виниться, вымаливать прощения, чтобы избыть исходящее от них зловоние… Но не тут-то было. Они моментом свыклись и даже сроднились с этим ужасным запахом. И вот уже кое-кто из них находит его даже заманчивым».
Тут фиалковенчанная, фиалкоукрашенная вздрогнула, и щеки, и ее оголенные руки, и прельстительной линии плечи зарделись.
— Мад ашрая!.. — произнесла она.
И все, кто мог понимать, поняли (возможно, не только окружавшие ее Боги, но и обладающие исключительным слухом люди), что Богиня готова первой спуститься в черную слякоть. Она согласна это сделать, даже не прибегая к жеребьевке. В своей коляске, сплетенной из воздушных струй, запряженной стайками воробьев, она спустится на землю и станет внушать любовные чувства этим несчастным, этим потерянным, этим злыдням… эротические чувства, сладкую негу любви, пьянящую радость объятий, нежные улыбки, счастливый смех… Разумеется делать это она будет не для того, чтобы ублажить ненасытных. А с одной только целью — дабы сквозь улыбки, сквозь объятия эти чувственники смогли заглянуть в более тонкие, более веские сути, для которых любовные услады являются лишь тончайшей кожурой. И когда так говорила Богиня, в тот момент как-будто раздавалась окрест какая-то музыка, какие-то прекрасные звуки, напоминающие отдельные такты из кантаты Карла Орфа.
Но нет. Боги все-таки решили бросать кости, и таким способом определить первый свой шаг. Тем более, что все они, включая золотистую Богиню, уже многократно перепробовали свои методы влияния на человека, но результат их никак нельзя было назвать удовлетворительным.
Одна костяшка взлетела, описала несколько фигур и упала со стуком.
— Кали! — воскликнули Боги.
Они имели в виду то, что выпала сторона кости, на которой было выбит знак единицы. Но каждое слово, каждое понятие во всех трех мирах владеет множеством значений. Всякое же произнесенное слово, апеллируя ко всем возможным смыслам, непременно порождает свои последствия. Было произнесено «кали» — и вот перед собранием явилась, точно по зову, та Богиня, которую называют Черной. А еще называют ее — Ночь Времени. Однако больше она все-таки известна под именем Кали. Сначала Богиня была такой громадной, как вся эта неохватная черная промозглая ночь. А, может быть, и еще больше. После в какой-то точке мрак стал уплотняться, и вот из него отлилась изумительной пропорциональности женская фигура. Вся она была покрыта шерсткой, черной как антрацит, черной с серебристым переливом как обсидиан. На лице, на груди, животе, на бедрах эта шерсть была столь коротенькой и нежной, что скорее напоминала бархат. Со спины — шкура пантеры, с черным пятнистым узором по черному же полю. В одной из четырех сильных рук Ночь Времени держала трезубец. Тяжелые смоляные волосы свились в причудливые косы. Ну и еще раз не будет лишним вспомнить, что предметные образы, которые пытается использовать человек при описании явлений инородных, нездешних весьма и весьма условны. И если в таком описании упоминается тот или иной цвет, фактура того или иного материала, то понимать это разумно было бы не как фактическое присутствие некоей привычной нам формы материи, а как ассоциативное ощущение от его особенностей, не правда ли?
— Вега, — вымолвили некоторые из Богов. Только некоторые — поскольку на большинство появление Черной Богини произвело какое-то гипнотически сковывающее воздействие. Тем самым Боги хотели сказать, что рано, мол, преждевременно явилась она, Ночь Времени, что есть еще у людей годы, а именно — 426 885 лет. Это, конечно, небольшой срок, но все-таки… Есть у них еще какие-то тощие шансы… и лучше бы Черной Богине уйти, чтобы раньше времени вельми неприглядное состояние людей не усугубилось до непоправимого. Что выпавшая единица — это еще не основание забрать Кали первенство, ибо это еще и число воинственного Бога. Жребий указал: ему первому ступить на землю.
Черные губы шерстистой Черной Богини раздвинулись (быть может, то была улыбка?), и открылась широкая ярко-ярко-алая пасть. (Нет, это разевание рта все же не было похоже на улыбку). Длинный алый язык упал на черный подбородок. Шевельнулся. Затих. Вновь вильнул и скрылся в алом нутре своего жилища. Рот закрылся, и лицо Ночи Времени вновь стало великолепным и бесстрастным.
Тут мшистая чернота Богини блеснула обсидиановым серебром, и та вновь стала увеличиваться до неохватных для глаза размеров. Вновь вся ночь наполнилась ею — ведь ночь ею и была. Только что проявленное опять возвращалось в состояние бесформенного. Частицы, только что слагавшие умопомрачительную и жутко-прекрасную фигуру, вновь рассеивались в пространстве. При этом Ночь Времени никуда не исчезла. Ее присутствие оставалось таким же близким, хоть и стала Богиня незримой.
Внимание собрания Богов переместилось на Бога Войны, которому выпал жребий первого шага. Они поддержали его своим дыханием, своими чувствованиями, чем прибавили пламенности духа Богу, известному также по эпитетам — губитель людей и разрушитель городов.
К египтянам этот Бог случалось являлся с головой сокола. Чаще ему нравилось явдяться в мир людей в обличьи крупгых хищных животных. Но не всегда. Иногда он он принимал образ колибри! Таким его встречали жители Месоамерики.
В сознание той части давнего греческого мира, которую называют аристократией, данный Бог, говорят, слетал на квадриге, запряженной конями, порожденными Богиней мщения, с именами Шум, Пламя, Блеск и Ужас. При данной конъюнктуре впечатлять таким способом было некого да и незачем. Поэтому схождению на землю Бога свирепой воинственности предшествовал сопровождаемый громким лаем пробег меж шатучих частоколов ног стайки облезлых дворняг, чьими кличками были Пустобрех, Огонек, Снежок и Страшко.
В ту же минуту легкоатлетические ноги Гермеса, облаченные в амбросийные золотые сандалии с кокетливыми крылышками, уже вычерчивали бесконечно сложный геометрический рисунок, соединяя несчетное число значимых пунктов. Телефонная сеть, окутывающая землю на тысячи километров во все стороны от Киева, накалилась. То, что простец называет эфиром, вспухло :
— …да плевать Америке на эту сраную Украину, они ж за океаном… — …есть у тебя кто в польском консульстве? Срочно… — …классический митинг — восемьдесят гривен. По остальному указания вот скоро придут… — Слава Украине! Слава Украине! — …майданутые не понимают, что их, быдляков, тупо используют и всё… — …понимать тебя хорошо. Звони, Льонья, и выводи людей… — …International Institute for Strategic Studies, Applications of Behavioral Sciences to Research Management, Tavistock Institute of Human Relations, Americans for a Safe Israel, Canadian Institute of Foreign Relations, The Round Table… — …носков надевай две пары. Две пары, говорю, надевай. Шерстяные что б. Носки — две пары… Шерстяные… — to give no more than eighty hryvnias… no more than one hundred… — …звони Мустафе. Звони Гане Гопко. Пусть подпустят вони… — … произошел пассионарный толчок, и это при том, что инкубационный период до акматической фазы… — We should like to meet the participants… — …по пятьдесят гривен давали. Это если просто на митинг придти. Если весь день стоять — тогда семьдесят… — …на общественный информационный канал уже в сентябре они получили грант, да, от штатовского посольства, четыреста тысяч. Ну гривен, понятно. А до того уже собрали шестьдесят пять тысяч. От посольства Нидерландов, правильно, семьсот шестьдесят тысяч. Так надо же отрабатывать!.. — …ну хоть натрахаешься вволю. А что, хорошие попадаются?.. Завидую… — … requested a meeting… with… the British attaché — …срочно выезжай! Пока тут можно какие-то деньги сделать. Да не ссы, все тут спокойно. Америкосы за всем присматривают… — …with such questions… yes… please contact the US Ambassador… — …Штайнмайер хохлов на хрен послал, Схефнер — туда же… — …Панас, чим тебе там годують? Мьясо дають? А-а… Кожного дня? А-а… А сальцэ е?.. — … keep an eye on them… them… See that the crowd did not… not… no-оt!.. really destroy the city.. city! Kiev!.. — на экстази сбросить цену вдвое! — …развалить-то развалят, а кто будет отстраивать?.. — … Джо Байдена… К Джо Байдену пусть… Он договорится… — … свою «Революцию через технологию» Куденхоув-Калерги почти сто лет назад написал… — …для майдановцев все бесплатно. Да, коммунизм!.. — … snipers «Beitar» will arrive tomorrow… — …изгнать Янека и угробить страну… — … олигархический переворот… — …нам по сорок гривен давали… — …свобода! Летать под облаками, как орлы!.. — …Марьяна прийихала? А Тарас? А Гриша? Гришу автобусом везуть. И Демьяна везуть… — …money will be sent by diplomatic mail… — … Martin Gilberts «Anschwitz und die Alliierten»… — …лондонская жидва осатанела… — …весь Киев забит этими баксами нового образца. Их нигде еще пока… А в Киеве — завались… Это же доллар-майдан!.. — … духовность начинается с сердечной чакры а все что ниже, животные инстинкты, уверяю вас… — …, кровь отцов и сыновей, матерей и младенцев, учителей и учеников их, воздай всемеро притеснителям народа твоего… — …как сказал Бентам, индивидуальные интересы — это единственные реальные интересы … — …arrived… from Galicia… farmers are feeding… well — …какие реформы? Кто их будет проводить? Вальцман — Петя-Шоколадный-Глаз? Или Жидокролик?.. — Заб’ємо цвях в домовину Яеуковича! Україну в Європу! Ну сам еще что-нибудь придумай… — … Vickers Armament Company, Royal Dutch Shell Company, British Petroleum… — …грантоедская шваль… — …шото я тут подцепила, а шо, понять не могу… — … истинное зло так же мало нуждается в человеке, как и истинное добро. Артур Мэйген… — … slave must remain a slave…
Заливаясь лаем, шелудивые псины Пустобрех, Огонек, Снежок и Страшко мчались, ловко виляя в лесу шагающих ног. И с каждой сотней метров численность той своры всё увеличивалась. Слыша сородичей, окружные бродячие собаки сбегались со всех сторон и, роняя слюну с высунутых языков, мчались в одном направлении. Кто-то мог бы воспринять тех разномастных псин, как священных зверей воинственного Бога, его предвестников. А иной объяснил бы этот собачий пробег тем, что кто-то из четверых — может, Пустобрех, может, Огонёк, Снежок или Страшко — все-таки был сукой в течке. Но какая разница. Бог сильный, огромный, быстрый, яростный, опасный, губящий уже коснулся стопой своей промозглой киевской слякоти. И даже не стопой, а одной из восьми собачьих лап, поскольку Бог — разрушитель рассудил прибыть в мир людей в образе кошмарного имени Аларка.
* * *
Часы на расславленной башне Вестминстерского дворца — Башне Елизаветы не так давно пробили час пополуночи. Laus Deo! А в Киеве было уже три… На киевской площади, в оснащение которой — огромной дорогой сценой, палаточным городком и его, так сказать, инфраструктурой — уж были вложены немалые деньги, оставалось к этому часу всего несколько сотен человек. Проведя еще один день а строптивой гулянке, обыватель, набравшись необычайных для его размеренной жизни впечатлений, натешившись, набаловавшись от души, давно уж храпел во все носовые завертки. И те, кто оставался на площади охранять презентованное кураторами тех событий имущество (в основном то были студенты из Малопольши), чувствовали себя вполне комфортно. Ведь еще в пятницу (это позавчера, значит) Штаты устами своего посла Джефа Пайетта предупредили киевские власти, чтобы те не вздумали противоборствовать бунтовщикам. «Мы убеждены, что манифестации общественных активистов, которые уже неделю проходят в Киеве и по всей стране, — очень положительный знак для будущего украинской демократии, это положительный знак прочности гражданского общества Украины и это позитивный знак для президента Януковича, что его администрация не допустила значительных проявлений насилия. И очень важно и дальше придерживаться этого принципа». И действительно, если уж они посадили шудру на киевский престол, то, наверное, не для того, чтобы плебей что-то там самолично решал. И что он вообще способен измыслить? Конечно, такие разъяснения дипломатического представителя Североамериканских Соединенных Штатов, сделанные «и публично, и лично» выглядели на самом деле комично. И даже буффонно. А бесталанность псевдопрезидента представлялась просто отвратительно жалкой. «Мы очень четко объяснили и публично, и лично, что демонстрации, происходившие на этой неделе, — это положительный факт, который свидетельствует о силе демократии в Украине и его необходимо уважать», То есть, они уже вложили в этот бизнес серьезный капитал, и попытки его обанкротить… «Для Соединенных Штатов свобода высказываний и свобода слова, и свобода прессы — фундаментальные принципы. Мы постоянно повторяем, что это наш самый высокий приоритет. Уважение этих ценностей — одна из основ наших стратегических двусторонних отношений. Отход от этих принципов будет иметь серьезные последствия». Поскольку Штаты всегда представляли собой лишь казарму Британского Каганата — «империи, над которой никогда не заходит солнце» — сатрапы британского ростовщичества, большей частью стремящиеся держаться в тени, также подали голос. (Понятно — через каких-то своих приказчиков). «ЕС учитывает проевропейские стремления, которые разделяет значительная часть украинских граждан. В контексте масштабных акций протеста, запланированных на этот вечер по всей Украине, мы призываем все стороны оставаться спокойными и воздержаться от применения силы», И тем не менее, президент Янукович, этот простой-простецкий вороватый и недалекий крестьянин отважился на полет. Конечно, этот «полет» напоминал не парение сокола, но скорее смахивал на перепархивание петуха с тына на сарай. И все-таки какой-никакой, а это был поступок.
Стрелки часов Blancpain 1735 от Grande Complication на белесом в толстых волосах запястье человека, находившегося в доме номер шестьдесят пять по улице Ист Стрит в Новом Йорке, сообщили, что рубеж восьми часов пополудни пройден. А в Киеве шел четвертый час пополуночи… На площадь, где стерегли выданное им хозяйство митингующие, появились милицейские автобусы. Они выпустили наружу пару сотен надсмотрщиков за общественным порядком из подразделения, носившего имя птицы из семейства ястребиных — «Беркут». Гревшиеся возле металлических бочек с надписью HUNO, наполненных какой-то тлеющей дрянью, студенты, находившиеся тут в дозоре, принялись звонить своим наставникам.
— Они приехали! Их много! Не знаю… Может быть, тысяча… Или больше!
И хотя сотрудников «Беркута» было две сотни с небольшим, студиозусов тоже можно было понять — говорят же: у страха глаза, что плошки, а не видят ни крошки.
— Слушайте указаний ваших звеньевых. Сейчас прибудет подкрепление.
— А если они…
— Тебе все выплатили?
— Всё…
— Еще есть вопросы? Или ты против европейского выбора Украины?
Однако, один со страху помер, другой ожил. Милицаи потребовали у бунтовщиков освободить площадь. Ответом были летящие в охранителей порядка камни, бутылки, обрезки металлических труб разного диаметра. Конечно, инсургенты были убеждены в полной безнаказанности своих действий. Может быть, ум — и не характеристическая черта для плебса. Но в выборе хозяина он всегда стремится, по возможности, точно определить сильнейшего. Ему и отдастся. И телом, и зачатками души своей. Ведь эти люди из толпы встречали на различных сайтах Интернета воззвания американского посла и американского госсекретаря, слышали их в программах всех местных телеканалов. А ежели номинальная власть не в состоянии контролировать источники информации, значит она тщедушна либо подложна. Люди читали петицию украинцев с просьбой к администрации президента США ввести санкции против президента своей страны — Виктора Януковича. В сроки сказочно краткие якобы под ней собрали сто тысяч подписей. И это было именно то их число, которое позволяло сенату США рассмотреть обращение. Срок сбора подписей истекал двадцать шестого декабря. За три дня дело было сделано. Да и вот, часа четыре тому назад на всеукраинском телешоу учрежденные Лондонской метрополией борцы с действующей властью — Олежа Фротман-Цегельский, Виталик Этинзон и Сеня Бакай совершено открыто призвали людей бунтовать всеми доступными способами. Такого не могло случиться ни в одной стране, ни при каком режиме, коль этот режим хоть сколько-то жизнестоек. (И черный народ это знает). Так что, собравшиеся на площади предполагали, понятно, что какие-то там осложнения всё же могут сотвориться, но при том уверенно ощущали за своей спиной подкрепление самых богатых ростовщиков мира. Они ведь думали как: хорошо медведя в окно дразнить. Поэтому, долго не раздумывая, очертя голову кинулись на охранителей городского покоя. По присловью: наши дураки не смотрят на кулаки…
— Ганьба! Ганьба! — кричали они.
Позор, мол, позор! Парень с лицом закрытым черной трикотажной маской, как и у его товарищей, выскочил на пару шагов вперед от линии, образованной авангардом толпы протестантов. Подхватил урну и швырнул ее в охранников. Пестрота мусора, рассыпавшегося по ледяной черноте асфальта, удивительно рифмовалась с пестротой толпы стремящейся ввести себя в более интенсивную степень возбуждения.
— Идите домой, убирайтесь отсюда!
То ли грохот упавшей урны, то ли запах рассыпавшегося мусора, действительно, привели людей в лихорадочное состояние. Метатель урны ловко скрылся за их спинами, а его сменщики тотчас принялись бомбардировать шлемы охранников брусчаткой, кусками стекла и всяческой подвернувшейся под руку дрянью. Уверенность в своей безнаказанности соединенная с желанием по случаю зашибить какую-то копейку добавляли нападавшим задора. Но и охранники никак не хотели оставлять себя и свои семейства без калорийной пищи и перспективы повысить качество бытового комфорта. «Качество жизни», как модно стало на ту пору обозначать всестороннее благополучие. Поэтому охранники из «Беркута» уверенно двинулись освобождать площадь. Однако в их арсенале не было ничего кроме резиновых дубинок со стальными сердечниками. А впереди отряда мятежников, стали появляться группы демонстрантов, неожиданно обнаруживавшие превосходную осведомленность в ведении уличных боев. В строительных и армейских касках на головах, с лицами закрытыми черными масками, с цепями в руках, со стальными прутами, они стремились отделить от фаланги охранников небольшую группу, и с яростью обрушивали на их головы серии отработанных ударов.
— Вали их на землю!
— Добивай этого! Отходим!
И действительно, после каждого сноровистого наскока они подавались назад и юрко скрывались в прущей вперед студенческой толпе.
— Слава Украине! — кричали студенты.
— Украина — це Европа!
— Кияни — на майдани!
Студенты запускали в головы охранников фальшфейеры, швыряли в них всякий сор, заблаговременно собранный на городских помойках. И пошла потасовка! И те, и другие рвались к лучшей жизни. Те и другие вожделели большего количества пищи, частых и продолжительных сношений на сытый желудок, пьяной одури в мозгу, кондиционеров — летом и горячих радиаторов — в морозные дни. Хотели сыра, твердого дорогого сыра, мяса, много мяса, разного, копченого, и отварного, и фруктов, множество, бананов множество, карамболлы, турецких персиков, и виноград, конечно же, и винограда, кисти, гроздья, и рыба, рыба лосось, рыба севрюга, да и хек пойдет, икра — понятно, это вообще символ преуспевания. Еще студенты, и ушлые их организаторы, и милиционеры, все они мечтали о всяческих развлечениях, цирк, концерты эстрадных знаменитостей, еврейские юморины, египетские курорты, а там, понятно, дискотеки, и клубы, где всегда предложат что-нибудь веселящее. И жирненькие дети, такие розовые бутузы, ма-а, па-а, весело смеющиеся, и памятник из черного мрамора любимой маме на кладбище, и новый ноутбук, а, может быть, и авто. Вот она, жизнь, вот достоинство, здесь и счастье, и стремление, и смысл, и обещание света… Как же за это не драться?!
— Мусоров ве-еша-ать!
И в милиционеров летели горящие дрова. И милиционеры били дубинами хрипящих от возбуждения учащихся высших учебных заведений и техникумов.
— Ты что делаешь?! Что делаешь, подонок?! — вопила девица Лера Лось, подпавшая под горячую руку одного из охранников, вопила подкрепляя фразистость площадным матом. — Не видишь, женщина перед тобой!
— Ты женщина?! — успевал выплюнуть слова в ее подбитое лицо охранник порядка. — Ты паскуда! Паскуда ты, а не женщина! Женщины сейчас дома спят, детей нянчат. А ты… ты… тварь ты бездомная…
Удар резиновым «рычагом демократии». по голове — и почитательница европейских ценностей кинулась назад. Лере повезло. Где-нибудь в Штатах за неповиновение властям она могла бы получить по голове дубинкой, стреляющей зарядом ирританта. Или опробовать «демократизатор» со встроенным электрошокером. Скверное оснащение охранителей порядка в Киеве, несомненно, значительно упрощало ответственность буянов.
Кровь уж вовсю брызгала по лицам. Разношенные чёботы, стильные сапожки на шпильках, кроссовки, армейские берцы, кроссовки, берцы, кроссовки, берцы топтали разбросанный всюду мусор. Меж людских ног все носились ошалело лающие собаки. Крики. Стоны… Прибывший три дня назад из Хмельницкого безработный Мыкола Нечитайло в общем месиве набросился на охранника Романа Омельчука. У Нечитайло была металлическая цепь от встреченного по дороге в Киев, где-то на станции, чьего-то древнего велосипеда марки «Украина». Омельчук же был оснащен стандартной милицейской дубинкой со стальным стержнем внутри. Не раз уже милиционер и хмельницкий безработный успели скрестить свои орудия, но перевес в силах никак не обозначался. Тут-то и подлетел со своими вилами Васыль Грыцюк. Да как долбанет ими по черному пластиковому шлему. Шлем — наземь. Тогда уж Нечитайло с Грыцюком отвели душу. Били они его долго, били в затяжном наслаждении. Всюду гремели воинственные крики, экстатические бабьи визги, а они все охаживали поверженное тело. В небольшом мозгу Грыцюка возбуждающими вспышками проносилось, что бьет он этого совершенно незнакомого и ненужного ему человека ради того, чтобы… чтобы шифер купить для прохудившейся крыши, а, может, так и на металлочерепицу хватит, бьет, чтобы жена его гражданская перестала таскаться с другими мужиками и позорить его среди знакомых, чтобы модные и дорогие купить солнцезащитные очки к лету, поехать, может быть… даже в Крым, где пальмы… Ну и, конечно, понимал он отчетливо, что кормят его здесь бесплатно не совсем бесплатно, и надо как-то тот харч отрабатывать… А безработный Нечитайло в который раз опускал всю уж красную велосипедную цепь на обнаженную голову милиционера Омельчука, Конечно, он тоже хотел наказать Романа Омельчука за все злоключения своей мрачной жизни. Разумеется, при всей своей недалекости, он отдавал себе отчет, что за даровую кормежку, бесплатный секонд-хэнд и безвозмездное медицинское обслуживание рассчитываться нужно, и понятно каким способом. Но при этом Нечитайло думал о том, что в одном из карманов поверженного милиционера должен найтись хотя бы мобильный телефон. А, может быть, и не только телефон. И эту дополнительную возможность отнюдь не стоит упускать. Милиционер же Омельчук, под настырным натиском ботинка военного образца армии США все сильнее вжимаясь щекой в ледяную грязь, думал о том, что если недавно поставленный протезистом мост из трех зубов на верхней челюсти ему выбьют (или уже выбили?), то пятьсот баксов псу под хвост, и жена опять будет его сволочить, будет нюнить, мол, денег и так нет, мол, надо ему, как мужчине, искать нормальную роботу, чтобы жить нормально, как Ляйтерберги живут, и, может быть, даже, забрав Митьку с Наташкой, опять уедет жить к своей матери в Белую Церковь…
А студентка Лера Лось, получившая дубинкой по голове и, отрезвленная болью, бросившаяся прочь из этой человеческой хляби, успела сделать всего несколько шагов, как прямо на ее пути встала обнажившая клыки и глухо урчащая странная собака. В общем-то, это была собака внешности вполне заурядной для бездомной городской псины. Не большая — не маленькая, с редкими розоватыми лишайными проплешинами на скалящейся черной морде. Шерсть тусклая, вскосмаченная. Но стояла она на устойчиво расставленных кривоватых… восьми лапах. Лера Лось только про себя отметить, мол, собака на восьми лапах… как та вцепилась ей в ногу. Но тут же отскочила и вновь стала на ее пути. Странно, вполне естественного в данной ситуации страха Лера не испытала, вместо этого пробежавшая по нейронам и ударившаяся о ее мозг информация об укусе обратилась какой-то… сладкой волной, прокатившей по всему тело. За тем последовал внезапный хмельной прилив сил, словно от так называемых «евротаблеток», чудесных «таблеток смелости и силы», таких витаминок, продаваемых во всех ночных клубах, на всех дискотеках по триста гривен за штуку. А последнее время — так и по двести. Изо рта Леры самопроизвольно вылез не вполне членораздельный рев, в котором все-таки можно было различить: «Слава нацiї — смерть ворогам!» Потом: «Слава Українi!» Круто развернувшись, выкрикивая хулы и хвалы, Лера Лось, освеженная, бросилась назад, то и знай спотыкаясь и поскальзываясь на раскиданном мусоре, тут же позабыв и необыкновенную собаку, и аргументацию милицейской резиновой дубинки.
Если бы вновь разъярившаяся Лера была в состоянии разумно оценивать окружающее, она могла бы приметить, что стала не единственной жертвой восьминогого пса по имени Аларка. Сверхъестественного существа, которое здесь можно было бы при желании назвать и Ареем, и Аресом, Сетом или Монту, Архангелом Михаилом… Можно было бы использовать еврейское прозвище Ваал, кельтское — Камул… А уж какой облик ему принимать и где — это он сам решает. Когда кто из бунтовщиков пятился задом, пасовал, то это зубатое чудовище неизменно кидалось на отступника, хватало клыками за ноги, после чего тот неизменно возвращался в строй (или вернее — ту кашу, в которую давно уже превратились прежние отряды), возвращался, обуянный тройным бешенством. Мало того, этот фантасмагорический пес будто бы возникал единовременно в нескольких местах. Во множестве мест! Студентка Лера Лось могла бы видеть, как студент Пидорван тыкал в щель шлема на голове поверженного милиционера Запары красным от крови металлическим прутом, как два работника милиции — Алексей Гарбуз и Иван Непыйпыво волокли за ноги свадебного аниматора Евгению Забилясту, что точно заведенная выкрикивала одну и ту же фразу — «нет коррупции!», как переодетый в «гражданку» работник милиции Хомяк, тузил облаченного в уставную форму работника его же ведомства Иванченко, как сраженный ударами резиновой дубинки сержанта из отряда «Беркут» Вячеслава Куценко падал лицом в пестрый мусор студент четвертого курса черновицкого педагогического института Ярослав Батечко, как студент второго курса Днепропетровского сварочного техникума Захар Цюрюпа и несколько его сотоварищей бросали извлеченные из металлических бочек горящие дрова в правоохранителей, отрезанных неистовой толпой от основного отряда. Леся могла бы видеть, как носятся там и здесь резвые стайки телевизионщиков с видеокамерами на плечах, с дорогими фотоаппаратами в руках, как, завидев их, некоторые участники темпераментной манифестации, да хоть вон та -Ярина Булавка, внезапно, ни с того ни с сего падали наземь и принимались корчиться, инсценируя страдания раненой жертвы… как скачущий сразу повсюду пес Аларка подбегает к ним и задирает две задние ноги над кем-нибудь из тех фигляров, и тот, освеженный собачьей уриной, вновь вскакивает и с новым приливом сил уносится, так сказать, в гущу событий. Но укушенная бешеным псом Леся Лось не в состоянии была что-либо различать перед собой, не могла оценивать свои действия, и тем более — прогнозировать их последствия.
И еще следует добавить буквально несколько слов о наистраннейшем псе по имени Аларка. Незадолго до украинской смуты его (или кого-то из его бесчисленных клонов) уже неоднократно встречали в северной Африке и на Ближнем Востоке. В частности — в Тунисе, Египте, в Ливии и Сирии. В крови, укушенных или обмоченных страховитым псом, неизменно находили следы опасных токсинов. Впоследствии у этих людей наблюдались патологическая сонливость, усталость и такой силы депрессии, что выход из них несчастные зачастую находили только один — самоубийство. Иные же подвергались прогрессирующему помешательству в форме шизофрении либо впадали в «стереотипное поведение», выражающееся, как известно, в монотонном повторении одного и того же простого действия в течение многих-многих часов.
Наконец поначалу оторопевшие от незнакомой беззастенчивости повстанцев милицейские отряды, также как и толпы бунтовщиков, искусанные восьминогой собакой, перешли в наступление. Спецы в черных масках, зачинавшие побоище и подстрекавшие неразумных юнцов и экзальтированных личностей к буянству, давно уж сгинули, оставив своих подопечных на произвол случая. И те попятились назад, а вот уже и побежали по Крещатику, черному и холодному, бросая на ходу свой боевой инвентарь. Часть молодежи (несколько сотен) выскочила на площадь перед христианской синагогой имени одного из генералов-охранников Яхве, которого здесь особенно чтили, известного также под именем князя еврейского народа. (Так, во всяком случае, говорится в «Пророках»). Христопоклонники тут же распахнули ворота своей обители перед озорниками, и укрыли их в ее приютах. Как говорится, шасть, на Божью часть. Догонялы стали перед вышедшими им навстречу попами, точно бензиновые колымаги с внезапно заглохшими двигателями. Почему? Потому что знакома им была народная примета: ладан на вороту, а черт на шее.
Поп всегда держится сильной стороны. Этим он прежде всего отличается от волхва или брахмана, которые, чтобы там ни было, следуют одной только Правде. В этом поповщина непреложно сближается с черной толпой. Она цинично утверждает, что следует приноравливаться к любому режиму, овладевшему массами, «ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены». «Посему противящийся власти противится Божию установлению». А «существующие власти» в свою очередь не гнушается в свою очередь приласкать возделывателей народных суеверий.
Уж и самое дремучее простонародье подмечало: «Читает поп: «Да будет воля твоя!», а думает: «Когда б то моя!»
Ему ответ; «Для того вы и подати платите; ибо они Божии служители».
Народ: «От вора отобьюсь, от приказного откуплюсь, от попа не отмолюсь»
.Попы: «Отдавайте всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь, честь».
«Попы и черти одной шерсти».
Разумеется, то отнюдь не было случайностью, что это капище посвящалось все тому же воинственному Богу, который носился сейчас по Киеву в облике бешеного пса. Ведь «князь великий, стоящий за сынов народа твоего» — одно из многовидных его отображений, взбодренных скудной человеческой фантазией.
Аларка исчез. Пропали только что мелькавшие по всем всюдам его восьминогие клоны. Вновь миновал человеческий взор тот факт, что зловещий пес, доскакав на восьми своих кривых лапах до ухоженной стены христианской синагоги, в нарядной подсветке даже ночью кичившейся подновленной голубизной, с маху скакнул на нее и побежал… прямо вверх, по вертикальной ее плоскости, к нависшим над ней обильным наплывам золота. Здесь, наверху, его вытертая шерсть, черная с редкой проседью, вдруг стала золотеть, ряд жутковатых метаморфоз скрутил, вывернул, изломал и перестроил его члены, — и вот на последствия недавней злой потехи, на замершие улицы, на разоренную площадь Независимости, на редеющие кучки остывающего люда ничтоже сумняшеся взирал субтильный, но вместе с тем по-еврейски широкотазый, бедристый, с тонкими голенями юноша, обряженный в униформу римского полководца. Металлический панцирь с наплечниками и набедренниками, украшенный рельефом, из-под которого коротенькой юбчонкой торчал подол куцей туники. Кровавый офицерский плащ завязан узлом на левом плече. И все это смотрелось на дегенеративной фигуре как на корове седло. Семитские черты молодого человека заостряла не только носастость, чернота масляно поблескивающих глаз, но и мешки под ними, набрякшие то ли от пиелонефрита, то ли от гипотиреоза. Волосы юноши были убраны для славянского глаза в слишком уж фривольно пышную, какую-то дамскую прическу. В одной мозглявой ручке этот фрайнт держал копье, а за его неширокой спиной трепетали птичьи крылья, как и назначено животным этого класса позвоночных — все в перьях. В руке… Копье? Или меч? То копье, то меч… Различные виды оружия так часто сменялись, что невозможно было с отчетливостью разглядеть хоть одно из них. Кажется, там был даже огнемет… Возможно, был… И все-то в юноше — и лицо, и одежка, и ятаган, всё было для пущей привлекательности припорошено золотистой пудрой. Не исключено, что в целях экономии, а также по причине невзыскательности местной публики использовалась общеизвестная «бронзовка» — бронзовый порошок, состав, с помощью которого предметам гипсовым или деревянным стараются придать авантажность. Таким много веков назад хотело видеть воинственную силу мира еврейское воображение, таковой оно ее изобразило, в таком виде взирала эта сила теперь на отравленный Киев.
Скрывались ли какие-то помыслы за золотистой личиной этого существа? Ах, не дано ведь человеку даже предположить, о чем там думают Боги! Быть может, голову этого Божества наполняли воспоминания о том, как тысячу и еще двадцать пять лет назад такой же точно толпе назначали его в числе прочих новоявленных Богов и Богинь. Так же точно дрались смерды и их смердовичи. Те, что помоложе и понеопытнее, с лучезарной беззаботностью велись на посулы менеджеров нового мирового порядка, что жить они скоро станут ничуть не хуже самых богатых еврейских торговцев, разумеется, ежели примут над собой их власть, поменяют имена Богов на еврейские. Так же противились пертурбациям те, кто был постарше, пытаясь спасти от передела хотя бы то немногое, что удалось им скопить ценою немалых усилий за свою жизнь, хоть какую-то стабильность удержать. И так же кто-то рыдал, а кто-то ликовал. Кто-то поверженный истекал кровью, а кто-то, торжествующий, попирал его ногами. Как тысячу и еще двадцать пять лет назад. Сколько шума, сколько усилий, какое напряжение, какой надрыв! И что? Вон он смерд — как и встарь до кровавого (в прямом смысле) пота напруживается. А менеджеры перемен по-прежнему — один другого хвалит, да только глазом мигает. Как тысячу и…
Вот. Может, как-то так думал Микаэл. А, может, и не думал… Он же был на работе. Боги, они ведь, как и люди, на службе состоят — значит, прежде всего, им стоит мерекать над тем, как в лучшем виде возложенное на них задание исполнить. И, надо сказать, пока в отсутствии завзятости этого Марса-Аларку-Михаила никак нельзя было бы упрекнуть. Так что, возможно, в данный момент он просто отдыхал. Отдыхал, сверху взирая на деяния рук своих. Или чем там Боги деяния свои осуществляют…
Уже в это время все тайные, полутайные и вовсе неприкрытые службы, обрабатывающие сеть Интернет, пустились в непростую работенку по обнаружению, сбору, сортировке и анализу информационных опухолей, принявшихся вздуваться по всему этому гигантскому виртуальному организму. Их ожидал настоящий аврал.
Избитые студенты собираются во дворе Михайловской церкви под защитой церкви.30 ноября 2013 — Друзі кажуть, шо плакали, як бачили, як оточених мітингувальників лупашили, дівчат без свідомості беркут тягнув за ноги по асфальту — Все правильно сделали давно пора было дать пиздюлей сосункам студентам, что живут за мамин-папин счет и на занятия не ходят —
Янукович за все в ответе ему ответ держать перед всей Украиной и пред своей совестью. Он очень хорошо сделал что не стал на колени перед европейской жопой — Беркут идет в Михайловский монастырь бить студентов, которые там укрылись. Дети в опасности! — С каких это пор черножопый президент Америки командует в нашем доме — Украине?! 30 ноября 2013 — У Києві в центрі міста купа міліції. На питання, чому, відповідають, що очікують на виступи і тут для захисту людей!!! Так цинічно!!! — Не треба нівчому винити беркут. Їм віддали наказ ті щурі що сидять за кермом нашої країни, і їм це керування не дуже виходить. Перемен! — Беркутовцы — герои сраные. Против безоружных да еще толпой на одного — смелые. Говно, а не люди… Интересно, у них семьи есть? — Молодцы беркуты! От если б кроля, тягнысрака и барана-боксера посадили б, вообще хорошо было бы. Идиотизм массовый надо уничтожать — Нужно дать достойный ответ власти, чтобы раз и навсегда расхотелось народ бить! Это подло и низко! А «Беркут» пошёл фактически на своих детей. Уроды в форме! Банду Геть! — Давно надо было отмантулить сопляков, чтобы не лезли не в свое дело — Студенты ничего плохого не делали, просто отстаивали свои права, как это делается во всем цивилизованном мире! — В вашем жидовском мире — Да, в нашем, жидовском! — Сука! — Пизда! — Сама пизда!!! — Вы, молодежь, рветесь в Европу, а что делать нам, людям, которым за пятьдесят? Мы уже без пенсии в пятьдесят пять лет. А будем и без работы. — Наконец этих дебилов разогнали! Янукович умница, хватит дерьмократии! Двадцать лет долбаные бендеровцы нам кровь пили! Так держать! — Какой же надо быть мразью, чтобы приветствовать то, что делает «Беркут» с детьми! Скоро Новый год — попросите у Деда Мороза себе в подарок немножко мозгов и человечности! —
Надо было это сделать еще в 2004м! — Президент про народ взагалі не думає, він на нього незважає і готовий його знищити — Студенти, які мирно мітингували на Майдані Незалежносі — це свідомі громадяни нашої країни, які висловлюють свою думку і згідно конституції України вони мають повне право — Так поступают с протестующими в цивилизованных странах, и в Штатах тоже. Вспомните недавние события в Турции. Так что, ваши дети отстояли своё право на пиздюлины! А крики из гейропы и США о недемократичности — это вмешательство во внутренние дела другого государства — Благосостояние и вас и вашего народа не в еврейском союзе, а уровне вашего образования, интеллекта и трудолюбии! Детей побили, бля! Дети дома уроки учат а не бунты устраивают! — Репост: Будь ласка, підтримайте нову петицію до ЕС и США щодо надання миротворчих сил, міжнародних спостерігачів та запровадження санкцій проти нашої країни! — Только ответьте мне пожалуйста, горе патриоты, почему на ТВ показывают только то как «Беркут» махает палками и не показывают, как в них летят бутылки с зажигательной смесью, горелые паленья?
Тем временем на освобожденную от бунтарей площадь Независимости выдвигались работники коммунальных служб со своей техникой, с тем, чтобы собрать остатки революционного реквизита, всякую рвань, оставшуюся после этого недоброго карнавала, соскрести наваленные по всем углам кучи человеческих экскрементов¸ оставленные теми, кому вовремя не досталось кабинки биотулета либо тех, кто в своей обыденной жизни привык оправляться где придется.
— От жешь понагадили! Ой, понагадили! — возмущалась, орудуя лопатой, баба Паша, как и все ее товарки, поверх тулупа облаченная в оранжевый жилет.
— Святой Боже, запечатай им дупу своей святой печатью, шобы они уже до смерти опростаться не смогли! Шоб говно их поразрывало! — поддержала подругу баба Катя.
Нужно было вычистить всю грязь, да и пора уж было начинать возводить здесь металлический каркас гигантской новогодней елки.
Ну и что вы хотели? Поиграли в политику? Шайка шакалов рвется к власти, а вы участвуете в их грязных играх — Героям слава! Ви, в кого нема розуму та совісті, скоро побачите, що таке свобода! — Народ не ведитесь на провокации — К сожалению, это правда, что детки на Майдане сопли морозят за двести пятьдесят гривен, а те что постарше и покрепче, состоящие в группах «Провокатор» — за пятьсот. Их можно понять, на стипендию не проживешь. 30 ноября 2013 — При чем тут милиция и беркут в частности, вы такие обозленные, что не видите реального врага! — Все верно, без еврейских погромов не обойтись, иначе так и будут садится народу на головы! — Все это говно — милицию, «Беркут», власть, все это нужно истреблять — Всех дебилов с майдана нужно мудохать и бросать в обезьянники! — Не хер лазить по ночам и общественный порядок нарушать! — Капец! И Янукович плохо, а эта проплаченная евробыдлота — еще хуже. Нах нужен Этинзон со своей Германией, Бакай с Америкой. Ебалось оно все! — Я за мирное решение складной политической ситуации. 30 ноября 2013, 04:30 — Нам нужно срочно прекращать весь этот бред… Захваты, провокации — к чему это? Один ответ — к войне…
До рассвета в эту мрачную пору оставалось еще очень много времени. Но искусственный серый свет достаточно ясно высвечивал умученную площадь. Заурчали тракторы, заскребли лопаты… На пятидесятиметровом мраморном столбе на площади уже никого не было. Бронзовая баба была вновь водружена на свое место. Вот только стояла она… на голове, вверх ногами. И этого, как и многого другого, некому было заметить в тот час. А ежели и видел кто, до того ли ему было — на голове стоит этот реквием ваяльному искусству или еще на чем?
Несмотря на самое мертвое время суток, Киев не спал. Город затаился. Мещанствуюшие его обитатели — мелкие торговцы, исполнители работ простых, черных, фабричных, клерки низшего разряда, всякого рода прислуга плутократов, учителя и пожарники, держатели крохотных стоматологических кабинетов и зоологических магазинчиков, перепродавцы сигарет и батончиков из эрзац-шоколада, парикмахеры, репетиторы, газетные редакторы, всяческие наймиты и служители — все они с нетерпением и благоговением ожидали голоса хозяина. Да, быть может, большинство представителей столь разноперого собрания и не отличались особым умом, и уж тем более — даром предвидения. Но тяжкая жизнь развила у них некое особое обоняние — способность улавливать приближение хлыста надзирателя либо куска смачной пищи. Где же он? Кто же он, суровый, но справедливый? Кто не церемонясь наложит лапу на волю трепещущей толпы? Конечно, то будет не нынешняя фальшивая власть. Но кто? Кто же он?..
И уже в 07:15 бывший посол США на Украине Стив Пайфер заявил: «Использование Януковичем силы против демонстрантов — это опасный поворот событий. Это изолирует его от Евросоюза и США».
— А-а… Так все-таки… М-м… — кумекал киевский обыватель.
В половине десятого тот же Пайфер для верности написал на своей странице в Twitter; «Пока работаю над тем, чтобы понять, что произошло, но конечно осуждаю применение силы против мирных демонстрантов. Вскоре скажу больше».
В полдень из Шевченковского отделения милиции в Киеве выпустили всех задержанных бунтарей, среди которых помимо киевлян были также гастролеры из Львовской, Ровенской, Винницкой, Тернопольской областей.…
— Тью — у!.. — брезгливо сплюнул филистер.
Одновременно с тем на сайте Белого дома в заокеанском Вашингтоне появилась статья под заголовком «Поддержите народ Украины в мирном свержении нынешнего правительства». Тотчас все средства массовой информации, контролируемые ростовщичеством, в один голос завизжали: «Море крови! Море крови!»
Ну-у… всё. Всё, кажется, ясно. К делу. Кто рванет первым, сможет рассчитывать на какую-нибудь премию, ну хотя бы — на поощрительный приз. Повышение по службе, пища, много пищи, наряды, всевозможные, заграничные, секс, секс, секс, увеселения какие угодно, с песнями, с танцами, евроремонт дома, дети — на обучение во Францию, ну хотя бы — в Польшу, и пища, пище, аппетитная, сочная… Вот только не оплошать бы. Назначенные во фронду (теперь уж не оставалось сомнений — кем) Бакай, Этинзон и Фротман-Цегельский в открытую объявили о создании ими штаба национального сопротивления, с тем, чтобы домогаться отставки Кабинета министров Украины, а заодно — одновременных президентских и парламентских выборов. Толпа дура? Толпа дура, но она прекрасно знает: если после таких заявлений власть оставляет фрондеров в живых — значит, она уже никакая и не власть. Оттого к трем часам пополудни на площадь перед той самой христианской синагогой, в которой попы укрыли нашкодивших беглецов, собралось уже тысяч пять недовольных и возмущенных. Не встретив никакого противодействия со стороны увольняемой власти, через некоторое время их число удвоилось. На митинг никем не сдерживаемые прибыли все те же менеджеры последних событий — Бакай, Этинзон и Фротман-Цегельский. Они сообщили, что только что их вызывали на ковер послы Европейского Союза, и послы те рекомендовали-де следующую программу: ни в коем случае не прекращать митинги, теперь требовать привлечь к ответственности министра внутренних дел, применившего силу против митингующих, создавать стачкомы, готовить общенациональную забастовку, с тем, чтобы добиться немедленной отставки, как президента, так и всего правительства страны. Чернь глупа? Да, «Пиковую даму» не напишет, закон распределения вероятностей не откроет, беспроволочную передачу электрических сигналов не изобретет. Тут она, конечно — ни уха ни рыла. Но в подобной-то ситуации смекнуть, кто тут царь настоящий, а кто — подложный, завсегда сумеет.
Царь необлыжный еще повременил, и когда численность толпы стала приближаться к пятнадцати тысячам, пустил к ним, помимо уже болтавшихся меж возбужденных толпежников активистов, небольшие отряды хорошо вышколенных специалистов революционного ремесла. Их верховоды, выращенные в строгом соблюдении методов самых современных технологий, делились полученными секретами с пылкими поклонниками приключений и осторожными искателями прибытка.
— Не берите с собой газовые баллончики. Берите баллоны с краской…
— Какого цвета — краской?
— Да с любой. Заливайте им спереди шлемы краской.
— Чтобы они ничего не могли видеть?
— Вот, молоток! Казак! Правильно. Чтобы они ничего не могли видеть. Тогда менты сами будут их со своих черепов стаскивать. А с непокрытой головой они уже будут наши.
— Баллоны, если газовые, то их лучше распылять в закрытых помещениях.
— Когда в их кабинеты пойдем?
— Не только. Распыляйте в метро. На станциях распыляйте, чтобы нейтральщики там не прятались, а вываливали бы все на улицу.
— Правильно! На улицу их! Всех на улицу! Ганьба!
— Берите с собой ножи с хорошим прочным лезвием.
— Ножи?… Може, ножи-то не надо?…
— Правильно, ножи! Москалей на ножи! Будем резать рашку! Москалей на ножи!
— Нет, резать пока никого не надо. Пока резать будем шины. Режьте шины всему, что будет попадаться по дороге. Создавайте проблемы с движением на всех важных для нас улицах…
— Но…
— Потом мы перед всеми извинимся. Потом. Когда победим.
— Победим! Ганьба! Слава Українi! Москоляку на гiлляку! Ми переможемо! Героям слава!…
Но если у революционных гастарбайтеров особенно-то выбора и не было, то основная масса обывателя все еще осторожничала. Однако как раз ее-то и необходимо было залучить в данное представление. Безусловно, добиться
желаемого результата переустроителям можно было бы и силами нескольких относительно небольших отрядов. И все-таки ангажемент, подписанный такой уймищей статистов, вне всяких сомнений и облегчил бы исполнение задачи, и упрочил добытые результаты.
Поскольку никаких реальных взысканий никто из ночных балагуров не понес, а средства массовой информации взяли как раз их сторону, чем ясно дали понять, чьей воле они повинуются, после обеда местное бюргерство, хорошенько начинив свои желудки жирными зимними салатами, копченой скумбрией, борщом, разящими ванилином творожными смесями, домашними котлетами или магазинными пельменями, чесноком, шкварками, отварным картофелем, жареными яйцами, тушеными куриными бедрышками, сметаной двадцатипроцентной жирности, консервированной кабачковой икрой, кефиром с фруктовым сиропом, солеными огурцами, мочеными яблоками, эклерами, начиненными подслащенным маргарином и прочей доступной им пищей, хорошенько подкрепившись и еще раз просмотрев сводку теленовостей, носители мелкособственнических интересов стали выбираться из своих уютных фатер.
Их становилось все больше. Когда коэффициент полезного действия толпы превысил определенную величину, уже нельзя было обходиться без специалистов по ее направлению и охране. А ведь выучка таких искусников вовсе не простое дело. Во-первых, нужно отбирать для обучения тех представителей, которые выросли в толпе, в тех социальных слоях, с представителями которых им и придется в будущем взаимодействовать. Выбирать также следует из наиболее выносливых, активных и подвижных, проявляющих заинтересованность в процессе.
— Выбирать нужно, вы меня слушайте, из таких, которые выросли в отаре, — с жаром заговорил Мирон Козалуп, поскольку удалось вывернуть на близкую его сердцу тему. — Правильно выберешь — скорее научишь. Выбирать нужно самых выносливых, самых таких… боевых, самых шустрых. И чтобы им это было интересно. Ну, зависит — чему их учить собираешься. Что правда — то правда, молодежь скорее дрессируется, зато такие, которые более взрослые, те спокойнее, они лучше различают отдельные штуки. Вот. Так вот. Про что это я говорил?
— Что старые лучше дифференцируют отдельные приемы, — подсказал Мирону Козалупу один из двух его слушателей, также гревшихся у железной бочки с угольями, заботливо поставленной здесь для участников очередных возмущений.
— Чего-о? Чего дифи… цифи… — возмутился Мирон. — Ничего такого я не говорил, А! Вот: важно, чтобы псу хотелось за ними бегать…
— Важно наличие инстинкта преследования убегающих животных, так? — уточнил всё тот же умник.
— Ну, не знаю. Может и так, — не стал спорить Козалуп. — У тех пород, какие годятся для пастьбы, вот это, что ты сказал, должно быть. А там уже смотришь: если к скоту нормально относится — можно дальше учить. А то ведь бывает, что искусает какую овцу до полусмерти, а то и насмерть загрызет. Бывает, тебе руки лижет, ласковый, а как к скоту подойдет — зверь зверем становится. Поэтому очень нервных для этого брать нельзя. Таких вон — на цепь, караульщиками они будут хороши. А скот пасти нужно особые свойства иметь. Овец тоже сначала нужно приучить к псам, которые будут их пасти. Чтоб они на одном месте не толпились, не пугались… Псы должны выучиться подгонять к стаду тех, что отбились. Или отстали. Особенно, когда стадо идет с тырла, после ночевки — голодный скот стадно идти не хочет, отстает, разбредается. Вот отстала овца, Что тогда? Тогда я стану вот так, перед стадом, показываю псу, вот так показываю рукой и кричу: «Гони!» Пес — за овцой. Я кричу: «Гони, гони, хорошо!» А как овца в стадо войдет, кричу; «Стой!» Овцы, они ж боязливые, всегда собаки боятся. Это только бараны могут супротивничать, и то — иногда. А вот при ночной пастьбе…
Один из мужичков, в потертом ватнике, из тех, что слушали овечьего пастыря с карпатских полонин, не удержался:
— , Скушаю тебя, Мирон, и, видно, нравилась тебе эта твоя пастьба…
— Овцеводство! — не без гордости поправил Мирон собеседника.
— Да, овцеводство. Сколько вот это всего уметь надо. За овцами уход, я думаю, и зимой нужен. Как же это ты свои стада бросил, на кого?
— Да какие там стада! — звонко воскликнул Мирон Козалуп. — Это при Советском Союзе стада были. Это да. А сейчас… Какие там стада! Нет почти ничего. Не осталось. Овец вырезали. Работы нет. Куда мне еще?!
— Ну ничего, — иронично хрюкнул другой мужичок, на голову которого был водружен колпак, взятый, не иначе, в театральной костюмерной — подбитый мерлушкой, с павлиньим пером, что, надо быть, должно было напоминать головной убор Богдана-Зиновия, гетмана Украины, — овец пасти — не в академики поступать.
— А вот и неправильно, — обиженно захорохорился Козалуп. — Академики… Что академики?.. А я вот по-научному скажу: для нагула у овец и наилучшего развития молодняка наиглавнейшее — правильно организованная пастьба. Вот Не ожидал?! — гордо закончил он.
Народа все пребывало. Вновь все прилегающие к центральной площади улицы были заполнены зыбкой шумной пахучей человеческой массой. Суд обнародовал постановление, запрещавшее митинги, но… Но все эти люди уже знали, какой суд разрабатывает правильные постановления, и кому, чьим требованиям имеет смысл подчиняться. С необыкновенной легкостью толпа вновь захватывала главную площадь Киева. И тут же на ней деятельно и методично под началом спецов заработали разбитые на группы, бригады, взводы, стаи смурых исполнителей. Одних направили на монтаж сцены из подготовленных модулей, выросших, не иначе, из-под земли. Других бросили на возведение баррикад, для остова которых участникам массовки велено было использовать конструкции, привезенные коммунальными службами для установления новогодней елки. Третьих… К этим, третьим, внезапно означившиеся командиры выказывали особенное внимание. Их делили на отряды, вооружали уже не шутейным, а самым настоящим оружием, давали какие-то распоряжения… Какие?
Ах, сцена-сцена! Киевская сцена, ловко собранная из удобных в монтаже модулей, чьи могучие акустические системы превращают гнусавый голосок взошедшего на нее оратора в подобие раскатов грома, чьи парблайзеры плюгавых человечков трансформируют в сияющих кумиров… Сколько их вскарабкивалось на нее! Проходят тысячелетия, но кажется, то одни и те же лица. Те же самые голоса, вещающие, просто дотла изветшавшие слова. Но нет, слушает народ. Надеется. Верит. Верит, что за предательство родных Богов получит вечное, нетленное благополучие в жизни загробной. Верит, что за глумление над выстраданными святынями получат награду и покровительство от распределителей мирских утех. Свято верят, что предательство, обман и даже душегубство — всё будет прощено и оправдано в оплату покорности новым властителям.
Собрав к полудню уже несколько десятков тысяч человек на Михайловской площади, вожатые всех тех, мечтающих жить как польские магнаты, как еврейские ростовщики, повели по Владимирской улице в парк имени Тараса Шевченко. Пошили многометровый желто-голубой флаг, несут его, растянутый, в головной части толпы. Слышны резкие окрики, короткие команды — это подгоняет отстающих, притормаживает резвышей, одним словом, координирует движение руководитель штаба партии «Батькивщина» Александр Коган, известный в народе под прозвищем — кровавый раввин. «И ползают овцы по злачным стремнинам, И пастырь нисходит к веселым долинам…» Ему пособляют в этом деле Бакай, Этинзон, Фротман-Цегельский и немалое число вышколенных в лагерях Польши и Литвы, Грузии и Чехии подпасков, отлично знающих как обеспечить более скученный выпас, как собрать разбредшихся, как удерживать человеческую массу на определенном рубеже, направлять в нужную сторону. Как, пробегая взад и вперед по фронту, тесня шагающих, повернуть всю толпу кругом. It is not a light burden! От парка народ двинули в сторону Крещатика. Провели через Бессарабскую площадь. По пути к собранным искателям лучшей жизни присоединяли группы разной численности. Так что, когда те, наконец, оказались на майдане езависимости, вместе с уже собравшимися на площади их набралось более ста тысяч. И люди продолжали подходить. И людей продолжали подвозить.
Очарованных страстью уже было много. Очень много. Из одного только далекого Лемберга-Львова было доставлено более десятка тысяч участников готовящегося действа. Но все еще мерцали в стекле их глаз какие-то тусклые блики тревоги, какая-то муть мазала подрагивающий взгляд. Когда же на восставшую точно по волшебству сцену, вмиг оснастившуюся дорогой осветительной и звуковой техникой, полезли один за другим дипломаты разных европейских стран, вице-президент Европарламента Яцек Протасевич, экс-председатель Европарламента Ежи Бузек и даже — прежний рулевой Польши Ярослав Качиньский, да принялись совершенно открыто призывать бунтовщиков гнать президента, и правительство тоже гнать, и злую милицию требовать распустить… Распустить и жестоко наказать за сопротивление мятежу. А президент, правительство и злая милиция при том не рискнули ни то что перестрелять обнаглевших ляхов, не осмелились даже одним словом отбраниться… Хоть поворчать, огрызнуться… Вот тут уже и самым дремучим фалалеям стало ясно, кто в доме хозяин, и что этим самым хозяином проведение праздника неповиновения одобрено, подписано и запущено. Welcome! Soyez les bienvenus! Grüße!
Митинг складывался удивительно удачно. Не на что было попенять ни сценаристам, ни продюсерам. Пышно, ярко, масштабно. Конечно, в нем не было стильного шика, здесь отсутствовало столичное великолепие, голливудский размах хоррора, вроде того, в котором арабские террористы картинно таранили небоскребы Нового Йорка. Не тот бюджет. Но, в конце концов — не суйся, ижица, наперед аза. Да и вообще, дай Бог тому честь, кто умеет ее снесть. Для провинциального города, прилепившегося где-то там, на краю Ойкумены… пролог получился если уж не роскошный, то вполне многообещающий, очень даже красочный.
Oh, stage!
— Король королей Сигизмунд третий, осененный святостью папы Климента восьмого, в числе своих несметных ратей благословил и наше войско на свержение узурпатора Романова и утверждение на престоле законного царя — Владислава Вазы, — говорил, щурясь от слепящих софитов, литовский гетман Ян Кароль Ходкевич. — Узурпатор Романов обирает вас. Романов и его ненасытные бояре отнимают у вас последнее, а сами жируют и рядятся в собольи шубы. А вам и куска-то сухого не остается. Королевич Владислав знает обо всех ваших бедах. Имея душу ангельскую, будет он править вами по справедливости. Жить вы станете под его крылом так, как живет шляхта в Речи Посполитой. Дома настроите, а на башенках тех домов всякими красками будут наведены травы, птицы, звери диковинные и узоры всевозможные. Пояса станете носить алтабасовые, червчатые да лазоревые с серебряными бляхами. Заведутся у вас сапоги из коровьего опойка, а у кого — так из персидского сафьяна, какие теперь только злые ваши бояре топчут. Калачи из крупитчатой муки да пряженые пироги каждый день есть станете на радость Христу Иисусу, а не то что по великим дням…
— Калачи! Сапоги-и-и!… — взвыла толпа, перекрывая слова Ходкевича, украдкой посылающего улыбку авгура Иванису Ададурову — одному из своих воевод.
Тогда к микрофону выступил полковник Стефан Домб-Бернацкий:
— Мы поможем вам создать независимую Украинскую державу. Сперва на Левобережье… а потом мы пойдем и дальше. Смельчаки Первой Дивизии Легионов обучат вас военному делу по нашим стандартам. Восточная Галиция, Западная Волынь и Полесье уже с нами. Многие века вас закабаляли, обирали и мучили. Мы поможем вам стать по-настоящему вольной нацией. Свобода Украине! Вместе же мы возьмем Екатеринослав и Харьков… и пойдем дальше…
— Слава Украине! Героям слава! — вновь накрыл слова трибуна оглушающий рев толпы.
А вот еще кто-то показался на подмостках…
— Слява Украйинье! Allow me to greet you on behalf of…
Oh, stage impersonation…
Storm of applause!
Точно особые ферменты вливаются жалкие обещания, глупые призывы, нафталинные лозунги в уши тех и других, ищущих свой интерес в свалившейся на них исключительной оказии, точно ферменты в миллионы раз ускоряют они химические процессы, протекающие в толпе. Под их воздействием отдельные её особи начинают как бы таять, дрожать, размягчаться, сливаться одна с другой… Гистолиз. Воистину, это гистолиз! Вот тело с двумя головами и тремя руками. А у этого тела вообще нет головы. Там успело сплавиться пять или, может быть, шесть человек в какую-то монструозную химеру — уж сложно разобрать, из каких частей она составилась, ведь те непрестанно изменяют свой вид, склеиваются, деформируются, к ним прилипают ошметки, бесформенные куски иных тел — колени, уши, носы и пальцы… И вот уже ни одного индивидуума, ни одной личности не различишь в черной пульсирующей массе. Она стонет, она кричит, свистит, чихает, плюется, чавкает, топочет, она воняет… Но не понять уже из каких мест испускает она звуки и запахи — всё едино, всё бесформенно, возбуждено и, похоже… похоже, готово к броску. Ведь каждая крупинка этой массы пронумерована, к каждой прикреплен ankle monitor — так называемый «электронный браслет» — в виде мобильного телефона, позволяющий контролировать каждый шаг его носителя, определять его продвижение в любую минуту с точностью до одного метра, Но нет больше отдельных номеров, есть гремучая черная масса — там антрацитово блестящая, здесь смазанная испускаемым ею же дымом, кое-где озаренная нетерпеливым огнем факелов, непрестанно пребывающая в сексуальном дрожании, вожделеющая, безрассудная, жадная. Еще несколько слов со сцены, еще несколько обещаний безнаказанности… и дымная лавина устремляется по предусмотрительно проложенным колеям.
* * *
Утром второго де5кабря, как то случалось каждый понедельник, Андрей Платонович собирался на работу, в мэрию. Уже несколько лет проживая уединенно, он успел выработать и отшлифовать технику утренних приготовлений, чтобы те отнимали у него минимум эмоциональных затрат. Несменяемый набор действий, подготавливающий тело к неизбежным испытаниям дня. И, тем не менее, при всегдашней в эти минуты нехватке времени Андрей Платонович все же находил несколько минут, чтобы заглянуть в свой орхидариум — справиться о здоровье, намерениях, настроении своих подопечных. Орхидариум. Так напоминающий аквариум. Да, удивительные цветы, по мнению Андрея Платоновича, имели в этом мире наиболее проявленное родство с… тропическими рыбками. Именно они позволяли себе так щедро, так нескрываемо предъявлять миру невероятные краски, несказанные формы, дарованные им Создателем. Вот они вьются, вот клубятся, затягивают твое сознание в многокрасочный вир, сверкают их золотые холодные глаза, колышутся их многовидные сверкающие плавники, меняются, перевертываются изощренные колера… Конечно, вселенная, все ее неисчислимые частности — плод искусства Творца. Но из всего того изобилия, даже, казалось бы, напрасной избыточности, Андрей Платонович склонен был усматривать вершину Божественного искусства именно в орхидеях, тропических рыбках да еще — в полинезийских птицах, в тех объектах, в которых сверкала не только чарующая гармония, сверхъестественная красота, но и удивительный юмор. И когда Предвечный подряжает орхидеистов к процессу оттачивания столь затейливых форм, те, вероятно, не всегда и осознают, что являются всего лишь инструментом в руках Души Всех Существ.
Ну что ж, за ночь новых цветоносов не появилось, злые кивсяки не сгрызли ни одно растение. Андрей Платонович опрыскал из пульверизатора несколько небольших экземпляров, чьим жильем служили обернутые мхом коряги или куски коры, и с легкой душой отправился знакомым маршрутом в родную мэрию.
Если бы Андрей Платонович был экстравертом, ну, хотя бы человеком более общительным, то эту информацию он получил бы значительно раньше, еще вчера. Но друзей среди чиновников, наполнявших соседние и отдаленные кабинеты, у него не было, и вот… Он шел (именно шел, поскольку дом его находился всего в нескольких кварталах от места работы, и это был своего рода терренкур) знакомой улицей, незнакомо заполненной вовсе уж незнаемыми людьми. Конечно, их концентрация не могла бы поспорить с давешними манифестациями, и все-таки встречных попадалось куда больше обычного. Трое из этих людей, в оранжевых строительных касках и черных трикотажных масках на лицах, омывали мочой угол соседнего дома, ничуть не обращая внимания на бредущих мимо людей. Те вон, передвигаясь почти вприпрыжку, тащат какой-то ящик. Большинство же прохожих, наполнявших улицу этим декабрьским утром (ничем не отличавшимся от ночи), казались какими-то усталыми, точно они много часов подряд истязали себя алкоголем. Лица тех, у кого они не были спрятаны под масками, низко надвинутыми шапками или высоко, до глаз, подтянутыми воротниками свитеров, попадая в пятна фонарей, поражали бледностью. А глаза — умудрялись совмещать крайнюю степень усталости, какой-то помраченный взгляд с лихорадочным блеском, точно все эти люди были больны тифом. При том нельзя было не отметить, что милиции нигде не было вовсе.
Приблизившись к мэрии, Андрей Платонович обратил внимание на особенную плотность бунтующего люда, у ее входа.
— … захватили…
— …пока шел митинг, пытались штурмовать администрацию президента…
— Слава Українi!
— …подогнали бульдозер. На него залез Петя-Шоколадный-Глаз. Ну, Вальцман, то есть. И что-то там затянул, что, мол, не надо насилия.
— Хе! Но это уже mauvais genre.
— Чего?
— Какой-то римейк на выступление с броневика, ну, тогда, в 1917-м году. Ну, на Финляндском вокзале Петрограда…
— Ленина, что ли?
— Его, внука Израиля Бланка — Владимира.
— Говно!
— Вы абсолютно правы. Как говорили древние, всякое уподобление хромает. Прием этот уже успели так затаскать, что он давно превратился в устарелый театральный штамп. Впрочем, тот, кто вписал данную мизансцену в разыгрываемый сценарий, вряд ли был человеком юным. Так что там с Петей?
— Стащили нахрен с бульдозера.
— …Европа! Евро-опа…
— …сказали начинать общенациональную забастовку…
— …арматуру бери, арматурой лучшее ноги ломать…
— …захватили…
— …вчера захватили…
Невольно он улавливал некий рефрен в обрывках речей обгоняющих его, идущих навстречу людей, стоящих группами разной численности. «А! Вот как… Мэрию захватили… Ага… И что теперь делать?..» Андрей Платонович достал мобильный телефон. Набрал номер одного сотрудника — ответа нет. Позвонил другому — ответ: «Абонент временно недоступен». Третий абонент телефонной сети откликнулся. «Ты что не слышал? Как это тебе удалось? Как не сообщили?! Да Зоя всех обзванивала… И потом — ты же не на Марсе живешь. Не знаю что делать. Я пока туда соваться не буду. Ты видел эти лица… с позволения сказать? Подожду, пока все прояснится…»
Нет ничего худшего, чем пребывать в неопределенности. Андрей Платонович направился ко входу Киевской городской госадминистрации и Киевсовета.. Повсюду нашивки, флажки, эмблемы якобы украинских националистических партий — «Свобода», «Батькивщина», как известно, находившиеся на содержании Каломойского, Капительман, Пинчука, Фирташа, еще там кого-то, действительно, служителей национализма, но отнюдь не украинского. Оскалившиеся осколками стекол окна первого этажа. Разбитые камеры наблюдения. Выломанные двери… Люди в масках, с оружием в руках отнюдь не бутафорским, потребовали у него документы. Представились… то ли «Самообороной майдана», то ли «Народной милицией», то ли «Спильной справой»… Андрей Платонович хотел было поинтересоваться, на каких, мол, основаниях… Но заглянул в стекло глаз, торчавших из прорези в черном трикотаже, передумал. Это были глаза… какого-то уэлсовского марлока. Нет, он, конечно, слыхивал о существовании людей такого образца, но никогда с ними не встречался и представлял их себе скорее некими инопланетными существами. Так оно, в общем-то, и было.
— Шо, кончилося ваше время? — с черным ликованием объявил один из проверяющих, перелистывая теперь зачем-то еще и паспорт. — Будет теперь народ гнать вас в шею.
— Гнать? — не удержался Андрей Платонович. — За что?
— За что?! — от слащавого злорадства резко перекинулся в непрекрытое ожесточение проверяющий, и работник мэрии понял, что все-таки никаких слов здесь произносить не стоит. — За что! За то, что страну разворовали! За то, что сами в Европе тусовались, а нам, значит — по килограмму гречки в день выборов…
Откуда-то слева и справа неслись вариации этих и новых обвинений, всё гуще приправляемые табуированной лексикой.
— Короче, — наконец был вынесен вердикт, — иди домой. Сегодня нехера тут делать. И вообще у нас тут будет штаб майдана. Так что… вали.
Работник мэрии благоразумно повалил прочь, то есть ретировался.
Люди… Всюду снующие люди. Автомобили с флагами Евросоюза. Прислоненные к стене дома отдыхают флаги и транспаранты с начертанными на них лозунгами. Люди. Лоточники с чаем, кофе и бутербродами. Продавцы газет…
Андрей Платонович вертел по сторонам головой и всё никак не мог принять решения — что же ему делать, кому звонить, куда идти. Мимоходом купил несколько газет у выкрикивавшей названия различных печатных изданий тетки, поверх синтетического полушубка завернутой в огромный лиловый платок. Заглянул в одну из них: «Сторонники евроинтеграции Украины ворвались в здание Киевской городской администрации». В другую: «Группа демонстрантов попыталась с помощью бульдозера прорвать милицейское оцепление на Банковой улице, где находится администрация президента Украины. Бойцы «Беркута», которые охраняют здание, не стали вступать в столкновения со штурмующими». В третью: «Согласно этому плану, в понедельник должен быть заблокирован весь Киев, а пока блокировке подвергся только Кабмин: на улице Грушевского, в районе Верховной Рады, на проезжей части выстроились автомобили митингующих, полностью перекрыв движение мимо Кабинета министров». «Начальник киевской милиции Валерий Коряк подал рапорт об отставке». «Министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко извинился за чрезмерное применение силы во время разгона «евромайдана». «В отставку подал глава администрации президента Украины Сергей Левочкин».
— По-бе-жали…
Надо было выработать какой-то план действий, Но это никак не удавалось. Вероятно, слишком многие центры мозга были задействованы в данную минуту, что, как видно, приводило к сбоям, к работе вхолостую каждого из них. «И что там говорил тот, в черной маске, у входа… Вы-де разграбили страну… Мы? Кто — мы? И в чем это выражалось? Если в том, что покорились мировому ростовщику… так всем народом покорились. И в этом случае вина того, в маске, ровно такая же. Если же он имел в виду, что я, как работник этого учреждения, как-то несказанно обогащался — так нет. Хотя… конечно, оклады здесь поболе, чем у воспитательниц детского садика». Такую вот думал думу Андрей Платонович, поскольку слова замаскированного как-то задели его. Возможно, он допускал, что бунтовщик у входа в мэрию, все же имел на них некоторое право.
И тут Андрей Платонович увидел женщину. Вернее, сначала он увидел шапочку. Шапочка была таких ярких цветов, да еще и связанная столь причудливо… Мало того — украшенная какими-то перышками, ярко-зелеными с металлическим блеском. Среди грязных красок мрачного декабрьского утра эта тропическая палитра смотрелась просто вызывающе. Однако, похоже, никто вокруг мнения Андрея Платоновича не разделял. Среди стаек, ручейков, отрядов всякого люда каждый был предельно озабочен как можно скорее и с наибольшей выгодой использовать плодородные минуты перемен. Кто-то намеревался перескочить через несколько карьерных ступеней и в сжатые сроки занять высокую должность. Кто-то рассчитывал в творящейся кутерьме украсть что-нибудь… вырезать какой-нибудь кусок медного провода, сдать в скупку лома — и тем удовольствоваться. Когда еще припожалует такое время, когда нагрянет этакий шанс!
Должно быть, это произошло само собой, но Андрей Платонович оказался рядом с той экзотической женщиной, как и он, казалось ему, занесенной в данные обстоятельства одной лишь случайностью, и, подобно ему, не находящей в творящемся бедламе лазейки для бегства.
— Да? — сказала женщина, когда их взгляды встретились.
И это означало: что за жуть, что это творится вокруг! Эти люди… Да, их мозг маломощен. Да, их совратили. Наобещали с три короба. Да, они примитивно чувственны… Но жизнестойкость, какой-то иммунитет к тем бациллам, которые разлагают здоровье народа, ведь должен был у них выработаться! Куда они несутся, на что надеются? Всё это уже было с ними. Случалось много раз. Нет, опять всё окрест загадили. Себя изломали, искалечили, обезобразили. Сладострастие уносит их, как сорвавший плотину селевый поток, всё уничтожая на своем пути. Но разве для этого отпущена им чувственность?
— Угу, — отвечал странной женщине Андрей Платонович, что надо было ей понимать приблизительно так: Да ужас! Полностью разделяю ваши чувства. Я думал, как девять лет назад — помашут флагами, поскандируют речовки, Юля Капительман со сцены вновь призовет захватывать почту и телеграф… Телеграф… Это тогда, когда у каждого в кармане мобильный телефон. Думал, побузят, да и разойдутся. Но тут, похоже, планируется высокобюджетный проект. Во всяком случае, так шикарно прошлый раз не гуляли. Да, зрелище, конечно… И этот запах… Увы. Увы…
При том он поглядывал на красавицу… Как человек воспитанный, старался делать это тактично, вскользь. Впрочем, была ли она красавицей? О. всё выглядело значительно опаснее. С высоты своего опыта Андрей Платонович отчетливо различал за, и впрямь, привлекательной внешностью некое особое обаяние, редчайший магнетизм, свойственный очень и очень немногим людям. (Если те магнетизеры, очаровыватели являются просто людьми.) Из-под забавной шапочки на грудь черного с просинью пальтишка падали две толстые косы — смоль-смолью. Само пальтецо было неким странным бесформенным одеянием a-la Chanel, где темно-синее поле было заткано большими черными цветами и листьями нездешних растений. Да и всё в ней было нездешним. В глазах, одновременно и удлиненных, и широких, переливы тусклого искусственного света вдруг затевали цветовую игру, как то случается видеть на чешуе тропических рыбок. Так же, как изящные обитательницы притоков реки Бальсас, они мчались, согласуясь с ритмом приведшей их в движение мысли. То вдруг вопросительно замирали, едва-едва трепеща вуалевыми плавниками ресниц. То вздрагивали, соблазняя, увлекая в любострастный Омейокан. Но ни взгляд, ни жест, ни голос… Ну, может быть, голос в большей степени подкреплял истекающее от незнакомки очарование. И всё-таки даже не он, а нечто стоящее за всем этим предметным камуфляжем, рождало желание смотреть на его грубоватое овеществленное подобие, прислушиваться, чувствовать, проникаться… Осознание вот как раз этого феномена и рождало в Андрее Платоновиче жгучую и прекрасную тоску. Такое уже бывало… Он чувствовал, что неопознаваемая сила толкает его в некий интенсивный поток, путешествующему в котором бесперечь предстоит налетать на то и знай выскакивающие из его горячих вод то надежды, то негу, опасения, услады, терзания… а в результате — ничего. Да. Ведь все эти яркие ощущения обладают удивительным свойством — не оставлять по себе ничего. Во всяком случае, такого, что могло бы увеличить силу биения сердца или частоту дыхания. «Каркнул ворон: «Nevermore». То подсказывала Андрею Платоновичу искушенность. И вот этого вот, не то, чтобы враждебного, горше того — исполненного первородного безразличия Nevermore, ледяного и неотвратимого его дыхания и не хотелось в который раз ощутить на своем затылке. «Ну надо же какая… какая… Шочикецаль», — подумал Андрей Платонович.
— Да, угадали, — словами ответила его мысли незнакомка, — меня зовут Шочикецаль. Какой вы проницательный! Как вам такое удается?
Трудно было что-то ответить на столь непредвиденный вопрос. И все-таки он попытался:
— Вы, я полагаю, гостья Киева?
— Отнюдь. Я его жительница. Правда, родилась я в Теночтитлане.
— Теночти… ти… А разве он существует?
— А куда бы он делся?! Нет, назвать, переназвать можно что угодно и как заблагорассудится. Но сам-то предмет… Верно?
— Возможно, — не стал спорить Андрей Платонович. — Ваши родители, видимо…
— Только мама. Мама и назвала меня так. Отец к тому моменту… Его погубил ягуар.
Работник мэрии в изумлении скосил глаза:
— Папу? А! Где-то в сельвасах полуострова Юкатан… Или в Мексике это как-то иначе называется?..
— Нет, в Киеве.
— В зоопарке.
— На вокзале.
— ?!
— Но я не стану приводить все подробности… — женщина закатила глаза и стала махать перед лицом руками. — Тушь, знаете ли…
— Я так и понял.
— Мне трудно об этом вспоминать. Время было советское. А сбежавший ягуар оказался социалистической собственностью. И не дешевой. Папу осудили и отправили туда… где ягуары точно не водятся. Он не вернулся.
— Вам тогда было…
— То ли три, то ли четыре месяца. Но какое это имеет значение?
— Действительно. А отца…
— Григорий. Так что, я Шочикецаль Григорьевна.
— Шочи… гри… шо… — чтобы прикрыть некий происходящий в нем процесс, взялся бормотать Андрей Платонович.
Но из-за того, что он всеми силами стремился удержать распиравшую его эмоцию, изо рта его вылетел какой-то неприличный звук, единовременно смахивавший на шипение, кашель и выхлоп кишечных газов. Конечно, Андрей Платонович сконфузился:
— Я это… Соболезную, что отец… — он вновь крякнул. — Простите, но Шочикецаль Григорьевна — все равно очень… неожиданно, да.
— Да не смущайтесь, — ободрила его женщина, — верно, уж не впервой встречаюсь я с такой реакцией на мои имя-отчество.
— Шочикецаль… Это имя, кажется… какой-то Богини?
— Да, да.
Я — Шочикецаль, богиня цветов и любви.
Я из дождливо-туманной явилась страны.
Из Тамоанчана я, Шочикецаль, пришла.
Крона священного дерева высится там,
Нежно-прохладные ветры поют над девятью небесами…
И так далее.
Потом прибавила:
— Я и есть Богиня. Не похожа?
— А чем вы занимаетесь, Шочикецаль Григорьевна, Богиня, в нашей юдоли страданий?
— О-о! — она кокетливо махнула ручкой. — Даю мастер-классы по созданию тканых картин — гобеленов. Иногда что-то пытаюсь создавать из глины. Но это — так… Порой надолго ухожу в живопись. Люблю прекрасное. Как-то даже примкнула к одному международному обществу по защите жертв общественного темперамента. Но не долго там пробыла: как в большинстве подобных, якобы филантропических, союзов-альянсов-кружков, там большей частью занимались шпионажем. Внедрением в жизнь всяких… директив, присланных от патроната. В основном — по расшатыванию религиозных, сословно-этических… Каких там еще? Бытовых устоев.
Какая-то сила уже несла их по Крещатику. Кирпичные дома. Железобетонные дома. Их все чаще сменяли силуэты растений, черные силуэты, точно вытканные на сизоватом киевском небе. Здание музыкальной академии. Облепленный разновидным людом, точно насекомыми, Дом профсоюзов. За ним выстроились в ряд пальмы с листьями в полтора десятка метров каждый. Сразу за коробкой гостиницы «Днiпро», возносилось в светлеющую муть декабрьского неба гигантское аноновое дерево. С его ветвей свисали застывшие в корчах лианы. Далее растительность становилась все более буйной, щиты древесных крон — все более плотными. Света в воздухе было пока еще мало, но уже достаточно рассвело, чтобы различать детали округи. Огромные листья хлебного дерева. Бамбук. Пальмы — наверное, всех видов! Вьющиеся, лазающие стебли. Гигантские колючки. Деревья тонкие и стройные. Деревья эксцентрично искривленные. Эпифиты, свисающие с их ветвей и стволов. Деревья, растущие почти горизонтально. Невозможное, непостижимое многообразие форм. Листья зеленые, листья красные, листья белые, листья пестрые… Что ни шаг — новые шутки Творца. Всё это могло бы сойти за фантастическую декорацию, но не было ни малейшей проблемы немедленно ощутить достоверность каждой, пусть самой мельчайшей, детали.
Пробудились запахи. Проступили звуки. Откуда-то издалека-издалека, усиливаясь с каждой секундой, прилетел мелодичный треск, производимый то ли кузнечиком, то ли лягушкой. Запах гниющих листьев. Запах камфары. Клоповье зловоние. И аромат ванили.
Внезапно голоса скрываемых лесом его обитателей обрушились со всех сторон грохочущей какофонией. Свист, карканье, стрекот, кваканье, рык, вой… Вмиг все вокруг пришло в движение. Ветви над их головами задрожали, затряслись, наполнились адскими воплями. Даже не видя за листвой причину этого тарарама, было понятно: стадо обезьян (возможно, напуганное чем-то) несется им навстречу.
Недра дебри все были залиты черной мглой. Под каждым лепестком укрывался клочок сумрака. Воды рядом бегущей реки были черны. В эту воду, более походившую на нефть, с глинистых берегов сползали кайманы, и, подобно стадам обезьян в нависающих над рекой ветвях, устремлялись в том же направлении. А вот уже стало проноситься мимо, проскальзывать между ног, едва не наскакивать на бегу, зверье самых различных размеров и наружности. К оранью над головой обезьян примешались дикие крики множества попугаев, спешащих в одной устремленности со всей той разномастной сворой. Так что, Шочикецаль и Андрей Платонович вынуждены были свернуть с их дороги, углубляясь в чащобу. К счастью, под ноги ложилась какая-то тоненькая тропка, но ее ширины было довольно для одного человека.
Первые лучи солнца вызолотили верхушки самых высоких деревьев, и тут же отправились вниз по стволам. Вмиг стало жарко. Шочикецаль скинула свое черно-синее пальтецо — ее фигуру облегало красное платье, украшенное ткаными красными ромбами иного оттенка.
Алая птица твоя, Шочикецаль,
Вьется-кружит, услаждаясь цветами…
Со вздохом облегчения она опустилась на кожаный диванчик. Андрей Платонович занял диван напротив. Ему было удобно рассматривать ее, поскольку Шочикецаль, возможно, нарочно глядела куда-то в сторону, предоставляя себя для досконального изучения.
Зрелая женщина лет двадцати семи. Бедра ее были широки, но не безобразно. Талия смотрелась очень узкой, но не настолько, чтобы оставлять впечатление искусственности. Грудь — большая, но не слишком. Какая-то тень с профилем тапира поставила на стеклянный столик перед ними чашки, в пурпурном стекле которых будто бы затаилось по глотку ушедшей ночи. Крохотные облачка над ними струили уютный, с детства любимый запах.
— Стакан воды соединяем с тремя ложками порошка из бобов шоколадного дерева. Доводим до кипения. Всыпаем два молотых стручка ванили и ложку черного перца.
— Ложку перца!
— Поэтому необходимо добавить мед. Побольше. В тысяча пятьсот двадцать втором году, благодаря рукописи «Badianus Manuscripts» европейцы впервые узнали о волшебном напитке, который придает телу силу гладиатора, уносит прочь усталость, прогоняет страх и укрепляет сердце.
— Это как раз то, что сегодня ни для кого не будет лишним.
— Только сегодня? — улыбнулись не покрытые краской, и, тем не менее, яркие губы Шочикецаль.
Андрей Платонович ответил невеселой улыбкой.
В этом уголке было удивительно тихо. А общество души, подаренной работнику мэрии недуманной встречей, погружало его в давно уже позабытое ощущение безмятежности и защищенности. Непродолжительные и легковесные диалоги эти двое перемежали длительными интервалами молчания. Конечно, то молчание несло в себе лишь ограничение в производстве звуков, ведь бестелесные жизненные их сущности ни на секунду не прекращали процесс деятельного постижения друг друга. От жгучего чародейского варева пот выступил на их лбах.
— Куда это мы попали?
— Это подножие красивейшей из всех гор — опоры земли…
— Мандары?
— Можно — Мандара. Можно — Олимп. Парнас. Березайти. Нефритовая гора Си-ван-му. Или Сумур.
— Популярный миф. Встречается у всех народов.
— Миф?
— Мандара, согласно ему, возвышается над землей на 187 000 километров и на столько же уходит вниз.
— И что?
— Но до центра Земли 6 371 километр и 32 метра.
— Тридцать два? Вы измеряли?
Андрей Платонович ухмыльнулся:
— Зачем бы мне? До меня уже успели произвести замеры.
— Тому, кто установил предел для недр Земли в шесть километров, верно, будет довольно и этой глубины.
Совсем рядом с Андреем Платоновичем склонялась ветка какого-то дерева, увешанная плодами — вроде маленьких желтоватых перцев. Он сорвал один такой плод.
— Это съедобно?
— Мне нравится.
Андрей Платонович положил несколько плодов перед Шочикецаль. Откусил от одного из них.
— Хм, мякоть сладковатая. Но сок просто разъедает рот!
А рядом с Шочикецаль произрастало небольшое деревце пальмовидного облика с зеленым стволом. Под зонтиком из крупных на длиннющих черешках вырезных листьев таилось несколько изрядного размера золотистых округлых плодов. Чтобы сорвать один из них Шочикецаль пришлось встать. Тотчас у стола промелькнула пара теней: одна силуэтом напоминала большую ящерицу, а вторая — голенастую птицу. И вот плод уже лежал на затейливо расписанном керамическом блюде. Разрезанный, он выворачивал наружу только что надежно скрываемую нежную свою плоть.
— Пахнет… маняще.
И это подтвердила сверкающая самоцветами своих перьев нектарница. Трепеща крылышками, она зависла над раскрытым плодом, нацелив на его сладкую влагу свой длинный, чуть искривленный, клюв.
Место, уют которого они столь увлеченно сосали в эти минуты, подобно тому, как, не касаясь яркого плода, тянула его сок нектарница, место, на время данное им случаем, было подобно некоему аквариуму. Сквозь невидимую преграду можно было наблюдать за протекающей рядом какой-то совсем иной, параллельной жизнью. Удивительные животные, и еще более удивительные люди, и полулюди-полуживотные, они возникали, исчезали, двигались, сталкивались, выли и ревели. Как в кино. Только волшебная, кем-то проведенная магическая черта отделяла от тех возбужденных и, надо быть, небезопасных существ. Среди них попадались и те, кто уже показывался на этих страницах. Но друг другу они, как правило, не были знакомы. Встречи между ними еще только должны были произойти. Вон из темной мокрой листвы выглянула физиономии Маркияна Кнура и женки его — Соломии. Колкий взгляд маленьких озабоченных глазок сверкнул и исчез. Кого он выслеживал? С какой целью? Там сквозь сетку стеблей сверкнули недетские ягодицы Кристинки. Проскакал Виталий Этинзон. Ломая сучья, протопал Назар Ципуринда. Мерзким тонким голосом нервно прокричал Вальцман. Откуда-то из глубины ему ответил Коган. Робко оглядываясь, протрусила по тропинке журналистка Влада Кислая. На скользком глинистом берегу рыжего потока появился человек в зеленой маскировочной военной форме. В руках держит сельскохозяйственное ручное орудие — вилы. Держит, точно острогу, всматриваясь в мутную воду. Какую рыбу намеревается он заполучить? Двое усатых мужичков с бородками, один — длинноволосый, другой — не очень. На длинноволосом — скуфейчатая шапочка. Что-то горячо обсуждают между собой. Скрылись… То тут, из-за ствола, то там, из куста появляется и внезапно исчезает несколько одутловатое лицо с мясистым носом, с нефтяным блеском насмешливых глаз. Возле уха рука с мобильным телефоном. Шевелящиеся полные губы. Лицо пропало… Но тут же появилось сразу в нескольких местах… Кануло. Но это всего лишь несколько персонажей из того множества существ, которыми просто кишели таинственные дебри.
Слух Андрея Платоновича давно уже привык к несмолкающему хору миллионов жизней, находивших приют в этом бездонном лесу. Одни лягушки наполняли пространство резким металлическим треньканьем, иные — выводили нежные благозвучные рулады. Обезьяны, сидя на толстом суку, исследовали мех друг у друга, время от времени издавая звуки, похожие на кряканье. Сверху, снизу, из гущи листвы, отовсюду доносился писк и жужжание насекомых. А сквозь этот гуд полустертое:
— Банду — геть!
— Європа! Ми є тобою!
— Не хочешь в Европу — иди в жопу!
— Геть внутрішню окупацію!
— Кияни — на майдани!
Та же сила, та же воля, которая занесла Андрея Платоновича и его спутницу в насыщенный запахом папайи зеленый приют, теперь вновь повела узкой петляющей лесной тропинкой сквозь дикие заросли стволов с растрескавшейся корой и глянцевых зеленых стеблей с острыми гранями, огромных колючих бромелий и непроходимого бамбука. Жаркие испарения болот, в которых обитают твари, способные удить разрядом электрического тока, и холодный просвист ветра в оледенелых проулках. Углы больших домов, разящие протухшей мочой — сколько же раз тут кто-то метил территорию, рассматриваемую как собственную. Крики. Стяги. Тучи звенящих москитов, чьи немилосердные жала отравляют кровь. Змеи. Смертоносные пауки. Многочисленные животные, о которых Андрею Платоновичу приходилось прежде только читать в классических трудах известных естествоиспытателей.
И вдруг жгучий укус. Еще один. И еще!
— О-о! Да это муравьи! — вскричал Андрей Платонович. — И какие громадные!
Он попытался отодрать злобное насекомое, впившееся в палец, но разорванное пополам оно продолжало вгрызаться в кожу. От ядовитого укуса палец почти моментально опух, и боль пронизала тело.
— Так вот от кого бежали животные! — забеспокоилась Шочикецаль. — Скорее! Они движутся не так скоро, мы успеем уйти. Вот только все эти колючки!..
Сколько миллионов их было?! Муравьи всех размеров — крохотные и субтильные, средние, большущие. По краям их потока держались просто громадные фланговые, с устрашающими челюстями. Эти, видимо, присматривали за четкостью строя. Но еще какие-то, отличные от прочих, особенно резвые, взбирались по стволам, осуществляя, похоже, дозор, потом вновь возвращались в общий строй. Злобные, но ничтожные поодиночке, опасные в тупости своего единства, чьей воле служил их подневольный бег? Какой невидимой цели?
Раздражение умножавшихся муравьиных легионов, казалось, все возрастало. Положение становилось серьезным. Стиснув зубы, от боли, оставляемой укусами всюду проникающих муравьев, Андрей Платонович старался поспевать за красной фигуркой, ловко и стремительно преодолевавшей терния непостижимого леса. Этого кипящего котла неистощимой плодовитости и обыденного свирепства, где все живое беспрестанно бьется в корчах сладострастия и пожирает друг друга.
— Да, сладострастие — последний островок, объединяющий людей. Там еще кое-как иногда удается выживать последкам человечности, — отвечала мыслям Андрея Платоновича Шочикецаль, вновь укрывшая свой алый наряд под темным пальтецом, на ходу, почти на бегу через плечо посылая ему участливые улыбки.
Мертвенные улицы ледяной мир, точно обглоданный полчищами муравьев, пожирающих на своем пути всё живое. Теперь двое карабкались вверх по скользкому тротуару, который под довольно крутым углом взбирался на киевский холм. Навстречу почти бежала тучная баба в камуфлированном воинском одеянии, раскрасневшаяся, счастливая. Большинство же людей, попадавшихся на улице особенной веселостью не отличались. Возбужденных среди встречных было немало, А вот веселых… нет… Разве что та сбитая баба в камуфляже, которую, между прочим, звали Маричкой. В мусорных контейнерах, накрытых горами рассыпанной вокруг них и растоптанной всяческой дряни, копались двое — коренастый мужичок с красным мелкоглазым лицом и тощая баба в сером клетчатом платке, повязанном так, что на свободе оставался только длинный нос да мутно-полоумные, какие-то… измятые глаза. На первый взгляд могло показаться, что это обычные для всякого украинского города бескровные побродяги, которые пытаются отыскать среди отбросов нечто, способное послужить им пропитанием. На самом же деле Маркиян Кнур и его Супружница Соломия были озадачены не тем, чтобы что-то отрыть в смердящей горе, а напротив — их задачей было закопать поглубже нечто находящееся в принесенных ими объемных пластиковых мешках, в каких обыкновенно выносят строительный сор. Вот только стали бы обращать внимание на этих людей Андрей Платонович и его спутница? А сколько еще неосознанных встреч приносила эта дорога! Мириадами неосознаваемых связей соединен человек с агентами вселенной, но лишь ничтожная часть тех соединений оказывается распознаваемой. Люди шли. Люди шли — каждый своей дорогой… Кое-где попадались дико смердящие догорающие ошметки автомобильных шин. Куда ни погляди группы, состоящие преимущественно из особей мужского пола, в разгоряченных спорах своих выказывавшие неизящный акцент обитателей Малопольши.
— Ничего удивительного, — уже не в первый раз продолжала мысли Андрея Платоновича Шочикецаль, — время от времени явления переходят в свою противоположность. Земля раньше была на месте неба, а небо — на месте земли. Слова, признаваемые сегодня самыми грубыми, некогда были сакральными,
— Все верно, — соглашался с ней Андрей Платонович, — сколько раз герои становились преступниками, а преступники при этом превращались во властителей дум. Не даром китайцы отмечают: не дай Бог жить во времена перемен.
— Скажите, пожалуйста! Те же китайцы говорят: в этом мире постоянны только перемены. Так что, никому не избежать. И китайцам. Уицилопочтли всегда приходит вовремя.
— Уицилопочтли! Всюду пишут, что ацтеки были кровожадным народом…
— О! Человеческие жертвы, да? Каннибализм? Но ведь это все вранье. Нет никаких свидетельств о том. Все страшные картинки были нарисованы через несколько лет после начала Конкисты. Эрнан Кортес привез вместе с отрядами головорезов еврейскую религию в варианте «для рабов». Стандартный прием: утверждая хороших инородных Богов, нужно было опорочить всё исконное. Да точно так же, как и на этой земле…
Круговым движением рук Шочикецаль как бы попыталась охватить обступавшее ее пространство:
— Когда здесь, вот прямо здесь, свергали росских Богов, и склоняли головы перед еврейскими… Разве не так же отливали пули, мол, Перуну приносили человеческие жертвы, а волхвы, так те и вовсе варили и ели младенцев. Все то же. Все так же.
— Как странно, — с грустью заметил Андрей Платонович, — ведь Боги-то, они бессменны. А мнения о них… — и добавил с иронической усмешкой: — Вам, как Богине, это должно быть доподлинно известно.
— Известно, — вполне серьезно отвечала Шочикецаль, — еврейский проект, он ведь никакого отношения к Божественному Знанию не имеет. Это, как теперь модно говорить, коммерческое предприятие. Его пропагандисты отнюдь не заинтересованы, чтобы чернь получила некую премудрость. От них требуют веры. Просто тупой веры в то, о чем они понятия не имеют.
— Но, может, так оно и лучше? Зачем смущать закомуристой и совершенно лишней информацией простаков? Гуманно ли это?
— Никакой сосуд не вместит более собственного объема. Но дурно извлекать барыш из стремления немудрого человека постичь сокровенное. За это Боги наказывают.
Андрей Платонович рассмеялся:
— Наказывают? Мне кажется… — он огляделся. — Да вот хотя бы и нынешние события подтверждают то, что народ, монополизировавший торговлю Богом, ни то, что претерпевает, но напротив — процветает. И бизнес его тучнеет год от года.
Красивейшие глаза воззрились на Андрея Платоновича с изумлением:
— А вы точно знаете, что Боги понимают под наказанием, а что — под благодатью?
Тот смутился. Но на шпильку все-таки ответил не без едкости:
— Конечно, вам, Богам, и приговаривать, и присуждать…
Камень. Металлические прутья. Они поднимались уступами на бетонный взгорок. Кто кого и куда вел? Но вот промозглая серость декабрьского утра стала отодвигаться куда-то за спину, и, наконец, они оказались в прямоугольнике, как и в недавнем их приюте, отграниченном от ледяного сумеречного мира стеклом. Все это небольшое пространство было пронизано ярчайшим белым светом, и тем самым невольно вступало в конфликт с фронтом гнилой киевской зимы. Сверху, снизу, со всех сторон смотрели сотни самых удивительных, самых причудливых орхидей. И воздух, казалось, сверкал, не от множества осветительных приборов, а от их ошеломляющих ароматов.
— О, да у тебя тут настоящий Шочилуитль! — с неподдельным восхищением отметила Чернокосая, осматривая обнимающий ее цветник. — Все такое родное… Это «солнце и луна». А те красные треугольные цветы инки называли «вакуанки», что можно перевести как… «вы будете кричать».
Женщина порывисто развернулась к Андрею Платоновичу, и, должно быть, отравленная чувственными запахами орхидей, исподлобья поглядела на него совершенно пьяными глазами. Вновь на ней красное платье. (Как ей удавались эти фокусы!) И платье это тает. Точно распадается на красные ромбы. На ниточки. Вот она совершенно голая потупляет божественные очи. Черные косы, чуть растрепанные, ложатся на крупную золотистую грудь с темными и блестящими, как лепестки Otoglossum coronarium, сосками. Невесть откуда взявшиеся стайки бабочек и колибри окружают ее, бьются, трепещут, будто от стычки сражающихся страха и сладострастия.
Алая птица твоя, Шочикецаль,
Вьется-кружит, услаждаясь цветами,
Меда от каждого венчика хочет отведать,
Вьется-кружит, услаждаясь цветами.
Смущенность во взоре. Но смело и даже дерзко пробегают легкие руки по золотистому аксамиту красивого живота и раскрывают лепестки, более всего напоминающие нежно-розовые с красной подводкой лепестки Laelia purpurata.
Тотчас с ужасом, крепко затуманенным страстью, Андрей Платонович замечает, что тело его покрывается красными перьями. Красные крылья вздрагивают, бьются и, наконец, отрывают его от казавшегося непреложным диктата земной гравитации. Длинный и жадный, чуть изогнутый, клюв устремляется к затуманившемуся нектаром цветку. И пьет, пьет жгучий и жаркий нектар.
Вот прекрасная Богиня будто уподобилась образу Константина Сомова. А вот — творению легкой кисти, отображавшей чувствования Цю Ин, написанному пером и чернилами на шелковой бумаге. Изящно изогнутая шея, покатые плечи, узкая талия, фарфоровые пальчики…
К тебе, Богиня мудрая, взываю
Со мной своим искусством поделись!
Чем бы ни воспользовался художник, кистью или каким иных инструментом, главная его потребность — высвободить образ, который он носит в себе. Сколько существует способов угадывать скрытый ритм мироздания! Однако божественное не оставляет творца лишь до того, пока его порыв бескорыстен.
Не мог знать Андрей Платонович, каким таким способом уподобился он Колибри-левой-стороны. Но в этом, неожиданном для себя, воплощении ощущал себя отменно. На голове его — сверкающий точно солнце остроконечный золотой шлем. В правой руке — дубинка, так напоминающая голубую змею. Размахнулся он — и стал охаживать ею Богиню. Закричали, понеслись невесть куда попугаи. Сквозь листву над головой мелькали их красные грудки. Заревели, затявкали обезьяны. Взвыли мириады нежных скрипок и флейт крохотных насельников бездонного леса. Вопли и стоны, голоса и подголоски, шепоты, лепеты… Трепещут самоцветные перья колибри. Неистовствует орхидея, не устает наполнять резким плотским запахом округу.
Красная птица не отступает,
Красная птица никак не уймется,
Красная птица все бьется и бьется…
И вот сумятице звуков и путанице чувствований ответила из самых-самых глубин темно-зеленой бездны ягуариня в течке. Из пучины неисчерпаемости, непостижимости. Слабый и зыбкий, то ли смех, то ли плач рос за счет всасывания, втягивания в себя всех подворачивавшихся на его пути прочих звуков. Криков пернатых, свиста змей, музыки лягушек, шелеста листвы… Тогда, умножившись многократно, собравшись, сконцентрировавшись где-то там, вверху, чудовищным цунами обрушился на мир, где отчаянно сражался с голубой змеей Уитцилопочтли взмокший от пахучего нектара чудесный цветок.
Стремительно побледнела обитель наслаждений.
Захлопнулись прихотливые створки павильона удовольствий.
Закончилась прогулка меж золотистых орхидей…
Андрей Платонович лежал навзничь на диване с китайским мотивом обивки в своей квартире. В стремлении обмозговать весь тот воз впечатлений, что прокатил его по негаданным стезям, чтобы хоть как-то взять в толк, что же произошло, работник мэрии проморгал какое-то время, таращась в потолок, затем приподнялся на локте, пьяно осмотрелся — в доме он был уже один. Из приоткрытой двери орхидариума потянуло плотским запахом орхидей. Шелковое покрывало, вручную вышитое фазанами и пионами, скользнуло и почти беззвучно легло на циновку.
* * *
Сосудистая система космоса продолжала действовать исправно, и время циркулировало по ней, обеспечивая обмен материей, идеями, иллюзиями, энергией, образами между всеми не поддающимися никакому исчислению объектами мироздания. Новая страсть, новые мысли формировали новые дни. И те сменяли друг друга все в том же, единожды заведенном ритме. Причудливые события очень скоро превратились для киевлян в обыденность — весь центр города в баррикадах, толпы, крики. Милиция практически никак не реагировала на происходящее, а зачастую и вовсе самоустранялась. Президент, сидящий где-то там, время от времени отбрехивался словами о чем-то таком… Но поскольку у всего в этом мире есть владелец, даже для самой дремучей черни с каждым днем становилось все более очевидным, что и у происходящего спектакля, как и у любого другого, должны быть и режиссер, и завлит, и осветители, и администратор, и, наконец — хозяин театра. А, судя по размаху монтируемой постановки, хозяин тот должен быть весьма дюж, и довериться ему можно. И нужно. Чем скорее — тем экономичней. Так что, очень скоро у киевского обывателя даже выработался некий график соучастия в этом деле, — и данное мероприятие повсеместно стали называть революцией выходного дня. И действительно, это было очень удобно. В будние дни на главной площади города тоже было чудо как интересно! Дядьки в цветных шароварах, как у танцовщиков ансамбля танца имени Павла Вирского, варили кулеш, и запах вареного сала привлекал многих, кто считал это подходящей для человека пищей. Это было так необычно, так замечательно… Есть кулеш посреди города да еще и бесплатно! Вообще дозволено было очень, очень многое из того, что никак нельзя было себе позволить в обычные дни. Например, можно было ходить по проезжей части, там, где обыкновенно несся неразрывный поток авто, а за переход в неустановленном месте могли и оштрафовать. Можно было оправляться в центральных скверах. И никакой милиционер не посмел бы сделать даже замечание патриоту Украины. Студенткам тоже находилось занятие. Уж которая из них то подсказала, а только модным стало в их среде ходить к зданию Кабмина, под Администрацию президента, и там, перед милицейским оцеплением выкладывать на брусчатке сердечки из цветов. Те девицы, что победовее позволяли себе приблизиться к парням в милицейской форме и дразнить их. Но дразнить не брутально, а изощренно — предлагая цветы и конфеты. А уж самые дерзкие девахи, которые, как говорят на Украине, успели пройти «и Крым, и Рым», даже норовили засунуть гвоздичку в дуло автомата, входившего в экипировку какого-нибудь бойца внутренних войск. И вот эта нецеремонность уж позволяла предполагать о не полном бескорыстии подобных выходок.
Для мужчин на площади были открыты спортивные секции. Даже брюхатый хряк, даже тщедушный глист могли принять участие в тренировках, проводимых специальными инструкторами, называвшими себя «народной самообороной». Можно было поучиться ходить строем, выдавливать противника «стенка на стенку», орудовать дрекольем, кастетом, готовить зажигательные смеси, взрывпакеты… Да сколько еще необычного, увлекательного, дерзкого мог встретить тут всякий, пожелавший утвердить свою мужественность. Почему бы не вздуть друг дружку палками, тестируя самодельную броню либо, отрабатывая простенькие борцовские приемы?
Еще было очень интересно перекрывать движение (скажем, по улице Грушевского, Институтской, Михайловской, Лютеранской) и не пускать министров и прочих работников Кабинета на работу. И всякий участник этих увлекательных затей упивался той уникальной возможностью. Ну когда еще приведется излаять замминистра, а при удаче — так и харкнуть на лобовое стекло его лимузина!
А, кроме того, на центарльной площади очень часто, почти всегда раздавали бесплатные презервативы.
Весь центр города был просто забит работниками польской, американской, израильской, французской прессы. И это тоже успокаивало всякого, кто пожелал бы примкнуть к общему празднеству. Ведь не станут же израильские журналистки разгуливать там, где опасность всамделишная, а не медийная.
Очень скоро определились и наиболее удобные места для обзора монументальной постановки, ее массовых сцен. Таковым, например, стал мостик над улицей Институтской — комфортабельная ложа с великолепным панорамным видом. Все это удивительно напоминало что-то такое… уже виданное, уже пройденное… Конечно! Данная постановка поразительно напоминала массовое действо, поставленное в Москве двадцать лет назад. Те же лозунги, эксплуатирующие такие понятия, как «свобода», «честь», «справедливость». Те же обещания сладкой жизни. Те же куражные толпы черни. Даже мостик в качестве театральной ложи там имелся — во время расстрела танками белого здания Правительства России. Расстрела… Если сценарий разрабатывается сходный, значит и Киев ожидают события перченые… Но кто бы о том задумывался, несомый тяжелым хмелем кружителя-карнавала!
Не только в Киеве, на территории всей Украины по одному и тому же лекалу выкраивались маленькие революцийки. Лучше всего сия затея осуществлялась в Малопольше. В Тернополе, Черновцах, Ровно ответственным за организацию мятежей удавалось выводить на площади по три — пять тысяч человек. А в Луцке, так там как-то под настроение собралось на главной площади города тысяч эдак восемь недовольных бедной жизнью, бесчестными управителями и мечтающих о богатой жизни, о честных приказных крючках. В Ужгороде дело складывалось так-сяк. А вот хуже всего организация массовок удавалась в Одессе, Херсоне, Луганске и Донецке. Там недовольных собиралось до четырех сотен, и это при том, что половина митингующих была привозима в назначенный день из всё тех же Луцка, Тернополя, Черновцов. Председатель Львовского облсовета Петр Колодий даже через средства массовой информации раззвонил на все всюды: «Объявляем максимальную мобилизацию людей для выезда в Киев». Ну… и, понятно, не только в Киев. А вот Днепропетровск, обретающийся в центре Украины, и в рейтингах политических пристрастий толпы болтался также где-то посередине, на антиправительственные манифестации собирал тысячу — полторы охотников.
Во всяком крупном центре Украины имелась своя областная телерадиокомпания. Конечно, Днепропетровск не был исключением. В самой удаленной от центрального входа коморке в чаду сигаретного дыма шел диспут, подогретый каким-то недорогим напитком. Темы диспут, в общем-то, и не имел… Это словопрение исключительно по непримиримости выступавших оппонентов можно было бы счесть спором. Каждый, бравший слово, стремился доносить его до ушей немногочисленной аудитории исключительно в конфликтной, спорчивой манере. Собравшийся коллектив был представлен исключительно особями мужского пола, и здесь, как видно, стремление не слушая прекословить всякому полемисту признавалось проявлением стойкости духа. Темы же явственный данный разговор, как было сказано, не имел, предмет его бесперечь переменялся, да это было и не важно…
— Не надо, вот не надо никаких этих перемен, — стараясь докричаться до ослабленного алкоголем слуха своих приятелей, продолжавших к тому же увлеченно балаболить меж собой, возвышал голос белобрысенький Костик — оператор студии. — Опять евреи наживутся, а нам расхлебывай…
— Менять! Всех менять! — почти кричал Валик, числившийся здесь режиссером прямого эфира. — Воры! Бандюки! Всех менять!
— Да что изменится?.. — вяло вставил водила Серега, выпуская изо рта табачный дым и одновременно кладя в него последний огрызок полусоевой сосиски.
— Ты гонишь! Вальцман сказал, что если Украина сделает европейский выбор, — махал руками Валик, точно пытался стать на крыло, — будем жить как в Швейцарии.
— Ешкин кот!.. — муркнул в пустой стакан с красными потеками на залапанных стенках по диагонали растянувшийся в обшарканном кресле монтажер дядя Саша.
— — Да, как в Швейцарии, как в Германии, как во всех цивилизованных странах.
— Ого!.. — глухо прогудел дядя Саша, поскольку в этот момент зачем-то засунул губы в свой пустой стакан.
— Зачем нам Москва, когда есть Париж, Лондон…
— Варшава, — прибавил водила Серега, средних лет лысоватый пузатик.
— А? Ну… и Варшава, — недовольно согласился Валик. — Хотя зачем нам Варшава?
— Почему не Албания? — дернулся заспанный голос лежавшего навзничь на импровизированном бильярдном столе, составленном из Бог весть какого хлама, электрика Коли.
— Ты гонишь! Какая Албания! — уловил насмешку приятеля Валик. — Зачем нам Албания? В Турцию. Ехать надо в Турцию. Квартира в Аланье стоит дешевле, чем у нас в сраном районе «Тополь». Курортный город. Ты посмотри, посмотри…
И он кинулся к своему старенькому ноутбуку, защелкал кнопками.
— Ты смори. Вот. Смотри, — выкрикивал режиссер Валик, — разворачивая монитор таким образом, чтобы возникшая на нем картинка была доступна всем, — шестьдесят квадратов. Так у них же как строят: не просто дом сам по себе. Здание входит в жилищный комплекс. А в этих комплексах у них баскетбольная площадка, волейбольная площадка, футбольная площадка, несколько бассейнов, хамам…
— Чего-чего? Какая такая еще хамам?
— Хамам — это турецкая баня. Детские горки там всякие. Цитрусовые сады, банановые рощи… И все бесплатно. Для жителей комплекса, разумеется.
— И замум бесплатно?
— Хамам. Конечно, бесплатно.
— А банановые рощи с бананами?
— Естественно! Все бесплатно. Вот пишут: «До моря двести метров». Вона как! Хочешь — в бассейне лежи, хочешь — в море ныряй.
На экране старенького ноутбука подрагивала фотография чудесного строения под лазурным небом, на фоне бирюзового моря, как это обыкновенно и бывает в рекламных буклетах.
— Ва-аляша, ты дожил до сорока лет, Ну это ж обычная замануха, — отмахнулся Костик-оператор.
— Ты гонишь! Какая замануха! Какая замануха! — ударялся в амбицию поклонник Турции. — Шестьдесят квадратов. Жилищный комплекс. Бассейны. Хамам. Двести метров до моря. Какая замануха?!
— Завтра евреи майдан собирают. — вновь ожил голос электрика, лежащего на бильярдном столе. — Пойдет кто?
— Конечно! Все пойдем, — моментально переключился Валик. — Всех менять! Пусть поживут так, как мы живем. На полторы тысячи в месяц.
— Сегодня в чести, а завтра — свиней пасти, — кивнул дядя Саша.
— Свиньи! Свиньи! А мы будем в Турции жить.
— Да-а? — удивился голос с бильярдного стола.
— Да. Туда уже все умные люди из Германии, из Москвы, из Питера попереезжали. Потому что там коммуналка в два раза дешевле. Тридцать пять евро в месяц! И сюда входит очистка бассейна, и… и всякие другие услуги. У них же там отопления нет. Не надо за него платить.
— Отопления нет?!
— А зачем им? В Турции всегда тепло. Триста шесть солнечных дней в году. Какое отопление! Купили квартиры — и живут в ус не дуют. А когда надоест — домой едут. А квартиры сдают. Есть фирмы, которые этим занимаются. Прикинь, купил квартиру, через эту фирму сдал — и можешь лежать отдыхать, а деньги капают. Можно даже туда не ездить. Фирма все сама сделает. И только тебе деньги отсылает на карточку.
— Что-то это всё… Не того…
— Что не того! Ты же там не был.
— А ты был?
— Ты гонишь! Два раза!
Тут Валик не солгал. Дважды со своей последней, третьей, женой он посещал турецкие курорты. Правда, один раз — в феврале, а второй — в январе, когда цены на такие поездки скатывались едва ли не до цены перелета. Ходить там, увы, приходилось в куртках. Да и ходить-то особенно некуда было. Ну… какие-то экскурсии спасали. И шведский стол с бесплатной выпивкой. Впрочем, в бесплатную выпивку входило только какая-то барматуха местного производства. Но, как говорят в народе, надурняк и уксус сладок.
— Да, два раза мы с Раей в Турцию летали. Сервис — супер. Завтрак и ужин бесплатно. На экскурсии возили. Всякие развалины… На фабрику ковров возили. Вот это страна! Вот соберу денег — куплю там квартиру. Точняк куплю.
— Не знаю… — нетвердо покачал головой Серега. — В другом городе попробуй устройся. А тут чужая страна. Да еще и муслимская.
— Бу-бу-бу… — прогудел дядя Саша в стакан.
— Да что муслимская! Знаешь, как они нас любят!
Бильярдный стол разразился хрюканьем.
— Язык вообще тарабарский…
— Чего тарабарский? Нормальный язык. Я могу…
Костик цыкнул зубом и даже отвернулся в знак возмущения столь неслыханной наглостью:
— Не звезди.
— Араба, бардак, джами, чанта…
— Чего, чего там про бардак? — вновь очнулся бильярдный стол.
— Араба — машина, бардак- стакан, джами — мечеть, чанта — сумка, далга — волна, элбиси — платье, фарэ — мышь, газэтэ — газета…
В руках Валика появилась сверкающая глянцем пестрой обложки тетрадка, страниц, эдак, десяти.
— Что это?
— Словарь. Турецкий словарь, — в запале бедующий эмигрант порывисто перелистывал немногочисленные страницы тетрадки, основная площадь которых была занята красочными картинками. — Араба — машина, бардак- стакан, джами — мечеть,…
В коморке, самой удаленной от центрального входа Днепропетровской областной телерадиокомпании, в чаду сигаретного дыма все продолжался диспут, несмотря на то, что его топливо — алкоголь некоего недорогого напитка — давно иссякло. Но еще оставалась возможность встряхивать свои ощущения с помощью бодрящих веществ, содержащихся в сигаретах. И дым все плыл и плыл, все крепче пропитывая вонью горечь окружающей нищеты. Но ведь никто не заметил, что помимо нескольких работников местного телевидения, тут присутствовал еще некто — живописец или скульптор, кто бесперечь создавал из едкого дыма презанятнейшие изображения. Вот он нарисовал джами — как и положено, с вытянутыми, точно стрелы, минаретами. Долго выводил на серо-голубых стенах мелкие-мелкие детали причудливой отделки. Но то ли надоело ему это занятие, то ли увлекла новая фантазия — и он нарисовал (или вылепил) слегка помахивающую крыльями газэтэ. Ах, если бы здесь нашелся незамутненный глаз, он даже мог бы прочесть на колеблющихся, точно далга, страницах какие-нибудь интереснейшие статьи, написанные, разумеется, на турецком. Под невидимыми руками незримого художника появилась и араба, и элбиси, и чанта, и даже — фарэ. Он создал аач — дерево, хавлу — полотенце, тарак — расческу, отобус — автобус, сабун — мыло, шемсие — зонтик… Невесомый учак–самолет летал над прозрачными струями ырмак–реки. Йылан–змея свивала кольца под колыхавшим широкими листьями муз–бананом. И то, что было представлено дымной завесой, и то, что помещалось за ней, и то, что не было сюда допущено, и то, что никогда не могло здесь появиться — все это была жизнь. Омур- жизнь.
— Мэмнун олдум — приятно познакомиться!
Не смотря на то, что для произнесения данной фразы чудеснику пришлось трижды заглянуть в свою иллюстрированную шпаргалку, кто-то зааплодировал.
— Бэн дэ мэмнун олдум — мне тоже приятно!
Аплодисменты.
Раздался стук в дверь. Вся компания единовременно подскочила на ноги. Спрыгнул с бильярдного стола вмиг пробудившийся электрик Коли. Водила Серега в один миг скомкал лежавшую на столе афишу ансамбля «Барвинок» вместе с валявшимися на ней крошками и ошметками от упаковок неказистых продуктов, пригладил жирными руками пух лысеющей головы. Валик бросился к своему ноутбуку и принял позу давно и напряженно работающего человека. Белобрысый Дядя Саша сгреб бутылки и стаканы и свалил их за допотопный несгораемый шкаф, ключ от которого давным-давно был утерян. Костик метнулся к окну и распахнул форточку, — ледяной воздух ворвался в эту газовую камеру, но его усилия в борьбе с дымовой завесой, разумеется, были абсолютно смехотворны.
Стук в дверь повторился. Но теперь он определенно воспроизводил некий условный сигнал. Участники симпозиума сразу, одновременно принялись материться, возвращаясь на свои прежние «локации». Валик, обильно оснащая свое возмущение инвективами, отворил дверь посетителю. Им оказался новостийный оператор одного из телеканалов Каломойского — Файзулла Дормидор. От работников Днепропетровской областной телерадиокомпании его заметно отличали — особое качество жирка на щеках, роскошная куртка, под стать ей американские ботинки из рыжей кожи (сразу видно: и теплые, и прочные), смартфон в руках — столь новой и столь дорогой модели, что публика, вроде той, что пребывала в коморке, просто теряла дар речи.
— Через час собирают майдан возле горадминистрации. Кто хочет — присоединяйтесь.
— Это Каломойский, что ли, собирает? — неприятным голосом поинтересовался оператор Костик, который, будучи коллегой Файзуллы Дормидоа, особенно остро ощущал разницу их положений.
— Н-нет… Почему кто-то должен собирать? — замялся Файзулла. — Сами… Кто хочет…
— Мэмнун олдум! Мы все идем! — решительно выступил вперед Валик, беря на себя право отвечать за всю компанию.
— Что значит — все? — возмутился Костик.
— А денег сколько платят? — поинтересовался дядя Саша.
Пришлец в кожаной куртке, на спине которой было вытиснено «American Army», пожал плечами:
— Думаю, не обидят. Гривен пятьдесят дадут.
— Пятьдесят! — хохотнул водила Серега. — На лекарства от простуды больше уйдет. По нынешним-то ценам.
— А я пойду, — сказал дядя Саша. — Хоть сосисок куплю. Может быть.
— Колян! А ты? — собрал в складки свое исхудалое лицо Валик.
— А что я? — бросил тот, выскальзывая из задымленного помещения; и уже из коридора донеслись прощальные его слова: — Я с сианюгами ни в какие игры не играю.
Приятели стали расходиться.
В опустевшей коморке из плотного гобелена, вытканного табачным дымом, выступил турок в феске, с ятаганом в руке.
— Мэмнун олдум, — отчетливо произнес он, рассмеялся по-турецки и, сделав шаг назад, исчез в сюжетных картинах сизого тканья так же внезапно, как и появился. Тотчас в лампочке под потолком, которую в спешке забыли погасить, со щелчком перегорела вольфрамовая нить, погрузив все во мрак.
— Сикирим сени!.. — прошелестело в темноте.
Революционный порыв сумел удержать только возмечтавшего о приобретении сосисок дядю Сашу, ну, и, понятно, Валика. На своей новенькой «мазде» Файзулла Дормидор доставил их в штаб кураторов того действа. Там неофитам выдали необходимый инвентарь. Желто-синий флаг — одному. Другому — небольшой транспарант с отпечатанным на нем типографским способом лозунгом «Україна — це Європа!!!» Дормидор подкинул их к горадминистрации, где планировался пикет, но высадил из машины за два квартала от места. Объяснил на прощание, у какого человека необходимо пройти регистрацию, чтобы потом, после окончания митинга, получить гонорар.
— А ты что, с нами не идешь? — озадачился Валик.
— Так мне ж еще сколько всего нужно сделать! — с тяжелым вздохом крайне обремененного делами человека исповедовался Файзулла.
И умчался в ночь.
Впрочем, по часам это была совсем еще и не ночь. Но бег планеты успел развернуть этот край таким образом, что бледное заспанное солнце выползало на небосклон поздно и всего на несколько часов. В три часа пополудни уже начиналась ночь. А поскольку дни прорезывались сквозь царствовавший мрак пасмурные, то даже в своем зените скорее напоминали угрюмый вечер.
Провинциальный город, помимо множества бесспорных недостатков, определенно хорош своей предсказуемостью. И даже катаклизмы, случающиеся в нем, это все же такие катаклизмики, события острого характера, но вместе с тем не слишком рискованные. Там и здесь можно было видеть людей, которые также, видимо, направлялись к месту пикета. Во всяком случае, флажки и свернутые в трубки плакаты намекали как раз на это. Не то, чтобы они были многочисленны… Но как-то спокойнее участвовать в предприятии, чувствуя подкрепление коллективной воли. Настроение у Валика было превосходное. Он чувствовал, что идет с монтажером дядей Сашей, вот так — рука с рукой, во что-то такое новое многообещающее, комфортное и вечное. От этих мыслей он даже проголодался. Купил в киоске на углу шаурму. И даже дважды дал дяде Саше откусить от свернутого в трубочку блина, начиненного луком, рубленой капустой, майонезом и мясными обрезками.
— Вот я в Турции ел шаурму… — дорогой затянул обычную свою песню Валик.
— Все умные люди уже купили квартиры в Турции…
Затем он перешел к следующему традиционному тезису сакраментальной своей речи.
— В Турции роскошная квартира возле моря стоит дешевле, чем у нас в рабочих кварталах…
Затем — к следующему.
— Цитрусовые сады, банановые рощи, бассейны… Всё бесплатно…
Так, наконец, они дошагали до места назначения. Здесь успело собраться несколько сотен человек, и от проспекта, носившего имя Пушкина Александра Сергеевича, продолжали подходить люди. В основном — молодежь.
На митинге, как и на всех подобных собраниях повсеместно и во все времена, некие витии, неталантливо взвинчивая свои голоса, взывали к мерзнущей толпе. Выдвигали неоригинальную дилемму: мол, хотите ли вы быть богатыми, здоровыми и счастливыми или нищими, больными и несчастными? Притаптывая на месте, участники мероприятия нестройными сырыми голосами одобряли первый вариант. Тогда им давали ключ к решению проблемы: поддерживайте, мол, во всём действия выступавших. Вернее — не выступавших, а их патронов, благословивших на ораторство. Имена патронов не назывались, но все прибывшие и так должны были догадываться, что речь идет о старостах днепропетровского кагала. А для того, чтобы обрести богатство, здоровье и счастье, по их словам, нужно-де присоединиться к Европе. Тем самым рассказчики невольно обозначали места гнездования патронов своих патронов. Но подобные деликатности пролетали никем не узнанные: у слушателей были свои мотивы, приведшие их на пикет. Да и холодно, в декабре-то…
Отстояв положенное, Валик и дядя Саша прежде, чем получить обещанное вознаграждение от указанного им Файзуллой Дормидором человека, должны были сходить в штаб — сдать инвентарь. Они шли по проспекту Пушкина, черному в редких пятнах желтых фонарей. Сырость под ногами начинала подмерзать, превращая черный асфальт в насмешничающий каток. Несколько раз, автоматически обращаясь к константным образцам табуированной лексики, Валик садился на черный лед, и дядя Саша, хохотал, также с помощью инвектив выражая свое восхищение приятелем, даже в столь каверзном положении умудрявшимся не выпускать из тонких рук фанерный транспарант с надписью «Україна — це Європа!!!»
Много они не прошли, как в тигровых фонарных полосах мелькнула группа плечистых парней, одетых во что-то черное и спортивное. Дядя Саша, возможно, потому, что был постарше (или потрезвее), быстрее сориентировался в ситуации и оставив приятелю стяг атамана Калнышевского, задал такого стрекача, что Валик и опомниться не успел. Парни приблизились.
— Ребята… вы чего… — самым независимым голосом (насколько то позволял ухнувший в кровь адреналин) начал выстраивать свой вопрос Валик.
Но в ответ получил такую зуботычину, что вновь оказался сидящим на земле, по-прежнему сжимая в руке транспарант «Україна — це Європа!!!» Попытался встать. Грубые молчаливые парни вновь усадили его на лед. Тогда Валик принял решение незамедлительно расстаться с визуальным изложением доверенной ему программы и кинулся бежать. Никто его не стал преследовать. Противники интеграции Украины в Европу доламывали валикову наглядную агитацию, а сам он, изрядно прихрамывая, то и знай поскальзываясь на стылом асфальте, скакал, не разбирая дороги все вперед и вперед. Наконец сердце, отягченное алкоголем, легкие, ослабленные коварными продуктами табачного дыма, застопорили его ноги. Наконец он рискнул оглянуться. Проспект был почти пуст. Где-то там… и еще вон там бегали какие-то люди. А тут, как ни в чем не бывало, фланировала романтичная парочка. Тяжко хватая ртом воздух, Валик прижался спиной к стволу дерева и безвольно опустился на корточки. Длинные худые его пальцы забегали по карманам, отыскали пачку сигарет «Прилуки». Едва не изломав, вытащили из пачки сигарету. Так, на корточках, опустив лицо в землю, он сидел довольно долго, не чувствуя холода, лишь время от времени меняя во рту окурок на новую сигарету. И редкие прохожие, совершавшие моцион, с возмущением отворачивались, принимая его за некультурного, но отважного человека, присевшего в такую холодину справить прямо на проспекте большую нужду.
Так и сидел лицом в землю Валик, а когда оторвал взгляд от россыпи своих и чужих окурков, то ему показалось… будто по проспекту имени Александра Сергеевича Пушкина шел Александр Сергеевич Пушкин… Но странное дело: голова и плечи его были бронзовыми, а всего остального как бы… и не было. Но вместе с тем, вроде бы, и было. К тому же роста он был, как для человека, крупноватого. Метров, эдак, трех. Или даже больше. Он остановился невдалеке от Валика, не обращая на того никакого внимания. Взор полувидимого-полуневидимого Пушкина печально следил за перемещением в отдалении небольших групп людей. Одни из них бежали, иные — дрались. Отовсюду слышались сильные слова, являющиеся визитной карточкой представителей низших каст.
— Швапач, — проговорил поэт, с грустью наблюдая за происходящим.
Затем левой рукой извлек из кармана сюртука блокнот… Хотя, поскольку ни рук, ни карманов различить было нельзя, несомненными оставались только бронзовая голова и бронзовые плечи… Но как-то и так было понятно, что он достал из кармана небольшой блокнот в синем сафьяновом переплете, Раскрыл его. Тут же мимо пролетавший жирный гусь уронил в его десницу перо.
— Самгха, — покачав головой, сказал Александр Сергеевич Пушкин, что в доступных нам понятиях можно было бы изложить так:
Стадам не нужен дар свободы,
Их должно резать или стричь,
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Поскольку никакой другой человеческий глаз, кроме затуманенного бессильной злобой ока Валика, то ли нужной способностью зрения не обладал, то ли просто ничего интересного возле себя не рассмотрел, так некому было и угадывать, что это сам Аполлон, предводитель муз, выдумал прогуляться в образе великого поэта по проспекту его имени. А уж отчего, с какой целью решил он осуществить эту прогулку, нам рассуждать было бы наивностью.
Но пока Аполлон-Александр Сергеевич Пушкин гулял по проспекту своего имени, по улице имени Клары Цеткин резво семенила кривоватыми ножками Клара Цеткин, прихрамывая то на одну, то на другую из них. А по улице Розы Люксембург шла Роза Люксембург, лицом смахивая на утопленницу. По улице Карла Либкнехта шагал Карл Либкнехт. Те из встречных людей, кто, видимо, способен был распознавать еще какую-то реальность, помимо обыденной, обходили его стороной и потом еще долго оглядывались. Не удивительно, ведь и его лицо было таково, будто контрреволюционеры уже успели предъявить ему какие-то претензии. И Роза, и Клара, и Карл, все они потщились созвониться, несколько раз перезвониться, все переуточнить, и вот теперь поспешали к обговоренному месту сбора — на улицу Симы Гопнер.
Когда Роза и Клара почти единовременно подбежали к ожидавшей их Симе, за ее спиной, чуть в стороне, уже стоял Шолом Рабинович (благо, его улица с улицей Гопнер была в соединении) и вел вальяжную беседу с брюхатым бородачом, в котором простодушный взгляд не сразу признал бы Мордехая Маркса — хозяина центрального городского проспекта.
— Сима! Симочка! — завизжала Роза, бросаясь в объятия товарки и тычась своим зеленоватым лицом утопленницы в ее щеки. — Ты видишь, что происходит?! Нужно немедленно ехать. Уезжать. Куда угодно!
— А рихн дайн тотн мит ин дайн момен фарброкн! — воскликнула подоспевшая Клара на языке, напоминавшем немецкий. — Куда бежать? Зачем?
— Такие события!
— Какие события? — баском отвечала Клара Цеткин, еще в детстве мечтавшая быть мужчиной, и всю жизнь кое-как пытавшаяся эту мечту реализовать.
— Ужасные! Гои бузят. И кто знает, чем это может для нас закончиться.
Шалом и Мордехай негромко похихикали.
— Розочка, успокойся, — погладила ее по вздрагивающему плечику Сима Гопнер. — Все будет хорошо.
— А ид ви а бойм! — вновь загудела Цеткин. — Или ты не видишь, что все под нашим контролем? Точно так же, как в семнадцатом. И открою тебе ужасный секрет: даже фамилии сатрапов, которые шевелят процесс, те же.
— Но я так волнуюсь…
— Мефагерэт! Дура, потому и волнуешься, — как всегда не стала церемониться Клара.
— Девочки, зачем ссориться? — вкрадчиво рискнул вклиниться в дамский разговор Рабинович. — Предлагаю, коль уж все мы тут собрались, поскорее отправиться в «Менору». Там есть все. Найдется и маленький уютный ресторанчик. Там и поговорим. И послушаем людей знающих. Вот Мордехай владеет кое-какими интересными сведениями. Идемте же!
Подошли еще братья Косиоры, и компания развернулась в направлении хоральной синагоги «Золотая Роза», находившейся в нескольких десятках метров, на улице, носившей имя писателя Шолома Рабиновича, более известного по псевдониму Шолом-Алейхем. Крашеная серенькой Красочкой синагога выглядела каким-то недоростышем на фоне возносившейся за ней в ночное небо «Меноры». Семь ее башен, облицованные привезенным из Иерусалима камнем, были щедро подсвечены цветными огнями. Надменно взирали те башни на потонувший в черноте город.
Еврейский многофункциональный центр «Менора», как сообщалось во всех рекламных проспектах, призван был символизировать «историческое прошлое, счастливое настоящее и надежу на прекрасное будущее еврейской жизни». Менора — семисвечник, который, согласно еврейским легендам,
находился в скинии Собрания, в то время как евреи гуляли по пустыне, а затем — в Иерусалимском храме, пока Тит не завершил то, что не успел сделать Навуходоносор. Ни у какого иного народа жительствовавшего на Украине не было такого центра. Ни у многочисленных русских, ни у предприимчивых армян, ни у белорусов, ни у корейцев, ни… Даже сами украинцы, не так давно выделенные в особый народ, не могли мечтать о возведении эдакой Ахет-Хуфу, такой вот Вавилонской башни, ни то, что в Днепропетровске, но даже и в Киеве. Центры образования. Дорогая гостиница Menorah hotel. Музей посвященный страданиям и жертвам, понесенным евреями при гойском сопротивлении их экспансии. Конференц-залы. И все, все для отдыха для досуга: всяческие студии и кружки, выставки, концертный зал «Синай», банкетный зал на тысячу семьсот мест и многочисленные, кафе, бары, рестораны.
— Здесь прекрасные кошерные рестораны, — заметил на ходу Косиор Йося, короткошеий и сутулый он смахивал на злую черепаху или, может быть, краба,.
— Я так волнуюсь! — всхлипнула Роза. — У меня нет личной жизни — только публичная.
— Отличные рестораны, поддержал брата Косиор Слава. — Настоящая еврейская кухня.
— Чем бы мы ни занимались, какой бы политический режим формально ни поддерживали, — строго постреливая глазами по сторонам, добавил Косиор Йося, — никто не имеет права забывать учения о кошере и трефе.
— Ах, это какие-то средние века: нарушая кошер, еврей нарушает вместе и херем и подвергается наказаниям… — не оборачиваясь (а она шля впереди на два шага), уронила Розалия. — Я, например, совсем иначе понимаю кашрут!
Шедшие сзади Шолом и Мордехай все чего-то похихикивали.
Компания осмотрела несколько роскошно обставленных мест, предназначенных для комфортного принятия пищи. Menorah Grand Hall
показался им слишком просторным и слишком светлым. Menorah Grand Terrace — слишком неуютным. Menorah Cafe — убогим. Выбор они остановили на Menorah Ballroom.
— О! О-о!! — захлопала в ладоши Роза Люксембург. — Как я люблю такие стульчики! И обивочка желтенькая. Но я так волнуюсь… У меня нет личной жизни — только публичная.
В углу ресторана за крытым белой скатертью круглым столиком уже сидели Черный дьявол большевиков — Янкель Свердлов в своей знаменитой черной кожаной тужурке, поэт Миша Ше́йнкман, публиковавшийся под псевдонимом Светлов, и комиссар по делам печати, пропаганды и агитации Петрограда Мойша Гольдштейн, который строф не кропал, но также прикрывался вымышленной фамилией — Володарский. Все приветствовали друг друга, расцеловались. По причине увеличения коллектива пришлось искать больший стол. Наконец компания расселась вокруг белого прямоугольника.
— Давайте я вам прочту свою «Гренаду», — смело предложил Миша Ше́йнкман.
— Миша, прочти нам лучше что-нибудь из Гейне, — басовито отрезала Клара.
Ничего из Гейне Миша читать не стал. Скрестил руки на груди и демонстративно отвернул свой нос от невежи.
Тогда взяла слово Сима Гопнер:
— Друзья! Я не хочу сказать, что события, происходящие на Украине, следовало бы назвать катастрофическими… Но нам следует оставаться предусмотрительными. И в любой ситуации действовать на опережение.
Залитое золотистым жирком круглое лицо малороссийской еврейки, аккуратно приглаженные волосы на срединный пробор производили приятное впечатление, а мягкость речи и округлость жестов, надо быть, поселяли в сердца слушателей покой и безмятежность.
— Все не так плохо, — продолжала ворковать Сима. — Я была на подпольной работе в Одессе, Николаеве, в Иркутске, здесь — в Екатеринослава, в Брянске. И, поверьте, научилась чувствовать опасность.
— Я безумно волнуюсь! — вновь не удержалась Роза.
— Розочка, ну что ты уж так! — ласково потрепал ее по горбатенькой спинке Мойша Гольдштейн. — Отчего волнения?
— Как отчего?! Я слышала, они собираются провести какой-то там закон о… точно не помню… Что-то там о декоммунизации. То есть, все улицы, все парки и заводы, и села, и санатории, названные нашими именами — всё переименуют. И не ухмыляйся, Клара, Пик Клары Цеткин… где там… в системе хребта Академии Наук, тоже переназовут.
— Она нормальная? — разведя в стороны сильные руки, Цеткин как бы призывала в свидетели все собрание. — Пик Клары Цеткин находится на Памире. Это Россия. А хусн он а калэ! — прибавила она несколько слов, похожих на немецкие. — Нам совсем о другом нужно беспокоиться.
— О чем же? — мрачно поинтересовался Косиор Йося.
— Да, о чем? — поддержал его брат.
— Нужно всячески помогать им строить бесклассовое общество.
— Боюсь, это сегодня не пройдет… — оглянувшись на Мордехая Маркса, заметил писатель Рабинович.
Но Клара не слушала его:
— Сатрапов мы им дадим. А все остальные — полное равенство!
Она еще что-то говорила о едином фронте всех трудящихся, о едином фронте в борьбе против кризисов, критиковала реформаторские взгляды Бернштейна, как вдруг раздался сильный и, может быть, даже нахальный голос:
— Красный террор!
И все с невольным уважением посмотрели на маленького сухонького Янкеля Свердлов, от ботинок до фуражки (которую он так и не снял) наряженного в черную кожу.
— Почему же красный? — изумился Косиор Йося. — У них там как раз все очень даже наоборот.
— Совсем наоборот, — поддержал его брат.
— Какая разница, как мы его назовем: красным, черным, стальным или глиняным, — продолжал гудеть Янкель, но голос его, вроде и сильный, и низкий, нес в себе какие-то крайне неприятные для слуха обертона, и потому казался противным. — Думаю, никому здесь не нужно объяснять, что сценарий не менялся. А кожанка — она и есть кожанка, хоть оловянные к ней пришей пуговицы, хоть деревянные. — Организовывать боевые дружины! Направлять в фабричные и заводские комитеты опытных инструкторов и руководителей. Расширять и расширять армию агитаторов…
— Вот! Вот тут я бы поддержал… — успел ввернуть Мойша Гольдштейн.
— …посылать их на места. Масса должна булькать организованно и целенаправленно. Наша задача ее направить. Как это мы делали во все времена. И повторяю: красный террор! Против всех наших врагов.
— Между прочим, — не удержалась Роза Люксембург, — я изучала труды нашего классика Мордехай Леви — Карла Маркса. И писала статьи…
— Ой, я знаю, — вскрикнул Мордехай Маркс и замахал своими маленькими беленькими ручками. — Ничего не поняла и все там переврала.
— Что значит — не поняла?! — возвысила голос Роза, от чего он, как-будто, даже приобрел запах.
— Милочка, к чему эти возмущения? — отворачивал от нее мохнатое лицо Мордехай. — Вот лучше бы вы не писали. А еще лучше — и не читали.
— Что он говорит! — умоляюще протягивала руки то к одному, то к другому из своих товарищей Роза. — «Массовая забастовка, партия и профсоюзы» — тысяча девятьсот шестой год. «Всеобщая забастовка и немецкая социал-демократия» — тысяча девятьсот девятнадцатый… Я была наставницей в изучении марксизма у молодых людей…
— Кто ж этого не знает?! — вызверилась Клара Цеткин, и, отыскивая поддержку аудитории, принялась кивать и подмигивать всем подряд. — Под видом наставлений в марксизме она и на моего сына залезла.
— Возможно, вы хотели сказать, под него подлезла? — попытался элегантно пошутить Шолом Рабинович.
— Может, какая и под, но эта… эта вот именно заскочила на! И ведь мальчику было всего двадцать два года! А тебе, старой горбатой суке — тридцать шесть. Ты ж всю жизнь моему мальчику изгадила. Педофилка!
— Ах, это я педовилка?! — наконец выхватила слово Роза. — А сама? Сама что? Тебе-то было не тридцать шесть, тебе-то уж сороковник стукнул, когда ты зажала Жорика Цунделя. А сколько было тогда Жорику лет? Как раз — двадцать два года.
— Что это — «зажала»?
— Да ты на себя посмотри. И на него. Ухватила, зажала своей заскорузлой устрицей. А Жорик безответный, безотказный, бесхарактерный. Из-за тебя он даже не закончил академию в Штутгарте.
— Почему это из-за меня?
— А из-за кого?!
— Так что, я вдохновилась твоим примером. И к тому же, ты женила на себе мальчика…
— Я женила? А кто сделал его членом Штутгартской Ассоциации художников? Кто нашел ему меценатов? Роберт Бош. Август Бебель. Барон Факсенфельд…
— Да-да, тот еще потаскун. Казанова! Помнишь, как ты нашла серебряный портсигар, который этот Казанова подарил Жоржику? Помнишь, какое впечатление на тебя произвела гравировка «немой свидетель нашей вечной дружбы».? — Роза победно расхохоталась. — Потащила на Блюменштрассе… Конечно, не спорю, к Жоржику к тому же каким-то странным влечением воспылали твои сыночки — Костик и Максик
— Уродка!
— Мужик в юбке!
— Кальба!
— Нимфоманит! — решила так же ответить на языке, напоминающим немецкий, Роза Люксембург; и это было существительное, а не глагол. Хотя… какая разница? — Тебя даже партийные соратники называли не иначе, как «неистовой Кларой».
Они обменялись еще какими-то замечаниями относительно внешности и личноственных качеств друг дружки… И вот уже Роза и Клара сидели в обнимку и целовались напропалую.
— Дамы… — несмело, наконец, отважился их прервать Рабинович. — Все это, конечно, мило… Но…
— Ужас. — поводил из стороны в сторону бородой Мордехай Маркс, ведь не смотря на экстравагантность своих писаний, в душе он оставался чистейшим ортодоксом.
Дамы на минуту разомкнули объятья. Клара обвела публику соловым взглядом и вдруг осипшим низким голосом произнесла:
— Перед настоятельной исторической необходимостью должны отступить на задний план все волнующие и жгучие разногласия.
И вновь губами впилась в Розу. Общество подождало еще какое-то время и тогда приняло решение обратиться к разговору, не дожидаясь возвращения в него эмансипированных своих товарок.
— Надо больше внимания уделять нашей молодежи, — стараясь не обращать внимания на женщин, заговорил Рабинович. — Я был делегирован от США на восьмой Сионистский конгресс, в Гаагу, так вот там…
К разговору о политическом воспитании молодежи активно подключились и Ше́йнкман, и Гольдштейн, и Гопнер. Даже Мордехай Маркс подкинул каких-то своих соображений по данному вопросу. И вот когда уже беседа, как-будто, стала складываться независимо от участия феминисток…
Тут Цеткин со словами «а танганэйдендыкер там» наконец оторвалась от Люксембург.
Та раскраснелась, вспотела, непропорционально большая голова, казалось, еще распухла, помада на губах размазалась, и теперь ее рот, действительно, напоминал красную розу. Вернее — ее ошметки, оставленные налетом урагана. Роза, часто и счастливо дыша, вымолвила:
— У меня нет личной жизни — только публичная.
— Вот ведь причудница, — голосом, пронизанным всепрощением, проворковала Цеткин, и тут же обратилась к аудитории: — И черт ее поймет! Гей их гих, зогт зи их аз рас ди ших, гей их паволе зогт зи их крих, прибавила она на языке похожем на немецкий.
И в этот самый момент на стул, занятый неистовой Кларой, плюхнулся пожилой дородный еврей.
— Стыць пердыць! — вскрикнула неистовая Клара на языке загадочном, но не похожем на немецкий. — Вей из мир! Ничего себе тухес! — гудела она, разумеется, имея в виду грузную задницу неучтивого господина.
Тут же на стул Мойши Гольдштейна-Володарского вскарабкался еще один человек, тоже еврей, тоже немолодой — суховатый коротыш. Был еще третий — плотный средних лет гой. Тот расселся на стуле одного из Косиоров.
И странное дело, в то время, как ведшая безмятежную беседу компания от таковского пассажа пришла в замешательство и преисполнилась возмущением, пришельцы нисколько не различали ничьего присутствия рядом с собой. Абсолютно.
Пока троица заказывала себе всякие дорогие кошерные напитки и наедки, представители Интернационала оживленно негодовали. Но скоро сообразили, что возмущения тут бессмысленны, помалу успокоились и вернулись к тревожившим их проблемам.
Как и советовали налетевшие со всех сторон официанты, трое мужчин начали свою трапезу с холодных закусок. Карпаччо из лосося с микс-салатом под лимонным соусом. Приходилось довольствоваться белой рыбой, ведь употребление в пищу красной (как и ее черной икры) было запрещено неумолимыми требованиями кашрута. Затем они взяли Тар-тар из телятины с микс-салатом под соусом Песто. Затем съели хумус с грибами. Еще съели фаршмак. И уже тогда перешли к горячим закускам.
— Когда я уговорила финансировать нашу газету — «Die Gleichheit» Роберта Боша… — говорила Клара.
— В финансировании наших газет… — начал гой, кивком головы позволяя официанту разлить вино.
— Это какие? — спросил коротыш.
— А все они наши, — сказал тучный еврей и облизал волосы вокруг рта после выпитой рюмки.
— Нам готовы помочь… Ну, их много, — сказал гой. — Во-первых, штатовский НЭД.и Макартур фондэшн Во-вторых, Норск журналистлаг. Это Норвегия. Еще сотню штук подкинет Кипкосе… Кипкосерм… Не помню. Короче, с Кипра. Что-то, конечно, нам нужно себе оставить. Но часть придется потратить. Для отчета.
Хацил Балади.
Нежный цыпленок под миндальным соусом…
— Успешным было сотрудничество с организацией украинских социал-демократов «Спілка», — сказал Гольдштейн–Володарский.
— В этот раз особенно плодотворной может стать сотрудничество с националистическими организациями. Вплоть до самых-рассамых ультрафашистских, — сказал тучный.
— Быть не может! — ужаснулся коротыш.
— Может.
— Ты вспомни петлюровские расстрелы. Ты вспомни погромы… Да вот хоть и здесь, в Днепропетровске…
— В Еатеринославе.
— Ну да… В каком это…
— В тысяча девятьсот пятом. В июле. Потом в октябре еще один.
— Да! И тогда убили что-то… шестьдесят человек. Или…
— Девяносто пять. И двести сорок пять ранили.
— Откуда ты все это?..
— Мы должны помнить все. Помнить каждую жертву. Это у гоев память мушиная. Что вчера было — не помнят. А мы — другое дело.
Фалафель.
— Еще раз цыпленка! — приказал тучный.
Нежный цыпленок под миндальным соусом.
— Невозможно обойтись без боевых дружин, — сказал Янкель Свердлов.
— Нужно создавать боевые бригады, — сказал тучный еврей.
— Но это запрещено…
— Кому запрещено, а кому и разрешено. Да все приличные люди их давно имеют. Просто теперь надо их расширить. Надо собирать батальоны.
Был съеден луковый суп. Его на столе сменило мясо, запеченное с черной смородиной под медовым соусом. Тарелки с развороченными, но недоеденным запеченным мясом улетели. Прилетели новые — со стейком из тунца с припущенными овощами.
— Овощи я — не-е… — скривился коротыш. — Меня от них пучит.
— На заседании ЦК в октябре семнадцатого мы приняли решение о вооружённом захвате власти, — сказал Янкель Свердлов.
— Захватить власть можно только вооруженным путем, — сказал тучный еврей. — Как замечал один умный человек, власть не дают, ее берут.
— Они не пойдут, — сказал гой.
— Задаром не пойдут, — не стал спорить тучный. — А за деньги пойдут. За деньги маму родную ни то, что в цирк, в зоопарк продадут.
— Не-ет…
— За деньги? Легко.
— Кто знает, что они там себе думают… — утирая рот салфеткой, прошамкал коротыш.
— Думают?! Есть очень хорошая пословица на идиш. Не помню, как там звучит в оригинале… Не пытайся понять, о чем думает лошадь — лошадь не думает.
— Как они все-таки циничны. — сказала Роза Люксембург, ведь она, как и все члены ее компании, прекрасно слышала все, что говорили трое прожорливых мужчин.
А те никак, ничуть не ощущали рядом чьего-то присутствия и продолжали разговор.
Пришло время десерта.
Тыквенный мафин с черной смородиной.
— Когда к нам с Георгом в Силленбух… — заговорила Цеткин, и взор ее железных глаз заволокло теплым туманом.
— Это под Штутгартом? — уточнил Косиор Йося.
— Под Штутгартом? — зачем-то повторил вопрос брата Косиор Слава.
— Да, там. Так вот, когда Владимир Ильич гостил у нас, он очень, очень любил наслаждаться видами из его окон…
— Памятники Ленину будем везде убирать, — сказал тучный еврей.
— Вей! — воскликнула Клара.
— Неожиданность! — скривил губы Гольдштейн-Володарский.
— А кому они мешают? — изумился коротыш.
— Столько денег, столько… всего в этот бренд вложено, — позволил себе комментарий плотный гой.
— Это не нам решать, — насупился тучный, и двое его приятелей потупив взоры усерднее принялись разрывать ложками тыквенный мафин с черной смородиной. — Сказано — будем рушить.
Шоколадный брауни подали с ванильным мороженым.
— ВЦИК одобрил «Постановление о красном терроре», — сказал Свердлов.
— Террор! — сказал тучный еврей. — Причем это будет самообслуживание. Согласись, в этом есть таки юмор!
— Мне кажется, — сказала неистовая Клара, — они не принимают ко вниманию некоторые аспекты нашего опыта…
— Что вы имеете в виду? — спросил Косиор Слава.
— Как что! Вон, Янкеля в Орле забили до смерти разъяренные антисемиты. Мойшу Гольдштейна прихлопнули эсеры. Розу тоже хотела разорвать толпа…
— Ах, не вспоминай! — всхлипнула Роза.
— Офицеры Белой гвардии Германии удерживали толпу сколько могли…
— Ах!..
— А потом рабочий Рунге все же исхитрился двинуть прикладом ей в голову. И всё. И труп — в Ландверский канал. Тот, что рядом с зоопарком.
— Может, нам не стоит так уж… — сказал гой.
— Это не опасно? — встрепенулся коротыш.
— Опасно ждать настоящих погромов. Действовать надо на опережение. — сказал тучный пожилой еврей.
Он откинулся на спинку стула и громко, победно выпустил кишечные газы. Конечно, то был знак доминирования, некая условная угроза, призванная напомнить о жестком иерархическом порядке. Ее задачей было понудить ниже стоящих особей к ритуалу подчинения. И действительно, те тут же приниженно заулыбались, подобострастно захихикали.
— Хорошо покушали, да? — сказал коротыш.
— Желудочек полненький… — особенно старался гой.
— О-о! О! — замахала руками Клара Цеткин, ведь именно ее стул занимал тучный еврей. — Ой вей!
Тот еще потрещал, демонстрируя полную свою независимость и свою свободу выбора, после чего сделал какой-то условный знак охране, маячившей в отдалении, и троица принялась тяжко выползать из-за стола. К величайшему облегчению здесь же заседавших членов Интернационала. Но они не спешили покидать ресторан — остановились посередине зала и что-то опять принялись обсуждать. А оставшееся за столом общество почти сразу перешло к традиционному пению.
Mir vern gehast un getribn,
Mir vern geplogt un farfolgt;
Un alts nor derfar vayl mir libn
Dos oreme shmaktnde folk.
— Как наши товарищи, еврейские ткачи прикарпатской Коломыи, давали клятву на тфилине, так и мы поклянемся…
Они затянули:
Hymeł un erd wet unds hern,
ejdes, di lichtige sztern.
А szwue fun błut un fun trern.
Mir szwern! mir szwern!
Они пели, пели…
— Предлагаю продолжить на русском, товарищи! — возгласила Клара.
И они запели на русском о том, что только Бунд может вызволить их из неволи. Что знамя Бунда развевается высоко и широко. Что присягают они Бунду на жизнь и смерть.
А закончился тот импровизированный концерт любимым хитом:
Там, где сидели их цари и генералы,
Теперь сидим там мы, они сидят под нами…
И — коллективной фотографией.
Чудесным образом перед представителями Интернационала возник куст. Поскольку ботаников среди них не было ни одного, то и определить некому было вид этого растения. Вдруг чудесным образом тот куст вспыхнул белым магниевым светом. В нем что-то щелкнуло… И тотчас на столе перед собравшимися возникла пачка фотографий, в десяти копиях повторявших честную компанию. С искристой веселостью те бросились расхватывать снимки и оживленно обсуждать фотогеничность запечатленных на них лиц.
— Что это! — еле слышно вскрикнул коротыш.
Встрепенулся и плотный гой.
— Что? Что такое? — встревоженный непроясненным обстоятельством, способным, видимо, нарушить послеобеденный кайф, завертел головой тучный еврей, ведь он стоял спиной к недавно покинутому столу.
— Вспышка…
— Будто вспышка какая-то.
— Вспышка? Где? За окном? — начинал злиться толстяк.
— Не знаю…
— Не понятно. Может, и за окном. Будто свет… какой-то.
— За окном? — вмиг толстяк сделался подвижным и резким. — Взрыв? Теракт? Если это теракт — значит, они опередили нас. Идем!
И он кинулся вперед, подобный ощутившему смертельную опасность носорогу или гиппопотаму, кинулся в двери, расталкивая собственную охрану, с помощью матерных слов раздавая короткие команды обмершим наймитам.
* * *
Восьмого декабря Маричка ворвалась в женскую палатку, одну из тех, чье число на главной площади Киева продолжало расти, ворвалась, едва не сбив крупным своим телом одну из стоек, поддерживавших брезентовый шатер.
— Охереть! Охереть! — повторяла она одно слово, единственное, надо быть, способное передать глубину и силу ее переживаний.
В палатке на тот час присутствовала только Надя из Цюрупинска.
— А наших всех собрали и повезли… — клейким голоском оправдывающегося человека встретила она Маричку.
— Чего? Куда повезли? — машинально отвечала ей та, вся во власти каких-то своих треволнений.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
