
Вместо предисловия
Дорогой читатель!
Перед Вами — первый выпуск альманаха литературной студии «Понедельник».
«Понедельник» родился в одну из осенних суббот прошлого (2016) года, при поддержке книжного издательства Хелен Лимоновой и в рамках проекта Центра литературы и творчества.
Студия объединила людей разных профессий и возрастов из разных городов Израиля — всех тех, кому не мила жизнь без литературы.
В этом выпуске альманаха представлены произведения уже известных авторов, а также тех, кто публикуется впервые.
Желаем Вам приятного чтения!
Н. Терликова, руководитель студии «Понедельник»
Илья Аснин, Мицпе-Рамон

Нашему поколению выпало жить в трудное, но интересное время. Я далеко не молодой человек, повидал на своём веку немало.
Родился 22 июня 1930 года в небольшом Российском городе Клинцы. А затем был 41-ый — война. Учёба в Московском вузе и романтика 50-х, когда молодёжь отправлялась осваивать Далёкую Сибирь. Следуя их примеру, оказался в Ангарской тайге на стройке химического комбината, потом вместе с семьёй прожил тридцать три года в Риге. И вот уже более двадцати лет на Земле Обетованной.
Работа конструктора и творчество изобретателя научили меня из набора деталей и узлов создавать новые машины и механизмы. И также я стал конструировать свои незамысловатые стихи.
В этом альманахе представляю читателю стихотворения разных лет, а также отрывок из книги воспоминаний «Это было недавно, это было давно».
Поскольку не являюсь профессиональным писателем, прошу не судить слишком строго.
Главы из книги «Это было недавно, это было давно»
«Вставай, страна огромная.
Вставай на смертный бой»
Воскресенье 22 июня 1941 года день рождения. Мама стояла у печки, собираясь, печь пирог. Вдруг, висящая на стене чёрная тарелка радио, голосом Левитана, объявила: сейчас, с важным сообщением выступит Молотов. Это была война, которая почти восемь часов, уже полыхала на всём протяжении западной границы нашей страны. Внезапно солнечный июньский день помрачнел, Всё, люди, природа как-то съёжились, стали меньше. Первую воздушную тревогу, по ошибке, объявили химической, что привело к невообразимой панике. Во дворах начали рыть щели. Пошли бомбёжки. Фронт стремительно приближался к городу. Появились первые беженцы. Они с ужасом рассказывали о том, что творят немецкие лётчики, буквально гоняясь за каждым человеком. Впоследствии мы всё это испытали на себе. С каждым днём обстановка становилась всё тревожней. Особенно врезалась в память одна ночь. С вечера полил дождь, разразилась гроза, потом налетели юнкерсы, у мамы, от всего этого, началась истерика. В это время у нас была соседка с мужем, Он начал успокаивать маму и сказал ей пророческие слова: «Нина, мы ещё будем в Берлине» Он оказался прав.
Август 1968 года.
Сижу в палатке, в двадцати километрах от Берлина, пишу родным письмо, в котором сообщаю, что жив и здоров. Нахожусь недалеко от того места, о котором в ту страшную ночь 1941 года, так пророчески говорил наш сосед. Это были августовские события 1968 года. Часть, в которую я был призван, как офицер запаса, двигалась в Чехословакию на подавления восстания. Нам не разрешали в письмах указывать, где мы находимся. И только благодаря событиям той ночи, мои родные догадались, где я. Но вернёмся, к осени 41 года. Всё ближе к нашим местам приближался фронт, всё чаще объявлялись тревоги. Пустел город. В семьях шли споры, уезжать или не уезжать. Помню, как наша тётя рассказывала о немцах, которые стояли в её городке в гражданскую войну. Она с похвалой говорила об их отношении к мирному населению и к евреям. Что они за всё платили. Были вежливы и отличались высокой культурой. Только после Освенцима и Дахау мир узнал, какими были немцы, воспитанные Гитлером. К великому сожалению 6 миллионов евреев об этом уже никогда не расскажут. Среди этих 6 миллионов было достаточно много таких, которые думали, что немцы их не тронут. В результате они приняли мученическую смерть. Возвращаясь к тем дням, трижды кланяюсь памяти нашего дяди. Не вдаваясь в долгие споры, он поехал в деревню, купил коня. Когда немцы подходили к Клинцам, запряг его в телегу и повёз нас по дорогам России и Украины, спасая от них. До сих пор не могу представить, как человек, без знания географии, без карты, сумел спасти наш еврейский табор. Он был глубоко верующий человек, и видимо бог, ему помог. Не лёгким был наш путь. Шли пешком, стояла небывалая жара. Вокруг горели поля с неубранными посевами. Пыльные дороги забитые отступающими войсками, толпами беженцев. Мессеры охотящиеся за человеком.
Это случилось в одном из сёл. Наша телега застряла в грязи посреди улицы, по которой сплошным потоком шли отступающие войска, танки, артиллерия, пехота. Телега мешала этому потоку. В такой обстановке, нас могли легко раздавить. Но мы остались живы, с благодарностью вспоминая тех, которые в невероятных условиях войны оставались людьми. Была ещё одна ночь, когда после кратковременной стоянки, быстро снявшись, пошли дальше. Вдруг услышали крик, бегущего за нами красноармейца. Он подбежал и сказал: «В лесу спит на пеньке старушка. Не ваша ли»? В спешке, в темноте не заметили отсутствия нашей бабушки. Так, оставшийся неизвестным, человек, спас бабушку. И ещё, на одной из стоянок, подошёл мальчик лет четырнадцати и рассказал, что когда пас лошадь, началась бомбёжка. В суматохе потерял родителей. Выяснилось, он наш земляк. Попросился взять его с собой. И вот, как бывает в жизни. Прошло много дней, мы исколесили Украину и Россию — пешком и на поезде. Мальчик за всё это время не выходил из вагона. Но однажды в районе Саратова попросился взять его на вокзал и при подходе к нему, встретил своих родителей. В 1945 году вернулся с фронта. Окончил институт, впоследствии стал начальником крупного треста. Прошло много лет, в Риге я познакомился с одним интересным человеком. Наряду с работой он занимался литературным творчеством. У меня до сих пор хранится подаренная им книжка со своеобразным названием: «И всюду человек».
Как не вспомнить всех тех, кто в те страшные дни оставался человеком.
Низкий поклон им за это.
«Эх, дороги, пыль да туман»
В небольшом лесочке, недалеко от речки с перекинутым через неё деревянным мостом, расположился на отдых наш табор. Был жаркий день. Отпросившись у родителей, побежали искупаться. Только залезли в воду, как налетели мессеры и на бреющем полете стали расстреливать идущие по дороге войска. Мы спрятались в растущей, по берегам крапиве, от страха даже не почувствовав её жгучие объятия. В каком-то трансе, я вскочил и побежал в лесок. Хорошо помню, как пули, со странным чмоканьем впивались в песок. Но, что-то хранило меня и ни одна из них не задела. В лесу творилось столпотворение. Люди ползали от дерева к дереву, и всё это сопровождалось воплями и плачем. Позднее нам сказали, что мы родились в сорочке. Надо было перейти мост и там остановиться. И только то, что немцы его не разбомбили, спасло нас от гибели. А затем была ночь под городом Глухов. В ночном небе гудели немецкие самолёты, мой братик Гриша, видимо от испуга, затребовал свежий огурец. Причём это, не ко времени, требование сопровождалось громким плачем. Только через много лет, мама призналась в том, что готова была задушить Гришу. Ей казалось, что на его крик летят бомбы. Наконец добрались до станции Глухов, где нас посадили в поезд с беженцами. Вагоны этого, с позволения сказать поезда, предназначались для перевозки угля. Они были без крыши. Вот так, под открытым небом, в жару и дождь, под обстрелами и бомбёжкой исколесили юг России. И, наконец, оказались на станции Нахой, в Немповолжье. Изголодавшиеся за долгие дни скитаний, мы были потрясены необычной картиной. На тендере паровоза, стоял измазанный в угле машинист. В одной руке он держал огромный ломоть белого хлеба, а в другой кусок арбуза, это всё казалось каким-то сном. Он закончился так же необычно. Нам выдали мешок белого хлеба и несколько больших арбузов, после того, что пришлось испытать, это был настоящий пир. Затем отвезли в село Розенфельд и расселили по домам. Во дворе нашего дома бродила корова с громадным выменем, бегали куры и гуси. Чердак был забит пшеницей. Видимо хозяев вывезли внезапно, на столе стоял ещё теплый кофе. Оказалось, по приказу Сталина, немцев, заселявших эти земли со времён Екатерины, в одну ночь посадили в эшелоны и вывезли в Казахстан и другие отдалённые районы страны. Мы были голодны, мама поймала курицу и попыталась её зарезать. В это время, во двор, вошли какие-то военные. Испугавшись, она забросила недорезанную курицу в печку. Когда они зашли в дом, в печке раздался крик курицы. Эффект был потрясающий. Правда, нам ничего не сделали, но страху натерпелись. Утром всех взрослых поставили доить коров, чтобы у них не перегорело молоко. Это было незабываемое зрелище. Коров доили прямо на землю. Почему на землю? Просто не было во что доить. Вот такие были времена.
Потянулись годы эвакуации. Всякое пришлось испытать. И голод, и холод, и боязнь снова оказаться под страхом оккупации. Ведь совсем недалеко был Сталинград. Бомбили Саратов. Наконец наступил перелом под Сталинградом, который стал началом конца войны. Второе мая 1945 года, сидим под стенами Киевского вокзала, в ожидании поезда на Клинцы. Вдруг Москва озарилась разрывами ракет, раздалась стрельба из автоматов, пистолетов. Оказалось, Левитан сообщил о взятии Берлина. На завтра приехали в Клинцы. Девятого мая наступил мир, стали возвращаться демобилизованные. Среди наших родных было много фронтовиков. Мои двоюродные братья: Миша Белкин, Володя Хайкин, Моисей Серпик, Осип Хайкин. Гудкович Миша прошёл от Сталинграда до Кёнигсберга. Володя был тяжело ранен. Лётчик Осип в начале войны был сбит в районе Смоленска, через много лет его останки и самолёт случайно обнаружили в озере. Моисей погиб в начале войны. Миша Белкин, высокий, черноусый красавец, похожий на известного актёра, Зельдина, некоторое время, после войны, жил и работал у нас. Он очаровал всех девушек с нашей улицы. Но было и другое. Однажды, мы ребятишки, сидели на улице. Мимо нас прошло несколько демобилизованных. Один из них, видимо танкист, с лицом в рубцах от ожогов, с иконостасом орденов и медалей, громко произнёс: «Пойдём к жидовочкам». Среди фронтовиков было много исковерканных физически и морально людей. Им было трудно, после долгих лет войны, вернуться к мирной жизни. После войны в школах было введено раздельное обучение. В мужских школах проводились уроки военной подготовки. Вели эти занятия бывшие фронтовики.
Нашего военрука мы почему-то сразу невзлюбили.
Однажды, нас послали в колхоз на уборку картофеля. Руководителем поехал вышеупомянутый военрук. Как-то утром, я вышел из сарая, где мы ночевали, и увидел его. Он стоял голый по пояс и умывался. Но не это меня потрясло. Я увидел на его теле страшный след от ранения. С одной стороны у него не было рёбер, вместо них был затянутый кожей бок. Видимо он это старался скрывать, потому что быстро надел рубашку и ушёл. Конечно, обо всём увиденном я рассказал, и наше отношение к нему резко изменилось. А ещё больше мы прониклись к нему уважением, когда на одном из школьных вечеров он появился в кителе, сплошь увешанном орденами и медалями. И ещё один эпизод, о котором нельзя не рассказать. Прошло много лет с окончания войны, я сидел в зале ожидания Гомельского вокзала. Внезапно в зал вошли два милиционера, они буквально тащили какого-то пьяного мужчину. Похоже, это был бомж. И тут я был просто потрясён: На его грязном, будто изжеванном пиджаке, висела большая колодка орденов, а над нею золотая звезда героя Советского Союза. Кто он был, почему дошёл до такого состояния, осталось загадкой, но до сих пор эту сцену забыть не могу. Через нашу станцию проходило множество эшелонов с солдатами и офицерами. Было радостно смотреть на разукрашенные поезда, на весёлых, радующихся, победителей. Невольно, вспоминались дороги осени 1941 года. Мрачные, запылённые, бредущие под жарким солнцем, толпы отступающей армии, повозки с ранеными. Каким же сильным по духу должен был быть наш народ? Каким, не смотря на колоссальные ошибки, должно было быть руководство страны и армии, чтобы остановить немцев под Москвой, а затем нанести им такой удар, который заложил первый кирпич в грядущую победу.
Курган над городом стоит
Засеян он осколками снарядов.
Его наряд — бетонный монолит.
И лучше не придумаешь наряда.
Ступени бесконечно вверх ведут.
Склонил знамена пантеона зал.
И две стены, как каменный редут.
И голос Левитана, как металл.
Спят на кургане храбрецы.
Защитники страны и Сталинграда.
Спят рядом братья деды и отцы
И лучшей чести им не надо.
Деревья ветвями шумят.
Покой их вечный охраняют.
И пусть они спокойно спят.
И пусть земля войны не знает.
Иерусалим
Покой и мир Иерусалиму
Господь веками не давал.
Был бит врагом лежал в руинах.
Но вновь из пепла восставал.
Врагами храм не раз разрушен.
Народ мученье принимал.
А он был горд и не послушен,
И на колени не вставал.
Он есть един во многих лицах.
И Божество, и белый свет,
Израиля единая столица.
Ему альтернативы нет.
Так, что к его прибавишь славе.
Коль этой славе сотни лет.
Он камень в дорогой оправе.
Цены такому камню нет.
Хива
Но всех затмила красотой Хива.
Колона минарета как свеча.
Пригрезилась фигура палача.
Ворота в изразцах алеют.
Сверкает купол мавзолея.
И словно юная княжна.
Блестит нарядом чайхана.
Красив и сувенирный ряд.
В нём покупают всё подряд.
А сказка продолжала чаровать.
И как её не продолжать.
Ковровый зал из камня чудо.
Владыки трон творений груда.
И словно в сказочной красе.
Вдруг возникает медресе.
Смеркалось, мягкая прохлада.
Сменила уж полдневный зной.
Ворот восточных колоннадой
Вдруг попадаем в мир иной.
Чеканят в лавках кувшины.
Ишак влечет арбу в проулке.
Взлетают к небу синие дымы.
Пекут лепешки в закоулке.
Темнело, тени удлинялись.
На землю опускалась мгла.
Надолго в памяти осталась.
Легенда в камне — древняя Хива.
Нас молодость бросала как батут,
От Арктики и до вершин Кавказа.
Прощание славянки
Идём на север, зеленея.
Стоит округ дремучая тайга.
Туман ушел и в водах Енисея.
Любуются собою облака.
Еще кому-то семафорят руки.
Вдаль отодвинулся причал.
И марша старого чарующие звуки.
Вдруг тишину сразили наповал.
И долго-долго будут сниться.
До самой до последней той поры.
Как севера листали мы страницы.
Как в тундре нас съедали комары.
Как в ледяном, безмолвном мире.
У шарика на самой высоте.
Слагали песни о Таймыре,
О теплой, об одесской стороне.
Как море Карское качало
Как Диксон про морзянку напевал.
И то, как у последнего причала.
Нам старый марш славянку напевал.
Карпаты
Туман над полонинами встает,
Лебяжьим пухом горы устилает.
В тумане стадо медленно бредет.
Так новый день в Карпатах наступает.
Палатки прилепились на лужайке.
Округ деревьев, молчаливый хор.
Звенит ручей извечной балалайкой
Играет солнце на вершинах гор.
Стучат призывно повара.
На завтрак всех, к костру сзывая.
Не хитрая туристская еда.
Да кружка с дымным и горячим чаем.
Палатки собраны, надеты рюкзаки.
Тропа змеей вползает в горы.
И пусть они не так уж высоки.
И них видны бескрайние просторы.
И целый день, сгибаясь на ходу.
Идём, идём привала ожидая,
А мысль одна: «Дойду ли, не дойду»?
Да и зачем мне жизнь такая?
Скорей бы кончить трудный путь.
После дорог, немного поостынув
Глоток воды из родника хлебнуть.
И распрямить натруженную спину.
Кончает солнце путь по небосводу.
Седой туман спускается с вершин.
Трембиты где-то раздаются стоны.
Стада овец уходят с полонин.
Горит костер, тьму ночи разгоняя.
Туристы вкруг, гитарный перезвон.
И песнь летит, усталости не зная,
И сердце вторит песне в унисон.
На черном небе звездная роса.
Прощальной песни отголосок тает.
Дымит костёр, слипаются глаза.
В Карпатах ночь в свои права вступает.
Ленинград — Ладога
За горизонт уходит Ленинград
У невских вод разливы широки.
Природа, как на сказочный парад.
Своих красот расставила полки.
Поляны, топи, древние леса.
Реки могучей вечное теченье.
Озера, что глядятся в небеса.
И ветра шум и птичье пенье.
На Ладоге ленивая волна.
Белея туча, виснет над водой.
Вот — вот прольется слезами она.
След от винтов, как парус за кормой.
А ведь, недавно вьюга злилась.
Все стыло в снежном одеянье.
Ночами часто лето снилось.
Душа томилась в ожиданье.
Промчались, дни как стайкою стрижи.
Качают волны белый теплоход.
И вот уж из воды встают Кижи.
Украсив древней вязью небосвод.
Как страж бескрайнего простора.
Как парусник, бегущий по волнам,
Как богатырь, как крепость как опора.
Идет на встречу остров Валаам.
Сосновый бор и древние скиты.
Заросший пруд, забытый храм.
Художников великие холсты.
Прославили на веки Валаам.
Устало дышит старый теплоход.
Команды с мостика звучат.
И вновь, на фоне невских вод.
из дымки возникает Ленинград.
Жене
Для женщины не так уж много надо,
Ее лишь только лаской обогрей,
Нет для нее приятнее награды,
Когда она от любящих людей.
Как красят женщину наряды,
С оправою сверкающих камней.
Что может быть приятнее награды,
Когда она от любящих людей.
Для женщины не так уж много надо.
Любовь семья и никаких затей,
И для нее великая награда,
Улыбки видеть на лице детей.
О, женщина, Будь хороша собою.
Купайся в красоте своей.
И чтобы, долго не было отбоя.
Тебе от нас, от любящих людей.
О женщине не судят по годам.
Пред нею даже время отступает.
И осень та, что ходит по пятам,
Её своим дыханьем не пугает.
Вот так и ты нисколько не стареешь.
Пусть и тебе давно не двадцать — нет.
И о весне, ушедшей, не жалеешь.
И не жалеешь пролетевших лет.
С годами лишь становишься мудрее
И выдержки тебе не занимать.
И нет на свете никого роднее.
Жена, подруга, любящая мать.
Пусть о тебе не судят по годам.
Да будут многие рассветы.
И много лет, на смену холодам.
В наш дом с теплом приходит лето.
Друзьям
Нам Бог дает, иль не дает родных.
Друзей не боги, сами выбирали.
Одни далече, нет уже иных.
Да и с живыми встретимся едва ли.
Друзья нам заменяли отчий дом.
Делили зной и злую стужу.
Где вы теперь на шаре, на земном.
Откликнитесь, согрейте наши души.
Знакомые до слез, до мелочей,
Стоят дома, раскрыв окон глазницы.
За ними нет давно уже друзей,
За ними лишь одни чужие лица.
О, как ты, жизнь, превратностей полна.
Хоть лоб разбей, тебя не разгадаешь.
Ты словно шалая незрячая волна,
Людскими судьбами, что камнями играешь.
И мыслям нет от этого покоя,
Кружатся всё, да лупят по мозгам.
Как можешь ты выбрасывать такое.
Делить друзей — на «здешних» и на «там».
Братьям
Ну, что тебе сказать, мой брат.
Ведь мы, увы, не виноваты.
Что годы пулями летят.
И всё чувствительней утраты.
За далью лет припомни детство.
Родимый дом, объятый садом.
Войны кровавое соседство.
И всех родных, что были рядом.
Ещё припомни о былом.
Как мы птенцами разлетались.
И уж конечно, как потом.
В свои пенаты возвращались.
И город над рекой Невой.
Ночей его очарованье.
Проспектов, площадей покой.
Любовь и первое свиданье.
Ну, что тебе сказать, мой брат.
Вгрызайся в жизнь весомо, зримо.
А годы, путь себе летят.
Как пули, пролетая мимо.
Годы, как лыжи скользят.
Сколько уже за спиной.
В жизни немало преград.
Много их взято тобой.
Сколько добра, ты свершил.
Многим наставником стал.
Дружбу мужскую хранил.
Лёгких путей не искал.
Да, не угаснет твой пыл.
Времени тебя не унять.
Горы не все покорил.
Есть ещё, что покорять.
Помни сосновый наш край.
Помни отцовский порог.
Связи времен не теряй,
К дому ведущих дорог.
Раиса Бержански, Арад

Родилась в Москве в 1938 году. После школы замахнулась на МГУ им. М. В. Ломоносова и взлетела на семнадцатый этаж Географического факультета. После окончания университета «загремела» на Колыму по собственному желанию. Работала инженером — гидрологом на Колымской стоковой станции. Затем в Институте физико-технических проблем энергетики АН Литвы, защитила докторскую диссертацию.
С 2000 года живу в Израиле.
Стихи и рассказы начала писать недавно, неожиданно для себя. Мои произведения опубликованы в газете «Секрет» (г. Бат Ям), альманахе «Надежды маленький оркестрик» (г. Петах Тиква), альманахе «Строка» (г. Арад).
В 2010 году вышел в свет сборник «Жизнь, я люблю тебя!».
В 20012 г. — сборник «Ясные дали».
В 2016 г. в Издательском доме Хелен Лимоновой (г. Тель-Авив) вышла в свет электронная книга «Откровение».
Готов сгореть
Я — стол в квартире полуразрушенного дома на Петроградской стороне. Второй год войны. Рядом со мной на железной кровати вот уже третий день безучастно лежит, завёрнутый, во что только можно, ребёнок. Он замерзает. Он с большим трудом открывает глаза на просьбу матери скушать кусочек хлеба. Её сейчас нет дома — она ещё утром опять ушла за хлебом. С улицы доносятся выстрелы и взрывы. Дрожат стёкла в оконной раме. С потолка на нас сыпется штукатурка и я в страхе, что вот-вот обрушится потолок.
Наконец мать вернулась и принесла кусочек хлеба, за которым простояла на морозе около двух часов. Теперь надо было затопить печку — буржуйку и нагреть воды, но в доме, кроме меня, не осталось ничего, что могло бы гореть. И я готов сгореть, только бы ребёнок согрелся и смог сделать несколько глотков размоченного в воде хлеба.
Женщина взяла в руки топор. Когда пламя разгорелось, я успел увидеть, как ребёнок, поднесённый к теплу, улыбнулся.
Зимняя ностальгия
Белым снегом хрустела зима.
Нас несли по обочине лыжи
И катили с крутого холма
В царство сосен, заснеженных хижин.
В том бору нет мирской суеты,
В нём весь воздух пропитан покоем.
И под соснами зайцев следы
Прикрываются ветками хвои.
Наш сугробом заваленный дом —
Лишь виднеется красная крыша.
Дом осел, а под крышей его
Поселились летучие мыши.
Треск поленьев и отблеск огня,
И глоточек горячего грога
Разливают по жилам уют,
Исчезает из сердца тревога.
Хокку
Гроздья рябины
Согреваю в ладонях —
Терпок вкус её.
***
Пробу золотом
Осень ставит на листьях —
Печальный мотив.
***
Зима в Израиле.
Струйки дождя по стеклу —
Слёзы января.
***
По перекрёстку —
По трём дорогам сразу
Промчался ветер.
***
На облако-стул
Слегка присело солнце.
Тень бежит следом.
***
В молодом саду
Первое цветение
Накрыл снегопад.
***
Тянутся сосны,
Обгоняя друг друга,
В небо сквозное.
***
Промокшая ночь.
Отражение луны
В мокром асфальте.
Туман густеет,
С реки шум воды, треск льда,
Ожидание…
***
Скользкий тротуар
Ждёт, кто же поскользнется.
Упал луч солнца.
***
Глубину лужи
Ребёнок измеряет
С ботинком в руке.
***
Круги по воде.
Начался вечерний клёв
Рыба играет.
***
Солнце зашло в лес,
Гулкий лесной стук —
Завтрак у дятла.
***
Солнце садится.
На белом безмолвии
Лыжные следы.
***
Цветные береты
На кустах бугенвиллий —
Музыка цветов.
***
Налепил месяц
Золотые пуговки —
Ночь стала темней.
***
Свою руку маяк
Выбросил в простор моря —
Корабль на рейде
***
Иней на травах.
Остыли ветки, гнёзда —
Хлынула осень.
***
Весна покрыла
Обочины дороги
Снегом ромашек.
***
Опушка леса
В голубом мерцании —
Светлячки зажглись.
***
Конец осени —
На первом мягком снегу
Следы вороньи.
Игорь Хентов, Ашдод

Игорь Хентов — член Союза писателей Москвы, музыкант, филолог. Дипломант конкурса им. Шолом-Алейхема. Окончил музыкальное училище по классу скрипки, Ростовский Государственный Музыкально-педагогический институт по классу альта (ныне консерватория им. С. В. Рахманинова) и филфак Ростовского Государственного Университета (факультет русского я зыка и литературы).
Работал артистом и директором симфонического оркестра Ростовской областной филармонии, школьным учителем, преподавателем Ростовского музыкального колледжа.
Окончил курсы повышения квалификации по предмету «Мировая художественная культура». Читал лекции в Высших учебных заведениях. Награждён медалью «Профессионал России». Первый поэтический сборник «Ты и я» стал лауреатом фестиваля «8-я Артиада народов России» (Москва). Солист Федерации еврейских общин России. Автор песен «Краденое счастье», «За мечтой», «Песнь моей души» и др.,
Песни из телефильмов «Местные новости», «Сердце Звезды». Автор поэтических циклов: «Иудейский», «Хроника беды», «Абрисы», «Города и страны», «Вехи любви», «Басни и притчи» звучат в исполнении популярных вокалистов.
Автор сборника новелл, более двух тысяч афоризмов и эпиграмм под общим названием «Хентики»; либретто к рок-опере «Моисей», мюзиклов «Новогодние похождения кота в сапогах» и «Дракула», Поэмы «Боль Земли» для симфонического оркестра, детского и смешанного хоров (музыка композитора Игоря Левина), исполняемой на мировых концертных площадках, под управлением выдающегося дирижёра современности Миши Каца (Франция).
Альтисты
Конкурс в том году на струнное отделение был огромный: четыре человека на место. Из каждой аудитории третьего этажа консерватории раздавались звуки скрипок и виолончелей. Миша же и Марина играли на альтах.
В альтисты из скрипачей их перевели во время учёбы в музыкальных училищах. Мишу из-за богатырского роста, Марину из-за недостаточной скрипичной беглости.
В южный развесёлый город Миша приехал с Урала, где отец дослуживал майором артиллерии. У Марины, жившей с матерью-медсестрой неподалёку от консерватории, отца не было. Мише, как ни странно, она понравилась с первого взгляда — тонкая, белокурая, со светлыми серыми глазами (раньше он обращал внимание исключительно на кареглазых, румяных пышечек). Видимо, всё дело было во взгляде: таком беззащитном, что Мише сразу захотелось взять её за руку и спасти всё равно от чего. Играла она так себе: на четвёрочку. Миша, как инструменталист, был покрепче, зато, в отличие от Марины, мало разбирался в сольфеджио, гармонии, истории и русском языке: предметам, которые сдавать перед специальностью было необходимо. Тем не менее, по мере отсева конкурентов Марина и Миша добрались до «финишной» прямой: на альт брали пять человек (естественно, об этом узнали из кулуаров), а претендентов было шесть.
А любовь они закрутили буквально на второй день. Помимо бешеной юношеской страсти, этому способствовали ночные дежурства Валентины Петровны — матери Марины, делавшей вид, что не догадывается о происходящем. Миша у Марины был первым, что, конечно же, было даже по тогдашним временам архаикой, но придавало их отношениям особое чувство. И был ещё один нюанс, поразительный и сыгравший важную роль в грядущих событиях. На одинаковую букву начинались не только их имена, но и фамилии: Мишина была Якоби (что, безусловно, сыграло роль в неудавшейся военной карьере отца, чьи сокурсники по военному училищу уже давно были полковниками и генералами), а Марины — Яковенко. Поэтому и играли они друг за другом в самом конце списка конкурсантов.
Программа Сашки из Белгорода подходила к концу, и было ясно, что он проходит, так же, как и трое ребят до него. Миша готовился к выходу. Сашка доиграл, и члены комиссии одобрительно закивали головами, о чём тут же поведала пианистка Юлька, переворачивающая ноты аккомпаниатору. План в Мишиной голове созрел моментально: он вышел на эстраду и стал откровенно лажать. Лицо доцента, решившего ещё на прослушивании взять его в свой класс, перекосила презрительная гримаса. Мишу остановили в середине крупной формы и пригласили Марину, которая ровненько, как могла, исполнила и Баха, и концерт, и пару пьес, и, естественно, была включена в список поступивших.
Когда Мишу забрали в армию, они ещё переписывались, а потом, … потом у всех бывает по-разному. Марина выскочила за Сашку, и уехала с ним куда-то (то ли в Курск, то ли в Орёл), а Миша, отслужив, поступил в мединститут, а когда закончил с отличием и его, и ординатуру, пару лет поработав в глубинке, подал с отставником-отцом документы на репатриацию в Израиль (матери уже не было).
Доктор Менахем Якоби, пятидесятилетний преуспевающий онколог, приехал давать консультации в российский провинциальный городок не по своей воле. Отношения России и Израиля были налажены, и врачи частенько ездили в служебные командировки. Что-что, а встречать гостей в России умели. Со времён короткой практики в Брянской области, Миша Якоби не принимал на грудь такое количество горячительного, но собрав волю в кулак, вошёл в женскую палату онкологической клиники с улыбкой, поздоровавшись с «до» и «после» операционными больными, начал осмотр.
На второй от окна кровати лежала женщина, лица которой он не видел, так как она спала, с головой укрывшись простынёй. Миша решил осмотреть её последней, но женщина проснулась и открыла лицо.
За последние тридцать лет Миша видел всякое и на войне, и в непростой мирной жизни, но, увидев вновь, молящие о помощи, глаза Марины, он остолбенел. Перед ним лежала измождённая, измученная болезнью женщина, но для него это не имело никакого значения. Он поцеловал её в губы, а потом в лоб, к безграничному удивлению медсестёр и коллег. Впрочем, это значения не имело тоже. Миша посмотрел историю болезни: Марина была неоперабельна и, в лучшем случае, ей оставалось жить полгода.
А потом они говорили. Каждый рассказывал о себе, о тех тридцати годах, которые они прожили друг без друга. Марина о том, что родив Катьку, для себя, почти в сорок осталась одна, так как Сашка запил, не вписавшись в перестроечную безумную жизнь, и они давно разошлись. Миша о бесконечных войнах, кассамах, смертниках, взрывавших автобусы с детьми и стариками. О своей блестящей карьере, красавице Соне и чудесных детях ему говорить было почему-то неловко.
Через неделю, решив вопрос со своим руководством и полностью профинансировав лечение, доктор Якоби спецрейсом вылетел с Мариной в Израиль. Далее Миша, практически, не жил дома, а потом, через четыре месяца, Марина ушла. Умница Соня вопросов не задавала. Почти год Миша Якоби потратил на то, чтобы удочерить Катьку, живущую у каких-то дальних родственников, и ему (спасибо Господу) это удалось.
Катька выросла, и пошла по Мишиному пути — стала доктором. А когда Мишин сын Йоська разошёлся со своей Жанной (чего не бывает) — вышла за него замуж (призналась потом, что влюбилась без памяти, лишь увидела). То, что доктор Менахем обожает своих внуков и внучек знают все. Не знают только, что среди них у него есть любимица: тонкая, белокурая Ноэми, со светлыми серыми глазами и, молящим о помощи, взглядом.
Не всё потеряно
Липкин опаздывал. Лёшка уже включил аппаратуру, настроил, но играть не начинал. Вагана не было и можно было минут десять филонить, хотя то, что новый администратор Елена Николаевна сдаст с потрохами, даже не обсуждалось.
— Опять пробка? — Ехидно спросил Лёшка.
Липкин не ответил. Ему, в который раз, было неловко.
Шли в основном на него. Поэтому, эти вечные опоздания прощал и Лёшка, и Марик, который пел прежде.
Липкин, настраивая видавшую виды скрипку, на которой играл ещё его дед, посмотрел в зал. За сдвинутыми столиками в конце зала сидела компания. По цветам, стоявшим в вазе, в центре стола, было ясно, что у кого-то день рождения. Из-за ближнего стола уже слал воздушные поцелуи симпатичный коллектив салона красоты, куда раз в месяц Липкин ходил наводить марафет.
Ходил только к Ирке.
Во-первых, она отлично стригла, а во-вторых, рано или поздно это должно было случиться.
Липкин, и Ирка прекрасно понимали это, но оттягивали момент. Так бывает. И, конечно же, как всегда, за предпоследним столом, у окна, расположился Иваныч, о котором было известно…
Впрочем, то, что было известно об Иваныче, никто не говорил вслух. Наколки на руках, Мерседес с шофёром, охранником по совместительству, объясняло многое. Тому, кто понимает, конечно.
Иваныч всегда приезжал один. Ему немедленно подавали запотевшую бутылку «Абсолюта», которую, на радость обслуживающему персоналу, он никогда не допивал, и три тарелочки: с красной икрой, душистым Бородинским хлебом и сливочным маслом. Всё это великолепие, естественно, сопровождала пара «Нарзана». Обычно он ужинал, около двух часов. Затем подходил к Липкину, незаметно вкладывал в боковой карман его жилетки стодолларовую купюру и выходил из кафе.
Липкин заиграл «Опавшие листья», с длинным проигрышем, чтобы можно было успеть поздороваться с залом. Потом Лёшка спел «Добрый вечер, господа».
Затем «Одиноким пастухом» продолжил Липкин. Вначале надо именно так. Никаких быстрых танцев.
Их пусть заказывают. Когда созреют.
Созрели к середине второго отделения.
Конечно, начали со «Дня рождения». Потом ещё, ещё.
Заказали «Старого портного». Лёшка пел с удовольствием. У него был красивый баритон, с хрипотцой, под Шуфутинского, а Липкин обыгрывал у столов.
Открылась дверь, и вошли они — четверо с бритыми черепами, в шнурованных высоких ботинках и чёрных пиджаках, на которых не хватало только, пожалуй, свастик.
Они сели за свободный столик и нарочито отстранёнными холодными глазами стали смотреть на веселящихся танцующих людей. Официант подошёл к их столу и, приняв заказ, удалился на кухню.
Минут через 20 он принес шашлык, водку, салат.
Нормально. Всё как у всех.
Предчувствие беды возникло у Липкина сразу, в тот самый момент, когда они появились в дверях.
В родном южном городе о скинхедах слышали, но видеть не приходилось. Разве что пресса постоянно муссировала слухи о наци, об их факельцугах, каких-то тренировочных лагерях. Но всё это было как бы на иной планете, а может быть, об этом просто не хотелось думать.
Ресторан гулял уже по полной программе. Лёшка пел, Ирка смотрела на Липкина влюблёнными глазами, а Липкин со скрипкой ходил между столиков и, как умел, делал вещи. Приняв очередной заказ, он подошёл к эстраде и передал Лёшке деньги, но объяснить, что нужно исполнить и для кого не успел.
Один из «бритых», видимо, главный, встал, подошёл к эстраде и начал говорить.
Слова он произносил утрированно чётко. Видимо так, как говаривал какой-нибудь штурмбанфюрер из документального фильма перед пленными красноармейцами или в Варшавском гетто.
— Вы можете работать, но пока мы здесь отдыхаем, чтоб я не слышал песен этих Розенбаумов, Высоцких с Шуфутинскими. Ясно?
Говоря это, он смотрел в глаза Липкину.
Ресторан притих. Смолк гомон за столом с цветами, где сидели несколько мужчин.
Лёшка зарядил что-то из Круга.
Кровь прилила Липкину к голове. Он не был бойцом, хотя два раза дрался из-за девчонок. Но это было давно.
Многие его друзья в прошлом занимались боксом, борьбой или карате: теми видами спорта, которыми обязан заниматься каждый уважающий себя пацан.
Липкин завидовал им, но его, согласно семейной традиции отдали в музыкалку, чтоб он стал…
Это другая история.
И понял Липкин, душой понял, понял каждой клеточкой своего тела, что если будет так, как пожелал бритый, по-фашистски, то жизни той, которая была прежде, уже не будет.
Липкин поднял скрипку и начал играть «Хава Нагила».
Лёшка умолк. Остальные трое подошли к главному, и теперь уже восемь глаз требовательно и нагло смотрели на Липкина.
— Липа! Ну, зачем тебе это? Чего ты быкуешь? — Шептал за спиной Лёшка.
А Липкин играл, хотя немного подрагивали руки.
Но они-то, бритые, этого не могли знать. Значит, всё было правильно.
На последних тактах «Хава Нагила» к «бритым» подошёл Иваныч и что-то тихо сказал, едва шевеля узкими губами.
Трое «бритых», как по команде, повернулись, и вышли из заведения. Главный оплатил счёт и убрался вслед за дружками. Цепкий взгляд водителя Мерседеса сопровождал бритых до тех пор, пока они не повернули за угол.
— Не всё потеряно, — подумал Липкин.
Потом Иваныч пригласил его за свой столик. Липкин спрятал скрипку в фигурный чёрный футляр и присоединился к Иванычу, хотя прежде никогда не подсаживался к гостям (в кафе это не приветствовалось).
Через час Иваныч уехал, а Липкин напился, как никогда в жизни. Ирка отвезла его домой. Лёшка на следующий день не вышел на работу.
Цветана Шишина, Арад

Родилась в Крыму, в Симферополе. В юности занималась в музыкальной школе, балетной студи, играла в народном театре. В результате, стала технарём. Писать начала, когда переехала на постоянное место жительства в Израиль и поселилась в городе Арад.
«Полёт гордой птицы» рассказывает об одном из героев Израиля. По её мотивам в 2009 году вышла книга на иврите. Опубликована на сайте «Проза. Ру».
В 2010 году роман «Звенящая нота „Ля“» вошёл в список лучших на сайте Современной прозы.
Публиковалась в сборниках Международного Объединения «Междуречье» (Россия, Украина, Белоруссия) и Альманахе «Строка» (г. Арад), Израиль.
Номинирована на премию Писатель года в 2014 и 2015 году на сайте «Проза.ру». Продолжаю играть в писателя с нерегулярной периодичностью. В сентябре 2016 вышла в свет новая книга «Отражённые в зеркалах» — рассказы, миниатюры, стихи.
Полёты во сне и наяву
Давно во сне я не летаю,
А так захочется порой
Пройти над бездною по краю,
Держась за шаткий мост рукой.
Вдруг ухнуть вниз, но не разбиться.
Лишь полетать, но не упасть.
Подросшим, к утру пробудиться
И потянуться телом всласть.
У взрослых жизнь совсем другая…
Со страхом двигаются к краю.
И чтобы в бездну не взглянуть
Нескользкий выбирают путь.
Им шаткий мостик — не опора,
Из камня дом, кругом заборы,
А для полётов — самолёты,
Но в жизни на полёты квоты.
Теперь во сне о том вздыхаю,
Что страшно мне скользить по краю,
Не заступив судьбы черту,
Иначе в бездну упаду.
И как же грустно думать мне,
Что не могу летать во сне.
Подросшим поутру проснуться
И просто солнцу улыбнуться.
Фарфоровая балерина
Фарфоровая балерина стоит на пальцах,
Ножкой стройной ножку бьёт.
Сейчас она закружится под звуки вальса….
Прыжок её, как бабочки полёт.
Или она исполнит сложный пируэт,
Иль арабеск под звуки кастаньет.
Красивой головы изящный поворот
И руки скруглены, как крылья белой птицы,
А за окном жизнь улицы идёт
И дней поток уже не повторится.
Беззвучно, как в немом кино
Меняются картина за картиной,
Тебе же остаётся лишь одно:
Стоять на тонкой ножке, балерина.
Не растрепался ни единый волосок.
И пачка ни качнулась и не смялась.
Забытая меж рам давным давно,
Глядит в окно, а с миром распрощалась.
И дом уже под снос, нет ни души живой,
Её не потревожат даже мухи,
Промчались годы бурною рекой
И унесли весёлых танцев звуки….
Теперь в тиши пылится Магдалина
Стоит на пальцах, ножкой ножку бьёт….
Фарфоровая балерина.
Никто уже за нею не придёт.
Мечта
(ироническое)
Как славно было бы проснуться,
Напиться утренней росы,
В рассветный воздух окунуться,
Забыв про нудные часы.
Пойти в поля. Раскинув руки
Лежать в нескошенной траве
И не испытывая муки
С любовью думать о тебе.
Открыть в себе ещё таланты:
Писать стихи и песни петь,
Надеть балетные пуанты
И, как Уланова взлететь
Красивые раскинув руки,
Как крылья лебедя в воде.
Не ощущать тоски и скуки,
А только думать о тебе.
Одетой быть, как королева
Слыть умной, милой и святой,
Как Назаретинская дева —
Ты б оставался только мой.
А ночью звёзды в небе синем…,
Ты шепчешь нежные слова…
Играю я на клавесине,
Так, что кружится голова.
Как славно вместе нам проснуться,
Напиться утренней росы,
С разбегу в речку окунуться.
Со мною рядом только ты.
Вдвоём в траве, раскинув руки
Лежать. И глядя в небеса,
Паденья капель слушать звуки
И звонких птичек голоса.
Как лень мне с этим всем возиться,
Да и мечта мне только снится.
Живи
Приснился сон, или почудилось мне это наяву?
Высокий Храм привиделся небесной красоты,
Призывно дверь распахнута, и я в неё вхожу,
Смиренно к алтарю иду, кладу цветы…
В пределе полумрак и блеск свечей,
Меня окликнул голос. Оглянулась — чей?
Мадонны светлый лик, склонённый ко Христу.
Покорной грешницей на зов её иду.
Гляжу в её печальные глаза…
И словно синие разверзлись небеса,
В волненье закружилась голова
И зазвучали ангелов слова:
— Ты слышишь голоса людей родных
Уже ушедших и ещё живых.
Их стройный хор поёт: — Живи, живи…
Сливаясь нежно в музыку любви.
А ангелы вокруг кружат, кружат
Ввысь неба будто взять меня хотят.
Их трубы песне вторят в унисон…
Становится понятно — то не сон.
Пришли они помочь моей беде,
Со мною шелест лёгких крыл везде.
И с верой и с любовью пополам,
Мадонна с ними — вечный образ мам.
Михаил Городнер, Мицпе-Рамон
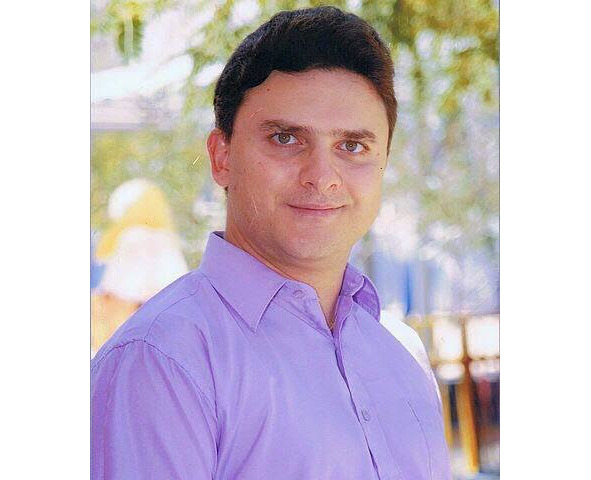
Родился 14.01.1979 года в городе Никополь Днепропетровской области (Украина, СССР). Окончил музыкальную школу по классу кларнет — фортепиано. На протяжении пяти лет профессионально занимался народными танцами.
В 1994-м году репатриировался в Израиль. Приехал по программе «НААЛЕ». Закончил двенадцати летнюю школу в Иерусалиме. Служил в войсках связи в Армии Обороны Израиля. С 1996-го проживает в Мицпе-Рамоне.
По специальности — воспитатель детского сада, где отработал несколько лет. Учится заочно в Открытом Университете Израиля на историческом факультете. Женат, отец четырёх детей. В свободное время увлекается книгами, музыкой и коллекционированием. Работает в организации «Тигбур» по уходу за престарелыми людьми.
Зима и лето
Утром сильно дует ветер,
Ярко светит солнце днём.
Нет нигде такой погоды,
Как в Израиле моём!
Утром куртку надеваю,
Майку я снимаю днём.
Нет нигде такой погоды,
Как в Израиле моём!
Утром руки холодеют,
Льётся пот ручьями днём.
Нет нигде такой погоды,
Как в Израиле моём!
Утром хочется мне солнца,
Ветерка хочу я днём.
Нет нигде такой погоды,
Как в Израиле моём!
Утром жду прихода лета,
О зиме мечтаю днём.
Нет нигде такой погоды,
Как в Израиле моём!
Моя работа
(шутка)
Встал в четыре я утра:
На работу мне пора!
Но хотелось сильно спать.
И вернулся я в кровать!
Полежал и вновь поднялся,
Очень медленно собрался.
И пошёл к «матнасу». — Там
Сел в машину в Йерухам.
Всю дорогу я дремал,
О кровати я мечтал…
Благо, есть в машине печка,
И тепло в моём сердечке!
А в пустыне холодно,
А в желудке голодно…
Но, попив немного чаю,
Я к работе приступаю.
Елизавета Городнер, Мицпе-Рамон

Елизавета Городнер родилась в 1951 году в городе Орёл (Россия). Детство прошло в городе Златоуст Челябинской области. Писать стихи и прозу начала в школьные годы в городе Никополь Днепропетровской области (Украина).
После окончания Орловского государственного педагогического института, работал завучем и преподавателем русского языка и литературы в деревне Подолянь Орловской области, куда попала по распределению.
До репатриации в Израиль работала в Никопольской централизованной библиотечной системе.
Печаталась в журнале «Библиотекарь», в газете «Никопольская правда» и в газете «Эхо ветеранов юга» (Израиль).
Проживает в городе Мицпе-Рамон (Израиль).
Папе
Я — дитя Любви и Света.
Я — Победы торжество.
Я — дитя Елизавета.
Дитя сердца твоего!
Поэтесса.
Поэтесса! Слово — то, какое!
Словно музыка в ночной тиши…
Сочиню я что-нибудь такое,
Чтоб коснулось струн твоей души.
Родной язык
Иврит — «сафа каша меод.» —
Твердили мне вокруг.
А я поверила в него,
Что будет он мне друг.
Тружусь над ним я каждый день,
И мне учить его не лень.
Я прочитала много книг
И поняла: «Иврит велик!»
Но, чтобы знать родной язык
И на иврите говорить,
Старайся, чтобы ты привык
На нём и мыслить, и творить.
Святая Тора нам дана.
Завещана навечно Богом.
Для нас написана она
Высоким и прекрасным слогом.
Иврит! Ты яркий свет в пути
И дорог мне, поверь.
Так помоги вперёд идти,
Открой мне к счастью дверь!
Посвящение пенсионерам гор. Мицпе-Рамон
На земле Израильской,
В Негеве, в пустыне,
Городок есть маленький,
Процветает ныне.
Удивительный народ
В нашем городке живет:
Поэты и хористы,
Душою все артисты!
Раскрытые таланты —
Певцы и музыканты!
Мы забываем годы,
Тревоги и невзгоды…
Здесь подарки, поздравленья
Преподносят в Дни рождения.
У всех улыбки на устах,
И радость светится в глазах!
Песни, танцы, юморины,
Анекдоты, викторины.
Приходите все в «Матнас».
Эти вечера для Вас!
Мечты матери
Я сына родила не для войны.
Не для войны я жизнь ему давала,
А чтоб, звучанье мирной тишины
Его повсюду в жизни окружало.
Мечтала, чтобы счастливым сын мой рос,
Чтоб не узнал он в жизни боль и горе,
Чтоб не лились из глаз потоки слёз,
Чтоб без штормов он видел наше море
Хотела, чтобы в небе был покой,
И суша не горела б под ногами…
Мечта моя — чтоб сын мой был живой,
И радость доставлял он своей маме.
Но видим мы, что льется в стране кровь…
В Израиле вновь стало не спокойно…
Друзья! Пусть победят Добро, Любовь,
Чтоб навсегда остановились войны!
Чтоб не было на свете больше вдов,
Сиротами не становились дети,
Так отдадим свой голос за — Любовь,
За прочный мир на маленькой планете!
Ханукальное чудо
Чудо с маслом случилось:
Восемь дней свет горел!
Все в Израиле знают:
Так Всевышний велел!
А ведь было в кувшине
Всего масла на день…
Но свершилось чудо:
Восемь дней свет горел!
Этот свет ханукальный
Видим все мы сейчас.
Этот праздник прекрасный
Всегда радует нас!
Пурим
Праздник радостный еврейский
Отмечаем мы в Пурим.
И к Эстер, народ наш спасшей,
Сердцем все благоволим.
День в посте мы пребываем
В знак победы над врагом.
«Мегилат Эстер» читаем,
Памятуя о былом.
«Нет Аманам и злодеям!» —
Твердо все мы говорим
И Всевышнего за праздник,
От души благодарим!
Тоска
Вспоминаю детство над рекою
Жива мама, папа — вся семья.
Мысль одна мне не даёт покоя,
С ними больше не увижусь я.
Александра Панарина, Беэр-Шева
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.