
Алексей
БОЛОТНИКОВ
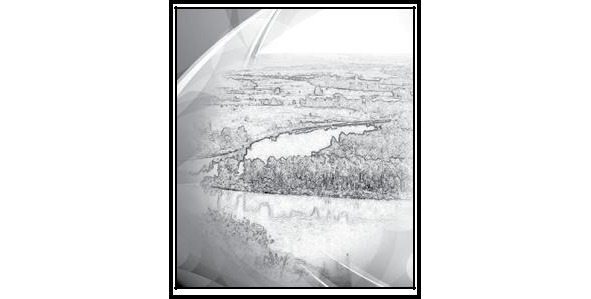
ПОЭТЫ МЕСТНЫЕ — МЕССИИ…
Другу, поэту
Одна тысяча девятьсот семьдесят первый… или второй… Не помнишь, Леша?..
Ясным осенним днем, когда земля устлана золотом листьев, свидетельствующим о завершении очередного природного цикла (не от этого ли ощущения исполненности предназначения: именно осенью к нам нисходит Муза?), ты объявился в редакции многотиражки Иркутского политеха. Высокий, худощавый, пижонистый… В костюмчике, ладно сидящем, с уверенным взглядом, с солидным портфелем — такого трудно не заметить (и ты это знал). Но главное, что заставляло задержать взгляд дольше обычного, — это твоя улыбка. Улыбка знающего себе цену баловня, уж если не судьбы, то женщин… Во всяком случае, я так ее тогда расшифровал. И в нашу компанию одержимых словотворчеством ты вошел легко, естественно, с пониманием наших споров, но не спускаясь до панибратства.
Кроме тех студенческих лет наши жизненные пространственные орбиты больше не пересекались. Но те годы, когда мы оба в студенческих аудиториях постигали науку поиска полезных ископаемых, ты — рудных, я — нефтяных, а в редакционной комнатушке учились чувствовать магию Слова, накрепко остались в памяти. Тогда мы завидовали тем, кому выпало прожить бурные годы конца девятнадцатого и начала века двадцатого, тайно и явно тоскуя по пестрому миру литературных кружков, с упоением произнося загадочно-манящее: «футуристы», «декаденты», «имажинисты», «акмеисты», «Серапионовы братья»… И нам казалось, что именно, да нет, не именно, а только в таких кружках, в такой обстановке, где неистово терлись, искрили разрядами, дурманили головы словооткрытия, словотворения, и можно стать настоящим писателем… И родился наш тайный для остальных (впрочем, о котором — по секрету всему свету — рассказывать не возбранялось), а спустя время признанный властью опасным для окружающих «Хвост Пегаса». Почему «Хвост»?.. Не забыл?.. После золотой русской прозы девятнадцатого и серебряной поэзии начала двадцатого века все сидалищные места на этом скакуне были уже заняты… Мы надеялись, что зацепиться за хвост до нас никто не догадался…
Кто из нас остался верен Слову спустя десятилетия?..
…Я так и не вышел в свое «поле», с дипломом горного инженера, специалиста по бурению нефтяных скважин, пришел в газету. А после службы в разных газетах Сибири и Северного Кавказа, после перестройки и по пришествии нового строя — свое дело, свои газеты, журналы, книги…
Ты отдал геологии, поиску богатств, зримых и приносящих нынче барыши не столько умным и честным, сколько ловким и хитрым, двадцать лет. Пока не грянула перестройка. И еще четыре года посвятил радиожурналистике. Оттуда у тебя мастерство декламации, и там начало твоего театра поэзии, который радует друзей и почитателей в интернете. И вот весь двадцать первый век ты живешь в своем родном сибирском селе, находя в нем пищу для творчества, отважившись даже выпускать деревенский альманах… Ты пришел вновь к Слову.
Или не уходил от него…
Кто еще?..
Валера Дмитриевский… Он умудрился совместить и восторженную любовь к геологии, и интимную связь со Словом. Сколько месторождений открыл — не знаю, а вот два (или уже больше?) поэтических сборника издал в Иркутске. Есть просто замечательные стихи.
Баяр? Да, несомненно… Баяр Жигмытов все годы уверенно шел по избранной тропе. Правда, она не была прямой, как полет стрелы. Впрочем, и у нас с тобой изгибов не меньше. Но Баяр был участником многих региональных совещаний молодых писателей, восьмого (последнего) Всесоюзного в 1984 году в Москве (нежданно-негаданно мы там встретились) и первым вступил в профессиональный Союз писателей. А потом, уже в новой России, и большим чиновником побыл, и кандидатскую диссертацию защитил, и секретарем Союза писателей стал…
Лунноликий!
В улыбке подобный луне, улыбаешься
и безмолвно взгляд опускаешь
в беспредельной любви к аргамаку.
Милый друг мой!
Тоскует седло по тебе,
Убивается-бьется птица в окне.
Наклоняется мама головою к полыни и маку.
Рыжий конь по Боргою летит, как стрела,
Сквозь отар вечеряющих шепоты…
Ты уехал, Баяр, поклониться спеша.
Прислониться щекой дорогому улусу.
Ты уехал.
Твой скорый, спешащий в Пекин,
Перекинулся за горизонт.
Ты ушел.
Но осталось вино на столе.
Мы остались при нем
околачивать груши
самых спелых времен.
Когда ты написал это стихотворение? Что послужило поводом?..
Впрочем, не это главное. Главное, что оно не подвластно времени. И в нем — молодой бурятский поэт, поражающий нас своей древней и мудрой философией, позволяющей быть со временем на «ты»… И улыбкой мудреца, знавшего нечто нам неведомое…
Из тех наших студенческих, «ХП» -посиделок нет-нет да и звучали в моей памяти накрепко врезавшиеся строки:
Натали, Натали-мой свет…
Лучшей женщине — право бала.
И кружится и кружит свет,
и кружится и кружит зала…
Это стихотворение, может быть, самое слабое в этом сборнике. Но в нем есть наша юность…
Порой задумываюсь (да и ты, я уверен, тоже), хорошо или плохо, что нам довелось жить в эпоху перемен. «Не дай вам Бог..» — утверждают древние. С одной стороны, действительно сломалась расписанная наперед жизнь, ненужным оказался прежний багаж знаний, опыт, заслуги… С другой — какая отменная встряска, вырвавшая из застойного, удушающего…
Многое не принимая из сегодняшнего бытия, я не сомневаюсь, что в той старой стране жилось бы мне менее интересно. Хотя одну из книг повествования «Провинциалы», книгу о девяностых годах прошлого века, я назвал «Неестественный отбор», понимая всю несправедливость свершившегося, когда во власти и при ней оказались не те, кто жил по Божьим заповедям, а хитрые и корыстолюбивые, не сильные духом, а дельцы с душевной червоточиной.
Каждому поколению выпадает свой урок, свое испытание. Так уж устроен мир. Дедам нашим таким испытанием стали революционные годы начала двадцатого века и искушение неверием. Отцам — мировая война и победа над фашизмом. Ну а нам, родившимся после войны, выпало испытание переменами и противостояние духовному распаду.
В одна тысяча девятьсот девяносто пятом году неожиданно получил от тебя письмо. Ты писал тогда: «Сижу без зарплаты, чего-то жду. Нас много таких, непредприимчивых, безденежных и инертных. Ни шатко ни валко колыхаются верблюды лет: не кончается российская пустыня. Вздрогну, как Вий, подниму иногда веки — жизнь бушует. И закрою веки. Стихи — моя отдушина».
И было в письме несколько стихотворений. Вот одно из них.
Куда пойти,
куда податься…
в эпоху смутных перемен?..
Задумываюсь принцем Датским,
я — бич. И бывший джентльмен,
уволенный по воле рока,
без рук, без ног, без головы;
одно достоинство — морока
писать стихи.
Да не новы не в конъюнктуре
способности судить отлично от других.
Судить де-юре,
Когда де-факто нет наличных.
Авось податься в петухи?..
Попробовать сойти с ума
и бред свой выплавить в стихи,
как лом цветной —
в колокола?..
И зазвенеть, закукарекать
за право вышвырнутых в мир —
бесплатно, льготно, как калеки —
ходить в общественный сортир?..
А может… может все-таки
Трудоустроиться законно
в дежурные снеговики?!..
И морковь грызть до заговенья?..
А может быть отдаться чувству,
как вспыльчивые господа —
служить великому искусству:
быть простофилей хоть куда?
Куда пойти?
Куда податься?
Я не был рядом, оттого не знаю, как и когда ты переживал творческие подъемы и спады. Мы не делились этим и позже, уже общаясь в Сети.
Я вижу то, что уже вызрело, родилось, явилось свету. И то, что вижу, пропускаю через себя, свою душу. И не стану скрывать: нравятся мне твои стихи… И, как положено, в том, что нравится, изъяны если и видишь, прощаешь…
Я открыл для себя нового, незнакомого мне поэта.
Поэта, поразительным образом вобравшего в себя философию большого и малого, духовного и материального миров…
Но это уже вывод, а к нему следует прийти…
Я догадываюсь, что ты не ценишь провинциальную скромность.
Но и не стыдишься провинциальности.
И в этом сборнике, может быть, в твоем главном труде, ты сделал самые важные свои открытия.
Поэт на площадь выходить обязан,
Как президент с торжественным указом,
Скупым и чрезвычайным, как молва.
А площадь… площадь — это ухо с глазом! —
Обязана запоминать слова.
Поэт обязан в общества являться
В мирском иль камер-юнкерском мундире…
Каких бы чувств поэты ни будили,
А общества — обязаны считаться!..
С поэтом — да! Признав его поэтом.
И возлюбив. И расстреляв при этом.
И выслав вон, как образа Казанской…
Поэт обязан… быть. А не казаться.
У членов литературных кружков, с которых мы пытались писать свой, были манифесты. Мы в «ХП» максималистки признавали только «да» или «в урну». Хотя, насколько помню, о манифесте ты что-то тогда говорил…
Это стихотворение — твой манифест.
И манифест тех, кто не соблазнился гламурной мишурой, не бросился подражать, словоблудить, вымаливая известность и деньги. Это манифест тех, кто пришел сказать свое Слово, потому что не может не сказать.
А какое же это твое Слово, провинциальный поэт, знаемый лишь малому кругу друзей и знакомых?
Что сеешь ты, носитель этого звания, заведомо ставящего тебя и подобных тебе в социальной табеле ниже шумных краснобаев, выпендрежных именитых графоманов, придворных льстецов?
У них — звания и награды, тиражи и деньги, слава Калифа…
А у тебя Слово — Мир, который неизмеримо больше, чем у многих из тех, кто самозванно при-числяет себя к Поэтам.
Разве у них есть Твой Мир?
О, динлин из Динлин-го,
пращур выжженных язычеств,
ты один из сотен тысяч вас,
не знающих богов, распростерт передо мною…
Твой Мир — это самый большой материк, который ты вот так запросто взял и присвоил, не спрашивая ни у кого разрешения. (Разве что у Бога.) И этот Мир ты прочувствовал, постиг и чудеснейшим образом сумел (нисколько не затмив, а просто кристаллизовав), сжать, (не рас-теряв при этом его ширь, запахи, цвета, звуки) до малого по физическим размерам и необъятного по душевным…
И неподражаемо беззаботно стал жонглировать многомерностью пространств невидимых далеких и видимых малых. Пространств и времен. Воображаемых и ощущаемых. Тех, что не потрогаешь, и тех, что поднимаются пылью из-под твоих ног…
..
Прослезился над картиной: дорогая пастораль —
Речка Тесь с болотной тиной.
Впрочем, речка-то — едва ль.
Заболоченное русло,
потеряв державный вид,
Уж не властно,
как ни грустно,
мою память оживить…
Помню: давешние люди брали летний перекат,
замочив не только муди,
но и груди (у девчат).
Говорят, водились щуки.
Ну, а снизку пескаря —
на жареху! — лишь со скуки
не ловила ребятня.
И куда ж, куда уплыли перекаты, пескари?..
Тебя, речка, заловили…
Да не люди… Технари.
Вот ты обрисовал пространство-время, при-надлежащее только тебе, сидящее, как некогда костюмчик, впору, отчего воспринимается единым целым с тобой. С ним ты связан пуповиной земной жизни. И осознаешь это. И даже гордишься этим, нисколько не завидуя тем, у кого это пространство неизмеримо больше и краше.
А теперь пора и обозначиться для тех, кто еще не совсем заблудился в виртуальном мире и способен ощущать физический, воспринимаемый не одним или двумя — всеми чувствами этот земной мир.
И как же тут без твоей загадочной улыбки человека, знающего о себе неизмеримо больше, чем другие, даже самые прозорливые…
Зализан вихорь. Бритое лицо.
Глаза по плошке.
Под поддельный палех.
А что еще?
Ну, может быть, еще
Душа в опале…
Ты ведь чувствуешь, не хватает корней…
Нам, родившимся и выросшим в советской империи, отрубившей и выкорчевавшей семнадцатым годом все, что было прежде (в девяностые годы это пытались повторить, слава богу, не получилось), их не хватало всю жизнь. Оттого, когда этот запрет исчез, появилась мода на породистых животных и на родословную. В которой непременно должен быть не абы кто…
А ведь, в конечном итоге, все мы мужички… (Да, и конечно… прекрасная наша половина… Но это отдельная тема.)
Герой мой, слава богу, не пророк.
Он, слава богу, друг мой закадычный…
Ты определился с пространством, с временными координатами, с собственным местоположением — можно приглашать друзей заполнить этот мир… И ты по-русски (или по-азиатски?) делаешь это щедро. Радуясь их разности, непохожести. Иногда подшучивая над ними, но чаще через них посмеиваясь над собой и восторгаясь тем чудесным, что разглядел в них. Ты не скупишься на похвалу им, ибо понимаешь, что именно они (как Азия и Тесь) сделали и делают тебя. Тебя и твои стихи…
Я гостюю у Бедненков,
фифти-фифти — ром и баня,
У плиты колдуют девки:
Валя, Рая и Любаня.
Из трубы струится облак,
Из стаканов лезет пена,
в анекдотах соль, как в воблах,
проступает откровенно.
Ах, Бедненки не бедненьки,
пес и кот живут на сене.
У Бедненков пахнут деньги
в феврале и в воскресенье…
Но когда остаешься один на один, когда душа хочет развернуться (какая точность, она действительно сжимается от суетного и разворачивается, становится безмерной, как Вселенная, когда вы-рывается из земной тленной тщеты!) очиститься, ощутить себя, ты припадаешь к вечному…
…А не кажется ли тебе, что этот сборник ни много ни мало охватывает самые главные грани человеческой жизни. Твоей жизни — определенно. Но не только твоей. В этом и секрет настоящей поэзии — через личное передать общее. В этом и таинство Поэта — выразить себя через других и других через себя…
Нет, конечно, ты не писал по намеченному плану, не выстраивал сочиненное вот в эту формулу бытия, в которой есть большая и малая родина, собственное «я», те, кто вокруг тебя, и те, кто был до тебя, и эта формула связывает тебя с вечным…
Но она получилась. Она проявилась, как и должно быть, без ведома поэта…
Но ты догадываешься или уже знаешь об этом, поэтому и завершаешь…
Поэты местные — мессии
По местожительству души.
Они как шприц с анестезией…
Как всхлип над пропастью во ржи…
Поэты местные — простые Переживатели эпох.
Дай Бог, чтоб чувства не остыли!
Не исписались бы, дай Бог!
…
Виктор Кустов, советский, российский писатель, издатель. г. Ставрополь
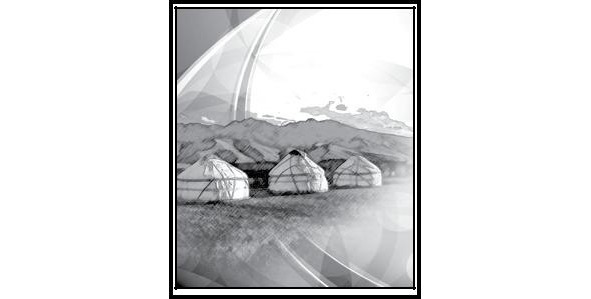
Поэт на площадь выходить обязан,
Как президент с торжественным указом,
Скупым и чрезвычайным, как молва.
А площадь… площадь — это ухо с глазом! —
Обязана запоминать слова.
Поэт обязан в общества являться
В мирском иль камер-юнкерском мундире…
Каких бы чувств поэты ни будили,
А общества — обязаны считаться!..
С поэтом — да! Признав его поэтом.
И возлюбив. И расстреляв при этом.
И выслав вон, как образа Казанской…
Поэт обязан… быть. А не казаться.
ТЫ — АЗИЯ
Ты — Азия,
Не перекати-поле,
Не трын-трава,
А золотой ковыль.
Скажи, скажи,
Какое душит горе?
Какая мука доставляет боль?
Ты — Азия,
И горы, и межгорье,
Степная дорогая наша мать,
Окаменело в молчаливом споре
Глядишь на краснокаменную рать.
Ты — Азия,
Кричишь нам непогодой,
Веселым ветром хочешь нас обнять…
Скажи, скажи, Какую твою гордость
Должны мы сердцем и умом понять?
Буряту Баяру Жигмытову, поэту
…Рыжий конь по Боргою летит,
хватая ноздрями ароматы костра из аргала.
Б. Жигмытов
Лунноликий!
В улыбке подобный луне,
Улыбаешься и безмолвно взгляд опускаешь
В беспредельной любви к аргамаку.
Милый друг мой!
Тоскует седло по тебе,
Убивается-бьется птица в окне.
Наклоняется мама головою к полыни и маку.
Рыжий конь по Боргою летит, как стрела,
Сквозь отар вечеряющих шепоты…
Ты уехал, Баяр, поклониться спеша,
прислониться щекой дорогому улусу.
Ты уехал.
Твой скорый, спешащий в Пекин,
Перекинулся за горизонт.
Ты ушел.
Но осталось вино на столе.
Мы остались при нем
околачивать груши
самых спелых времен.
Стенания на кургане
О, динлин из Динлин-го,
Пращур выжженных язычеств,
Ты один из сотен тысяч вас,
Не знающих богов,
Распростерт передо мною.
И возлег среди рогов
(Так предписывал обычай)
Здесь, ввиду останков дичи,
Ритуальных, верно бычьих?..
Может быть, иных обличий…
Слег с трофеями врагов
Средь кувшинов керамичных,
При оружьях и с тамгою.
(Но не воин…
Где же доблесть?
Перебита шеи область
Иль оглоблей, иль дугою…)
И — любовно и с почетом,
И с признанием отличий.
О, динлин… один… кругом.
Небо бледно-голубое
Распростерто над тобою
Поминальным пологом
И лазурною дугою…
Что ты там, в зените, ищешь?
В прах и пепел сокрушен
Сокрушенной степи пращур,
Згу из черепа тараща,
Важен ты или смешон,
Если мыслишь ты — о чем?
Иль о вечном?..
Иль о пище?..
О, динлин из Динлин-го,
Пращур выжженных язычеств,
Ты один из сотен тысяч вас,
Не знающих богов,
Распростерт передо мною…
Средь курганов — мой каков?
***
Степь…
Стелется ковыль…
Поклон глубок…
И судорогой ссучившихся сук
Клубится змей спарившихся клубок.
И суслик, встав, улавливает звук.
Выпь хочет выпить —
с ночи до утра —
Как будто ее, сонную,
сосут.
И путник в шкуре зябнет у костра
и держит рог архара, как сосуд.
Степь…
Вызверилась Азия моя!
Куда ни кинь — везде её глаза.
Везде и стать, и гнев, и зов зверья…
Чисты лишь — беспристрастны! —
небеса.
***
Не забытый Богом уголок,
солнцем прокаленный, ветром гнутый….
Степь и бор! Вполне возможно, Бог
здесь любовь испытывал…
В минуты сотворенья рек и островов
как он холил перекатов пенье!
Как библейский раб его Иов,
может быть, испытывал терпенье,
населяя райские места
нашим прапрапрадедом и …бабой
в в шалашах с ракитова куста,
под дуплистополою корягой.
Наблюдая размноженья пыл,
Ликовал Господь: «Ого, отава!»,
Насаждал осоку и ковыль,
ягодник и хмель, смеясь лукаво.
По утрам туманил острова
томной грустью девы волоокой.
И питалась росами трава,
и дурила за речной протокой…
Был еще, вполне возможно, Бог
эклектичен несколько мгновений,
когда куст калины, сделав вдох,
запалил, как фокусник и гений…
Оградил селение горой,
окружил болотом и забокой.
И — озвучил, как пчелиный рой.
И насытил — патокой и током.
Стоп! Вот здесь я не могу понять,
что творец содеял с атмосферой…
Утром небо хочется обнять!
На ночь в стог переселиться
с верой, что изо дня в день, из века в век
никакой не будет перемены!
А я есть и буду — человек
на своей земле и во Вселенной!
Стоп… стоп… стоп! Конечно, перебор.
Передозировка хвойной хмари.
Точит глаз сентиментальный сор.
Лезут в душу солнечные твари.
***
Империя накренилась к закату.
В азарт вошли её гробовщики.
Как гул камней и вод по перекату,
Молва и эхо сорвались с цепи.
Неистовствует смерть ужасным всплеском,
Как жуткий бред, неистовствует жизнь…
И снова бродит волчьим перелеском,
Плодится по империи «аизм».
Марксизм… нацизм… слепой джихад ислама,
Объединясь с коррупцией системной,
Как воющая бомба окаянная,
Как волчий вой — заходятся на жизнь…
Империя в закате беззащитна.
Так сука беззащитна от тоски.
Так нация — в среде утрат людских —
Стенает. Распадаясь на куски.
***
Что блазнится в панораме?
Тесь. Селенье в пойме рек,
в заветерье, под горами…
Гвоздь пейзажа — человек!
Лесостепь и степь с полынью.
Хвойный бор с бурундуком.
Поле гречки — белым клином.
Эхо — ухо с языком.
Плесы, заводи, песочек,
прокаленный добела.
Оп!.. Обрыв. А там — мысочек.
Тина. Омут. Вурдалак.
Рыбачок настороженный!
Безмятежная вода…
И мотив земли мажорный,
страстно названный — страда!
Страдовало наше племя —
от мала до велика —
на покосе, где беремя
собирало в волока.
Волока — на волокуши,
да в копешки, да в стога.
Ах, покосы!.. Это кущи
деревенского мирка.
Сквозь века неторопливо
по лугам бредут стада.
Песнь молочного разлива
до-мажор берет с ведра.
Ботала (чу! — ксилофоны)
в хор полуденных цикад
вносят умиротворенный,
равнодушный, мерный лад.
И бредут стада лениво,
и мычат на облака.
Затуманивает нивы
пар парного молока.
Вечереет. Свет заката
багровеет над селом.
Это было все когда-то
в мире, отданном на слом.
***
Тесь — это речка Тесинка любимая.
Бирюзовое русло, куда мы сигали
в пополуденный зной, как ельцы и налимы.
Перекаты лизали следы за ногами.
…Это плесы песчаные, пляжи валунные,
над которыми чайки крикливо кружали,
на которых девчонки, совсем еще юные,
нас, совсем еще юных, за руки держали…
Тесь — это кузня, конюшня, курятник…
И четыре бригады, а пятая — кладбище!
Это церковь. Увы, как униженный ратник,
как расхристанный раб — без иконы и крыши.
Это Ленин. Товарищ, разрушивший церковь,
соборность, духовность, державность и веру,
стоящий в акациях, брошенный в сквере,
и в славе, и в чести, и в силе померкнув.
Тесь — это клуб обветшалый, но имени
позабытого в Летах героя …Савицкого.
(По старинным архивам советские пимены
сохранили в анналах следы летописные.)
…Это клуб, кинозал и пристройка из бруса,
биллиард и спортзал, и для танцев фойе…
Отодвинулось время! Дюже дальше Убруса.
А душа о былом, об ушедшем поет.
Тесь — это улицы и переулочки.
Та — Гробовозная, та — Теребиловка…
Здесь мы жили-дружили… Валечки… Шурочки…
У кого — перекресток, у кого и развилка.
Тесь — это люди. Родные тесинцы!
Это Бальде, Байковы, Филатовы, Юшковы…
Это Зайцевы, братья и сестры красивые,
Нестеренко, Натыры, Мужайло и Пташкины.
Коренные — Осколковы, Бяковы, Юдины,
Горьковские Акуловы, чьи-то Курбатовы,
Это Савины — братья, и братья Прокудины…
В достославные годы, в шестидесятые…
***
Прослезился над картиной: дорогая пастораль —
речка Тесь с болотной тиной.
Впрочем, речка-то — едва ль.
Заболоченное русло, потеряв державный вид,
уж не властно, как ни грустно, мою память оживить.
Помню: давешние люди брали летний перекат,
замочив не только муди, но и груди (у девчат).
Говорят, водились щуки.
Ну, а снизку пескаря — на жареху! —
лишь со скуки не ловила ребятня.
И куда ж, куда уплыли перекаты, пескари?..
Тебя, речка, заловили… Да не люди… Технари.
***
— Ты, Ленька? Ты, правда, вернулся?
И снова сюда — насовсем?
Сорвался с таежного курса?
С маршрута сошел, Алексей?
«Наверно… возможно… посмотрим…» —
я им отвечал невпопад.
И рад был тому, что усмотрен,
и узнан, и принят назад.
Какое счастливое чувство:
открыть интерес земляков
к себе, не к персоне искусства,
не к автору беглых стихов,
к себе, деревенскому Леньке,
из прежних односельчан,
уехавших в город давненько
учиться конкретным вещам…
Вернулся не рваным, не пьяным,
не конченным вечной нуждой.
Возможно, немножечко странным