
- Все
- Экономика и бизнес
- Промышленность
- СМИ и индустрия развлечений
- Издательская деятельность и журналистика
Бесплатный фрагмент - Письма времени
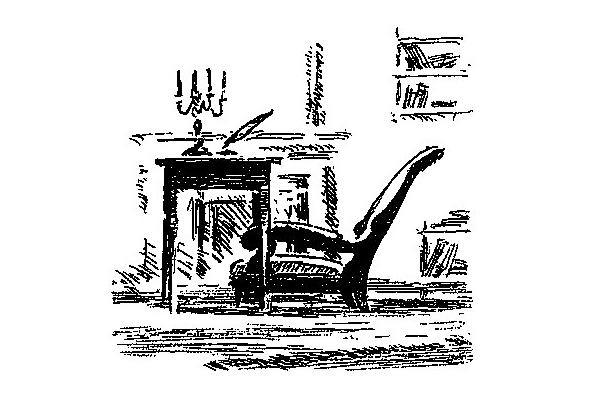
Рукопись эта была закончена мною более двадцати лет назад — в 1985 году. Насчитывала она около тысячи с половиной машинописных страниц мелким шрифтом. Основой ее послужил архив известного литературоведа пушкиниста, доктора филологических наук, профессора Бориса Павловича Городецкого. Б.П. ушел из жизни в июне 1974 года, как раз в то время, когда я молодым солдатом маршировал по плацу Сертоловской учебки. Уже будучи студентом физмата, я стал разбирать его личный архив. Письма, дневники, документы, относящиеся к разным людям разных поколений, начиная с конца девятнадцатого века и кончая семидесятыми годами двадцатого, были бережно сохранены и рассортированы. Это и понятно: он был не только ученым, но и архивистом. Вот строки из воспоминаний директора Архива Академии наук СССР Георгия Алексеевича Князева (Д. Гранин «Блокадная книга»):
«1 июля 1941 г. Десятый день войны. «…пришел зав. Архивом ИРЛИ (Зав Архивом Б. П.Городецкий). Долго совещались по вопросу о надлежащем сохранении здесь, в Ленинграде, ценных материалов — рукописей Пушкина, Ломоносова, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, Толстого и др. На Городецком лица нет. «Какую мы с вами несем ответственность… и т.д.».
О человеке всегда можно судить по отношению к нему людей. Личность Б. П. отражена в письмах к нему. Мне потребовалось несколько лет, чтобы просто разобрать эти документы эпохи, старые афиши, письма, чьи-то неопубликованные повести, рассказы, стихи, дневники… Среди многих документов — книги из его огромной библиотеки, с дарственными надписями, иногда с карандашными пометками на полях. Одна из них — случайно попавшаяся мне книга «Литературные манифесты» двадцатых годов с пометками, как мне показалось, сделанными рукой Б. П. Я вспомнил, что на одной из встреч в нашей ленинградской квартире в день его памяти, когда собирались члены семьи, друзья, те, кто помнил и знал его, литературоведы, писатели, его ученики и аспиранты, кто-то из них заметил, что Б.П. сказал однажды, что он хотел бы быстро пройти Пушкина (на котором задержался всю жизнь) и заняться символистами. Пометки, сделанные в этой книге, как мне показалось, соответствуют и его собственному мироощущению.
«Чем несоизмеримее для ума, непостижимее данное произведение, тем оно прекраснее». «Произведение должно быть символично. Что такое символ? В поэзии то, что не сказано, мерцает сквозь красоту символа, действует сильнее на сердце, чем то, что выражено словами. Символизм — весь в свете разума, в его широком и ясном спокойствии. Символизм не рождался, а поэтому не может умереть. Он был всегда. Он был в раннем искусстве, в душе художника — только слишком глубоко, но душа человека выросла. Сознание стало ярче. Лучи длиннее, и вот мы увидели горизонты, которые были всегда, но которых глаза наши сквозь тьму и сон не умели различить…»
В первый блокадный год Б.П., находясь в осажденном Ленинграде, фактически руководит ИРЛИ. Едва оставшись в живых после тяжелейшей дистрофии (зима 1941—1942 гг.), он все же находит в себе силы (что помогло ему выжить в то время, какие силы и откуда они берутся?) и, немножко оправившись от болезни, продолжает административную и научную работу. В 1942 году (одним из последних) эвакуируется с оставшейся частью института. В Перми воссоединяется с семьей — женой и дочерьми, выехавшими ранее с Литфондом (Блокадные письма — Философия выживания. Об этом отдельная глава). Во время этого периода эвакуации он становится деканом Пермского университета, преподает, читает лекции. Вот несколько строк из письма к нему: «…боюсь, что Вам трудно будет вспомнить меня, так велика армия людей, имевших счастье быть Вашими студентами. Я — Ваша пермская студентка периода войны Марина Ковалева. Но скорей всего Вы меня помните по несчастной привычке открыто курить, я в университете была такая одна». И дальше: «В феврале 1969 года мы собираемся открыть школьный музей А.С.Пушкина. Мне кажется, что в нем просто не может не быть Вашей книги о Пушкине с дарственной надписью…» «…Ваша книга, так тепло подписанная, принесла мне столько радости! Спасибо Вам, дорогой Борис Павлович, за добрую память, душевную щедрость, а судьбе — за то, что она подарила нам такого учителя. До сих пор, как будто вчера это было, помню Ваше лицо, осанку, кашне, запах табака, жесты. А о том, что Вы говорили, читали, переливали в нас, и вспоминать не нужно: это живет в самой сути нашей. Одна из преподавателей университета когда-то сказала о пребывании в Перми, как он чудесном изгнании. Если оно кажется таким нашим любимым наставникам, то можете верить, что мы — ученики, достигшие солидного возраста, вполне понимаем, что от Перми получили…»
Переписка же с Таней Годневой, тоже пермской студенткой, затянулась на много лет. Умный, сверхчувствительный человек, оказавшийся волею судьбы в сталинской России. Возможно, трагическая судьба Тани была бы иной, родись она в другой стране, в другое время. Возможно, она бы писала книги, жила бы своей особенной жизнью и была бы относительно счастливой… Но мы не выбираем время и место рождения. В системе, где абсолютная цензура была не только на то, что ты пишешь и говоришь, но и на то, что ты думаешь, советские психиатры находят у Тани шизофрению (диагноз, знакомый очень многим советским гражданам). Вот несколько строк из ее писем к Б.П.: «Сегодня совсем другой день. Живу потихоньку, как положено — с заткнутой глоткой и тавром неполноценности. Поклоняюсь великому тезису — всякое неподчинение автоматически считать невменяемостью (голубая, универсальная мечта всякой машины подавления)…»
Но, как натура тонкая, творческая, глубоко ранимая, она все же не может не писать, не может оставить вещи, по ее же словам, «в бессловесном рабстве». Она пишет «в стол», чтобы потом «уничтожить, когда затею приборку». После войны она, возможно, неожиданно для самой себя, начинает писать Б.П. в Ленинград, куда он возвратился после эвакуации. Первое письмо датировано 1946 годом. В одном из писем она пишет: «Очень боюсь, что останусь одна в этом пустом оледеневшем мире. Вы — единственное, что связывает меня с хорошим. Быть может, ум и слово — это …самозащита и прямая противоположность кулачному творчеству, которое тоже является своеобразным правом судить самого себя. Я очень люблю Вас. Вы это помните».
В последнем письме к Б.П., датированном сентябрем 1973 года, она пишет: «Ну что ж, пора кланяться. Не хочу Вас особенно затруднять. Живите. Черкните, когда придет такое настроение. Благодарю за соучастие. Все готово».
Впоследствии я узнал, что Таня умерла в конце апреля 1974 года. Борис Павлович ушел из жизни в начале июня 1974 года.
Несколько слов в этой книге и от лица жены Б.П., Антонины Николаевны Мугго-Городецкой, в молодости — актрисы, смолянки (Смольный Институт Благородных девиц), верного друга Б.П., которому она была верна до конца жизни. Ее дневники — записки молодой девушки, оказавшейся в революционной России в Петербурге в начале века. Вот строки из письма ее подруги детства: «…мне сейчас вспоминаются горы хлеба в нашей темной комнате, дежурные, которые раздавали этот хлеб патрулям и красноармейцам ночью. Вспоминается, как мы бежали к Зимнему, и матросы прогнали нас… …каждый октябрь я вспоминаю нашу жизнь в Петрограде, и Вас, такую тоненькую, восторженную девочку, каждый раз что-то интересное рассказывали Вы, и все вместе мы без конца чему-то смеялись или улыбались. Улыбнитесь и сейчас, читая мои строки и вспоминая нашу молодость и наших друзей и подруг того далекого прошлого…»
Письма, документы периода 1938—45 годов. Реализм этих писем ярко отражает действительное положение вещей в то время, чувства людей, их способность и неспособность выжить и победить не только над врагом, но и над самим собой.
Я не литератор. В свое время мне казалось, что с помощью математики и физики, а не литературы, которая окружала меня всю жизнь, мне удастся понять смысл сущего. Однако, есть то, что нельзя оставить в «бессловесном рабстве».
Я составлял эту книгу, руководствуясь больше моим сердцем, чем умом. Здесь все документально, люди реальны, чувства истинны. В сущности, это исповедь тех людей, кто волею судеб оказались в разных временах и разных местах, но связанных между собою одним и тем же мироощущением.
Вот еще несколько строк из Таниных писем: «Не умозаключайте по сей отрывочности об отсутствии каких-нибудь конструктивизмов. Дело не в том. Меня травмируют разные разности и как-то отвращают от той импозантной внутренней респектабельности, комфортности, которая служит основой для построений». Эта цитата, возможно, относится ко всей книге целиком. «Это не особенно трудно находить опосредования, связки, лигатурки. Но к чему они? Я могу быть не права. Дело не в том. Но за этим всем стоит странное сознание, что Вы поймете, как бы там ни было. И что история с верблюдом и игольным ушком не такая уж вопиющая ложь (вопрос аспекта). А писать пространно, связно, монотонно и без грамматических ошибок — скучно и вообще невыносимо».
Я не раз возвращался к этой рукописи, пытаясь что-то сократить, переделать, дополнить. Мне это плохо удавалось и здесь я публикую лишь часть ее. Однако это никак не изменило ее сути. Собственно, книга эта не о судьбе Б.П., не о судьбе Тани и других. Это — о времени, о смысле жизни и об отсутствии его, о взлетах и падениях — спираль, по которой движемся мы, о жизни и о смерти, о преодолении — узкие врата, в которые трудно войти, но легко выходить из них. «Есть вещи, которые нам никогда не дано будет осознать и о которых нам дано будет только догадываться».
* * *
Я родился и вырос в Ленинграде. Я обитался подростком в подворотнях Петроградской стороны в начале шестидесятых, гонял голубей на охтинских окраинах в конце шестидесятых — начале семидесятых. Я помню застрявшие в грязи деревянные мостки вместо тротуаров на окраине Ленинграда, почерневшие от сырости деревянные дома с покосившимися дровяными сараями, что, впрочем, существует и сейчас в больших и малых городах бесконечной России. Я помню неизменных старух в черных платках, ползущих на обедню и заутреню и по любой другой причине в маленькую белую церковь при Охтинском кладбище. Каждодневная сумасшедшая то надрывно, то тихо, но безостановочно говорящая в уступчивый воздух с тем, кто неизменно следует рядом с ней по левую руку и которого не видит никто, кроме нее самой и старухи, монотонно ведущей убогую. А над ними в серо-голубом аквамарине стремительно меняет направление полета белая стая гонимых голубей, устремленная к последнему кругу — снизиться и сесть на четырехопорное гнездо, обитое ржавым железом, с фигурой человека-гонителя на пьедестале. Удлиненный перезвон колоколов возвещает о приближении Пасхи. Окаменевшие цветные яйца с будущими рептилиями внутри тихо лежат на могильных холмах, освещенных теплыми тающими лампадками. Обгорелое облако снижается за деревья с набухающими почками. Улетающие на север вороны чернеют в ветвях деревьев, качаются в такт коротким заклинаниям, оттягивая приближение весны. На город спускается вечер.
И то, чего я не знал, но слишком хорошо представлял себе: В конце зимы 1916 года в темноте, подсвеченной желтыми электрическими фонарями, вдоль чугунной решетки Таврического сада идет хорошо одетая, небольшого роста девушка с пышными волосами, упрямо выбивающимися из-под незимней шляпки и не подозревающая, впрочем, еще о том, что уже лежит в обитом красным бархатом гробу ее первый муж, не знает она и о старшей своей дочери, тихо спивающейся в автомобильных джунглях Венесуэлы и о любимом внуке, мирно спящем в колыбели среди сибирской тайги, и о том, что существует уже, как существует в ночи утренний рассвет, большая и светлая любовь, которая уже ждет ее, чтобы захватить все ее существо и остаться с ней навсегда…
Некий общий дух связывает тех, кто родился и вырос в Петербурге, независимо от времени. Дух свободы, и независимости, и безысходности. И многое другое.
Воспоминания детства: Механическая молочница в витрине молочного магазина на Кировском проспекте наливает молоко в кружку и выпивает его, процесс повторяется весь день, а может быть, и ночь. Она не может утолить жажды. В рыбном магазине на Скороходовой, напротив нашей парадной в громадном мраморном аквариуме плавают живые рыбы, а на дне настороженно лежит большой усатый сом. Продавец вылавливает рыбу сачком, отвешивает хозяйкам, стрелка на весах неспокойно дрожит. На углу в гастрономическом магазине продаются мною любимый датский сыр и розовая аккуратно нарезанная ветчина. В конфетном отделе на витрине помещаются шоколадные скульптуры медведей. Курсанты маршируют из ворот училища, синие поливальные машины делают город чистым.
Мне повезло. Повезло в том, что я остался жив. Зачем Бог хранил меня, когда я тонул в Финском заливе, когда меня вместе с мотоциклом вытаскивали из-под колес грузовика, я не сломал ни одной кости после бесчисленных падений на ленинградском мототреке. Я не спился до конца… Я бродил двенадцатилетним мальчишкой в августе шестьдесят восьмого по узким улицам старого Стокгольма, как раз в то время, когда советские танки крушили асфальт на улицах Праги. Полицейское оцепление вокруг «Надежды Крупской», с борта которой через пролив видно, как в вечерних сумерках медленно вращается разноцветно светящееся колесо обозрения в Скансене. Портовые краны, нефтяные разводы на невской воде. Возвращение в Россию.
Я думал о судьбе и о предназначении каждого человека, месте Бога на Земле. Или может это просто мертвые хотят что-то сказать нам да не знают как, или мы не знаем, как понять…
Странно и, может, в то же время закономерно, что эти рукописи волею судьбы оказались в моих руках, ибо в основе своей, в том, что так или иначе проступает сквозь обилие слов — вопрос о смысле существования и полное отрицание его, смысла, то самое, что мучило меня в то время. Трагическая судьба Тани. То, что на первый взгляд кажется трагедией индивидуума, времени и места, на самом деле является трагедией интеллекта. Депрессия, которой страдает добрая половина человечества, — следствие несоразмерности смысла и возможности его осознания. И только это, если смотреть глубже, а не отсутствие или присутствие неких химических элементов, которых, якобы, недостает или переизбыток в живущем организме, как считают нынешние ученые-парапсихобиологи. Мечты человечества о хорошей жизни, которая, по достижении, оборачивается радужным мыльным пузырем.
Вот еще несколько строк из той книги, помеченных рукой Бориса Павловича.
«В эпоху наивной теологии и догматической метафизики область непознаваемого постоянно смешивалась с областью непознанного. Новейшая теория познания воздвигла несокрушимую грань, которая отделила твердую землю, доступную людям, от безграничного темного океана, лежащего за пределами нашего сознания. Никогда еще пограничная черта науки и Веры не была такой резкой и неумолимой, никогда еще глаза людей не испытывали такого невыносимого контраста света и тени. Теперь, когда догматический покров навеки сорван, последний мистический дух потухает. И вот современные люди стоят беззащитные, лицом к лицу с несказанным мраком, на пограничной черте света и тени, и уже более ничто не ограждает их сердца от страшного холода, веющего из бездны. Никаких преград! Мы свободны и одиноки… С этим ужасом не может сравниться никакой порабощенный мистицизм прошлых веков. Никогда еще люди не чувствовали так сердцем необходимость верить и так не понимали разумом невозможность верить».
«Наше время можно определить двумя противоположными чертами — это время крайнего материализма и вместе с тем самых страстных, идеальных порывов Духа».
«И что такое реальность сама по себе? Нам доставляет удовольствие ее правдивое изображение, которое может нам дать более отчетливое знание о некоторых вещах, но собственно польза для высшего, что есть в нас, заключается в идеале, который исходит из сердца…» «Сновидения, которые преследуют человечество, иногда повторяются из века в век, от поколения к поколению сопутствуют ему». «Сознание стало ярче, лучи его длиннее, и вот мы увидели горизонты, которые были всегда, но которых глаза наши сквозь тьму и сон не умели различать. Природа и жизнь, весь мир кажется нам иным, говорит с нами другими словами, потому что все явления стали для нас прозрачными, только символами, за которыми мы теперь видим еще что-то важное, таинственное, единственно существующее».
«В мимолетных улыбках, в случайных движениях, в мелькнувших профилях вы угадаете скрытые драмы и романы, и чем больше будете смотреть, тем яснее вам будет рисоваться незримая жизнь за очевидною внешностью, и все эти призраки, которым кажется, что они живут, предстанут перед вами, как движущиеся ткани, как создания вашей собственной мечты». «Еще недавно думали — мир изучен. Всякая глубина исчезла с горизонта. Простиралась великая плоскость. Не стало вечных ценностей, открывавших перспективы. Все обесценилось. Но не исчезло стремление к дальнему в сердцах. Опять сердце запросило вечных ценностей».
Средь гор глухих я встретил пастуха,
Трубившего в альпийский длинный рог,
Приятно песнь его лилась, но зычный
Был лишь орудьем рог, дабы в горах
Пленительное эхо пробуждать.
И всякий раз, когда пережидал
Его пастух, извлекши мало звуков,
Оно носилось меж теснин
Таким неизречимо сладостным созвучьем,
Что мнилось: незримый духов хор
На неземных орудьях переводит
Наречием небес язык земли.
И думал я: «О, гений! Как сей рог
Петь песнь земли ты должен, чтоб в сердцах
Будить иную песнь. Блажен, кто слышит!»
А из-за гор звучал ответный глас:
«Природа — символ, как сей рог. Она
Звучит для отзвука. И отзвук — Бог!
Блажен, кто слышит песнь и слышит отзвук!»
«Я не символист, если не бужу неуловимым намеком в сердце ощущений непередаваемых, похожих порой на изначальное воспоминание (и долго на свете томилась она, желанием чудным полна, и звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли), порой на далекое, смутное предчувствие, порой на трепет чьего-то знакомого и желанного приближения… Я не символист, если мои слова не вызывают в человеке чувства связи между тем, что есть „я“, и тем, что он зовет „не я“ — связи вещей, имперически разделенных; если мои слова не убеждают его в существовании скрытой жизни там, где разум его не подозревал о жизни; если мои слова не движут в нем энергии любви к тому, чего дотоле он не умел любить, потому что не знала его любовь, как много у нее обителей. Я не символист, если мои слова равны себе, если они — не эхо иных звуков, о которых не знаешь, как о Духе, откуда они приходят и куда уходят, и если они не будят Это в лабиринтах душ…»
Часть I. Я помню
Тишина и покой —
Отпущенье грехов.
Сядь и времени пыль
Отряхни с сапогов.
Ты лесной тишине
Свою душу открой,
Все страданья свои
Излечи тишиной.
Тишина все поймет,
Тишина все простит
И подарит покой
И с тобой помолчит.
Оторвешься душой
От земной суеты
И с далеким собой
Снова встретишься ты.
Июль 1975 г.
Сначала дорога долго петляла среди соснового леса, затем пошла в гору и, сделав резкий поворот влево, вывела к небольшому песчаному обрыву, укрепленному корявыми корнями невысоких крепких сосен. Внизу, под ним, шла молодая березовая поросль, а за ней, дальше к горизонту, темной пушистой зеленью холмился лес и виднелись разбросанные вдалеке домики, казавшиеся отсюда игрушечными. За ними, к северо-востоку, небо темнело, постепенно переходя в ночь, сливаясь на горизонте с землей. По другую сторону шоссе шел редкий сосняк, с седой местами подстилкой из мха и лишайника, дальше, за ним, по глубокому, однообразному шуму и прохладному, влажному воздуху ощущалось море. За обочиной, отделяя ее от леса, тянулась, переплетаясь, ржавая, впившаяся в сосны, рваная местами, колючая проволока, на редких бетонных столбах висели красные, облупившиеся таблички, на которых проступало: «Стой! Запретная зона». Небо светлело в эту сторону, на юго-запад, виднелись уже на нем первые звездочки и вскинул свои рога прозрачный белый месяц.
Странно. Судьба забросила его именно в эти места, в солдатской форме, за рулем зеленого армейского грузовика. Здесь знакомо все. Каждый камень на берегу моря, каждая тропинка в лесу, каждое старое дерево, сосновый, пьянящий воздух, запах смолы, гниющей тины, шелест сухой осоки, зовущий вдаль горизонт, где море сливается с небом… И все это вызывало чувство щемящей, тупой тоски, которая, оставаясь где-то в глубине души, никак не могла выйти наружу, как будто все, что видели глаза, было бесконечно близким, но чужим, а он — совсем не он, а кто-то другой. Что было виной тому — военная форма, раздвоенное лобовое стекло перед глазами, молчаливый, грузный прапорщик, сидящий на сидении рядом? Или просто нужно было время, чтобы опять соединиться со всем этим?
А может другое. Наверное тогда, где-то глубоко внутри начало ощущаться «нечто» непонятное и бесформенное пока, но сильное уже, вбирающее в себя как губка все внешнее и не дающее выйти наружу тем простым чувствам тоски, ностальгии.
Здесь прошло его детство. Но тогда, за стеклянной перегородкой отделилось от настоящего все, что ушло и никогда не вернется. И сейчас, чем дальше отодвигалось прошлое, тем яснее, настойчивей поднимались оттуда, из глубины отдельные, до боли знакомые видения, ощущения, чувства той, уже прожитой жизни, почти физически ощущаемой теперь. Как будто все возвращается. Отдельные картины складываются в ряд, и может перед самым концом все вернется. Но тот мальчишка останется там навсегда и лишь частью повторится в другом.
Сибирь. Белые стены. Белая дверь. Белая решетчатая кровать. Мужчина в очках. Мама. Снег. Дремучий лес, где кедры и медведи. Досчатый сарай. Куча угля. Тонкий лед на луже. Мокрые ноги. Магазин игрушек, зеленые вагончики на полке. Немка, немецкие стишки, манные оладьи. Серо-зеленый грузовик, вещи. Желтые стены вокзала, оса, вагон. Большое окно в темном парадном. Решетка лифта. Человек в длинном синем пальто и шляпе — мой дедушка.
Темный длинный коридор. Прихожая, освещенная старинным светильником, висящим где-то под самым потолком. Слева на стене подвешен старый немецкий велосипед. По коридору можно бегать, можно ездить, отталкиваясь ногами, на железной машине, скрипящей колесами. Из прихожей налево — комната. Там живет соседка, швейная машинка которой непрестанно стучит. В конце коридора ванная с газовой колонкой. Когда открывают воду, синее пламя вырывается из круглого отверстия, производя звук, похожий на маленький взрыв. Если идти налево, то попадешь в кухню, большую, стены которой крашены светло-желтой краской. В небольшой проходной комнате перед кухней стоит буфет с множеством ящиков и дверок, а так же репродуктор и стол, покрытый синей в клеточку клеенкой. На нем иногда пьют чай, завтракают. На нем стряпает няня Агафья Ефимовна. Она добрая. Она никогда не сердится и всегда успокаивает теплой своей рукой, когда тебя наказывают. За окном, рядом с газовой плитой воркуют голуби. Они сидят на большом деревянном ящике, который торчит на улицу и в который складывают продукты. Серая стена напротив уходит куда-то вниз. Смотреть туда страшно. Туда упал кот Кузьма. Он охотился за голубями. Его принесли живого и долго выхаживали потом.
На стене в проходной комнате висит большое треснутое старое разрисованное блюдо. Когда все затихает, и за окном темно и холодно, блюдо издает монотонный дребезжащий звук. Считается, что так потрескивает мороз. В верхней части окна мерно завывает вентилятор. От его завывания хочется залезть под одеяло, свернуться в клубок и заснуть.
Напротив кухни направо по коридору — большая светлая комната, именуемая спальней. Там стоят две белые старинные кровати, белый шкаф, белые кресла, два ночных белых столика, застекленный белый шкафчик, в котором стоит разноцветный хрусталь и серебренная чайная посуда. Все это называется белой мебелью. Высокая балконная дверь плохо закрывается, и ее заклеивают на зиму. На столике стоит аквариум, в котором плавают рыбки, и среди них одна большая — золотая. Из спальни — дверь в кабинет. В кабинете все заставлено шкафами с книгами. Книг очень много, они не умещаются на полках и лежат стопками на полу за большим дубовым письменным столом. За столом сидит дедушка. Он все время что-то пишет. На столе множество разнообразных вещей. Это старинные медальоны, фигурки из слоновой кости, корни деревьев, обработанные так, что превратились в загадочных животных, старые фотографии в темных рамках и много другого. Но самая интересная из вещей — тяжелый осколок артиллерийского снаряда, в который вставлен настоящий артиллерийский снаряд меньшего размера. Этот снаряд можно раскрутить. Внутри его лежат пыльные чугунные шарики. Но делать это лучше тогда, когда дедушка уходит.
Иногда в кабинете появляются люди. Они садятся в глубокие черные кожаные кресла и о чем-то долго громко говорят и спорят. В это время в кабинет заходить нельзя. Нельзя кататься по коридору на железной машине.
В коридоре, между кабинетом и столовой на столике красного дерева стоит черный рогатый телефон, который часто звонит. Под телефон подложен синий шерстяной берет. Так посоветовали телефонные мастера — некие молодые люди, которые часто приходят и проверяют что-то внутри телефона. Они вежливо разговаривают и советуют не убирать телефона с синего берета.
В столовой обычно в семь часов вечера накрывают обеденный стол. Здесь стоит маленький кабинетный рояль, на котором можно бренчать. Если круглый обеденный стол накрыть покрывалом, свисающим до самого пола, то получится дом, в который можно залезть, в котором темно и уютно.
Когда бывает Новый Год, в столовой ставится елка. Она помещается в ведро с песком, которое покрывается белой скатертью, как будто это снег. Под елку ставится Дед Мороз. Дед Мороз дарит всем подарки на Новый Год. За его плечами мешок, из которого торчит вата. Подарков в его мешке нет. Самое интересное, когда начинают украшать елку. На макушку прикрепляют большую красную стеклянную звезду, а на ветки развешивают всякие игрушки: белочек, зайчиков, самолеты, мельницы, шары, маленьких Дедов Морозов, Снегурочек, длинные стеклянные бусы, гирлянды. В день перед Новым Годом по всему дому разносится сладкий запах приготовляемых пирожных. Пышные, золотистые эклеры достают из духовки и начиняют заварным ванильным кремом, а затем прячут в холодильник. Остатки крема разрешается доесть. Подарки приносит настоящий Дед Мороз и кладет под елку. Очень хочется увидеть настоящего Деда Мороза, но он всегда приходит, когда спишь…
Маленький четырехлетний мальчик осторожно спустился с крыльца и пошел, приминая сандаликами молодую зеленую травку, пробивающуюся сквозь прошлогодние бурые листья, к высокому, как ему тогда казалось, забору, сделанному из досок-горбылей с заостренными сверху и впившимися в землю внизу концами. Он нашел щелку побольше и приложился к ней глазом. Там ему открылся маленький мир, состоящий из грунтовой дороги, небольшой поляны, молодого леска за ней и уводящей вглубь его тропинки. Мальчишка был одет в шерстяную кофточку по причине прохладной еще погоды, и короткие по щиколотку брючки. Бледное, худое личико с тенью под глазами говорило о том, что появился он здесь совсем из другого мира, чуждого солнечному свету, чистому, пахнущему лесной прелью воздуху, шуму сосен и далекому, пока еще не виданному им морю.
Зона была запретной. По утрам, до завтрака в соснячке напротив можно было за несколько минут набрать кружку черники, чтобы съесть с утренней кашей. Каша от черники становилась фиолетовой. Днем можно было играть в деревянный большой грузовик. Кузов его до верху наполнялся (в качестве груза) небольшими крепкими темноголовыми боровичками. Искать их было несложно: черные головки повсеместно пробивались сквозь россыпь сосновых иголок.
Море. Сухой камыш, спутанная колючая проволока вдоль берега, домики из мокрого песка, отшлифованные прибоем осколки стекла — стеклянные камушки.
На берегу частенько находили трупы — утопленники или еще кто. Тогда в поселке появлялись зеленые военные машины. Военные машины сворачивали по песчанке к заливу. Солдаты следили за тем, чтобы никто не выходил за ворота.
Все ушло навсегда,
Далеко-далеко.
И с небес Млечный путь
Льет свое молоко.
Не вернутся опять
Убежавшие дни.
Как не хочется спать…
Только звезды одни.
Может, там далеко,
Где безмерности мрак —
Твой единственный друг
И единственный враг.
Отойдет в никуда
Все, что будет потом.
Светлых звезд города
И единственный дом.
Осеннее небо было синим, глубоким. Солнце уже не растекалось по нему, а светило обособленно, лаская последним теплом стены домов, потрескавшийся асфальт улиц. Высокие серебристые облака, как будто белые стаи, уплывали куда-то вдаль.
Из листов старого зеленого картона при помощи скрепок и кнопок делался самолет с прорезью вверху, чтобы можно было сесть в него. Собирался и складывался провиант — сухой хлеб, печенье и пр. Потом, когда все было готово, мальчишка садился в него, и картонный самолет поднимался с балкона и, пролетев над Скороходовой, взмывал ввысь, выше серых и желтых домов, ржавых крыш, выше трамвайных проводов, трамваев, дымящихся заводских труб — в небо, и все, все оставалось внизу навсегда, безвозвратно. Дома делались маленькими и скоро совсем исчезали, внизу желтеющим пушистым ковром стлался лес, блестело на солнце море, просторное и спокойное. Вот он — этот упругий, свежий ветер, бесконечное счастье полета, навстречу далеким, неведомым странам и белоснежным городам, которые, казалось, уже виднелись сквозь голубоватую дымку… Навстречу далекой и неясной пока мечте.
За окном — застывшие белые деревья. Сквозь густую вязь заиндевевших веток в серой изморози — оранжевый, низко висящий шар. Из длинных труб вертикально вверх поднимаются клубы белого пара вперемешку с черным дымом.
У меня температура. Мама на работе. На подушке — «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» Аксакова. На полу стружки и наполовину сделанный ружейный приклад. Сам он на кровати, а мысли и душа где-то далеко в лесу, где такие же белые деревья, где белый пушистый снег на широких еловых лапах, и на далекой одинокой березе видны темные пятна — тетерева. К ним надо подбираться осторожно, чтобы не спугнуть.
Только что сделанный и еще не испытанный самопал. Приклад из сосновой доски, к нему примотан ствол — стальная трубка, заплющенная с конца и залитая в этом месте свинцом. Сверху пропилено запальное отверстие. Заряд усиленный — на пробу. Приклад к плечу, правый глаз вдоль ствола, за ним видна цель — тетрадный листок, пришпиленный к забору. Спичка у запального отверстия уже вспыхнула, но что-то заставило его убрать приклад с плеча и вытянуть руку. Отдача чуть не вырвала ружье из руки. Но пламя полыхнуло почему-то из другого — заплющенного конца. Ничего не произошло. Рука еще держала раздробленный приклад, дерево почернело, а там, где должно было быть запальное отверстие — не было ничего, кроме цветочка разорванного ствола. Что-то теплое скатилось с виска, беззвучно упало с снег, потом еще и еще. Кровь. Царапина, пустяковая царапина от вылетевшего из ствола свинца, которым он был залит…
Птички не улетали и подпустили совсем близко. Порох — спичечные головки, дробь — мелко настриженная проволока. После выстрела одна упала. Маленькая, серые крылышки, желтое брюшко. Она была жива. Черные глаза-бусинки смотрели удивленно. «Зачем ты?» Видимо, ее просто оглушило — заряд был слабый. Но Колька сжал ей горло. Лапки и крылышки затрепыхались, тельце забилось в конвульсиях. Но он еще крепче сдавил ей горлышко и, чтобы быстрее довести дело до конца, — щелчки в голову.
— Ать, ать. — Ему было интересно и смешно. — Ать, ать!
Потом она затихла, только крылья мелко-мелко дрожали, глаза потухали, затягивались белесой пленкой…
До сих пор и на всю жизнь будет перед глазами и тупой иглой в сердце этот маленький, бессмысленно убитый комочек жизни…
Он прощался с морем и здоровался с ним.
«Здравствуй, море», — говорил он ему, когда оно появлялось сквозь сосны. «До свидания, море», — говорил он ему, уезжая. Почему он так любил его? Что тянуло его к морю? Тогда он не понимал и не задумывался над этим. Понял потом — великие дальние дали, светлые страны, мечты.
Волна усиливается, ветер гонит ее вдоль берега, тонкая капроновая нить впивается в руку. Лодку несет, перемет тащится за ней, цепляясь грузом за подводные камни.
— Все, отпускай!
Веревка, к которой привязан груз и кусок пенопласта, облегченно извиваясь, пошла в глубину. Ее было с запасом. Но она все опускалась и опускалась. От поплавка лодку уже отнесло, и тот, как бы чувствуя свою безнаказанность, вдруг стал боком и, влекомый грузом, исчез в глубине. Лодку несло от берега, ветер усиливался. Но беда не приходит одна: весла, предательски соскользнув с бортов, давно уже плыли сами по себе.
История закончилась тем, что в конце концов, когда их давно уже несло в сторону Финляндии, на землечерпалке, качающей песок со дня Финского залива, заметили фанерную плоскодонку и двух малолетних дураков, машущих руками.
Сельмаг. Светло-зеленая облупившаяся краска. Груды ящиков, битое бутылочное стекло, пробки, окурки. Они подбирали окурки, просматривали пустые сигаретные пачки, иногда находили там по нескольку штук. Сразу за магазином начинался лес. Там, за разросшимися кустами бузины и сирени они учились курить. Там же собирали пустые бутылки, сдавали продавщице, а старшие товарищи покупали вино, наливали им. Так маленькие люди начинали познавать жизнь.
Стояло позднее лето. Солнце еще светило и грело ласково, но вода уже остыла и была чиста и прозрачна. На дне, где раньше были камни, мелкой зыбью застыл песок. Его нанесло штормом. Перемет пришлось ставить там. Было видно сквозь прозрачную воду, как наживка шевелится на крючках. Потом берег, теплые камни, запах ольхи, ольховые бурые сережки на песке, сухой камыш, отнесенный штормом к самому лесу. Спокойное, уставшее, умиротворенное море, парус на горизонте. И опять что-то уходило безвозвратно, уносило с собой частичку жизни, растворялось в пространственной дали. И мучительно хотелось туда, где море уходило за горизонт.
Перемет был девственен, наживка нетронута, и лишь на одном крючке красовалась золотистая упругая плотвица.
То было последнее лето детства, но я об этом тогда еще не знал…
Август 1968 г.
Полоска мутной воды делалась все шире, рвались ленточки серпантина, провожающие махали платками. Среди них стояла мама и махала рукой, а мальчишка стоял у борта и смотрел, облокотившись о перила, как буксир оттаскивает теплоход «Надежда Крупская» от пристани. Затем буксирчик отцепился, и корабль поплыл в море, оставляя за кормой Ленинград.
По узкому гранитному каналу миновали Кронштадт и вышли на Большую воду. Справа желто-зеленой полоской шел далекий берег. Где-то там стоял домик, в котором мальчишка жил летом. Он изо всех сил старался увидеть что-то на берегу, и ему казалось, что он видит рыбачий пирс, баркас качается на воде, рядом черные большие рыбачьи лодки, дальше мыс с маяком, на желтом песке загорают сейчас друзья или ловят рыбу, только их не видно. Он напрягал зрение, и ему казалось, что он видит их…
А потом солнце уже клонилось к западу, становилось спокойным и ласковым. Берега ушли, их уже не было видно. Зато за кормой летели чайки. Они хватали хлеб на лету, галдели. Когда хлеб падал, чайки бросались в пенящую, вздыбающуюся от винтов воду, некоторое время оставались на ней, заглатывали хлеб, но потом снова нагоняли корабль. А слева и справа оставались небольшие поросшие сплошь лесом острова, неизвестно кому принадлежащие.
В кинозале показывали фильм про Страну Советов. Счастливые пионеры бодро шагали по улицам Москвы. Мальчишка сидел на ступеньках у входа (так как делать было все равно нечего) и смотрел через приоткрытую дверь. Молодой швед присел на ступеньку рядом с ним. Он смеялся — ему не нравилось кино про пионеров.
Вечером в банкетном зале играл небольшой ансамбль, состоящий из барабанщика, скрипача, басиста, гитариста и пианиста. Ослепительно красивая женщина (как ему тогда казалось), которая днем объявляла по радио на всех языках (кто она, русская, шведка?), теперь танцевала. Она была еще красивее, чем днем. Щеки ее играли румянцем. Все приглашали ее на танец, и она никому не отказывала. Чаще всех приглашал ее тот швед, которому не понравилось кино про пионеров.
Наутро он проснулся оттого, что сильно качало. В иллюминаторе было только серое небо и серое море. Он вышел на палубу. Дул сильный ветер, и дверь в носовую часть была закрыта. А за кормой все так же летели чайки, но их было меньше. Навстречу шел грузовой пароход, видно было, как он зарывается носом.
Задняя палуба была пуста. Только одна женщина, из тех, что веселились вчера в танцевальном зале, стояла, облокотившись о перила, и держала у рта полиэтиленовый пакет.
Днем вышло солнце, море серебрилось, а за кормой все так же летели чайки.
На следующее утро море стало спокойным. Потянулись маленькие гранитные островки, две-три сосенки, растущие из камня, один-два аккуратных домика. Затем острова увеличились в размерах, сгрудились, а море превратилось в проливы. По берегам появились металлические строения, похожие на склады, нефтехранилища, автомобильные стоянки, здания. К пароходу то и дело подходили катера, молодые люди и девушки в них весело перекрикивались с пассажирами на борту.
Когда пароход причалил, он увидел их — свою тетю и кузенов. Они стояла на пристани и махали руками.
Для мальчишек не существует других стран, а есть другие места. Через несколько дней он уже гонял на велосипеде, познавая окрестности. Пускал с малышней электрическую лодку в бассейне перед домом. Вставал он рано. Какой сон, когда солнце уже давно проснулось и светит в окна. Тетушка, пользуясь этим, посылала его в соседний магазин, где покупались обычно для завтрака мягкий батон в целлофане, апельсиновый мармелад, сыр, шоколад для питья и еще что-нибудь по указанию. При строгой отчетности в сдаче ему разрешалось каждый раз покупать пачку жевательной резинки, которые он складывал в коробочку для того, чтобы увезти это сокровище в Ленинград и угостить своих жаждущих друзей.
Бабушка с дедом просыпались несколько позднее. Бабушка делала зарядку, которая заключалась в бесконечном похлопывании себя по разным местам, начиная от щек и кончая ступнями. Это занятие продолжалось в течение получаса, затем шли физические упражнения, не поддающиеся описанию. Дед зарядки не делал, если не считать сгибания и разгибания ног в постели. Но зато после умывания и бритья он выходил на балкон и дышал перед завтраком свежим сосновым воздухом.
Мальчик любил ходить по старому городу, хотя сначала его не отпускали одного. Как ему хотелось увидеть все. Вокруг было ново и необычно. Но в любой части старого Стокгольма движение затруднялось множеством разнообразных магазинов и магазинчиков, которые бабушка с тетушкой преодолеть никак не могли. А ему с дедом оставалось прогуливаться и наблюдать за шведской жизнью.
Поведение бабушки и тетушки ему надоело. После больших уговоров удочка наконец была куплена. (Зачем тебе удочка, когда у тебя в Ленинграде десять штук!) С этого дня дома его уже было совсем трудно найти. Но зато для домашних начались бесконечные рыбные дни. Рыба клевала здесь на берегу проливов не хуже, чем на берегу Финского залива в Песках, и однажды он даже выудил большого леща. Однако, непредвиденной и отчаянной сложностью оказалось добывание червей — помоек в Швеции не было, а неимоверная ухоженность территории не оставляла никакой возможности орудовать лопатой, добывая червей из земли.
Однажды, когда он возвращался домой, карманы у него были сильно оттопырены от груш, чуть ранее мирно висевших в саду каких-то доверчивых шведов, а полиэтиленовый пакет, предназначавшийся для рыбы, был набит маслятами, в изобилии росшими на частных территории. Получив за это хорошую взбучку, он выяснил для себя, что здесь не принято ничего трогать и брать, даже если это висит и лежит просто так и не отгорожено никакими заборами.
Метро зарывается в землю только в центре города. На окраинах вагоны идут по поверхности, лишь иногда ныряя в тоннели, пробитые в скалах. Вдоль пути на открытых местах идет металлическая сетка, за ней иногда появляется скалистый ландшафт, сосны, утопающие в зелени виллочки. Если сойти на Estlandstorient, то путь до дома короче, но надо все время подниматься в гору. Мальчик с дедушкой вышли на Blackibery, возвращаясь домой. Дедушке легче идти по спуску — в последнее время у него все чаще болело сердце. Этот путь они шли долго. Приходилось останавливаться через каждые десять-двадцать шагов, чтобы отдышаться, и подолгу сидеть на придорожных скамейках. Дедушка старался дышать глубоко, но воздуха не хватало, правая рука его все время массировала то место на груди, где находилось сердце. А мальчишку постоянно терзала одна и та же странная и какая-то дикая по своей сущности мысль: «Только бы не здесь, только бы не здесь…» Слово «умереть» он боялся произносить себе.
В последний день он был в городе один. Ему хотелось еще раз побродить по узеньким улочкам старого Стокгольма. Недалеко от Королевского Дворца у входа в собор немолодая женщина продавала белые как бы мраморные крестики с серебряным Христом, распятым на них. Мальчишка вошел вовнутрь. Полумрак. Деревянные скамьи, проход между ними. Лицом к алтарю стоял мужчина. Голова его была опущена. Еще несколько человек, видимо, туристы, осматривали помещение, каждое слово и шаг гулко отдавались в каменной тишине, уносясь куда-то вверх. Было здесь неуютно, холодно, каменно. Он вышел на улицу в теплый августовский вечер. У женщины, которая продавала крестики, он купил один — самый маленький.
По дороге к метро ему повстречался тот самый швед, который был тогда на пароходе. Он шел быстро, лицо его выражало сосредоточенность в себе. Наверное, он уже не помнил и кино про пионеров, и красивую женщину в танцевальном зале.
Ехали в порт. И вместе с надвигающимся фиолетовым небом надвигалось и росло тяжелое чувство, хотя уезжать всегда легче, чем оставаться. Почти стемнело, лишь алела узкая полоска там, на западе, куда ушло солнце.
Таможня в вещах не рылась, даже не открыла и не смотрела их. Причал был огражден. Толпа демонстрантов с плакатами «Советы, вон из Праги» была отделена от корабля кордоном полиции. Дедушка с трудом пробился к борту, чтобы в последний раз увидеть дочь и внуков. Но из-за своего слабого зрения он не мог разглядеть дочь и внуков, хотя те кричали и махали руками.
Он тоже кричал, звал ее, был неестественно возбужден. Мальчику вдруг стало неловко и он одернул его:
— Да не ори ты!
И тот вдруг поник, опустился, обмяк. Он уже не кричал, лишь слабо махал рукой.
А город разноцветно сиял огнями. Напротив через пролив медленно вращалось гигантское колесо обозрения в Скансене. Пароход медленно отходил. Его оттягивал разноцветный буксирчик. Дедушка сидел на скамейке у стенки на передней палубе. Он был бледен, или так казалось в сумерках приближающейся ночи, не говорил ничего, смотрел невидящими глазами на удаляющийся светящийся город и думал о чем-то своем…
На следующий день было только море. Пустое серое море. Пароход был все тот же. Вечером в зале опять играл все тот же ансамбль. Не хватало пианиста и басиста. Та самая красивая женщина не танцевала. Она сидела на приступке у входа с распущенными волосами и в стоптанных туфлях без чулок.
Утро. Осень. Доки. Портовые краны. Солнце сквозь туман. Ленинград.
В ту осень, гуляя у Петропавловской крепости, он шел и оглядывался на лежащий на асфальте ярко-зеленый лист на фоне разбросанных по земле желтых листьев, и думалось ему: «Вот этот момент еще не ушел». Как будто оглядываясь и смотря на удаляющийся лист, он возвращался в то, уже прошедшее время. Когда смотрел вперед и не думал об этом листе, казалось — там будущее, оно уже наступило, прошлое навсегда ушло. Но что-то заставляло его оглянуться, и опять вдалеке все так же лежал этот зеленый лист, и был тот же самый момент, когда он в первый раз видел его. И оказывалось, что прошлое продолжалось.
Часть II. Блокада — Философия Выживания
⠀ ⠀
Кто бы ты ни был, наш гость незнакомый, —
Воин ли смелый, иль мирный селянин,
Муз ли веселых крылатый любимец,
Близок ли путь твой, иль цель твоя — за морем,
Все же я знаю, что общее нечто
В радостном мире с тобой нас сближает —
Синее небо с лазурными звездами,
Ветер певучий, родник говорливый,
Птиц щебетание над тихими гнездами,
Шелест и шепот склонившейся ивы —
Общий язык есть, всемирный и вечный.
Посох дорожный оставь у порога,
В круг наш с душою беззлобной войди ты —
И благосклонными будут Пенаты.
Август 1922 г.
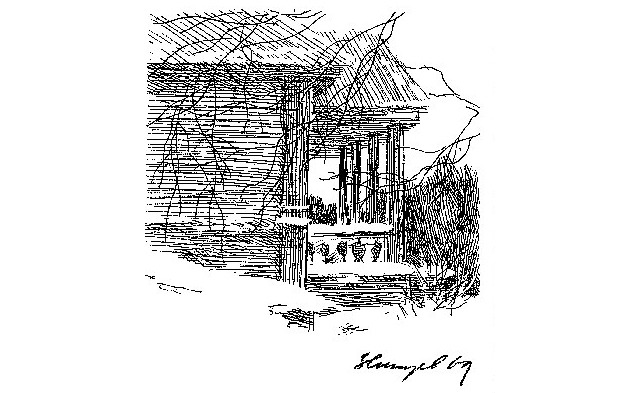
Несколько пожелтевших тетрадных листков. Записи начинаются и кончаются на полуслове.
…назначили в другой полк, и они уехали в город Моршанск. Этим, как говорила мать, связь со всеми родными отца была прервана, так как отцу, по его роду службы, приходилось все время ездить. Он был на Турецкой войне, был ранен под Кюстенжи и там, в болотах и на холоде, потерял совершенно свое здоровье. Его я помню уже больным, бледным и худым. Полк его тогда стоял в Польше. Мы жили в Варшаве, Люблине и Коломе, где я и начала учиться в подготовительном классе местной гимназии. Но опять был переезд. Мы переехали в местечко Пяски. Вот это я уже хорошо помню. Маленькое местечко, крайне грязное, населенное исключительно еврейским населением. Помню были там очень вкусные булки — халы, горячие, которые еврейки пекли дома у себя, а потом разносили по домам. Нас к тому времени было уже трое: я — семи с половиной лет, сестра Вера двух лет и маленькая Зина одного года. Помещение у нас было маленькое в три комнаты (квартиры военным тогда отводили казенные).
Вот как-то вечером приехал из похода отец, совершенно больной и привез нас всем подарки. Мне — серую шубку с серым барашком, Вере — голубую с белым, Зине — все белое. А для матери красивую серую фланель с голубыми полосами (она сбереглась у меня, и я, выходя замуж, сшила из нее платье). Все это было привезено из Лодзи. Это был как раз 1883 год.
Итак, отец приехал больной. Сказал: «Это вам уже, видно, в последний раз». И действительно он больше не встал. Помню было много докторов, много военных, очень много на столах лекарств, но все напрасно.
Помню, как нас, всех трех поставили около кровати умирающего отца, помню, как он гладил нас по головам. Нас увели спать, а утром его не стало. Мать, конечно, была в страшном горе и потеряла совершенно голову, так как осталась одна с троими малолетками на чужой стороне, никому не нужная, без всяких средств к существованию. Отца хоронить в Пясках было нельзя, так как там не было церкви, и его на лошадях перевезли в Красностав, где и похоронили на русском кладбище, в большой братской могиле, где хоронили всех русских военных.
Через несколько дней мать, там же в Красноставе наняла одну небольшую комнату, где мы и поселились. Отец умер, и теперь, не то что тогда, у одинокой женщины с троими детьми не было на чужой стороне никого из близких людей. По распоряжению командира полка наши вещи из Пясков в Красностав перевезли на полковых лошадях. Но когда все это пришло на место к нам, то было поломано, помято. Помню швейная машинка и самовар были превращены в лепешки, стулья поломаны.
Когда все привезли, с матерью сделался сильный припадок, она плакала и говорила: «Вот, нет отца, нет защиты, при нем бы, конечно, так не делали». Но никто о нас не заботился, мы были одиноки. Вскоре нас опять постигло несчастье: мы, все трое, заболели корью. Маленькая Зина от осложнения — воспаления легких умерла. Отец умер в феврале, в мае мы потеряли Зину…
Матери назначили пенсион, и она решила не оставаться на чужой стороне, тем более, что войска тогда долго не стояли на месте, а поляки очень не любили русских и крайне недружелюбно к ним относились.
Мать решила переехать в Кострому, где у нее были родные. Неподалеку от Костромы, в Кинешемском уезде, служил священником ее отец, уже старик, который жил все с той же слепой теткой Матреной Егоровной и работницей Ивановной, у которой сын Коля уже подрос, и наш дедушка помогал ей учить его в семинарии, а все лета и каникулы он проводил в семье дедушки. Ивановна у них была свой человек в доме и правила для стариков все их несложное хозяйство.
Распродав все свои вещи, мы с матерью тронулись в путь — в Россию. Как сейчас помню, когда мы без средств приехали в Кострому, мать наняла небольшую комнату на первом этаже, где было очень темно и сыро. Мне уже было восемь лет и надо было отдавать учиться. Поступить в гимназию было очень трудно, а к тому же потерялись мои метрики. Выправлять их было очень трудно и долго.
И вот, как курьез бывшей жизни, расскажу следующий факт: матери кто-то сказал, да она и слыхала вообще, что в прежних Консисториях (духовное учреждение, ведающее всеми документами о рождении и смерти) нужно непременно дать взятку чиновнику, и только тогда сделают скорее все, что нужно. Она, не зная, что это делается потихоньку, начала по очереди предлагать всем чиновникам, начиная со старшего, говоря: «Вот это Вам, только сделайте поскорее». Они, видя откровенную взятку, конечно, все отказывались, но зато очень быстро все сделали, и я поступила в гимназию, опять в приготовительный класс. Квартирка наша была очень неудобна, так как у…
…Писала много лет спустя старшая — Анна.
У Анны, кинешемской белокурой красавицы с карими глазами, было шестеро детей. Один, мальчик, кажется, звали его Вася, умер маленьким: на него опрокинулась кастрюля с горячим молоком, когда он, только начавший ходить, ухватился и потянул за скатерть. Через жизни остальных пятерых прошлась вся история прошлого (20-го) века многострадальной России. Ничто не обошло: и войны, и беды, и надежды.
Старший из них — мой дедушка — Городецкий Борис Павлович.
Немного из биографии: «Родился в июне 1896 г. в г. Костроме в семье уездного нотариуса. По окончании Реального Училища в г. Кинешме Костромской губернии в 1913 г. поступил в Петербургский Технологический институт. Через два года, решив перейти на Историко-филологический факультет Университета, сдал экзамен на аттестат зрелости. Мобилизация студентов в 1916 году не позволила продолжить высшее образование в Университете.
Обстоятельства складывались так — по мобилизации студентов я был призван в старую армию в январе 1917 г. и после ускоренной подготовке в июне 1917 года был уже направлен на Западный фронт — на участок Сморгонь-Крево. Октябрьскую революцию встретил на фронте. С введением в армии выборного начала я в декабре 1917 года был выбран на должность командира взвода. В апреле 1918 года мы, уже имея большевистское руководство в лице комиссара, пошли на расформирование в г. Борисоглебск Тамбовской губернии. Вместе с группой бывших солдат я поехал через Москву на свою родину, на Волгу.
После демобилизации я два месяца лечился дома от полученного в дороге ревматизма, а затем поступил в июле 1918 года на службу в Центральное Управление по снабжению Красной Армии. Через некоторое время я был переброшен на работу в Нижний Новгород, а затем в управление Приволжского Военного Округа, где начал работать во II мобилизационном отделе.
В июне 1919 года я был командирован с секретными сводками о ходе сбора оружия по губернии в Реввоенсовет Восточного Фронта, в г. Симбирск. По выполнении данного мне поручения заболел, перенес тяжелую операцию.
По возвращении в Н. Новгород я подал рапорт и был зачислен в только что сформированный для отправки на фронт конно-горный артиллерийский дивизион начальником команды разведки. Под Казанью наш дивизион принимал, проверяя его готовность, т. Фрунзе. Вскоре нас отправили в Туркестан на борьбу с басмачами.
В Туркестане, в составе конно-горного артиллерийского дивизиона 3-й Туркестанской кавалерийской дивизии, я принимал участие в действиях против басмачей с февраля 1920 по февраль 1921 года в качестве начальника команды разведчиков, начальника команды связи, командира взвода и т. д. В памяти встают выезды для преследования басмаческих отрядов, ночные тревоги, напряженная боевая жизнь…»
Документы, письма, дневники, рукописи… Я долго разбирал их в длинные зимние ночи. Странно, что прошлое возвращается тогда, когда становится далеким. В мимолетных улыбках, случайных движениях, мелькнувших профилях старых фотографий угадываются характеры, судьбы, и чем больше будешь смотреть, тем яснее будет рисоваться за очевидной внешностью незримая жизнь.
Стихи… Стихи человека, глубоко понимавшего поэзию, но так и не опубликовавшего ни одного из своих подготовленных к печати сборников стихов. Разве что совсем немного, еще в юности.
Для меня, т.е. через поколение все это стало частью моего мироощущения. Прошлое не исчезло, не обратилось в ничто. Оно существует, просто осталось позади, на том отрезке пути, а не только в памяти. Оно идет тебе в руки — на, бери…
Вот несколько вырезок из газет того времени.
15 сентября 1922 г.
ВЕСТНИК Ив.-Вознесенского Губсоюза Потребительских Обществ. Двухнедельный журнал по вопросам хозяйственной жизни и кооперации.
Зимние ласки. — Альманах. — Кинешма. Лит.-худ. Об-во — 32 стр.
Маленькая, в 32 страницы, книжка на хорошей бумаге, любовно и изящно изданная, правда, скорее похожая по внешности на сборник стихотворений, чем на альманах, причем и само слово альманах набрано неудачным шрифтом и помещено на случайном месте обложки. Участвую в сборнике исключительно местные силы — Кинешма, Плесс, Иваново — и это первое, что хорошо. Почти весь альманах заполнен стихами — 36 вещей; прозаик нашелся лишь один, давший маленький очерк из жизни Ивановского студенчества. В стихах преобладают плессцы и кинешемцы. Не будем поэтому останавливаться на знакомых Иванову именах, которые являются в сборнике гостями.
Останавливает внимание Б. Городецкий своими Туркестанскими пьесами, простыми, свежими, полными вещественных, конкретных подробностей, что придает им необходимый колорит. Поэт, очевидно, молодой, обладает ценным умением ставить на своем месте нужные слова, когда неожиданные, задерживающие внимание эпитеты дают впечатление того своего, что и ждет читатель от каждого вновь появляющегося писателя. «Сумасшедшая ночь», «Перекрестилась рожь», «Многоголосый туман» — все это от подлинной поэзии. Понравился нам своей выдержанностью «Вечер», понравилась заключительная строка стихотворения с начальной строкой: «Косогоры, овраги». В «Стихах о царевне» хорошо второе-третье стихотворение. Стихотворение Д. Семеновского «Ах, какой заставлю силой» и отмеченные стихотворения Б. Городецкого — лучшее, что есть в сборнике.
Необходимо отметить пьесы Смирновой, которые просты и образны. И Городецкий, и Смирнова многими нитями связаны с Буниным, да и как им не быть таковыми на тихих, поросших соснами холмах Кинешмы, глядящей на волжские дали. Радует сознание, что молодые поэты не оторвутся от почвы, которая их породила, и будут черпать вдохновение из родного, незамутненного источника.
Л. Чернов, очевидно, еще слишком молод, и по его вещам, достаточно темным, больше строгости к самому себе, больше сжатости в своих вещах.
Н. Смирнов, М. Артамонов и С. Селянин дали характерные для них стихотворения; выделяется значительностью своего внутреннего содержания последняя строчка стихотворения С. Селянина.
Занятна рассказанная М. Сокольниковым попытка постановки в Костроме Блоковской «Розы и Креста».
Приветствуем начинание Лит.-худ. кружка, желаем, чтобы он был дружнее и теснее, и верим, что в будущем, вдумчиво и не спеша поработав над своими дальнейшими опытами, он снова даст знать о себе, не отгоняя на будущий раз падчерицы — прозы, в которой хотелось бы увидеть отражение местного быта.
Стихи о Туркестане
Моей матери
I
Грежу небом синим,
Глиняным аулом,
Рвусь душой к пустыням
С жалким саксаулом.
В огненной пустыне
Ветрятся барханы.
Там вдали, в ложбине
Вижу — караваны.
Мерно, друг за другом
Зыблются верблюды.
Каждый с полным вьюком,
В них — товаров груды.
Воздух жгучий, сонный,
Ветрятся барханы.
Ветер раскаленный
Взвихрил смерч песчаный.
II
В мареве синего зноя,
В рамках зеленых гирлянд
Вновь замелькал предо мною
Милый душе Самарканд.
Город чарующих сказок,
Жгучих полдневных лучей,
Знойных полуденных красок,
Бархатных синих ночей.
Вот из зеленого сада,
Солнца пригрета лучом,
Свесилась гроздь винограда
Желтым живым янтарем.
Знойной томимся мы ленью,
Небо — как купол без дна.
Манит приветливой тенью
Нас отдохнуть чайхана.
III
Сижу в чайхане. Полумгла.
Я — на ковре, поджавши ножки,
Передо мной — пиала,
Киш-миш и пресные лепешки.
Кругом ковры. Полдневный жар
Там — за стеной, а здесь — прохлада.
Журчит огромный самовар.
Восточной лени сердце радо.
Чуть слышен запах анаши
Смолистый, нежный и дурманный.
И сладко мне вот здесь в тиши
Сидеть часами в грезе странной.
IV
Солнце печет нестерпимо.
Пышет полуденный жар.
Сарты проносятся мимо.
Вспомнил — сегодня базар.
Вот, колыхаясь, проплыли
Два полысевших горба,
С грохотом в облаке пыли
Быстро промчалась арба.
В пекле полдневного жара
Пылью дышать — свыше сил.
Мы — в самом сердце базара,
Где-то осел затрубил.
Тут со своими коврами
Персы сидят, здесь текин
Бойко торгует сластями,
Тут же корица и тмин.
Золотом шитые ткани,
Перстни, запястья, шелка
В многоголосом тумане
Пыли стоят облака.
Громко заспорили где-то,
Яростно вскрикнул один.
С ближнего к нам минарета
Звонко запел муэдзин.
V
Вечерний час. Затих степной аул.
Мерцает небо синим звездным светом.
Притихла степь. Умолк вечерний гул,
Гортанный звук плывет над минаретом:
«Алла! Алла! Благодарим тебя
За этот день, так мирно проведенный,
За мирные стада, за вечер благовонный.
Алла! Алла! Благодарим тебя!»
Спустилась ночь. Приник в степи ковыль.
Баран проблеял. Снова тихо стало.
В вечерней мгле так остро пахнет пыль.
Ночь бархатное стелет покрывало.
7 августа 1921 г.
Безумие
Прибрежные сосны так глухо шумели,
Так странно шептался встревоженный лес,
И струи дождя так уныло звенели,
И молньи сверкали над краем небес.
И парус наш грубый, косой и лохматый
Под ветром осенним ревел, как больной,
И в хаос сливались и грома раскаты,
И ветра осеннего жалобный вой.
А с темного берега что-то кричало,
Как будто звучало — «вернись, о, вернись!»
Порывами волн нас бросало, качало,
Вдруг кто-то мне тихо шепнул: «Оглянись…»
И я обернулся… И в ужасе диком
Застыл и безвольно смотрел над водой —
Там кто-то ужасный с мерцающим ликом,
Огромный и черный всплывал над ладьей.
И я задрожал, мои спутники — тоже
И каждый был бледен лицом, как мертвец,
Все молча застыли, и было похоже,
Что общий для всех наступает конец.
Так длилось мгновенье… Но призрак качнулся
И тихо растаял на гребне волны…
И все мы вздохнули, и каждый очнулся,
Стараясь прогнать беспокойные сны.
И было ль то сном, или плодом раздумья,
Иль пенной игрой разъярившихся волн, —
Но ясно нам было, что сам Царь Безумья
На это мгновенье входил в утлый челн.
Когда же приплыли — мы молча простились,
Очистилось небо, промчалась гроза;
Но чувствовал каждый — как будто страшились,
Боялись взглянуть мы друг другу в глаза.
8 июля 1921 г. Кинешма
Л.М.Чернову-Плесскому
Надпись на альманахе «Земные ласки»
Милый мой! Одно нам солнце
Освещает путь кремнистый,
Ночью — в тусклое оконце
Светит месяц серебристый.
Завтра в путь. До света рано
Мы уйдем тропой тяжелой,
Но из мглистого тумана
Глянет с неба день веселый.
Посох в путь с речного склона
Мы сломали в волжских плесах —
Верь: цветами Аарона
Зацветет наш бедный посох.
Посох наш — твой холмик малый —
Веха первая в дороге.
Будет путникам усталым
Отдых в солнечном чертоге.
Будут чары страшной сказки,
И смятенному душою
Заблестят «Земные Ласки»
Путеводною звездою.
2 августа 1922 г. Кинешма
Июльским ранним утречком три бабы шли
вдоль линии,
Стомились резвы ноженьки, измаял долгий путь,
Взобрались на пригорочек, взглянули в небо синее,
Раскинули паневочки — присели отдохнуть.
Молодушка — рязанская, старуха — из-под Киева,
А третяя, убогая — из самой Костромы
Блестит зрачками тусклыми — глаза-то слезы
выели,
Не видят светла солнышка из вековечной тьмы.
А с неба водопадами струится солнце ярое
И плещет светлым золотом на смуглые поля,
И поле зеленеется. Перекрестилась старая
И шепчет умиленная: «Кормилица земля!»
13 июня 1922 г.
23 сентября 1922 г.
Газета «Рабочий край» Иваново-Вознесенск
(Статья появилась через 2 дня после «указующей» статьи т. Троцкого в «Правде»)
Лирическое паникадило
Не хотелось писать вообще об этой книжке, хорошо изданной и пошло озаглавленной «Земные ласки». А после статьи Троцкого о внеоктябрьской литературе, пожалуй, и не было надобности писать. Этот Альманах (?) целиком и полностью подходит под ту характеристику не приемлющей и отрицающей революцию (а, стало быть, и жизнь) литературы, о которой писал Троцкий.
Но писать, к сожалению, приходится, так как в редакцию поступают отзывы со стороны и — опять-таки к сожалению — не только из тех кругов, для которых собственно и печатаются на прекрасной бумаге все эти душеспасительно срифмованные, елейные песнопения о соловьях, подснежнике, царевне, об утре, полдне, вечере и так далее, но и от людей, которые, казалось бы, должны быть бесконечно далеки от поэзии, которая представляет из себя смесь перепевов Фета с церковными канонами.
А это именно так. Это сказывается прежде всего на стиле. Почти все представленные в тощей книжке на 31 стр. поэты удивительно пристрастны к церковным образам и словам.
Вот несколько выдержек:
БЛАЖЕН; БЛАГОСЛОВЛЯЕТ; КАК ЛАМПАДА ПЕРЕД ИКОНОЙ (Дм. Семеновский). И чудится — идет БОГОСЛУЖЕНИЕ… О БЛАГОСТИ ВСЕМИРНОЙ; березка МОЛИТСЯ (Борис Городецкий); и засвечен звездой БОЖЕСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН; солнце с ПРЕСТОЛА на землю сошло (А.П.Смирнова-Ворфоломеева); НЕЗДЕШНИЙ, СВЯТЫНЯ (Сергей Селянин).
Поэты из Кинишемского «литературно-художественного (церковно-художественного?) общества» настолько религиозно настроены, что Леонид Чернов-Плесский даже петуха приобщил к Тихоновской церкви:
Спев многократно: «аллилуя»,
Петух крылами замахал.
Вероятно, впрочем, вышеозначенный петух пришел в такой церковный пафос от последующего четверостишья:
И от востока после пира
По розам всадник проскакал,
А в золотых струях эфира
Бог многоликий в ризах встал.
От такого нагромождения поэтических образов не только петух, МЫШЬ запоет, только не «аллилуя», а «избави нас от лукавого»!
Однако сколько-нибудь толковый религиозно настроенный петух должен придти в благочестивый ужас от такого места из того же вычурного — под вычурным заглавием:
— стихотворения:
Ключи от синего чертога
Закинув тайно на закат,
На млечном ложе делит Бога
Между собою звездный скат.
Как говорят, полиандрия (многомужие) распространено в Албании, а у нас в России в церковную «догму» это занятие пробовала вводить Охтинская Богородица. Не перебралась ли она в Кинешму?
Борис Городецкий в стихотворении — какие обычно печатались в рождественских номерах «Нивы» под заглавием «Елка» — но в сборнике, переименованном почему-то в «Дремотный сон» (если это не простая характеристика душевного состояния «Лит. худ. о-ва»), живописует такие картинки.
Вот помолилась Боженьке и тихо в теплой
спаленке
Старушка, няня старая («пора уж на покой»)
Идет-бредет к лежаночке, кряхтя, снимает
валенки
И долго, долго шепчется с иконкой золотой.
Быт — достаточно хорошо объясняющий происхождение всех этих песнопений.
Леонид Чернов-Плесский приобщил петуха к Тихоновской церкви. Именно к ТИХОНОВСКОЙ, так как кинешемско-беспартийно (?) — церковное «лит.-худ. о-во» по своей идеологии, очевидно, даже не дошло до «живой церкви».
Идеология этих тихоновских певцов очевидно выражена в стихотворении Л. Чернова-Плесского — «В сиянии утра», где:
С неба глянула Божия Матерь,
Порассыпала с лаской покровы,
С грустью ласковой молвила: «На-те,
Замените сиянием оковы!»
Омочила одеждочки в воды
И баюкает в лодке Младенца,
Порассыпав с риз в воду разводы,
Преклонила к ковчегу коленца.
С грустью ласковой молвила: «На-те»,
В бедной лодке приемлите Спаса,
Сына нежьте и серебряной вате,
Ждите золота Божьего гласа.
И УЗРИТЕ ВЫ, БЕДНЫЕ ДЕТИ, —
ВРАТА РАЕВЫ НАСТЕЖЬ ОТКРЫТЫ.
А ИССОХШИЕ АДОВЫ СЕТИ
ВО ПЕСКАХ ВО СЫПУЩИХ ЗАРЫТЫ.
Это «благочестивое» стихотворение посвящено первому сборнику Кинеш. «Литерутарно-худ. Общества» и помечено: «Кинешма, июнь 1922».
Воля читателя, но смысл этого «сияния утра» как-то само собой расшифровывается так, что «утро» — Нэп, засиявший над верующим капиталом, которому уже грезится, как раскроются «раевы врата» воскресения буржуазного общества, а «иссохшие адовы сети» диктатуры пролетариата будут «во песках во сыпучих зарыты». Страшен сон размагниченной, религиозной интеллигенции, да милостив день истории. Пролетариат будет строить новое общество, оглушая нежные уши сюсюкающих чистоплюев, и, несомненно, создаст поэзию дня, предоставив кинешемским псаломщикам, как соловью Леон. Черн.-Плесского:
…в кустах болота
По ночам тихо тосковать.
Всего отвратительнее (и это вторая причина, почему приходится писать) видеть в этом сборнике епархиальной поэзии «творения» поэта-коммуниста Ник. Смирнова. Добро бы они попали более или менее случайно, как стихи Смирновой-Варфоломеевой! Нет, они как нельзя больше кадят церковным ладаном.
В четырех помещенных стихотворениях целиком выдержан церковно-лирический, елейный тон.
Первое так и называется: «Свете Тихий». Это — не аллегория, это –обычное церковное обращение к Христу, о котором идет речь. В стихотворении «На Волге» —
В благовонье молчаливом
Речной колеблется разлив.
И дальше:
Перед заревым иконостасом
В молитве пали острова.
В стихах «Левитанские места» у Ник. Смирнова — «ВЕТЕР-ВЕЧЕРНИЙ ПСАЛОМ». Там же — и «Тихие очи Христа», и АРХАНГЕЛ, и т. д.
В последнем стихотворении — «БЕССМЕРТИЕ» — Ник. Смирнов рекомендует себя «ВЗЫСКУЮЩИМ МОНАХОМ» и, видимо, не прочь взять на себя роль праведника.
И вместе с ветром потрублю
О чудодейственном бессмертье,
И слово вечное — люблю —
Я брошу в мир. В него — поверьте!..
Я не знаю, к кому молодой «пророк» обращает свои призывы о вере, но эти призывы вовсе не о вере в творческий гений пролетариата, ибо не коммунизм, не революция зажигает огонь проповедничества у Ник. Смирнова. Его вера — обыкновенное тихоновское православие.
Он сам говорит:
Огонь мой — луч Христова взгляда.
(«Свете Тихий»)
Разумеется в РСФСР провозглашена свобода вероисповедания, и Ник. Смирнову предоставляется полное право исповедовать и тихоновское православие, и состоять вместе с Черновым-Плесским в секте Охтинской богородицы (если эта секта не находится в разногласии с уголовным кодексом по части разврата); даже при существующей свободе печатного растления — он может издавать на прекрасной бумаге свои псалмы, но как Николай Смирнов примиряет свое христианское поэтическое творчество с принадлежностью к РКП, абсолютно не понятно.
В сборнике есть рассказ о каком-то проходимце из «бывших студентов» Мих. Сокольникова. Мимоходом в нем разоблачается вранье интеллигенции о том, как ее Советская власть притесняет.
В рассказе не сказано, что речь идет об Иванове, но это и без того ясно. Как отнесся «город» к переведенному туда во время революции высшему учебному заведению?
А вот как:
«Своим высшим училищем город гордился: к нуждам его относились серьезно, хлопотали в центре. Устроили так, что ежедневно, в специальных вагонах, из Москвы приезжали знаменитые профессора».
Вот вам и опровержение сказки о враждебном отношении к культуре варваров-большевиков, сделанное интеллигентом в книжке для сельских попов.
Выводы?
А выводы таковы, что как бы ни бесцветны были кинешемские «эмигранты» от революции в византийскую церковь, как бы ни мало читались они рабочими (на кой черт рабочему этот лирический ладан), но вредны они несомненно.
Уж одно появление таких сборников в рабочей губернии, говоря языком кинешемских поэтов, «прискорбно», но надо принять во внимание, что мелкая трудовая интеллигенция, имеющая литературные запросы молодежь, за неимением ничего лучшего под рукой, могут подчас читать эту «поэзию» и будут развращаться.
Вместо проникновения пролетарской идеологией, настроениями, будут отравляться церковным чадом.
Вывод может быть один — организация и распространение пролетарской литературы.
Что касается общественной оценки, повторяю, она достаточно ярко дана в статье т. Троцкого («Правда» за 19 и 20 сентября) о внеоктябрьской литературе, с той разве поправкой, что «Земные ласки» не только вне Октября, но смело могут быть поставлены и вне Февраля.
Вл. Павлов
ТИШАЙШИМ
(посвящается кинишемскому альманаху «Земные ласки)
Кто тихой синью светиться
И трепетно благословляет жизнь.
Д. Семеновский
И ветерок вспорхнул, домчался до дубравы
И там затих в тенетах светлой лени.
Борис Городецкий
Темнее даль. И тихо, тихо небо.
А. Варфоломеева-Смирнова
Голубоватый «свете тихий» —
Печальный свет осенних дней.
Н. Смирнов
Чуть слышно полетели безмолвные птицы.
М. Сокольников
А ТАМ ВО ГЛУБИНЕ РОССИИ,
ТАМ ВЕКОВАЯ ТИШИНА.
Н. Некрасов
Революционной бурной встряски
Дни мимо Кинешмы прошли,
Где были только одни ласки
Заснувшей матушки-земли.
Под мирной сенью Губсоюза
Всех «светом тихим» обдает,
И от лампадного нагруза
Никто не крякнет, не вздохнет.
Эспе
* * *
Из дневника Антонины Мугго.
Жить — это в темную бездну упасть…
Жить — это небо у Бога украсть…
Есть дни… Они как дар судьбы,
Как жизни яркие просветы
Мечтой таинственной полны.
Наивысшая, как и самая низкая форма
критики, есть автобиография.
О. Уальд.
Мне сейчас так хорошо, как редко теперь бывает. Странно на меня действует контора. Здесь я теряю все свои хорошие мысли, все мои хорошие слова, и все люди кажутся дрянными, и сама я такая же дрянь. И в голове мутно и тошнит… и тоска зеленая. Ужасно нехорошо. В слове «хорошо» или «нехорошо» можно соединить очень много понятий. Вот у нас оно очень много значит. Если мы говорим, что «было хорошо» и какой-нибудь человек — «хороший» — это значит, что в нем соединяются такие качества, которые мы наиболее ценим в человеке, то есть не только обыденные вещи, которыми отличается вообще человек, но и то хорошее, то выходящее из ряда вон, что отличает людей сильных духом и одаренных.
Вот пишу и думаю: как я все-таки неумело и глупо выражаюсь. Мне хочется двумя словами выразить то, что я хочу сказать, чтобы эти несколько слов охватили те понятия, ту мысль, которая у меня есть.
7 июля 1917 г.
Свершилось! То, во что я верила до самой последней минуты, — рушилось. Еще и теперь я не верю, что это не так, но только верю, хочу верить, а на самом деле — никакой надежды. Господи, как ужасно. З. сказал, что нам решили не подавать руки. Они у нас в крови. В нашей русской крови. Вот оно начинается. Начинается преследование большевиков. Ужасней всего то, что оно справедливо… И даже хочется, чтобы они все издевались как можно хуже и грубее. А то великодушно простят. Вот это хуже, во сто раз хуже.
10 июля 1917 г.
Мне нужно много, много сказать именно здесь. Боюсь, что не хватит времени…
13 июля 1917 г.
И действительно не хватило. Пишу только сегодня. Да и то, я за это время так много пережила, что не в состоянии написать про все.
Вчера разбирала свои письма. Случайно нашла письмо Толи. «Я так бы хотел чтобы Вы приехали, что на радостях готов целовать и целовать Вас». «Я так ценю нашу дружбу, Ниночка!» — пишет он. Тогда я, привыкшая к таким фразам в его письмах, только улыбалась, как-то поверхностно переживала это и подобное. Мне даже казалось, что это неуважение ко мне, а теперь совсем иначе. Отвыкшая за последнее время от ласкового слова, живущая какой-то походной жизнью, я прямо поразилась, прочитав эти строчки. И мне могли так писать! А может он так и в действительности чувствовал. И вспомнился Толя… И показалось, что в месте с ним ушло мое счастье. Хорошее, милое, маленькое, но полное счастье. И так было жаль, что я тогда не уехала к нему туда в далекий Брянск. Все существо, все мысли, все потянулось туда за ним, молоденьким, хрупким, едва произведенным офицером. Потом прошло. Подумалось так же как и тогда, когда я писала ответ, что это неискренно, что это под влиянием беспутной военной жизни. И сейчас то же. Хотя в глубине души мне очень хочется поехать к нему. И подчас я даже мечтаю, как бы мы с ним хорошо зажили. Я хочу послать ему письмо, спросить только, жив ли он… И не хочу, что бы он подумал, что мне он дорог, хотя бы даже минутно — дорог.
Теперь другое. Нам, то есть всей России грозит голод. Какой это ужас! Представляю себе, что Витя и Володя и мама умрут от истощения. Я, папа и Оля, как крепкие натуры — выживем. Но прежде этого будем, может быть, как дикие звери драться из-за каждого куска хлеба, из-за каждой капли молока… Вот когда я пишу, это совсем не так ужасно, а когда представляю, то гораздо живее и ужаснее. Ну представьте себе: Витя лежит больной — нужно достать молока. Мама истощенная, голодная, худая идет за молоком, а там, как и теперь, куча, тогда может быть в десять раз большая чем теперь, баб, кричащих пронзительно голодными ужасными криками. Им тоже нужно молоко. И вот, несмотря на то, что они имеют такое же право на молоко как и мама, она все же расталкивает толпу, насколько позволяют ей силы и получает (в лучшем случае). Но на нее, конечно, накидываются женщины с озверелыми физиономиями, рвут на ней платье. Она отбивается. Молоко, прижимаемое крепко к груди, плескается. В лучшем случае она доберется домой с каплей молока, которого не хватит даже больному ребенку, а ведь ее могут и убить и отнять и измучить так, что она не дойдет до дому. А потом, когда не станет сил жить в городе, мы пойдем куда-нибудь в провинцию в надежде найти хлеба. И это зимой. Вижу я: темно… по узкой дороге снежного поля идем мы, закутанные в лохмотья, голодные и измученные. Может быть в одной из деревень нам бросят корку хлеба не шестерых, в другой удастся что-нибудь украсть и в конце концов — неизбежная смерть, голодная и ужасная…
Когда я раньше читала про народные бедствия, мне было жаль, зачем я не была их участницей, что бы помочь всем. Теперь же я знаю, несмотря на мое очень, очень сильное желание, я ничего не сделаю, и мне теперь хочется как-то перескочить к другому, хорошему будущему. Мирному. Главное — мирному, а остальное приложится…
15 июля 1917 г.
Я начала писать эту тетрадь для того, что бы яснее разобраться в своих мыслях, но только уж очень их много за последнее время. И нет сил записать.
5 мая 1918 г.
Твои глаза — лазурные, глаза благословенные.
Мои глядят и молятся и просят милосердия.
И хочется писать и не хочется. Хочется потому, что как-то лучше разбираешься во всем, кода пишешь. Не хочется потому, что всего не напишешь, а часть — бесполезно. Самое же главное еще очень смутно обрисовывается в душе и хочется хранить про себя. Все, что чувствуешь хочется сказать очень кратко и сжато — вылить это в какое-нибудь художественное произведение.
Что лучше — творчество или личное счастье?
16 июня 1918 г.
Душа, безмерно жаждущая любви и любовной страсти, оскорбленная жизнью, ее мертвыми ласками и холодными руками, которые убивают своим прикосновением и тело и любовь — вот тема В. О. Комиссаржевской. Разве не известно тебе — нужно ли мне идти туда или нет? Могу ли я или нет? «Достаточно одного маленького знака — и я…»
Я право не знаю, что мне делать. Мне так хочется и я так боюсь, что не смогу…
15 июля 1918 г.
Весь — как старинная, стильная, ложно-классическая гравюра Брюллова. Глаза — агаты, какого-то темно-вишневого цвета, полные краски… Ты поешь свою последнюю лебединую песнь. Я начинаю песнь юности. Молодую, порывистую, счастливую подчас, песню красоты, любви и свободы. Что если эти мелодии соединить?
Страшный у меня характер. Я иногда так забываюсь, что только какое-нибудь несчастье способно вывести меня из оцепенения. Самозабвение доходит до ужасных размеров. Иногда я способна прожить в нем несколько дней. Самое ужасное, что самозабвение выражается в каком-то тупом хождении мыслей вокруг одного явления, предмета или чего-нибудь подобного. Не то, что разбираться в явлении, а просто без конца представлять себе, как оно было и как могло бы быть.
Добрая жизнь достигается неустанным вниманием к себе самой и своим действиям, неустанным заглядыванием внутрь себя.
Боже мой! Как я еще не умею жить…
14 июля — это день красивой сказки в моей жизни.
9 августа — это оборотень моей красивой сказки.
Я сама не понимаю, к чему все это? Зачем ему знать меня? И зачем мне знать его?
«Смотрите, что бы удары моего хлыста не были слишком сильны».
22 августа 1918 г.
Я в деревне. Читаю дневник Надсона и начинаю писать свой. Хорошо здесь. Одно меня тревожит — это служба. Велено явиться в понедельник, а я буду не раньше пятницы. И подумать, что есть какая-то дурацкая служба, которая может отравить такое прекрасное настроение, как у меня сейчас.
Есть два мира. Один думает, что жить в деревне и не являться на службу — преступление, другой, к которому принадлежу я думает, что грех отрывать человека от деревни и не позволить ему хоть на две недели пожить там и наслаждаться деревенскими прелестями.
Сижу сейчас на меже между полосами. Надо мной небо, голубое-голубое. Вокруг колосья уж начинают желтеть. Синеют васильки. Косят жито. Снопы красивые, золотистые, с синими васильками.
Облака набежали на солнышко. Каркают вороны. Господи, неужели опять начнутся плохие дни. Набежал и ветерок. Колосья зашумели, зашумели. Шумят будто поют песню. Песню солнца и ветра.
Только вот не думается сейчас ни о чем. В Петрограде было так много о чем нужно было подумать в деревне. А теперь лежишь, смотришь вокруг и так далека от всего Петроградского, городского, что думать не хочется.
Разучилась я писать дневник. И вообще давно не писала ничего порядочного, ни дневника, ни писем, ни сочинений. Вероятно, поэтому думать тоже разучилась. Никак не могу сосредоточиться на чем-нибудь одном. Даже иногда задаю себе думать вот о данном предмете, а все-таки не могу сосредоточится. Плывут в голове образы, картины, воспоминания, мечты о будущем. А думать логически, рассуждать — не могу. Кажется, что вообще могу только воспринимать и сейчас же отзываться на впечатления, а рассуждать о нем — не хватает у меня и сил. Я вот сейчас решила очень твердо, что буду непременно вести дневник. Вместе с тем учиться говорить и точнее выражать свои мысли.
23 августа 1918 г.
Какая прелесть это Надсон! Как много чувства и какая чистота чувства! Не то что у нас. У нас, как только проблеск чувства, так мечты о поцелуях, о близости и прочей гадости. А у него?
«Ах эти ночи безумные, страстные, когда сон летит далеко от глаз, когда кровь жаркой струей бьет в виски, щеки и глаза горят беспокойным, лихорадочным огнем, и все во мне сливается в одну, наиболее приятную мечту о Наташе (хотел бы сказать Таль, да не посмел, даже в дневнике). Разве это не страсть, первая глубокая, вечная страсть?»
Как хороши эти слова и как далеки они от чувств и мыслей молодежи нашего времени. Наилучшие из последних говорят: «Хоть час, да мой».
Ольга Прокофьевна, которую я считаю одной из лучших людей, говорит, что не считает грехом ничто, что доставляет ей наслаждение, хотя бы наслаждение опускалось до самых пределов того, что считается нравственностью. Таня, мечтавшая о чистой любви мистера Марчбенкса из «Кануиды», преспокойно живет с Масленниковым (хотя я до сих пор не знаю, что побудило ее выйти за него. Сомневаюсь, что она любит его. Слишком уж он серенький человечек для любви Тани).
А сама я? Разве я не поддалась барону? Разве не виновата я в том, что осталась тогда у него? Разве теперь не мучает меня желание броситься на шею к Николаю, двоюродному брату. Иногда мне кажется, что это обыкновенное проявление братской родственной любви, иногда, что это проблеск чувственности. Не знаю… Совсем не знаю, чего больше.
Я знаю, что всякая чувственность мне противна, а порывы к ласке у меня были еще тогда, когда речи не могло о чувственности. Но теперь после той проклятой ночи, когда я разумом презираю барона, и забываясь, все-таки хочу его видеть, смотреть в агатовые глаза и протягивать ему для поцелуев свои руки — теперь я сомневаюсь в своей непорочности.
И почему все это? Сравнить поколение 60 — 70 годов, когда все дышало стремлением к добру, беззаветным стремлением к истине, страданием за мир, за людей и преданной, чистой, такой же беззаветной любовью к женщине. И теперь, когда девизом человеческой жизни становится: «хоть час, да мой» и «Лови текущий миг и плюнь на остальное», когда люди запутались и в зле хотят видеть добро, а добро называют злом — это ужасно. Не знаешь, куда идти, что делать и как жить.
Таня вот… Из моих друзей и знакомых, она — самая умная и хорошая. В противоположность мне, у нее всегда существовала цель жизни — сцена. Теперь она соединила свою жизнь с М. А., вдруг у них будут дети? Тогда прощай сцена. Прощай дорогие мечты о высокой беломраморной лестнице, на вершину которой она собиралась восходить к ореолу артистической славы.
Ташенька, моя дорогая. И все же я ее очень, очень люблю! Люблю еще больше, чем прежде. Помню ночью (я ночевала у нее) мы лежали в постели. Она говорила мне о том, что Масленников собирается учиться зимой, что он твердо решил это, и была горда сознанием того, что он будет учиться для того, чтобы быть достойным ее. «А ты сама-то любишь его?» — спросила я. Она мне на это не ответила. А ведь это — самое главное.
По моим наблюдениям… мне кажется, что она его любит, но любит, как своего первого обладателя, а не как человека, любит совсем не так, как мечтали мы с ней о любви безграничной, красивой и полной той неизъяснимой прелести, что делает ее содержательной в широком смысле этого слова.
Еще о поколении, к которому я имею честь принадлежать. Хотя нет, это пожалуй относится к моей собственной персоне. Я совершенно не имею никаких убеждений. Я верую в Бога, и в то же время не верю ему. Вот сейчас я думаю про это самым искренним образом и спрашиваю себя — верую ли я? Нет, в того Бога о котором говорили нам в школе, я не то что не верю, а просто знаю, что его быть не может. Бога во всех догматах, выдуманных досужими, (почему-то мне кажется католическими) клерикалами нет.
Я вот сейчас не могу охватить всего того, что нам говорили в школе, но все, что нам говорили, особенно в гимназии, кажется мне сухими фактами, заданным уроком, книжными буквами и больше ничем. Оттуда, конечно выделяются разные житии, легенды и предания, но все это мечты человека о Боге, а не то главное, что есть Он сам.
И все то прекрасное, что неуловимо заложено в человеке, что проявляется вокруг него, разлитое в природе, в небе, в самой жизни, все прекрасное, что человек хочет выразить в художественных произведениях, в его разуме, в любви — владычице мира, пути которой полны цветов и крови, в этом всем и есть Бог.
Но ведь это верование такое расплывчатое, такое неопределенное… И сама я часто люблю не божественную отвлеченность, а страдающую голову Христа, печально глядящего со старинной иконы в нашей часовне. Или всего Его в голубой одежде, такого светлого, такого чистого и безмятежного на большой картине нашего училища, благословляющего так хорошо, что хочется подойти к нему и дотронуться до края его голубой одежды, зная, что от этого станет легче, а главное, чище на душе.
Вспоминая сейчас, что Барон называл меня «моя голубая девочка». Не понимаю, как у него сплетались между собой самые хорошие слова, самые хорошие мысли и разврат старого изжившегося полу-животного. И ведь он тоже говорил, что верует… Гадкий! Мне хочется бросить в лицо ему это его верование, чтобы он видел, что не годится для того, чтобы вместе с ним произносить святое имя Бога.
Ну, довольно. Вчера возила снопы. Возила до того, что сегодня страшно болят ноги. А все-таки очень хорошо. Стоишь на верху большого воза и складываешь золотые, колючие массы. Такие мягкие, душистые, что от них весело на душе становится. И как я волновалась, когда везли первый, сложенный мною воз. Как будто шла на экзамен. И сколько было горя, когда дед Николай сказал, что колосья должны быть убраны в середину, а не сваливаться. И сколько счастья, когда следующие пять возов были один другого лучше и поваднее. Ровные, высокие и наверху я сама, торжествующая и смеющаяся, смеющаяся вовсю.
Анна сказала, что я «привычна к крестьянской работе». Не знаю, чему я больше радовалась — хорошо ли исполненному уроку, или ее похвале. О хорошо исполненной работе на службе и говорить нечего. Я никогда ей особенно не рада. Служба для меня — это средство, что бы материально существовать и больше ничего. А я так хотела, чтобы мои занятия были моей жизнью. Моей жизнью может быть только живая жизнь, то есть, когда волнуют всякие вопросы, когда вокруг слышатся живые речи о красоте, правде и добре, когда сама идешь вперед и ищешь идеалы и когда, самое главное, творишь красоту.
К таким жизням принадлежит жизнь писателей или артистов. Для того, что бы быть или тем или другим нужно иметь талант, а есть ли у меня он? Вот мучительный вопрос моего теперешнего существования.
24 августа 1918 г.
Сегодня плохая погода и я все время сидела дома. Ветрище ужасный. Тучи ползут без конца. Хоть бы завтра была хорошая погода. В деревне самое главное — погода.
26 августа 1918 г.
Сегодня хоть и ветер, а все-таки солнечно. Сижу на полосе, гляжу, как Алена и Анка теребят лен. Смотрю на них, читаю, а больше всего думаю о разных вещах или, вернее вспоминаю.
4 сентября 1918 г.
— 137 — 56 — это квартира барона Миклос?
— Да.
— Можно Юрия Николаевича к телефону.
— Это я.
— Говорит Нина Николаевна.
— А, мой детеныш! Здравствуйте, целую ручки.
— Послушайте, я несколько раз говорила, чтобы Вы прислали мне книгу.
— Да.
— И почему ее до сих пор нет?
— Я хочу, чтобы Вы сами пришли за ней. Вы придете сегодня? Мне так нужно Вас видеть!
— Нет, Вам видеть меня не нужно, и я к Вам конечно не приду.
— А я не отдам Вам книгу.
— Хорошо, я оставлю Вам книгу в подарок.
— Насильный подарок?
— Можете называть, как Вам угодно. но я к Вам за книгой не приду.
— Ну хорошо, Вы будете сегодня дома, я к Вам приеду.
— Да, я дома, но ехать ко мне не советую.
— Почему?
— Я совсем не хочу Вас видеть.
— А… ну хорошо, я пришлю Вам книгу.
— Я Вам буду очень благодарна.
— До свидания.
— До свидания.
Я почти плакала, когда шла от телефона. Какая я все-таки грубая. Теперь он конечно никогда не придет ко мне, и я никогда не увижу его. Самые разноречивые чувства боролись во мне, когда я шла по нашему коридору. Если бы не было вокруг людей, я бы разрыдалась самым отчаянным образом. Мне кажется, я его так обидела. И в то же время я рада, что сжигаю свои последние корабли, и что все меньше и меньше надежды на то, что нас когда-нибудь, что-нибудь соединит.
А ведь я знаю, я его не люблю. Просто мне некого любить, и я вот хоть немножко (э, пусть! люблю, хотя это совсем не верно) барона. Нужно сегодня как следует в этом разобраться.
21 марта 1919г.
Почему после хорошего настроения всегда наступает реакция? Вот только что мне было так хорошо, и я веселилась и прыгала с Колей и Юркой, а теперь худо — худо, тоскливо — тоскливо на душе. Неужели жизнь сама по себе уж такова. В самом прекрасном кроется самое ужасное. Помню, что повеселившись раньше на каком-нибудь балу, я уходила с него с тоскливою душою.
Помню, как мы шли с Таней по улицам и говорили, говорили много и полно. Мне страшно жаль сделалось ее недавно. Казалось, что я совершенно переменилась к ней, что она далеко отошла от меня к своему Масленникову. Казалось — она счастлива тем мещанским благополучием, которое у нее было в начале. Но вот Таня приехала, и я ей сказала, как думаю, а она говорит: «Ну, какое благополучие…» И у меня сжалось сердце. На минутку Таня сделалась мне опять близкой. И даже что-то похожее на радость промелькнуло во мне. Как будто я рада, что у них что-то неладно. Почему? Иногда мне кажется, что я вообще живу только для того и с теми, у которых есть какое-нибудь горе, кого надо утешить. Как только человек становится на твердую почву, так становится мне чужим. Я от него отдаляюсь. Или, вернее, он от меня отдаляется.
Голова болит, немножко кружится. Это, верно, от тех упражнений, которые мы сейчас с Жоржем проделывали. Так болит, что не могу писать.
28 марта.
Господи, как скучно жить. И куда ни посмотришь — всюду видишь не людей, а каких-то чудовищ. Все, точно звери бросаются на тебя и того и гляди сделают какую-нибудь гадость. Как, например проделывает со мной эксперименты Михайлов. Я, вероятно, ни от кого ни терпела больше чем от него и за что? Не понимаю. Каждый день что-нибудь придумывается, что бы сделать мне или сказать гадость. Я теперь понимаю слово: «… у кого есть что-нибудь — преумножится, а у кого мало — и последнее отнимется». Раньше мне казалось это несправедливым, а теперь понимаю вполне. Чем меньше просишь, тем лучше и больше дается все, а меньше просишь тогда, когда все есть.
Странный я человек. Все мне кажется, что люди потому плохо относятся друг ук другу, что недостаточно знают один другого, недостаточно откровенны. И я начинаю объяснять все. И оказывается, они еще больше сердятся на объяснения, еще больше не хотят ничего понимать. Мне противно на них, противно до невозможности. Господи, неужели я опять не так сделала. Опять пошла не по тому пути по которому следовало. И опять придется делать большой круг, чтобы возвратиться на правильную дорогу, да возвратишься ли?
С отцом я жить не могу. Мне гадка та грязь и все это неряшество в котором он живет. А искать квартиру где-нибудь у чужих — страшно. Бог знает, если попадешь к такой же фурии как М. И я ее не понимаю. Выставить человека таким бессовестным образом, а потом идти к нему и разговаривать, как ни в чем ни бывало. Впрочем, я сама виновата. Всегда, как разберешься, оказываюсь виновата я сама. Как я не умею жить.
Я бы давно уехала к маме, но не могу. Студия и театр больше всего держат меня.
Вот теперь опять. Неужели этих людей я опять упущу? В прошлом году не сумела удержаться где надо. Не вдумываясь глубоко в положение, играла с ними легкомысленно и вот… Мне иногда кажется, что я ненавижу их за то, что так глубоко люблю… О, люди, люди…
Думалось — легко жить по правде. Только говори правду и делай правду. И все. А не только делать, но и говорить правду трудно. Страшно трудно. Иногда сперва скажешь, а потом уже поймешь, что солгал. Что делать?
Во мне сидят два противоположных человека. Если один думает хорошо, другой навевает разные худые мысли. Если первый, вот как это сейчас, разражается отчаянными стенаниями, другой говорит: «Э, что ты плачешь! Жизнь ведь хороша. Хороша уже по одному тому, что, несмотря ни на что, ты все-таки живешь и т. д. и т.п.»
16 мая 1919 г.
Я ищу человека. Я мучаюсь в своем искании, принимаю фальшивое за истинное, ошибаюсь и все-таки ищу. Я не знаю, что должен представлять из себя «человек», но знаю, что узнаю его тот час же, как найду. Боюсь, что пройду мимо, и как только пройду, так узнаю…
Больше всего приближается к «человеку» Гайдебуров и отчасти, Эйхенбаум. Но с Гайдебуровым у меня сейчас нет ничего общего. И чем дальше я живу, тем больше отхожу от театра, вместо того, что бы приближаться к нему. Господи! Вот теперь я нашла цель, но неужели только для того, что бы все больше и больше удаляться от нее. Нужно, что бы голос мой был нежным и кристально-чистым, нужно, что бы он звучал, как самая красивая нота на рояле. И вместо того, я по целым дням глотаю пыль от сотни книг. Нужно, что бы каждое движение было мое было красиво, выразительно, давало рисунок, а я размениваюсь на какие-то ненужные тирады, и вообще, разного рода глупости. Вот сейчас передо мной карточка Белогорского. Как многого достиг он. Ведь при желании — все возможно. Употребив гигантские усилия, можно достичь того, чего достиг бесталанный Сальери, которого Моцарт называл гением. А на достижение у меня хватит сил. Только нужно создать себе возможность достижений. А я в настоящее время погрузилась в заработок. Хочу думать, что зарабатываю себе на зиму, но боюсь, что слишком привыкну тратить деньги, как сейчас, не отказывая себе почти ни в чем, пользоваться разного рода удобствами и красивыми вещами, посылать маме и братьям столько, что бы они могли хорошо жить и не могу отказаться от избытка, который сейчас имею. Слишком уж меня давила жизнь раньше, и я так боюсь вернуться к старому. Но в то же время знаю, что нужно жить так, чтобы каждое мгновение жизни было бы значительным и давало максимум удовлетворения. А разве дает мне радость полную, настоящую моя теперешняя погоня за рублями? Не могу отказаться от того, что теперешняя моя работа нравится мне и дает нравственное удовлетворение, но все же это не такая горячая радость и вдохновение, как тогда, когда чувствуешь себя на сцене, когда говоришь свою душу чужими словами, делающимися родными, когда в фразе выливаешь всю муку и радость сердца, когда душа соединяется с душой чего-то высшего и чувствуешь радость и поет душа песню творчества.
Господи! Выведи меня на путь истинный и желанный.
Вчера. О, какая я вчера была безрассудная: говорила о своей тоске, о своем стенании сердца… Зачем? И кому? И даже чувствовала слезы у себя в голосе, чуть не разрыдалась. Мне было так тоскливо и как-то немного сладко-тоскливо. Хотелось рыдать стихами…
И вдруг он заметил? Он ведь совсем другой. Для него жизнь — это кипучее море деятельности, а не бесцельное созерцание. Для него я со своей тоской смешна. Он постарался бы стряхнуть эту тоску и бросился в какое-нибудь дело. А я как-то бессильна перед ней, вероятно перед всем бессильна…
Эхенбаум иногда напоминает бога Аполлона своей мужской, немного суровой прелестью, соединенной с некоторой романтикой, а иногда мальчишку-школьника, нахального, самоуверенного, переворачивающего все на свою школьную изнанку. У него очень хорошая нижняя часть лица, прекрасный изгиб рта, красивая, освещающая улыбка, но глаза, лоб, волосы еще не развились. Глаза под влиянием некоторых дурных чувств, жадности и любви к наживе делаются узкими, серыми и нехорошими, скулы выдаются, лоб морщится, волосы не слушаются гребенки. Мне почему-то кажется, что у людей с дурной нижней частью лица и хорошей верхней, прирожденные дурные наклонности, но они стараются исправить их и бороться с ними, а у людей, имеющих нижнюю часть лица красивую, и верхнюю некрасивую — природные свойства чужды злых помыслов и только потом в жизни сознательно или бессознательно они приобретают их.
18 мая 1919 г. Утро.
Я так занята целый день, что мне некогда даже разогреть себе каши. Вчера я, например, делала это таким способом: взяла горячего кипятку и налила в чашку с кашей. Но каша от этого делалась только жиже, но не теплее.
Мамочка, моя милая дорогая мамочка. Господи, сохрани ее, мою родную. Мама, я буду целовать подол твоего платья, только приезжай, только дай долго-долго смотреть на тебя, моя родная мамочка. И Витя… И Володя…
Господи, неужели нет просвета? Неужели все время будет так? Ты же знаешь, Господи, я — не смогу жить так. Я покончу собой. Ты же знаешь, Господи, ты понимаешь, что это не грех. Что жить отвратительно, пошло, гадко, жить хуже животного грешнее, чем лишить себя жизни…
Господи, не наказывай меня за эти мысли. Ты знаешь, они идут от чистого сердца, и ведь не может же быть иначе. Ты сам знаешь. Не может в гадкой зловонной яме вырасти роза! Не может и человек, живущий гадко петь радость жизни. А жить можно лишь тогда, когда жизнь — радость. Страдание — тоже радость. Но если жизнь — пошлость и абсолютное отсутствие чего-либо содержательного, имеющего смысл — лучше умереть.
15 июля 1919 г.
Мои грезы: Я сижу и жду его. Он приходит, молча опускается у моих колен и без конца целует мои руки. Без конца… И так хорошо чувствовать мои маленькие руки в его больших, мужественных лапах (но все это выговаривается совсем не так красиво, как думается). Потом он берет меня и несет к столу, уставленному белыми цветами, и тонкими кушаньями в хрустальной посуде. Я откидываю его спутавшиеся белокурые волосы, целую его большой лоб и нежно, нежно смотрю в его глаза. Я не могу отвести взора, заглядываю в самую глубину его серо-голубых глаз. И так и остаюсь в кресле, не умея оторвать глаз от него, готовая целую вечность созерцать дорогие черты…
Или: Целый день я работаю, тружусь. Работа интересная, хорошая, живая, требующая неустанного умственного напряжения и твердой энергии. Серьезная целый день, деловая (например, если бы я заведовала Народным домом. Господи, сколько тут всякой хорошей работы!), я, наконец, прихожу к себе домой. И сразу становлюсь маленькой девочкой, какая я есть на самом деле. Смеюсь, болтаю, капризничаю, шалю, бегаю и проделываю всякие хулиганские штуки, на которые у меня иногда так много способностей. И чтобы он тоже был все время со мной.
И чтобы мамочка была тоже здесь и Витя и Володя тоже были здесь. И так было бы хорошо!
Мамочка, что ты делаешь теперь? Может быть так же как я, облокотившись о стол, плачешь горько, горько…
24 июля 1919 г.
Мне кажется, что я создана для страданий. Я становлюсь лучше, сознательнее, умнее, когда страдаю. В последнее время у меня была целая плеяда мук, и я чувствую, что в последнее время я думала больше, жила полнее, чем прежде. Даже волосы мои стали виться красивее, чем раньше. Итак, у меня дилемма: хочу жить красиво во всех отношениях. А живу красивее тогда, когда каждая минута приносит страдания. Что делать? Страдать и найти в страдании наслаждение? Хороший удел!
Я все забываю, что счастья то я ведь недостойна. За все свои проделки, за глупые кутежи и другие разные гадкие вещи я недостойна счастья. И я должна воспринимать это, как должное.
А все таки, как хочется настоящего, хорошего счастья, глубокого, глубокого!
Странно. Цветы всегда говорят мне правду. В позапрошлом году я так много находила пять в сирени. И действительно, была почти счастлива — ведь такая хорошая зима была 1917 — 1918 года и лето и все. А теперь — какой-то сплошной ужас. И это в двадцать один год! И как подумаешь — не видала я ни одной крошечки настоящего или хоть какого-нибудь счастья.
Я теперь очень часто спрашиваю сирень. И очень часто, почти всегда она мне отвечает «нет». Почему «нет», когда мне так хочется услышать «да»? И по поверке все оказывается верно. Самое ужасное — это то, что я теперь не верю, что у меня когда-нибудь будет что-нибудь хорошее.
Единственно — это сцена. И зачем только я сегодня говорила про нее Ром Львовичу? Да еще защищала перед ним, когда он говорил, что библиотека лучше сцены… Самое хорошее, самое дорогое как будто выходило из меня. И минуту до разговора я собиралась бросить все и уйти в театр. А теперь думаю: нужно хорошенько все это обдумать.
20 ноября 1919 г.
И зачем только убили Изорова! Господи, сделай чудо! Пусть снова встанет мое солнышко! А может быть это чувство беспредельной тоски относится к кому-то другому?
В общем — глупо. Дрянь я порядочная! Вот и все. Даже противно писать.
Декабрь 1920 года.
Обмани, но люби.
И не надо на срок…
Хоть на месяц, на час.
Обмани, но люби.
Лучше быть обманутой,
Лучше быть покинутой,
Чем прожить всю жизнь
Без любви.
24 мая 1921 г.
Подражание Черубине Габриак.
Зачем так нежны кисти рук
И звучно имя Антонины —
Чтоб целовал их тихо друг
И сладко звал своею Ниной.
Зачем так вьются волоса,
Сверкая под лучами солнца?
Прижаты к ним его уста
И пальцы развивают кольца.
Зачем в очах покоя нет,
Блестят мучительно огнями?
Все для того, чтоб синий свет
К нему проник двумя лучами.
Зачем дрожат мои уста
И полымем пылают щеки?
Затем… что я люблю тебя,
Что ты мой милый, черноокий.
14 октября 1921 г.
Ты вчера предо мной свое сердце раскрыл,
Как весна раскрывает цветок.
А сегодня ты чужд и жестоко-уныл,
Как порою ночной, когда холод и мрак
Закрывается нежный цветок.
Ты вчера был так нежен, как будто бы я
Бесконечно тебе дорога.
А сегодня сурово глядишь на меня,
И так горько подумать, что близость твоя
Далека… далека… далека…
Несколько лет спустя жизнь подарила ей встречу с человеком, для которого она стала другом и опорой на всю жизнь.
16 июля 1924 г. Кинешма.
«Милая, дорогая, хорошая, золотая, единственная и любимая Антонина Николаевна! Только сейчас смог написать Вам это письмо. Как только приехал — тотчас меня закрутили, и почти все эти дни мы провели вне города на велосипедах. Ездили за 20 верст — катались, объедались земляникой и разными ягодами. А сейчас пошли страшные дожди с грозой и бурей — как будто бы я занес из Питера питерскую погоду. Приняли меня хорошо. Остановился там, где хотел. Несколько человек обиделись, что не остановился у них. Приехал я в субботу в полдень и хотя до сих пор нигде не бывал, уже в тот же день вечером разлетелась весть о моем приезде. Сейчас я спасаюсь и скрываюсь от знакомых и скоро удеру из города в деревню, как только пройдут дожди. В самом городе — скука и тоска. Люди мне не нужны, а кругом Кинешмы хорошо.
Здесь вдали — еще сильнее чувствую, как Вас люблю, мою единственную, золотую, нужную мне как воздух, как свет. Когда иду по полям, думаю — вот бы Вы были со мной… Я уже сильно загорел и чувствую себя бодрее. Целую Вас много, много раз, Ваши волосы, глаза, лоб, руки. Знаете, моя единственная и любимая, что так, как я Вас люблю, — я не любил никогда и никого уже не полюблю…»
К семейному архиву Б. П. относился очень бережно. Он хранил, порой, совсем незначительные бумаги и документы, которые сейчас приобретают особую значимость и смысл. Велись и «семейные записи», где одной, двумя строчками фиксировались наиболее значимые события.
«Всерьез, надолго, навсегда (1925 г.) — три слова о начале семейной жизни. Б.П. окунулся в литературную жизнь Петербурга после военной службы, отнявшей у него пять лет, и его короткие, дневниковые записи — как бы вехи в поиске своего пути — в итоге пути литературоведа-исследователя: «Зимой вел газетные кружки в «Ленинградской правде» (1926 г.), «Поступил в Гос. университет», «Зачислен лектором по художественной литературе в Губпросвет» (1928 г.), «Выдвинут в аспирантуру» и т. д.
В 1931 году он пишет в письме к жене: «Сейчас я пишу неторопливо (какое это хорошее чувство — писать неторопливо) и продумываю каждое слово (именно начинаю продумывать) и после долгого отсутствия этого — сейчас неторопливое продумывание приносит чувство почти физического удовлетворения. Короче, я медленно выздоравливаю, становлюсь самим собой. «Выздоравливаю», очевидно, в переносном смысле. Я весь этот прошлый период… торопился, работа была внешняя… Но сути-то не было, это я сам чувствовал очень хорошо. Все эти кружки, лекции и т. д. потому у меня (только у меня) и не срывались, потому что мы на них жили ряд лет, ибо надо было давать каждый раз что-то новое, может быть, интересное, но по-существу — в глубине я не шел.
Дома я один. Тихо. Балкон открыт. У нас дивно хорошо. В промежутке между окон в ванной голубиная мама снесла яичко и сидит на нем. Думаю, что будет маленький голубок».
В 39-м, после многолетнего перерыва Б.П. записывает: «Будем продолжать эти семейные записи. За это время случилось: 1935 г. — закончил аспирантуру и получил звание кандидата филологических наук.
Читаю в качестве доцента основной курс русской литературы ХIХ века в Ленинградском педагогическом институте им. Покровского».
Но следующая, сентябрьская запись 1939 г., кажется, была последней. «В ночь с 6 на 7 сентября был мобилизован как командир запаса и отправлен к польской границе под г. Моздырь». Это случилось через неделю после того, как (Б.С.Э. т.34 стр.92) «1 сентября 1939 г. произошло нападение гитлеровской Германии на Польшу. Начало Второй мировой войны».
Началась война, и большинство страниц большой, красивой в мягком кожаном переплете книги (Б.П. очень профессионально сам переплетал и реставрировал дорогие ему книги) остались нетронутыми.
Жизнь семьи в годы войны — в письмах.
1
30 июня 1942 г. Ленинград.
«…Вы чувствуете, что мы стали ближе, научились любить и ценить друг друга. И это особенно видно по письмам, которые я получаю от вас… Кстати, сохраняете ли вы мои письма? Дело не в том, что я ими очень дорожу, а дело в том, что они, эти письма — целая полоса нашей жизни. Ваши письма я тщательно храню, подбирая их в хронологическом порядке. Когда все кончится — будем читать и вспоминать те месяцы, которые провели в разлуке».
Эти строки письма из блокадного Ленинграда моего деда к жене и дочерям, которые выехали из города с лагерем Литфонда под Ярославль, а затем на Урал, в Молотовскую (Пермскую) область. «Ведь целая жизнь семьи в этих письмах», — повторяет он в другом письме.
Не знаю, перечитывались ли эти, полные любви и заботы письма в кругу семьи в послевоенные годы. Думаю, что нет. Жизнь была сложной, нахлынуло много другого…
Я никогда не решился бы придать гласности (опубликовать) эти, порой очень личные, семейные реликвии, если бы не был уверен, что каждым словом в них движет энергия любви и долга.
8 сентября 1939 г.
«Милые и дорогие мои… Пишу вам подъезжая к Витебску. Доеду до Орши, а там, вероятно, будет пересадка до ст. Козенки.
Сели мы хорошо и, хотя вагон был переполнен, удалось занять верхнюю полку и хорошо и спокойно провести ночь.
Выехал я неожиданно… Очень беспокоит, что редактура V тома (Истории литературы) совершенно законченная, лежит дома. Ее тот час нужно снести в издательство. Я даже не был в состоянии на титульном листе сделать разрешительную пометку к печати. Посылаю ее сейчас на отдельном листочке: пускай приклеют к титульному листу.
Знают ли на местах, где я работаю, что я мобилизован? Представь себе, я как будто предчувствовал, что 7-го уеду, пошел 6-го [в выходной день] к В.В.Гиппиусу, редактору пятого тома и согласовал с ним все мои поправки, которые он все принял (и еще благодарил меня за внимательный просмотр), 6-го вечером запаковал все в пакет, думая, что ты 7-го отнесешь в издательство, т.к. у меня 7-го с 9 ч. утра должна была быть лекция, а с 11 экзамен у аспирантов. Очень также беспокоит и то, что работа по Гоголю откладывается на месяц.
P.S. Очень беспокоился, оставив дочку одну дома, беспокоился, что она уйдет в школу, не выключив электрический чайник. Но уже с вокзала, позвонив домой, успокоился».
9 сентября. Моздырь.
«Вчера ночью добрались до места. Я уже в полной форме со всем снаряжением. Здесь стоят такие же дни, как у нас в июле. Это и понятно — южнее. Такая резкая перемена, что к ней надо привыкнуть.
Из последних сообщений ты знаешь, как обернулось дело. Пожалуйста, не падай духом — сохраняйте бодрость и будьте веселы. Как это важно и нужно — я знаю по себе. Пишите, мои дорогие, все будет хорошо…»
21 сентября 1939 г. Ленинград
«…Я приехала в 7.35, как раз в ту минуту, когда ты выехал из Ленинграда. И как Света, встретив меня в дверях, сказала мне: «А папа в армию уехал», так я до сих пор опомниться не могу. Все как-то непривычно дома. Вещи с дачи все перевезены в Ленинград. Велосипед водворен на свое место, шина передняя не спускает. Вот и все наши семейные дела.
Теперь институты: в институте Покровского я была только в кассе и у Анны Львовны. Это было как раз в тот момент, когда передавали речь Молотова о начавшемся наступлении Красной Армии. Я так перепугалась, что едва сдержала слезы. Получила 328 р. В Институте литературы меня встретили очень тепло. Там все на месте. В ДХВД (Дом художественного воспитания детей) теперь призывной пункт, и он закрыт. Поэтому Света не занимается музыкой».
20 сентября 1939 г.
«Милые и дорогие мои! Сразу же скажу: очень меня беспокоит, что не получаю от вас ни одного письма. Напишите скорее — как у вас, все ли здоровы, все ли в порядке? На всякий случай, без меня — во всяком затруднительном положении знайте, что вам всегда поможет парторганизация Академии Наук. Единственная просьба к вам — это чтобы в бытовом отношении вы жили бы так, как раньше. Обо мне не беспокойтесь — я здоров и ничего со мной не случится. Ждите меня домой. Для моих девочек я набрал много больших зеленых желудей, величиной с большую марку. У меня в чемоданчике они созрели и стали коричневыми.
Как поживает Пуха и много ли она наловила крыс?
У нас очень тепло, ходим в одних летних рубашках. Какая погода в Ленинграде?
Очень меня интересует, как идут дела в институте Покровского. Как вышли карточки. Приеду — напечатаем еще.
Ходите в театры, а зимой будем кататься все на коньках.
Пишите чаще…»
30 сентября 1939 г. Ленинград.
«Все хорошо: цветы распускаются, филодендрон выпускает теперь только вырезные большие листья, фикус дал еще новые листы, в горшке у большой луковицы появилась маленькая вторая, я не знаю, что делать, вероятно, нужно отсадить? Детки растут, о нас не беспокойся. Только у нас очень холодно. В театр ходить не хочется.
Между прочим, твои письма такие спокойные, такие хорошие, что я надеюсь, что у тебя хорошее настроение. Пусть оно сохранится, потому что дома у тебя все хорошо и спокойно».
25 сентября 1939 г.
«Какая у вас погода? У нас похолодание и дожди…
Иногда бывает, что проживешь немного в другой, непривычной обстановке, и на многое уже глядишь иными глазами и, кажется, сейчас многое сделал бы по-иному и, главное, вел бы себя иначе…
У нас еще желтых листьев почти совсем нет — все зелено — как летом, а у вас, наверное, листья уже валяются. Пожалуйста, не падай духом — у меня есть некоторые основания скоро возвратиться».
6 октября 1939 г.
«Милые и дорогие мои! Получаете ли Вы мои письма? …Недавно я говорил с вами по телефону. Для этого я с ординарцем приехали в город издалека по сплошному проливному дождю. Часа два дожидался вызова, совершенно мокрый. Но тебя не оказалось дома. Бабушку я слышал очень хорошо, а она меня очень плохо. Она меня совсем не поняла. Спрашиваю я ее: „Как у Нины с деньгами?“, а она мне кричит: „Прислать ли тебе теплое белье?“. Так же происходил разговор и с дочкой, которая все повторяла: „Папа, папа“, а меня, по-видимому, совсем не поняла. Часов в 9 вечера под проливным дождем по сплошной темноте ехали мы из города домой. Лошади пугались и спотыкались в темноте».
10 октября 1939 г.
«…Как вы, мои хорошие, поживаете? Боюсь, что у вас не так хорошо с деньгами. Скоро вам пришлю немного. Продержитесь еще немного. Думается, что все скоро кончится. И мы все опять будем вместе. Мне ничего посылать не надо. Живите спокойно и обо мне не беспокойтесь. Я здоров. …Если случится делать затемнение окон, то склеенные газетные листы на все окна лежат аккуратно свернутые в трубочку на антресолях в ванной. Жаль, что не успел потребовать от ЖАКТа починить балконную дверь, а нужно бы. Может быть ты, на положении «солдатки» потребуешь этого, сошлись на меня. [Балконная дверь так никогда и не была починена.] Чему бы мне Светланушка позавидовала — так это лошади. Вот она покаталась бы на настоящей строевой, верховой, резвой, красивой лошади, на настоящем седле. Ну ничего, следующее лето она вдоволь накатается в Ситенках. Между прочим — не махнуть ли нам всем на следующее лето, разумеется, если все будет спокойно, — на юг? Я даже ничего не имею против Евпатории…
Сегодня я чувствую себя очень хорошо, строю всякие планы будущего и думаю о вас, моих дорогих.»
Но все обернулось иначе. Огонь был заглушен огнем, пущенным навстречу. Потом рылись рвы по границам, вырубались деревья…
Стихи о певце, короле и маркизе
ВСТУПЛЕНИЕ
Где-то над зреющим хлебом
Веют чуть зримо зарницы,
А в голубеющем небе
Плавают белые птицы.
Ветер, летящий над морем,
На волны пал, как на струны, —
Песня проснулась в просторе,
Глухо запели буруны.
Звонко завторило море, —
Синие, шумные воды, —
Песню великого горя,
Песню великой свободы.
I
Из края в край, из града в град
Гудит, бежит, зовет набат.
Вставай, измученный народ,
Бросай поля — твой враг не ждет!
Чужой король идет войной,
В крови потонет край родной.
И виноградники горят —
В колодцы брошен страшный яд.
Гудит, бежит, зовет набат —
Из края в край, из града в град.
II
И прокатился по равнинам
Родной страны с конца в конец,
Мать разлучая с мужем, сыном, —
С приказом короля гонец.
Страна оделась в багряницу,
Плыл черный, похоронный звон…
А над землей метались птицы,
Кричали стаи злых ворон…
И тяжко по полям забытым
В ручьях кровавого вина
Брел черный конь, звеня копытом,
С зловещим всадником — Война!
III
Земля, пресыщенная кровью,
Рождала красные цветы.
Цветы склонялись к изголовью —
Будили грешные мечты.
И по полям, где прежде стлался,
Шуршал и колосился злак —
Дурманным морем разливался
Кровавый и огнистый мак.
И были странно-бледны лица,
И странно-тихой стала речь.
Все стали верить в небылицы
И ждать предсказанных предтеч.
А по холмам и по долинам
Весь день, всю ночь — всегда, всегда,
Даль застилалась едким дымом,
Горели сели, города…
IV
«Маркиза, Царица лилий!» —
Король сказал, склонясь, —
«Сегодня меня рассмешили:
Он, право, шутник, этот князь!
Он говорит, что народу
Тягостна эта война,
Что народ желает свободы
И мира просит страна!»
Маркиза, Маркиза, Маркиза!
Король — во власти чар!
Он Вам, пышней Парадиза,
Дворец готовит в дар.
Пусть там, где воет ветер —
Пылают села огнем,
А в этот синеющий вечер
Так сладко с Вами вдвоем…
V
Не на пышных трибунах, не в праздничных залах —
На оливковых бочках, на грудах канатов
Говорили о кознях придворных вассалов,
Об убийственных войнах всесильных магнатов.
Говорили о том, что народ погибает,
Что едят уже трупы, и близко отмщенье!
Урожаи пшеницы все тают и тают,
А вокруг — небывалый грабеж и хищенья…
Мором гибнут стада и поля позабыты —
Заросли диким маком и горькой полынью…
В королевских войсках сыновья перебиты,
И страна вся в слезах, и тоске, и унынье…
И от сердца до сердца, как искрá от пожара,
Как звенящие стрелы, как пламя восхода,
Зажигая неведомым, пышущим жаром,
Замелькало крылатое слово — «свобода»!
VI
Что волнуется столица?
И на площади народ?
Пред дворцом певец-бродяга
Песню смелую поет.
Ноги босы, кудри вьются,
Звонок голос, взор открыт.
И певучая гитара
Чистым золотом звенит.
Он пел о простом народе,
О тайных мечтах короля,
И смелому слову — «свобода»
Внимала родная земля.
ПЕСНЯ ПЕВЦА
«Свобода! Свобода! Свобода!
Ах, в эти тяжелые дни
Тернистою долю народа
Своим ты крылом осени!
Пусть счастье, как сон, быстротечно,
Пусть молодость жизни пройдет —
Свобода останется вечно,
Мы верим — свобода придет!»
VII
Вдруг — смятенье, давка, крики,
Камни свищут, кровь, земля —
То певец, не кончив песни,
Схвачен стражей короля.
И король, нахмурив брови,
Молвит грозно — «Кто такой?»
«Я певец! Слуга народа,
Друг народа — недруг твой!»
«Недруг мой?» Король смеется.
«Ты, хмельной, забыл, кто я?»
А певец берет гитару:
«Кто ты? Скажет песнь моя!
Я спою, как всякий нищий,
Собирая хлеб с полей,
Оттирая капли пота,
Кормит блох да королей!
Блохи скачут, ты жиреешь,
Давят блох, и в твой черед,
Как блоху, тебя раздавит
Возмутившийся народ!
Заживут тогда счастливо
И, снимая хлеб с полей,
Будут рады, что над ними —
Нет ни блох, ни королей!»
VIII
И наутро певца — не стало,
Он к Богу песню понес…
А король подарил маркизе
Букет из алых роз.
2
6 июля 1941 г.
«Здравствуйте дорогие папа с мамой и бабушкой!
Я вам пишу со станции Бежецы, мы с нее только что тронулись и стояли по крайней мере час. Вообще-то едем мы сравнительно хорошо. Сперва нас привезли на вокзал, а потом рассадили по вагонам, причем по пять-шесть человек на лавку. Мы оказались на второй полке вдвоем (впрочем, всего три полки, и на каждой спят по двое человек, а на первые полки кладут самых маленьких). Я разложила постель и вышло очень хорошо. Мы совсем не покрывались, потому что было очень жарко. Мы даже все мокрые были, так что пришлось вытираться.
Мамочка, ты не беспокойся, окошко с нашей стороны не открыто, так что сквозняка не было. Перед тем, как ложиться спать, мы покушали (но сперва вымылись). Ты нам столько всего положила, что прямо ужас. Одних яиц 25 штук. Целая рыбина. Что мы с ней будем делать? Нам ее ни за что не съесть. Морс здесь носят. Спали мы так: младшая всю ночь спала с 10 до 6 часов, а я совсем не спала, потому что негде. Впрочем, и все большие ребята на спали, потому что очень неудобно. Ночью у нас была такая грозища! Молнии так и сверкали! Чувствуем себя хорошо.
Сейчас 10 часов утра. Я буду весь день спать. Целую крепко, крепко».
11 июля 1941 г. Гаврилов Ям
«Мы чувствуем себя ничего. Здесь дикая жара, и когда я стирала в речке, мы здорово обожгли спины и плечи. Вообще здесь все ходят смазанные вазелином и маслом и не дают прикасаться к себе. Мы каждый день ходим под душ и утром, и вечером. Спим мы пока на полу, на очень высоких тюфяках и еще почти не распаковали свои тюки, вынули только необходимое. Я все грязное белье выстирала, но гладить негде. Сегодня мы, кажется переедем в зимнее каменное здание уже насовсем. Туда уже перетаскивают мебель. Вообще здесь, конечно, можно было ожидать лучшего. Кормят нас еще в фабрике-кухне, причем тоже не очень хорошо и однообразно. Когда мы переедем в зимнее помещение, нам будут давать сухой паек, и кухарка будет готовить нам всем. Мы ходим красные с бронзовым отливом — очень красиво. Речка здесь вроде Луги, только шире и течет гораздо медленнее. В общем, ты с папой не беспокойтесь. Мы живы, здоровы.
Мама! Следи за папой и Дельтой [собакой], никому ее не отдавай, а папе купи носки и сшей белье.
Здесь вчера мы встретили мам, которые приехали к своим детенышам. Знаешь, здесь нечего есть тем, кто здесь живет. Нас хоть кормят манной кашей, пшенкой, картошкой с колбасой, супом, киселем, маслом, яйцами, чаем, а здешнее население получает по 1 кг хлеба в день. Мамочка, мы приедем к осени, так что скоро увидимся.
До свидания. Береги папу и Дельту. Привет бабушке, всем, всем.
Целуем».
16 июля 1941 г. Ленинград
«Мои дорогие девочки. Папа уже восьмой день роет противотанковые рвы где-то под Новгородом. Как только он приедет, я сейчас же приеду к вам. Вчера бабушка была именинница. А я от вас подарила ей торт, а от меня и папы — кофейник. Наша бабушка кофейница. И кофейник прямо чудесный. Во-первых, у него алюминиевая сеточка вместо мешочка из носков. Потом внизу такой пароотводник. Он не дает кофе убежать. Прямо замечательный кофейник. Стоит 68 рублей. Крышка у него стеклянная, а сам весь никелированный. Он произвел большой фурор. Тетя Лена сказала, что она тоже будет скоро именинница, так чтобы ей тоже такой кофейник я подарила. Ручка у него пластмассовая, браться за нее не горячо.
Как вы, мои дорогие, живете? Как поживают ваши спинки? Зажили они? Вероятно, сходит кожа? Я очень рада, что вы ходите под душ. Это очень хорошо. Было бы замечательно, если бы вы эту привычку сохранили до поздней осени. Осенью я надеюсь, что мы увидимся. Наша Красная Армия начинает крепко бить немцев. Но если компания затянется, то я обязательно проберусь к вам.
В предыдущем письме я писала, что Литфонд дает пароход и я буду у вас 28-го. Но, к сожалению, пароход забрало военное ведомство, и вся поездка распалась.
Мои милые девочки, не ходите по солнышку, будьте больше в тени. Доченька, сделай метки на всех вещах, чтобы не растерять чего.
С Дельтой мы живем очень хорошо. Это стала умненькая, хорошая, спокойная собака. Папа водил ее купать на Неву. Целая толпа собирается смотреть, когда она купается. Она всем приносит палку, которую бросают, кто захочет. Она первое время очень скучала, а теперь ничего: она, очевидно, чувствует, что мы все скоро опять будем вместе…»
22 июля 1941 г. Гаврилов Ям
«Папочка, миленький, как ты поживаешь? Мы живем очень хорошо. Просто замечательно. Ходим в колхоз работать. Питаемся в последнее время тоже хорошо. У нас очень хорошая руководительница, вернее, две, и ты, наверное, их обеих знаешь. Первая — Зоя Владимировна Гуковская, а вторая — Елена Яковлевна Бесценная, они обе тебя знают. Здесь очень хорошие девочки. Наташа Гуковская, Наташа Каверина, Д’Актели — сестры, сестры Успенские, и все мы живем в одной палате. У нас в палате 27 человек девочек. А у младшей — у нее палата рядом с нашей, 12 человек, так что все очень хорошо.
Сегодня, мы слышали, был налет на Москву…
Я работаю в яслях. Причем нас там откармливают творожниками, грибным супом, маслом, и вообще мы ходим туда не работать, а питаться, но все же приходим страшно усталые от крика, визга, хотя ничего там не делаем. Я, например, сегодня весь день чистила картошку, а потом покушала и ушла домой. У нас здесь образовались возрастные отряды, и я опять звеньевая второго звена, где все мои подруги. Пишите чаще и больше, а я вам пишу каждый день. До скорого свидания».
3
28 июля 1941 г. Ленинград
«Мама к вам выехала 26 числа в 6 часов вечера с эшелоном №85. Скоро будет у вас.
Ленинград живет по-старому, так же как было и при вас. Наша авиация так здорово охраняет Ленинград, что ни один еще фашистский самолет не прорвался к городу…
Сегодня у нас не было ни одной тревоги. Обедал я в столовой Академии Наук. Причем у меня берут талоны на хлеб и мясо.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.