
Бесплатный фрагмент - Письма самому себе
Кроличья нора
Знакомство
И уметь уходить вглубь: каждый раз уходить вглубь, как на войну — зная, что можешь не вернуться.
Приветствую тебя, читатель. Вероятно, ты забрёл в эту гавань, так как желаешь понять себя, обрести вдохновение или подружиться с музами. Ты попал по адресу. Меня зовут Антон Зимин, сейчас мне 28 лет. Я писатель. Пожалуй, это всё, что тебе стоит узнать обо мне из фактов. Все остальные подробности ты можешь дописать самостоятельно, из собственной жизни, так как наше путешествие будет иметь глубоко личный характер, и для тебя не будет иметь значения, как звали девушек, которых я любил, города, в которых я жил, и места, где я работал. Когда я расскажу тебе свои сказки, декорации ты дорисуешь сам. Перед тобой непростая книга, в ней нет внешнего сюжета.
Как-то я думал, что у книги сюжет должен быть непременно, и пытался сделать линию событий более четкой и последовательной, чтобы в моей истории было активное действие. Но, как я не компановал главы, каких ни вводил персонажей и какой ни пытался подвести общий сюжет, всё это лишало книгу её ценности, которую мне хотелось бы донести до тебя, ведь она не о внешних приключениях, а о внутреннем путешествии к истокам собственной силы, познание закоулков собственного разума, и сюжет движется не по прямой, а постоянно крутится сам вокруг себя, прощупывая собственное ядро, как сужающаяся спираль.
Эта книга будет полезна всем, кто связан с творческой деятельностью. Творцы знают, как важно вдохновение, образы и оттенки, а те, кто работает с творческими людьми, знают, как их поведение и ход мысли может быть необычен, и чтобы найти с ними общий язык, поймать общую волну, нужно хотя бы примерно представить, как устроен их внутренний мир.
Пожалуй, человек — одно из самых переоценённых, и в то же время, недооценённых живых существ, так как считается венцом творения и царём природы в мире, который ещё до конца не познан им не только снаружи, но и внутри. А недооценён, потому что большинство людей не знает, какие сокровища носит в себе, так и не познав, не поверив, не открыв и не развив в себе. Я буду рад, если помогу кому-то яснее осознать своё место в этой вселенной и научиться дружить с глубинными силами и красками.
История
Моя история началась с того, что я обнаружил себя пустым и обескровленным. Помнил, что мог творить когда-то, но уже давно ничего такого не делал. Я спросил себя, куда делось вдохновение и как его найти?
Тебе знакомом это чувство?
Раньше у тебя было все, что нужно, для того чтобы оставить продавленные в мокром песке перемен, следы, позже с тобой случилось то мерзкое, что называют «взросление».
Это мерзкое нечто настигло меня не так давно, и, со склонностью к самонаблюдению, последние несколько лет я наблюдал, как пыльца муз, в которой моё поколение купалось на протяжении девяностых и нулевых, перестала щедро сыпаться с благосклонных небес, и последние ее крупицы утекают сквозь пальцы, а озеро смысла мелеет с каждым днём.
Когда-то весь ты был наполнен вдохновением, смотрел им, дышал им, погружался в него. Но потом почувствовал, что взрослеешь. Музы не садились на соседнее кресло в транспорте, не заходили на полуночный кофе, не загорались в вечернем небе городскими огнями.
Ты стал одиноким и пустым, как будто там, где раньше пели птицы, цвели сады и порхали бабочки, сейчас понастроили стеклянных коробок, в которых сидят безликие люди.
Безликие, пока ты не познакомишься с ними, и не взглянешь на них взором, полным волшебства, что превратит их в русалок, нимф, богатырей и колдунов, в диковинных зверей и магические статуи.
Готов ли ты проделать этот путь назад, к пышущему жаром жизни миру? Никто не знает, куда приведет эта дорога, будет она опасной или приятной, проляжет через седьмое небо или спустится в кромешный ад. Готов ли ты к путешествию внутрь себя, чтобы добыть там перо жар-птицы и немного живой водицы для умирающих на твоих руках городских вторников
*
Что нам понадобится в этом путешествии?
Немного коллективного бессознательного. По Юнгу.
Немного борьбы со своими страхами,
Несколько раз придется броситься грудью на рожон, чтобы посмотреть, что в это время будет происходить внутри.
Почти каждый день что-то писать. Даже неважно, что. Это даже смешно. Просто находишь любой повод и пишешь. Неважно, что будет получаться.
Поменьше самокритики. Мы себе создаем какой-то идеал, и пытаемся ему соответствовать. Это конечно хорошо, что знаешь куда двигаться, но важнее просто развиваться и идти в свою сторону, а не в деталях повторять наивные построения.
Побольше непривычного. Оставлять позади знакомое ради неизвестного. Сколько всего мы ещё никогда не видели, даже если это всегда было у нас перед носом?
Побольше любви. Пусть даже любви крошечной, к песне или сорту черешни. Главное — найти в себе искру, из которой можно будет разжечь пламя любви, способное согреть целый мир.
Побольше не смотря ни на что.
Побольше рывков.
Побольше прыжков выше головы, только играючи, и как будто так и надо, а не с усилиями и надрывом.
Побольше деловитости. Как хлопочут хозяюшки на кухне.
Побольше тоски. Хорошо, если чего-то не хватает — сразу есть о чём говорить, а не просто молча парить в мягких объятьях абсолютного довольства.
Слушать себя. Где-то послабления себе давать, где-то демонстрировать железную дисциплину. Короче, чувствую я, что просто так другим не объяснить, где и как найти страну муз.
Отправляйтесь в путь на поиски себя.
***
Теперь-то я знаю, что кроме меня здесь никого нет и не будет. Кто-то что-то скажет — ну и скажет. Я смотрю на себя со стороны, и больше не позволю кому-то другому говорить от моего лица. Особенно такие вещи, которые меня опустошают.
Примечание: Курсивом выделен текст автора, обычный шрифт — текст Антона, Жирным — текст Музы, Подчёркнутым — рассказ героев, придуманных Антоном, от первого лица.
Письма
Антон снова был в городе Ё. Он даже виделся с Л., и мир после этого не перестал существовать. Он уже сам раскрасил свою пустоту. Он уже вышел из головокружения разделенности, из пелены. Пепел к пеплу.
Отчего такой восторг? Подумаешь — новостройки и расписанные граффити заборы, отделяемые золотистым туманом из замёрзших, колючих капель воды.
Но эти маленькие стрелы жалили, впрыскивая сладкий яд, с пушком и невероятным ароматом. Антон знал, что это любовь. О любви и персиках им было сказано немало. И то, что любовь пахнет персиками, и то, что персики были созданы Богом как воплощение совершенства, и о том, что это цвет городских зорь.
Чувства, спрятанные глубоко, замороженные подо льдом, просыпались. Хотелось глотать индустриальный воздух Ё. И что здесь такого особенного?
Говорят, что любят не за что-то, а просто так.
Чёртовы персики.
Я прибавил шагу. Огромная головоломка разворачивалась. А сердце, вторя шагам, ускоряло стук, и не хватало воздуха, чтобы дышать, казалось, что воздух не внутри, в лёгких, а под ногами.
Дальше — сесть на знакомый автобус. За окном растрескается сумерками морозный март. В автобусе пахнет газом. И, хотя тусклые лампы лишь немного обгоняют сгущающуюся ночь, мне до безобразия светло.
Во рту пересохло от волнения. Все эти сны и изрешеченная ими, изодранная в клочья, истекающая соком музыки, реальность, гнали в то место, где я однажды жил.
Мне было тесно в теле. Весь выбор заключался в отказе от выбора. Все соки уходили в горние высоты и на алтари муз.
Автобус тем временем мял колёсами снег знакомого района города. Выкидыш больного воображения? Даже если найду нужное, что буду с ним делать?
В руках — блокнот с набросками, как чужой, как музейный экспонат. Что в нём такого особенного? Он источал свет, как и талый пол автобуса.
Ночь наступила бесповоротно.
«Я спокойно отношусь к крушению моих иллюзий. Может быть, даже, с благодарностью. Ведь с каждой парой разбитых розовых очков, я становлюсь чуточку ближе к пониманию истинной природы мира и сущности людей. Разбиваются не только розовые очки, часто разбиваются так же серые, чёрные и коричневые стёкла. Но сейчас всё во мне трепещет от мысли, что какая-то большая тайна может раскрыться».
Конечная. Антон вышел из пустого автобуса в морозную тишину и побрёл к дому, в котором когда-то жил. Почтовый ящик был набит письмами. Антон оттуда переложил их в рюкзак. Теперь прочь из подъезда, пока не разрыдался от ностальгии. Любопытство кусало за бочок, но Антон не открывал рюкзак и не оглядывался назад, как будто от этого станет каменной статуей. И только оплатив проезд в обратном направлении, он устроился на мягком сиденье в самом углу и приняться за чтение.
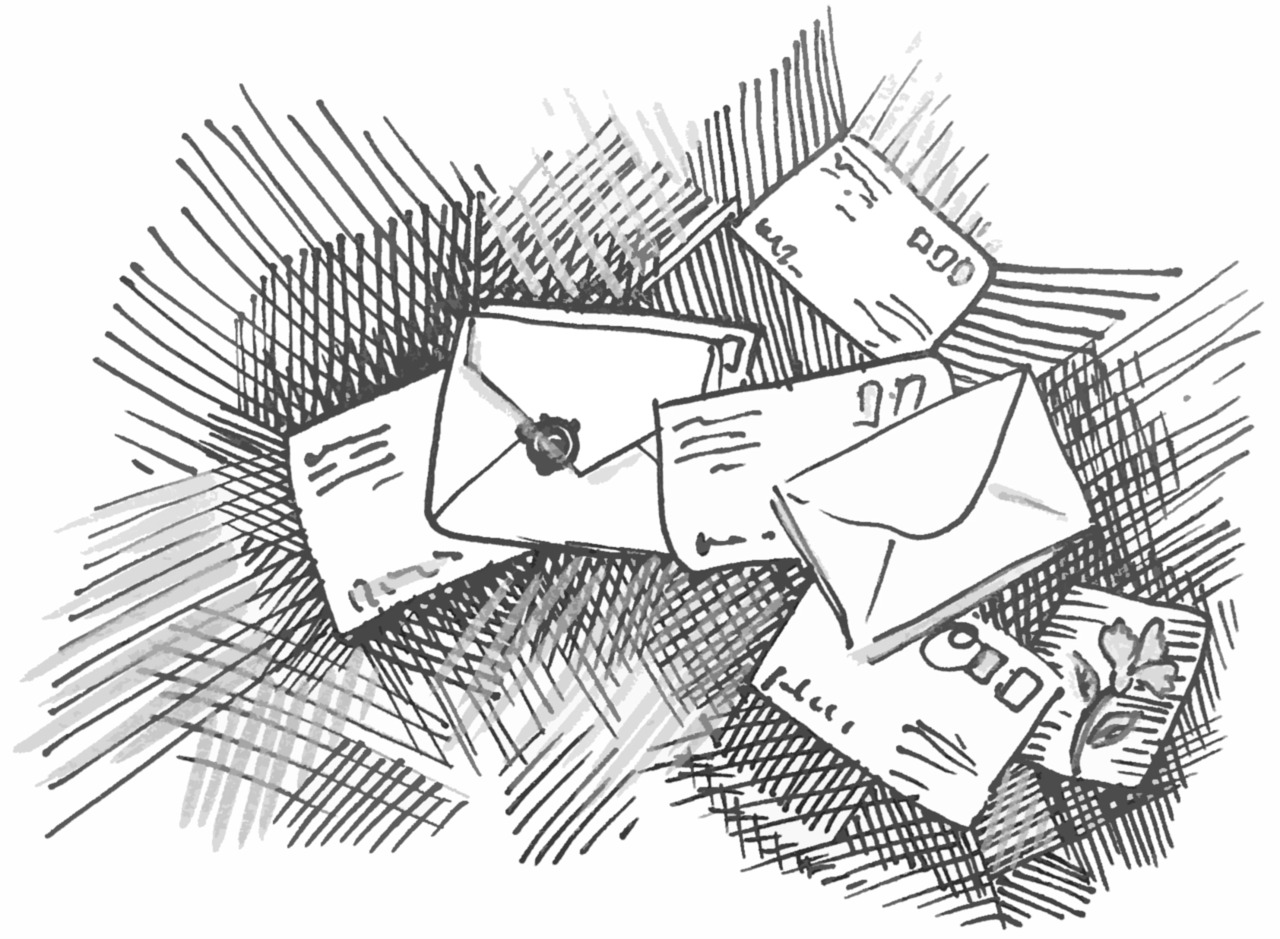
Украденный смех
Наверное, настоящее одиночество — это когда у тебя не осталось даже воображаемых врагов, потому что они все подохли.
Письмо Музе
Я пишу тебе, муза, потому что каждый раз, когда слова пропадают, я, как маленький ребенок, боюсь, что они никогда не вернутся. Я плачу под кроватью, и читаю детские молитвы словесному богу, я зажмуриваю глаза, представляя, что когда я открою их, все станет как было — слова окажутся там же, где и были до того, как исчезли.
Душа рвется от любви каждую секунду, когда пальцы касаются букв, когда мягко струятся целительные звуки. Это удовольствие, которое нельзя ничем заменить и никак переделать. Это источник моего вечного блаженства.
***
А смех просто стал странным. Я боюсь что никогда больше не смогу смеяться так, как раньше — без скептичной оглядки на причину и суть смеха.
Письмо Антону
Дорогой Антон! Смех — это всего лишь спазм дифрагмы, вызванный шероховатостью описаний, наложенных на реальность, как детские ползунки на взрослого человека, или одни ползунки на другие. Или как один взрослый человек на другого в неудобной для обоих ситуации. Так что, не беспокойся об этом.
Я передала твою жалобу небожителям. Вот, послушай, что по этому поводу сказал месяц.
Вышел месяц из тумана,
Вынул suffer* из кармана:
«Буду резать, буду бить,
Твоё Эго в фарш крошить!»
Ночь жестока, ночь бесстрашна,
Miсяця в тебе плювати**,
Облака клубятся кашей
В голове твоей. В кровати
Usted se acuesta como una mierda.***
Вспоминая неудачи
Ты дрожишь как лист под пледом,
Жалкий, стрёмный, чуть не плача.
Накрутился до абсурда,
Всё плохое вспоминая,
Половину ты придумал.
Nani mo wakaranai.****
Diese erschreckende Tatsache*****
Но надеяться ты смеешь:
Чем твоёго страха запах,
Утро будет мудренее.

* (Англ.) Страдать
** (Укр.) Месяц в тебя плюёт
*** (Исп.) Ты лежишь как кусок говна
**** (Яп.) Ничего не понимаю
***** (Нем.) Это пугающий факт
Письмо Музе
А месяц большой шутник, как я погляжу. Спасибо.
Когда слова ушли, мне стало настолько страшно, что я побежал писать об этом. Я желаю видеть, как мои мысли обратятся в текст. Мой страх уперся сам в себя и заставляет, помогает избавиться от своего источника. О, это ли не благословение муз, не печать ли это бога на моем челе?
И я знаю, что это так, но не совсем. Потому что это еще и результат работы, упорства и четко поставленной цели.
Страна вечных муз
Антон заснул, хотя кружилась голова. В его голове жило много людей, ровно столько, сколько он хоть немного знал. Но усталое тело никак не помогало заткнуть возбуждённый разум.
Уже идя по фантасмогорическому миру прикосновений множества рук, Антон почувствовал усталость снова. Словно за ним наблюдали и всё время отбирали у него что-то важное.
Ты же не хочешь проснуться, там они есть по-настоящему, но не заинтересованы в том, чтобы тебе мешать, как здесь.
Муза стояла на краю моста и улыбалась.
Ты! Ты так долго не приходила и не давала мне повода стать кем-то! Я ничего не могу без вдохновения. Мне нужен свежий глоток!
Но ты это и есть я. Мы две стороны одной медали, но ты отворачиваешься от меня и смотришь на них. И тебе всё время кажется, что они тоже постоянно смотрят на тебя. Ты прячешься, во всём твоём облике попытка их запутать.
В какой-то момент Антон забыл, какие именно слова сказал он, а какие — она.
Моя прекрасная женщина наделила меня способностью переносить всё, что бы ни произошло так, как будто это компьютерная игра, и в ней невозможно погибнуть. Ты просто делаешь что-то и ждёшь, что из этого получиться.
Мой терпеливый мужчина научил меня переводить. Самое простое творчество — это взять большой лист, вскрыть себе вены и полностью облить лист кровью. И это чистое творчество. Потеря крови полезна. А так как мы не умираем — от потери крови мы не умрём.
Я шолор. Как хочешь, так и понимай это.
Я октангенс.
Я превальер морской звезды.
Ты всё ещё считаешь, что заслуживаешь облегчения? А как же глубина? Смотри — как можно считать себя ложкой, застрявшей в замёрзшем супе, когда ты теплишься, иногда даже горишь!? Тебя же для этого придумали.
Ты же придумываешь себя.
Дальше были комнаты. Это было ограниченное пространство. С одной стороны — безсвойственной землёй, с другой — низким небом. По краям кирпичные стены.
Смотри — в этом пространстве всё происходит так прекрасно, как ты и помыслить не можешь. Здесь тебя могут любить те, кого любишь ты. Просто встань на моё место. Просто позволь себе двигаться не по кругу.
Я позволяю себе двигаться не по кругу, теперь мне кажется, что я движусь по спирали и расширяю радиус. И я всё время прохожу одни и те же места. Трудно извлечь урок, мы же не можем делать причинно-следственных выводов.
Просто пиши. Видишь — куда ни ткнись — а объяснения вернулись. Расширение — ограничение и есть.
Надо стать ничем. Или быть бесконечно малым, с которым и столкнуться-то невозможно. Хватит и понимания того, что ты существуешь.
Антон шёл по комнатам, там стены были облеплены людьми. Нет способа спрятаться от них. А без них уже и жизни не представляешь.
Молодцом будь, дари им радость. Они восхищаются твоими страданиями, а не воем по поводу того, что тебе это не нравится. Тем более, что тебе это нравится. Разъясни. Разденься. Надо бегать голышом, посмотрим, шокирует их это, или они даже не заметят. Ты же ставишь над ними эксперименты — они нуждаются в тебе не больше, чем ты в них. Тебе нужна информация, им — развлечения.
Просто надо смириться, что цели изначально разные.
Это ты, но ты ищешь себя совсем не там, где, как тебе кажется, находят себя другие. Там всё проще. Они не задаются этим вопросом. А ты маленький фонарик, который освещает всё, куда движется. Да, в общем, это всё и не важно. Ты себя не найдёшь. Потому что ограничиваешь, когда думаешь о связях с ними.
А я дам тебе тепло.
Ты дашь тепло мне.
Потому что мы одно и то же, а то, что мы разговариваем — следствие переменчивости и свойство материи. Она не позволяет одному сознанию существовать в нескольких телах, ведь тогда бы всё было проще, но и скучнее. Согласись — для тебя слишком просто и неинтересно. В процессе познания ты не ищешь лёгких путей.
Это сегодня говорит уже другой человек. Потому что все имеют право заходить сюда и распоряжаться порядками в доме моей головы. Эта книга будет написана на нашем языке, и пусть видят люди, как ходит мысль. Какие пути выбирает. Ведь знаешь как это — когда середина слова просится в начало, слово спешит, не успевая за мыслью. И уж точно пальцы сейчас используются не совсем по назначению. Они могли бы делать музыку.
Это же та самая музыка, которая звучит в голове. Несуразно — что и зачем. Ты всё равно пишешь книгу, чтобы выстроить свой мир и коснуться в нём всего, чего только можешь. Поэтому она такая аляповатая.
Наверное, это что-то из будущего.
Мы же не можем писать оттуда себе письма, если конечно эта книга не является как раз-таки письмом самому себе из будущего, которое неминуемо надвигается.
Страна-зеркало
Внутри меня постоянно живёт некая раздвоенность.
Первая моя половина презирает всё показное, лоск, имидж и его поддержание, посты и лайканья, жалкие попытки выделиться или соответствовать — они суть одно и то же — ты кружишь где-то рядом, но никак не можешь поймать себя окончательно, принять, взглянуть в собственное лицо со всей честностью и принятием.
Эта моя часть говорит: «делай что хочешь, только не заходи в интернет, не разменивай себя на мелочи. Ты можешь выйти на улицу и жевать полынь возле забора, но не заходи в интернет, тебя от него тошнит. Беги, убегай в леса, подальше от людей, укройся где-нибудь, одичай, сойди с ума и воскресни новым разумом. Забудь язык, на котором говоришь и сожги свою одежду. Оставь всё и только тогда ты найдёшь себя, найдёшь меня, станешь чем-то необъяснимым. Ты прорвёшься сквозь пелену мелких наваждений. Ты видел, что есть бог, ты знаешь, как работают эти шестерёнки. Брось их, оставь всё. убегай. Тебя тошнит от общества, тебя тошнит от интернета и показухи, ты уже весь в них, и поэтому тебя тошнит от себя самого.»
И, должен признаться, меня действительно тошнит. Моя кожа покрылась странными знаками из крови и гноя, мои глаза устали от слёз, мои уши заплывают серой, чтобы не слышать этого дикого грохота и криков умирающего духа.
Вторая моя половина хочет, чтобы её заметили и признали, и ради этого готова играть по абсолютно любым правилам. Она будет ждать ваших сердечек под постом, а если их не будет, она начнёт пожирать сама себя, под покровом ночи, клевать саму себя в печень, отравлять ядами и запускать иголки под ногти. Как никто другой она понимает, что умрёт, если я выберу уединение. Она есть суть — глядящая на людей. Но любовь к людям её извращена, она может наслаждаться, но не подойдёт близко, она знает, что когда ты выставляешь напоказ что-то личное — это неприятное чувство, но также она знает, что иначе нельзя.
Ей нужно разрывать себя и давать потрогать свои внутренности людям вокруг. Но она прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что они могут пнуть её, они могут её ударить, а она упадёт и будет наслаждаться этим.
При этом она хочет, чтобы её укрыли от бурь, сказали ей, что она прекрасна, что она победила и с завтрашнего дня мир поменяется и в нём больше никто никогда не будет несчастен. Люди станут мудры и справедливы, не будет предела шорохам листвы — можно будет просто заснуть под деревом и с чувством выполненного долга смотреть сны о ещё более прекрасных мирах… А пока всего этого нет, сгодятся и пинки.
У неё тысячи щёк, которые можно подставлять под битьё снова и снова, не задавая себе вопроса о том, напрасно ли это. Она не видит разницы между внутренним и внешним.
И, должен признаться, в чём-то она права, шрамы украшают душу. А если ты хочешь, чтобы костёр горел, то не забывай подкладывать в него дров. Неприятие лучше безразличия. Ведь безразличие нас хоронит.
Если никто не смотрит на пламя, то для кого ты горишь?
Зачем пахнуть розе, если никто не вдыхает её аромат.
Зачем рождаться, если тебя забудут?
Зачем мы здесь и для чего?
Может, стоит просто взорваться, разлететься на такие маленькие кусочки, чтобы ни в одном из них не могло поместиться сознание, и исчезнуть?
Но это страшно, и есть чувство, что ты здесь не для того, чтобы сдаваться.
Но нужно либо решить, куда бежать — в себя или вовне, либо научиться бежать в две стороны сразу.
Ё
Страна потерянных
Этот вечер стал отчаянной попыткой вернуть утраченное, бродя под стремительно темнеющим небом, пересекая яркие улицы города Ё. Эти улицы хранили тысячи воспоминаний о том, как приходило сладостное чувство вдохновения, и молодой человек тут же хватался за блокнот. Он писал в трамваях, сгорбившись и поджав под себя замерзшие ноги, на балконах высоток, слагал в голове ритмичные строчки, выходя из продуктовых магазинов под неоновую сень капитализированной родины, и все пестрые сказки, рвавшиеся из сердца, пронимающие до костей образы, хватали молодого поэта за неумелые руки и заставляли их шевелиться. Во тьме ночной, при свете дня, но чаще все-таки в вечерней мгле, под летними закатами на беззаботных душных улицах, в дождливые полудни, когда изо рта шел пар, а холодная вода пробиралась в автобусы через крышу и капала с выключенных ламп.
И кстати, упомянув про дождь, сложно забыть ходьбу в мокрых кедах, а особенно топтание в них у подъезда одной интересной дамы, которая любила быть недоступной тогда, когда хотела, а это происходило в восьмидесяти пяти процентах случаев.
И вот, сегодня Антон пошел собирать по улицам смутные осколки былых впечатлений.
«Я набил руку, и могу снова начать писать в любое время, просто писать пока не о чем» — уверял себя молодой человек, но когда это «не о чем» затянулось на годы, начала подкрадываться паника, и желание срочно проверить этот символ веры на истинность, хотя, если бы он помнил, что объекты веры не нуждаются в экспериментальной проверке, то наверняка, абсолютно не заморачиваясь, написал бы что-то великое, как только достойная тема явила бы себя.
И детство, как назло, закончилось, забрав с собой даже подростковый максимализм, который до поры до времени мог быть неплохой заменой вину из одуванчиков и кашке из песка.
Как ты понимаешь что стал взрослым? В нашем случае, это когда ты направо и налево всех убеждаешь в том, что если в нашей реальности не будет чуда, то мы умрем от скуки, а чудо нужно создавать самостоятельно, но сам ты при этом ничего не создаешь, а только чешешь языком.
Когда Антон был маленьким, он не видел ничего особенного в том, чтобы построить дом из одеял, расставив табуретки в ряд, прыгать по ним, представляя что это дорога из желтого кирпича, разговаривать с тем, что выросло из лимонной семечки, которую засунул в цветочный горшок, но при всем при этом, писал он тогда из рук вон плохо.
Секрет в том, что детство немного похоже на «наркоманию для себя», и никакого «чуда» в нем нет, потому как чудо — это нечто отличающееся от обыденности, обнажающее бинарность волшебного и обыкновенного, а в детстве волшебно все. И нет ни чудес, ни вторников, ни понедельников, мир просто состоит из всего неизвестного, не то, что сейчас, горе от ума. Сейчас же приходится перетряхивать затвердевшие извилины в голове, заставляя их высекать искры, похожие на мерцание снега.
***
Сгущался ранний вечер середины декабря. Серо-голубое, скучное небо грозилось осыпаться в мягкую синеву, и утонуть в рыжести фонарей, иней на стволах кедров уже готов был вспухнуть от лучей закатного солнца, но его скрыли облака. Желтая новостройка за окном пульсировала в такт дыхания, и, если не фокусировать взгляд ни на ней, ни на ручке дивана, ни на ниточке гирлянды, то кажется, что дом вот-вот тронется в путь, вагоном поезда со станции.
Все краски, запахи, звуки и эмоции декабря начинались здесь — дом через пять минут отправляется, провожающих просят покинуть дом, и в сердце смотрящего человека и пассажира, взорвется, как шар с водой от падения на землю, сок вдохновения.
Добро пожаловать в страну двигающихся домов, дорог, пляшущих под ногами, гирлянд и дымной ностальгии. Сразу вспоминается что-то из старых песен сплина, как на втором курсе университета жил в холоде улиц и человеческом тепле, с дешевым растворимым кофе со сгущенкой, узорами на окнах, клубах пара, растекающихся в воздухе. В этой стране музы живут, по крайней мере, в предновогоднюю пору.
Когда становится уже совсем темно, в пять и позже, улицы преображаются. Мегаполис перестает заставлять прохожих играть роли, и люди размыкаются, становятся детьми, ждущими чудес и сюрпризов, душистых мандаринов, много-много шоколада, который помогает пережить ранние закаты и самые длинные ночи года. Все кажется возможным, каждый огонек под руку ласково звенит.
Шум машин становится мягче, колеса шуршат в грязном снегу, красные и зеленые пятна от светофоров лоснятся на трамвайных путях, на проводах, на окнах. Голые деревья, освещенные цветными огнями, склеены из полупрозрачной бумаги, и суматоха подхватывает кучки людей, носит их через дороги, толпит у переходов, выливает из автобусов и тут же заливает обратно, мечтательно ликует, не в состоянии скрыть щенячий восторг, и на лице случайного прохожего иногда появляется улыбка подростка, спешащего на встречу с первой любовью.
***
Снег. Город замер. Встал. Завален. Засыпан.
Выстрелами картечи уничтожить прозрачность воздуха. Сонно и вязко. Снег. Город дышит электрическим потом, любовью. Пьяные небеса щедры.
В моих венах булькает тёплый чай. Ноги целуются с тротуаром взасос. Ошалело. Вяло. Вальяжно. Томно. Мягкость тихого декабря. Его мурлыканье сказками. Его песни и чудеса. Его глаза.
Пепельное небо. Нечеткость границ. Стреляем любовью из сердца. Плачем над клочками сбитого у обочин времени. Тонны небесного семени падают нам на плечи. Это обман мягкости или правда, дышать становится легче?
Страна безжалостных муз
В последний момент, когда казалось, что силы уже исчерпаны, оно появилось. Теперь его было уже ни с чем не перепутать. Каждый шорох отдавался в измотанной душе как след от удара на обнажённом теле.
Одна Муза держала голову Антона, а вторая мешала ему заснуть.
— Сядь и пиши, откуда ты знаешь, будет ли это с тобой и завтра тоже, или, если не сядешь писать, завтра проснешься пустым, бесплодным и холодным? — причитала тощая Муза в строгом сером костюме.
— Если откажешься от ценного дара сейчас — уж потом я тебя проучу, — шептала грузная тётка-Муза.
И, спустя более часа провальных попыток заснуть, Антон подчинился. Казалось, тело вот-вот выключится от усталости, оно валилось с ног еще сегодня днем, а сейчас уже за полночь, но внутри натянута пружина, которая сгорит, если не отпустить её сейчас, и уничтожит споры нового мира внутри невидимого инкубатора, если не выплеснуть это тяжелое, темное, в словесную вязь. Чистая желчь.
Пейзаж открылся просторный, не смотря на высотки. На горизонте темный цвет зимнего неба запачкан желтой пылью, от замерзшей влаги и скопления газов, и становился все чище кверху, и уже над самой головой становился ослепительно синим. Стволы кедров, с одной стороны подсвеченные рыжими фонарями, загадочно сияли, а их кроны, будто залезшие подальше от бренности земли, только подчеркивали высоту звездного полотна.
Страна золотых сердец
Улица — это такое место, которое нужно обжить. Улица — это то место, куда ты попадаешь, покидая свой подъезд. Там мало знакомых тебе людей, в основном знакомы только очертания домов и местоположения остановок, магазинов. Улица — это протяженная в пространстве лента асфальта. Улица — это что-то из детства.
Иногда на улице бывает мокро, грязно, ветрено, мусорно. Когда там все хорошо, люди этого обычно не замечают, и их внимание переносится на совершенно другие вещи — в голове могут возникать разные мысли, и никакие внешние условия не могут вырвать человека из самого себя. Некоторые, правда, видят что происходит вокруг, но нельзя видеть все вокруг одновременно. Даже если бы у человека была сотня глаз, ему было бы сложно держать во внимании все сразу.
Поэтому мы обращаем внимание не на все, что попадается на пути, а только на какую-то часть, отфильтрованную и интерпретированную нашей картиной мира. Хорошие видят хорошее, испуганные видят пугающее, неуверенные видят везде угрозу, а мизантропы обращают больше внимания на неприятных прохожих, и на самые неприятные стороны обыкновенных.
Но Антон был не из таких. Он умел замечать в людях хорошее. Сейчас уже сложно вспомнить, когда это произошло — когда в его голове что-то щелкнуло, и он подумал: «А ведь плохое может увидеть каждый, да и видит обычно. Что ж я буду тратить драгоценные минуты своей жизни, концентрируясь на том, что мне не нравится, и что я при этом не могу изменить» — и перестал замечать дурное. Абсолютно. Нельзя сказать, что это было резко, как включить лапму. Антон еще помнит, что его нынешний взгляд на мир — золотой плод долгой работы над собой, тот самый философский камень, не только превращающий металлы в золото, но и умиротворяющий, облагодетельствующий людей вокруг. Это линза, через которую видно добро и человеческое тепло даже в самых страшных городах и ситуациях.
А еще бывало, что Антон шел по улице с музыкой в ушах, но не так как раньше — прячась в нее от шума и внешних воздействий, которые его угнетали, пытался отвлечься, но теперь он включал музыку редко, предпочитая тишину, пусть и не тихую, зато мелодия, звучащая из маленьких динамиков заставляла мир танцевать. Голуби уже не просто проворно перебирали лапками по грязному асфальту, быстро тряся головой, а попадали в ритм, становящийся общим.
Ветер трепал голые ветви в такт музыке, люди шли, рядом шурша и барахтаясь в кашеобразном снегу, плыли машины, мигали светофоры, и самое существо Антона отрывалось от земли, парило, несомое ласковой волной гармоничных звуков, или он ускорял шаг, стараясь обходить людей, когда на глазах выступали слезы, жадно хватал воздух ртом, пытаясь избавиться от сухого и горького комка в горле, переживая трогательные и сильные моменты. Танцевал ветер, и снег под подошвами становился розовато-персиковым.
Казалось бы, уже в десятый раз, ну что за переживания такие? Но сердце, открытое миру, съеживалось, чувствуя каждое прикосновение интервала, интонации, деталей в выражениях лиц прохожих, оттенки запахов в теплом декабрьском воздухе. Хотелось плакать от счастья. Жаль, что обычно эти чудеса заканчиваются к январю.
Страна непредсказуемых трамваев
Антона постигла цепь неудач, связанных с трамваями: они ни в какую не хотели везти его на работу. Не удалось отследить их движение через интернет из-за фокусов роутера. Посему, молодому человеку пришлось довериться расписанию, вывешенному на окне конечной остановки.
Но если вчера, следуя этому расписанию, и лишь по дурости не заглянув на сайт, Антон потерял лишь двадцать минут, ожидая злосчастный 13 трамвай, то сегодня — все сорок, впадая уже в панику от такой несправедливости и, более того, два трамвая, соизволившие все же приехать, из-за опоздания собирались проделать только половину пути до ближайшего кольца, что, естественно, в планы Антона совсем не входило.
Хотя, может, и зря. Теперь он, сев на маршрутку, потеряет куда больше времени в пути. Еще и побегать успел от конечной до следующей и обратно, отчего в легких образовалась противная паутинность, сиплая и мешающая дышать.
Это как вообще понимать? Маятник, волевым усилием выведенный из равновесия, сейчас заметно качнулся в неблагоприятную сторону.
Антон задавался вопросом: Естественны ли эти трудности? Должно ли быть легко, когда стоишь на верном пути, или должно быть трудно? Почему мир сопротивляется?
Антон думал, что это всё от потери себя — судьба не благоволит людям, играющим чужие роли. Музы любят страдальцев. Может, в стране несчастных и обиженных они живут вольно у чувствуют себя как дома?
Обильные цитаты восточных мудрецов и оптимистичные примитивные очевидности американских мотиваторов из серии «как стать успешным», мучительные думы о том, как и от чего спасать человечество, смешались у Антона в голове в мерзкую кашу, ни один из компонентов которой в данной ситуации не был уместен, и Антон просто писал.
Куда бы он ни пошел и кого бы ни встретил, мир от этого становился все менее и менее понятным. Люди стали от Антона одновременно одинаково далеки и одинаково близки. Они все были им самим, только с другими входными параметрами, в другой вариации, альтернативной вселенной, но, так как Антон и сам себя перестал понимать, то и реальность видимых людей ставилась под сомнение.
Несомненно, они существуют — Антон это понимал, но он не мог себе объяснить, в каком именно качестве, видит ли он их по-настоящему, непосредственно, феноменологически, или то чистое и вневременное сияние, исходящее от них — суть другого существа — возможно, того, что иногда называют Богом, но только иногда. Этим словом слишком часто называют нечто другое, хотя, существует ли вообще что-то кроме этого Нечто — когда Антон думал об этом, разделение между вещами терялось и отчуждение, чувство непонимания уходило. Видимо, утверждение было недалеко от истины, если избавляло от страдания.
Пивной магазин «Без Дна» — прочитал Антон на вывеске одного из захудалых магазинчиков среди практически безлюдной узкой улицы с деревянными домами дореволюционной постройки, и усмехнулся.
Никто не может никому помочь своими откровениями. Если эта книга будет напечатана, то, читатель, пожалуйста, спрячь её подальше и не доставай, пока не одолеет тоска разобщенности, пока не расщепишься, не потеряешь себя, и, главное, пока не ПОЧУВСТВУЕШЬ, что люди — это Бог, смотрящий на тебя тысячами глаз. Прекрати читать эту книгу, если не чувствовал никогда в полной мере того, о чем я говорю, ибо, продолжая читать, ты тратишь время, как терял его Антон, сорок минут ожидая трамвай, который даже не едет туда, куда нужно. Вектор движения этого трамвая, такого желанного, не совпал с вектором твоего движения, твоего желания.
Оставь этот трамвай.
По пути на остановку я увидел, что, как в пыльной комнате, много лет назад покинутой людьми, стояли березы и кедры, и причудливо торчали из сугроба травы. Дорога напоминала о больничной пастельной белизне, и я вслух напевал песню «Екатеринбюргер», а еще ничто не предвещало того, что скоро непредсказуемые трамваи превратятся в метафору несостоявшейся коммуникации между писателем и читателем в том виде, в каком хотелось бы первому, а так же внесут корректировки в мой путь, как позже выяснится, самые что ни на есть, благоприятные.
Случайная
Антона в последние пару дней глючило сильно, как бывало, когда он надолго оставался один. От трех часов до длинных месяцев. Безумие, не знающее никаких границ и условностей, живущее в голове, находило выход из заточения, как только…
Я остаюсь наедине с собой, слушаю себя. Будет это поток сознания или череда нечленораздельных звуков, увижу я её, услышу, почувствую, нащупаю, или просто она возникнет в неком пространстве, никак не обозначаемом языком. Это будет внутри меня и нигде, может, этому нет совсем никаких географических аналогий. Как однажды, когда я еще учился в школе, свидетели Иеговы спросили у меня, где находится нирвана. Я смеялся над ними так глупо и невинно. Как — где? Вам координаты точные назвать? А они такие — Да, пожалуйста, если можно.
Это вызывает улыбку. А еще улыбку вызывает что-то, что тебе не нравится, но повторяется постоянно, тогда приходит смирение, и ты смотришь улыбаясь, потому что в тебе уже кончились слезы, припасенные для таких явлений, иссякла злость и надежды истаяли от её жара. Тебе стало все равно, что делают другие, и время оказалось текущим так, как ему хочется, в конце концов, ему лучше знать, куда и как именно течь, чем тебе — человечишке.
Человечишка. Человечище. Человек. Человечущище. Человище. Туловище, глаза, и дуршлаг вместо головы. Пни вместо ног, грабли вместо рук, крылья вместо машины. Так бывает — слышишь — кто-то в дверь стучится, ты глядь в глазок — а там никого, и ты стоишь, недоумевая, послышалось тебе или пора дурку вызывать. А может, за дверью стоит счастье, но так как у тебя нет глаз, ты его не разглядел.
Однажды я встретил женщину, которая ворвалась ко мне на работу и просила разрешения потрогать мой третий глаз. Я счел, что это пошлость, однако от женщины шел запредельный жар, так что по спине сначала пробежали мурашки, а потом мгновенно выступил пот. Лицо, наверняка, наполнилось перцем, кожа вспыхнула, и на несколько дней это чувство осталось на задворках сознания — как поцелуй феи — случилось что-то необычное.
Люди не просто тела, бродящие вокруг, они попадаются всякие, как игрушки в шоколадный яйцах с сюрпризом. Обычно если чего-то ждешь, то не получаешь, а получаешь все равно то, что тебе хочет подарить время. Можно упустить, но зачем? Что тебе время, враг, что ли?
Антон поднял глаза от листа и задумался.
Сегодня пейзаж на очереди больничный. В больничку Антон последние недели наведывался часто, и по большей части — безуспешно, а смешно то, что до неё так же ехал 13 трамвай, точнее, не ехал, как вы уже могли догадаться. Так вот, Больничка была местом абсурдным, странным, сюрреалистичным. Она находилась недалеко от того места, где погибла от падения с шестнадцатого этажа старая подруга Антона, это случилось больше трех месяцев назад, но факт и весь ужас произошедшего начали доходить недавно.
А больничка представляла из себя старое двухэтажное здание, построенное в начале прошлого века, выкрашенное рыжей краской, уже облупившейся, как и соседние дома. Рядом стояли в грязном снегу, перемешанном с песком, тополя с ветками, похожими на шарики из коры. Ветхие доски-ставни на балконе одного из домов и сидящие рядом вороны. Из-за высокой влажности картинка была четкой, томной, и даже сладкой.

***
А внутри больнички был совсем другой мир, и трудно сказать наверное, что ты там увидишь, пока, собственно, не увидишь. Это были лабиринты российской бюрократии, в которых ты узнаешь о том что с собой нужен какой-то документ только тогда, когда он уже-вот-сейчас-нужен-а-где? А нету его. Кто ж знал.
Толпы студентов, проходящих медосмотр. Иной раз попадутся милые ребята, иной раз — жалкие грубияны. Можно сидеть рядом с красивой девушкой и полностью испортить впечатление от внешности её речами, изобилующими ругательствами и демонстрирующими неуверенность в себе через агрессию к другим. А можно проникнуться симпатией к персонажам, которых в обычной жизни просто не замечают.
У древних греков было понятие — калокагатия, которое означало тождество внутренней и внешней красоты. То есть, если человек красивый, значит — хороший. «В здоровом теле здоровый дух» — тоже пошло примерно оттуда. Но потом время разрушило эту концепцию, разобрало по кирпичикам и поставило сверху жирный крест.
Еще была врач-терапевт, которая легким отношением ко всему снимала напряжение больничной безысходности и подступающего со всех сторон вируса абсурда. Лечила она, возможно, абы как, и вопросы странные задавала, но в этой обители попустительства она была своего рода маячком, к которому приятно было возвращаться.
Были плакаты про болезни. Антон иногда долго смотрел на них, прислонясь к стене, и думал о том, как сложно устроено человеческое тело и как мало мы знаем о том, что у нас прямо под носом, и даже в самом носу. Наше тело — это практически другая планета, где живут органы и клетки, а ты этой планете что-то вроде Бога, только очень плохого, потому что не всеведущий. Если бы на твоей планете существовали философы, то уже давно там появился бы какой-нибудь Ницше, который сказал, что ты умер. Ты бы конечно, посмеялся, услышав это — ведь тогда бы он тоже тотчас умер, если был бы прав. Ведь он часть тебя.
Но ты его не слышишь. Ты даже не знаешь, есть ли в твоем теле такой философ. Смотришь только на космос вокруг, где вращаются другие планеты, из камней, газа или льда, то светятся, то смердят, и на каждой умирает Бог.
***
«Человек — система, даже его сознание — это не целое, неизменное, оно может состоять из нескольких частей, поэтому Эго — обреченная на жалкое существование структура, цепляющаяся сама за себя, и этим препятствующая собственному развитию.
Надо понимать — что ты Бог для всех своих тел, и судьба и развитие каждой клеточки в тебе зависит от твоей воли к эволюции. Как в протестантизме — ты можешь трудиться, поститься, молиться и слушать радио радонеж, но если на тебя не снизойдет благодать божия, то ты не спасешься.
Так же и клетки твоего организма и части сознания могут молиться, поститься и слушать радио радонеж, но если ты Великий Мудак и не хочешь развиваться, то им хана, как и тебе. Ты их Бог, но ты такой плохой Бог, который умер или ничего не делает, и все что в тебе есть — не спасется, несмотря на все старания.
Да что я все время скатываюсь в рассуждения о Боге?
Как будто нет на свете больше ничего интересного.
Страна ностальгий
Удивляюсь многогранности прошлого.
Иногда его хотелось вернуть, была такая тоска, по тем кухням, по тем темам, по тем эмоциям, по тем людям. Но вообще, чаще всего, прошлое возникало вспышкой в голове, сбрасывая на меня ворох разноцветных звуков, красок, мыслей, точек зрения, всё это скорее уносило за собой, поражало своей ни на что не похожестью, чем расстраивало своим отсутствием в настоящем.
Люди сильно поменялись, мир как будто бы поменялся тоже, но нельзя было сказать наверняка — так ли это, может, это только ты, ты сам, почему-то перестал писать стихи, отодвинул подальше волшебство, перестал смеяться над глупостями и уделять время малому.
В жизни стало мало дурости. Дурость — это когда ты нерационально используешь свои ресурсы, относительно твоей цели и цели человечества.
Только дурости хочется такой, чтобы приносила радость, а не просто была глупой. Может быть, сделать себе на лето шапочку из фольги?
Конечно, как раньше, не устроить тусу, не напиться там, не болтать всю ночь о вечном, и о невечном, это уже выпало из картины мира, ты понимаешь, что это бессмысленно, что если тебе не интересно с людьми на трезвую голову, то с ними, скорее всего, вообще не стоит общаться, но вот бы… Вот бы взять эту атмосферу, и положить её прямо сюда, и желательно, чтобы ты это чувствовал не один. И не с призраками бурной молодости, для которой двери были открыты настежь и окна. А были вокруг такие же все неприкрытые, тошнотворные, честные, не обточенные волнами жизненных неурядиц.
Да это они только в прошлом такие. Ты строй, строй своё настоящее, надо просто найти правильный баланс между дуростью и безупречностью, надо просто уметь включить в голове у себя в нужный момент молодой mode, чтобы раз — и ты мыслишь снова категорично, беззаветно и наивно, но от этого такая свобода! Она там, в будущем: все дороги, ни одна из которых не пройдена, открыты перед тобой, и ты пьян скорее от этого ощущения, чем от чего-то ещё.
Ты велик своей дуростью, прекрасен, мил, смешон, дышишь полной грудью, черпаешь воздух, искрящийся вокруг мечтами, как амброзию, как сладкий нектар. Надежды — драгоценные камни, ты не видишь ни их очертаний, ни их непрактичности, а только на стене — блики, когда в них играет свет. Как на стене той пещеры, где один английский философ видел тени людей вместо людей, ты видишь солнечных зайчиков, преломленных твоими надеждами. Тебе плевать на европейскую философию, ты знаешь, что истина не в книгах, и не в вине, а в тебе самом. В глазах людей вокруг. Она живая, трепещет, как маленькая птичка, в клетке из слов.
А теперь и ты — та самая птичка, больше, чем смотрящий на неё. Теперь надежды — всего лишь ограненные прозрачные камни, и их отблески не играют от солнечных лучей на стене, потому что ты эти камни заполучил, изучил и спрятал в коробочку.
Страна-оазис
Грусть не проходила несколько дней, как я рассчитывал, зато только сегодня, в теплый снежный вечер, на фоне совсем уже отчаянных мыслей, пришла Муза. Осенняя, она — яблоко в мокром снегу, её глаза искрятся спокойной мудростью, когда за шиворот проникает влага из воздуха. Она баюкает и поёт под колокольчики, ксилофон и шарманку, музыкальная шкатулка, в которой хранилась осень.
Хотя на календаре середина зимы, в самое её сердце ни с того ни с сего ворвался тоскливый и романтичный октябрь, с желтыми листьями, лужами, грязными машинами, осенним нежным солнцем и клетчатым шарфом. Октябрь вживился в меня и запел, по рукам бегали мурашки.
Как хорошо, что есть такие дни, оазисы среди бескрайнего сухого холода, среди потерь, разочарований и серости, среди прутьев клетки мыслей, в обыденной безмятежности. Большим взрывом вылетело из небытия ленивое солнце, и пообещало теплые дни.
В воздухе витала паника, кризиса или войны, а я так остро понял, что даже не знаю, к кому можно будет прижаться в самую холодную из ночей этого года, и чьи слова могут пролиться на душу бальзамом сладкого забытья, детским чувством защищенности. На чьей груди можно будет, не сдерживаясь, не играя во взрослого, разреветься?
Я не столь наивен, чтобы полагать, что вовне существует кто-то, кто успокоит, обнимет и прикроет большим крылом, это всегда только ты, сам. Если хочешь чего-то, дай это. Если есть потребность, значит, есть возможность, значит, тема важна, значит, это ружье висит на стене в начале пьесы, только стрелять из него нужно самому. Для тех, кто не будет хвататься за это событие, как за последний глоток воздуха. Для тех, кому это нужно меньше, чем тебе.
***
Если ты завтра проснешься,
а утро будет коричневого цвета, просто знай,
я тебя люблю, хотя мне тоже бывает тяжело.
Если схватит тоска за горло, смотри на солнце,
даже если его не видно, оно существует,
иногда этот факт нуждается в принятии на веру.
Если поднимется страшный ветер, вырывающий провода, крошащий границы, просто позволь ему унести твою боль.
Если ты одинок, радуйся, у тебя есть космос.
Если ты не один — у тебя как минимум два космоса.
Если не веришь в себя и запутался в собственных отражениях, сделай глубокий вдох, и позволь себе побыть всем и ничем.
Если ты завтра проснешься, просто знай —
я люблю тебя.
Недосягаемая
Жила была такая женщина, Н — недосягаемая всегда и во всём. Она была и старше, и опытнее, именно в тех вещах, в которых мне хотелось, и выше ростом, и проще, и роднее себе самой. Когда мне было пятнадцать, мы познакомились в интернете и общались по переписке.
Н выслушивала все истории и жалобы, помогала советами в подростковых делах, всегда проявляла участие. А ещё она была настоящей ведьмой. По крайней мере, так она сама объявила ещё в начале знакомства. Речь не о порче скота и полёте на мётлах, скорее об успешных опытах с сознанием.
Я восхищался, как умел, её спокойствием и умением вести беседу, она была мне хорошим другом, хотя я и не до конца верил в то, что она не имеет тайных мотивов в своей помощи.

Но по прошествии некоторого времени Н стала постепенно переводить общение в эротический контекст. Антон дурил и смущался, и всё же превращался из буратино в мало-мальски подвижное существо, и его угловатое и отмороженное подростковое либидо начинало раскаляться. Он решил во что бы то ни стало овладеть Н. Даже без романтических иллюзий. Он просто не мог простить себе, что, взвинченный до небес, он не мог прикоснуться к ней, выплеснуть страсть, дать что-то в ответ женщине, дававшей ему так много. И всё ещё не понимал, чего ей от него надо и что интересного она в нём нашла, особенно с учётом того, что сказки и фантазии Антона Н считала преходящей детской придурью, приправленной беспокойными гормонами. И Антон тщился понять, что в нём может быть ценного.
Вместе с Н мы создали сказку, которую невозможно было пересказать другому. Она могла обитать только в самом сердце, освещая мир нездешними красками. Как цвета, недоступные нашему восприятию, выходящие за рамки видимого спектра, эта сказка была непостижима, неприкосновенна, неразделима и от того — божественна. В ней был и свет, плотный и тёмный, со вкусом пластмассового молока, и была тьма, сияющая серым, греющая и усеянная кротовыми норами, в которые можно было просунуть руку и прикоснуться к сотне измерений глубины, к чётким граням разлетающегося от костра дыма, к чёрным, теням, спадающим по вечерам от предметов упругими непроницаемыми покрывалами.
И Антон рвался, стремился через эту упругость теней, через лом зачарованных граней, до женщины, становившейся ему родной вопреки тому, что он никогда даже не видел её, не прикасался к её коже, не вдыхал её запах и не слышал голоса, даже не мечтал о ней, глядя издалека. Но она оказалась ему ближе, чем все, кого он зрел и обонял в привычной жизни.
Антон приехал в город, где жила Н, но она отказывалась встретиться, до тех пор, пока Антон случайно не столкнулся с ней на улице. Он её узнал. Он видел её фото. Сердце металось как курица без головы.
Они гуляли. Она робко чмокнула его на прощанье. В ответ он притянул её к себе и поцеловал «по-взрослому». Это сейчас смешно вспоминать, а тогда совсем не смешно было.
Она была цинична так, как будто в её жизни ещё шесть десятков таких же Антонов. И холодная ночь совсем не прибавляла тепла этой высокой и худощавой женщине. Только в глазах у неё всегда мягко, остальные грани она умела прятать под лёд, когда не хотела общаться.
Так и было, после этого она еще тяжелее шла на контакт, иногда они встречались, все же, раз в год, но переписка не клеилась, Н уходила от разговора.
Сначала Антон думал, что Н не принимает его потому, что он недостаточно для неё хорош, и старался стать лучше. Он даже выучился осознавать сны, чтобы настигнуть игнорирующую его Н там. Все изобретения, хитрости и уловки обычно не имели эффекта, а если и имели, то краткосрочный.
Потом Антон хранил в памяти образ Н, как недостижимый, как абстрактную прекрасную даму, освещающую подвиги рыцаря в мире, полном опасностей.
Так было, пока Антон не встретил Л. Он так на ней зациклился, что на время забыл про Н. Когда отношения с Л закончились, и свежие раны немного затянулись, Антону пришла идея снова попробовать общаться с Н. Но чтобы сразу не быть пропущенным мимо ушей, он решил прикинуться незнакомцем.
Трюк удался. Они снова начали переписываться. Антону казалось, что у Н плохая память, поэтому не слишком шифровался и давал Н возможность себя «узнать». И спустя пару недель она узнала. Какое-то время Н восторженно вспоминала их редкие встречи, а потом снова перестала отвечать.
Антон думал, что догнал её, хотя просто дошёл до той стадии, на которой была Недосягаемая на момент их последней встречи. Как Ахиллес, который на потеху толпы не способен догнать черепаху, так и Антон, пусть и с уязвленной гордостью, но махнул на Н рукой.
Недосягаемое не может быть достигнуто. И можно стремиться к нему, если это идеал, только без фанатизма. А если это человек, к тому же безразличный к тебе, и под толстым шлейфом твоих подростковых воспоминаний (а сейчас между вами нет вообще ничего общего), то лучше оставить его в покое. А упругость теней, дымовой лом и пластмассовое молоко придётся создать самостоятельно.
Волна
Волна. Она приходила и уходила, как волна. Она была мягкой, как волна, и сильной, как волна. Она освежала, отрезвляла, воодушевляла. Она уютно смеялась. Она непринуждённо и весело вынимала Антона из его скорлупы и бросала в жизнь без спасательного круга. И он выплывал. В этом она — жестокая мать, дающая свободу. Но если что-то не удавалось, всегда можно было устроиться у неё на груди и напиться досыта её тёплого утробного смеха. В умела раскрашивать пространство и время, умела ткать из событий историю, делать обычные дни особенными. И Антон остался бы с ней, если бы она не взрывалась, как вулкан. Так же громко, как она кричала по ночам, её гнев разносился по всем углам, сотрясая розу ветров, и Антон её боялся. Она хотела бы сдержать буйство, но не могла. Красок и волн в ней было чересчур, за золотым сечением то и дело проглядывалась восходящая ветвь гиперболы из гнева и обвинений.
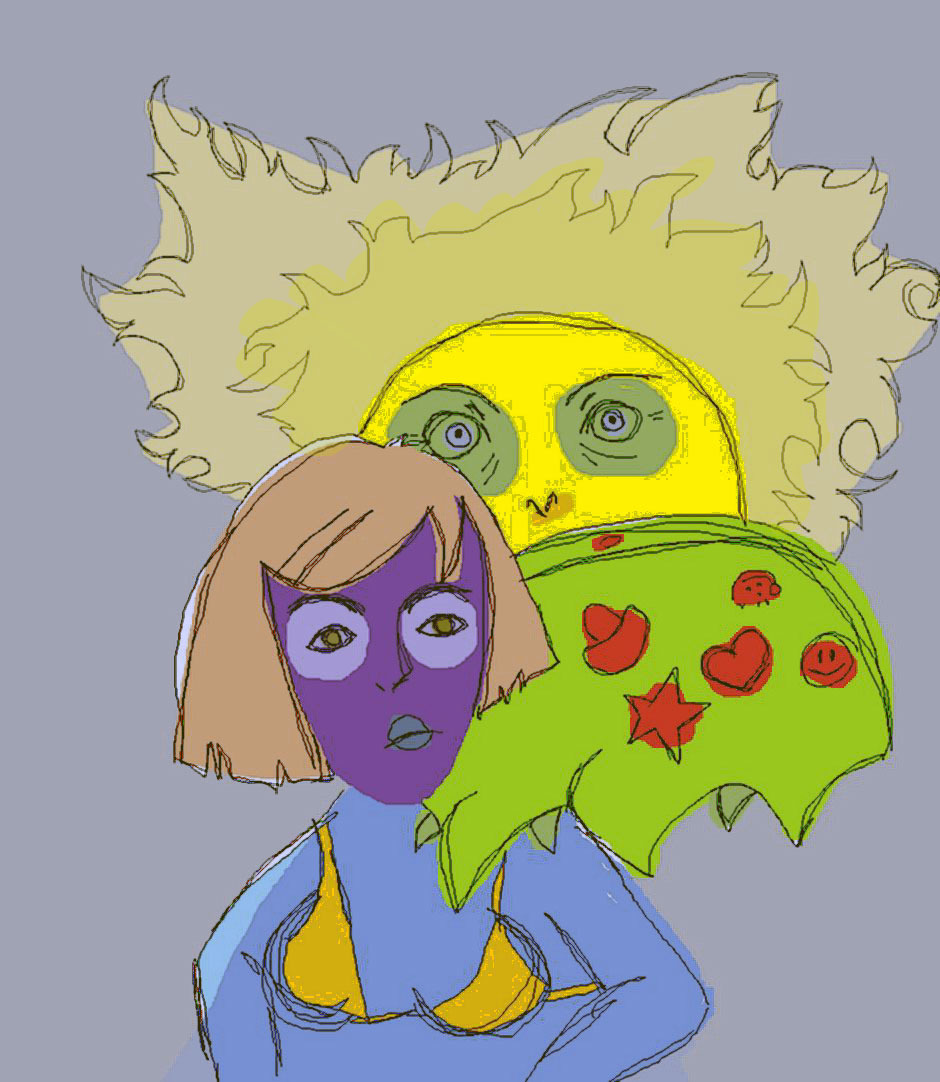
Она лила в своё море вино веселья, огонь страсти, и нектар со вкусом человечности от каждого из сотен своих знакомых, но от этого оно не менялось и не переставало крошиться о берег. Её слова — песни Сирены, сладко зовущей в пёструю вечность, ключом к которой она обладала. И если бы не вулканическая активность, в этой вечности могло бы надолго поселиться что-то живое.
Но как не отнять у волны её изящного верчения и милого щебета пены, так не отнять у неё ту силу, что сбивает с ног и смывает города.
Море М
Был в жизни Антона такой период, события и персоналии которого можно четко разделить на приятные и неприятные, хороших и плохих. Там было много алкоголя в качестве социальной смазки, но это был только первый год его употребления, когда у Антона ещё не было похмелий, а он напротив, после пьянок по утрам чувствовал себя превосходно. Это время он навсегда запомнил как волшебное, ведь там вовсю случались чудеса, музы прятались за каждой дверью, за каждой урной, в людях были целые миры, так до сих пор и нераскрытые. Может, в этом и заключалось очарование того времени, сейчас-то Антон видел людей насквозь и больше не позволял себе обжигаться, а значит, и надеяться, домысливать, доверять так глубоко и безраздельно.
Сегодня он видел во сне девушку, одну из немногих его знакомых того времени, которую он считал однозначным ангелом. Хотя она много курила, пила, гуляла, и позволяла депрессивным мыслям селиться внутри своей кудрявой головы. Но, несмотря на все это, она была светлым пятном среди остальных, в ней не было той заразной гнильцы, упоения своей испорченностью, в ней была человечность, по которой можно было плавать как по морю на маленьком плоту. И теплота, и ласка. Одно расстраивало — без социальной смазки действо между этой девушкой и Антоном не завязывалось, а если и завязывалось, то выглядело нелепо и двигалось с большим скрипом.
Для удобства назовем её М.
Антон впервые заметил её в комнате общаги у своих приятелей. Вроде бы, не его типаж, (хотя большая часть девушек, в которых влюблялся Антон, были не его типажа), другой культурный пласт, но было что-то в её улыбке, в голосе, такая легкая хрипотца, горячий песок Багдада, и огонь в темно-карих глазах, который обещал согреть, который обещал что-то запредельное, такие глубины, на какие раньше не осмеливался погружаться. Пухлые губы, которые хотелось трогать. Завершали образ крупные темные кудри. И вроде бы М была по-юношески угловата, но при этом движения её плавны, настолько, что это гипнотизировало.
В тот вечер она играла на гитаре и пела всякие гражданские обороны, Башлачёва и всё в таком духе. Антон не увлекался русским роком подобного толка, но ГрОб он до этого уже слышал — одна фраза из песни музыканта в трамвае заела в голове «мы идем из зоопарка» и пришлось гуглить. Прослушивая песни Летова, Антон испытывал смешанное чувство. С одной стороны — в них было кое-что притягательное, это странные тексты, но голос, музыка и качество записи приводили Антона чуть ли не в бешенство — такими они были говёными. Поэтому одним прослушиванием ГрОба он и ограничился.
Эти песенки на лесенке играл каждый второй, это был бухой этикет, можно сказать. Но когда играла и пела М, Антон не столько слушал музыку или текст, скорее нечто, возникающее между строчек, какую-то её самость, тембр, согревающий, нежный, и поэтому ему было все равно, что там играет М. Даже если бы она играла шансон или читала гадкий репчик про клубы и чикс, Антон все равно слушал бы её с удовольствием. Но это удовольствие не для всех. Он отдавал себе отчет в том, что это состояние влюбленности, что его просто влекло к этой девушке.

Когда они долго не виделись, Антон включал песни, у исполнительниц которых был похожий тембр, и подолгу глядя в темный потолок, вслушивался, жадно ловя те самые нотки, когда казалось, что это голос М. Тогда по телу проходила густая волна мурашек, электричество, в котором Антон тонул, как болонка, выброшенная в океан. Уши становились самой чувствительной частью тела, и через них проходили все вибрации вселенной, голос жалил мембраны, и они стонали от почти физически ощутимой боли.
Антону казалось слишком скучным форсировать события и вести их сразу к разрядке. Он вообще к своим эмоциям относился по-особому. Все чувства он переживал наедине с собой, играя, как котенок играет с полумертвой от страха мышкой. То туда лапкой, то сюда. То как будто отпустит её, то снова схватит, то так повернет, то сяк, ведь он не голоден, ему просто хочется поиграть.
Антон прекрасно отдавал себе отчет в том что 18 лет — это не шутка. Что такие эмоции, возможно, больше никогда не повторятся, поэтому каждую из них он смаковал как редкое и дорогое лакомство, которое не попробовать больше нигде. Он обращал внимание на каждую деталь, каждое шевеление души, а желаниям тела непременно придавал поэтическую окраску.
В школе Антон был почти постоянно безответно влюблен, и одна из девочек, еще в пятом классе, публично поднимала на смех его чувства, поэтому после он был предельно осторожен. Научился все держать в себе и ничего не ждать, насыщаться от одних только фантазий и не терять самоконтроля ни при каких условиях. Это была особая культура — чувства — неогранённые алмазы. Антон их огранял и помещал в изящные узоры из металлов, создавая из них артефакты, произведения искусства, магические предметы. И от этого, близость с предметом страсти уходила на последний план. Вместо этого были толстые тетради, исписанные стихами от начала до конца, воображение дорисовывало всё, что нужно, окунало эмоции в разные растворы — то представляло двоих вместе на протяжении 20 лет, то один дракон, другой принцесса, то ревность, то они вдвоем оказались на необитаемом острове, и волей-неволей пришлось выстраивать мост…
Поэтому сейчас он мог контролировать порывы тела, сердца и разума, подчиняя их воле.
Но его воля была — дотронуться до М, быть с ней, слушать её голос и биение сердца, гладить мягкую кожу, сжимать в объятьях, зарываться в волосы и целовать до потери пульса, чтобы весь мир падал в тартарары, катился к чертям, чтобы был только он и она, на острие тоненькой нити, (это все, что осталось от рухнувшего мира). Он хотел нырять в её душу, упиваться, смаковать сладкое чувство шевеления в груди, плакать от счастья. И он знал, что если пресытиться этим, что если выпить до дна, то всё пропадёт. Нет, этого не будет. Этого никогда не будет! Такие вещи нужно бережно хранить, как хрустальные статуэтки на полках, чтобы можно было спустя много лет вспомнить без горечи и без разочарования, без ощущения постылости, напоминающего по вкусу соду с аммиаком.
При следующей же встрече Антон немного накатил для храбрости и прильнул к М. Тогда это было нормально: пульсация пространства, специфика компании и неловкость момента — все это говорило делать так, если больше не можешь ничего другого сделать. Если человеку будет неприятно — он просто отстранится, и ты будешь уверен, что не срослось, а на следующий день не будет стыдного осадка, скорее всего никто ни о чем таком даже не вспомнит.
Но М ответила каким-то тоже невинным жестом, вроде руки в руке, или на колене, и её лицо близко. В такие моменты планеты перестают вращаться вокруг солнца, и начинают вращаться вокруг двоих людей, загораживая остальным обзор на интимность момента, ну, как-бы закрывая…
И тогда сердце вырвалось из клетки, в которой много лет томилось диким зверем, но ни на минуту не оставляло надежды, что однажды клетка откроется.
Чувство получило свободу, сверкнуло осознание, что можно, можно, можно, можно можно
МОЖНО
МОЖНО
МОЖНО!
МОЖНО
МОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
…и всё вокруг перестает существовать, и электричество в пальцах, и вспышки перед глазами, и где-то на подкорках молитвы типа спасибо господи, помоги не сорваться на секунду раньше, ещё секунду, ещё господи, это чувство, оно возносит, оно опьяняет, отрезвляет, делает тебя другим, ты меняешься на клеточном уровне, в тебе что-то сгорает и рождается свет, ты задыхаешься в нем, ты готов плакать от счастья, смеяться, миллионы лет напролет переживать это чувство, вспоминать его, вспоминать, вспоминать, идеализировать и прокручивать снова и снова, без изменений, оно идеально!
Смотришь на её губы, так близко, на эти плавные линии, упругие, легкую полуулыбку,
и всё, ты пропал.
А она не выдерживает первая и порывисто тебя целует, и ты подхватываешь, и хватаешь, и вы оба рушитесь в сладкое, тягучее небытие. Вы целуетесь как сумасшедшие. Приятели, которые тоже находятся в комнате, начинают над вами посмеиваться, они не могут разлепить вас на протяжении часа или двух, ваши тела словно пытаются прирасти друг к другу через губы, по которым бегает туда-сюда электричество. За это время люди вокруг успевают нажраться по-свински, кто-то облизывает твою свисающую с кровати руку, кто-то внимательно наблюдает за вами, и глубоко, на самой периферии сознания, ты понимаешь что реальность такова — вы на мерзкой студенческой пьянке, и есть гадкое и грязное за пределами планет, которые кружатся вокруг вас.
Но тебе всё равно.
Боже, Боже, как же приятно…

И так было много раз. Антон и М встречались редко, и только на подобных сборищах. Потом они обычно уходили к себе, и там могли валяться по много часов или даже по двое суток, при этом только целовались и разговаривали обо всяком абстрактном. Смотрели друг на друга, слушали друг друга, трогали, гладили, щекотали, пробовали на вкус, представляли с закрытыми глазами, видели как сгустки яркого неистового света в темноте комнаты. М выходила покурить на лестничную площадку пятнистая от засосов.
Обычно она редко приходила в общагу, и Антон не знал когда она придет, и где она была все это время, но заприметив её в коридоре, или услышав от кого-нибудь что она здесь, он пытался усмирить прыгающее изо всех сил в груди сердце.
М была пессимистка, а может просто притворялась, говорила что ей на всё фиолетово, что гладить, что убивать, а Антон рассказывал ей сказки, про чудеса, про добро, про красивое небо. Он сейчас даже и не помнил, чего конкретно ей там нарассказывал.
Однажды Антону приснилось, что за ним гоняются крысы, и кусают его за руки до крови, скачут, лязгают острыми зубами, вцепляются. А потом М его спасает от крыс, уводит от них, закрывает дверь, говорит, что надо раны промыть, включает воду, и Антон чувствует облегчение.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
