
Бесплатный фрагмент - Писатели, которые потрясли мир
К первой публикации в журнале «Юность»
«Юность» открывает новую рубрику — «100 книг, которые потрясли мир». Не только потому, что сейчас идут споры вокруг предложения Владимира Путина о списке 100 книг, которые должен прочитать каждый выпускник школы. Не только потому, чтобы выявить свои вкусы или чье-то безвкусие. И не потому, что в мире существует всего 100 книг, которые стоит прочитать. Конечно, их гораздо больше. Особенно на такой огромной планете. Но эту сотню книг почитать стоит — чтобы отблагодарить и время, и планету, которые породили великих писателей. И еще — чтобы уважать себя…
Возможно, не совсем правильно начинать с далекой Бразилии. Возможно, правильнее, начать с русских писателей… Но в этом году Жоржи Амаду исполнилось бы 100 лет (2012 г. — Ред.). Сто лет одному из ста… Впрочем, в сегодняшнюю эпоху «железного занавеса», которая завоевала весь мир. В эпоху, когда избыток информации порождает духовную безграмотность и душевную бедность. В эпоху, разделившуюся на страдания и безразличия к этим страданиям. Почему бы не начать познавать мир с солнечной и не очень, загадочной и не очень, далекой, хотя сегодня уже и не очень, страны. Почему бы не начать изучать мир с Жоржи Амаду… Не просто писателя, но и общественно-политического деятеля. Его книги были переведены на 49 языков мира, он был награжден 16-ю интернациональными литературными премиями, и 18-ю бразильскими. Друг СССР. И недруг постперестроечной России. Которую он так и не сумел простить.
Или не успел…
Елена Сазанович, сентябрь 2012 года
От издательства: Этот сборник тоже открывается с эссе о Жоржи Амаду, потому что случайно так совпало, что фамилия замечательного латиноамериканского писателя начинается с первой буквы русского алфавита.
Жоржи Амаду. Мечты из песка

Судьба писателя отобразила в себе судьбу противоречивого, бурного, жаркого ХХ века. Судьбу не только Бразилии, но и всего мира. Жоржи Амаду стал типичным представителем своего поколения. Бунтующего, непокоренного, бесстрашного. Когда самые лучшие и талантливые люди, не раздумывая, вступали в компартию. Чтобы изменить мир к лучшему. Когда, не раздумывая, сражались с бесправными режимами. Чтобы сохранить мир. Когда подвергались многократным арестам, пыткам, изгнанию из родной страны. Чтобы вернуться и победить.
Среди них был Амаду. Он видел, как полыхают в огне его книги на площади в Сальвадоре. В огне обыкновенного фашизма. С которым он обыкновенно боролся. Штыком и пером.
Жоржи Амаду (Жоржи Леал Амаду ди Фария) написал около 30 романов. Но одним из самых известных стал его ранний — «Капитаны песка», который он написал в 25 лет, ровно 75 лет назад (по которому американский режиссер Холл Бартлетт снял фильм «Генералы песчаных карьеров», культовый в СССР). Это — не магический реализм, это — не солнечный реализм Амаду. Это — реальность Бразилии. И не только. Для Союза он казался чем-то нереальным. Ведь с беспризорностью мы покончили раз и навсегда. Как нам тогда казалось…
Не предполагая, что за считанные годы она вернется к нам с удвоенной и более беспощадной силой. В эпоху желанной свободы. Только какая страна желает подобной свободы для своих детей? Когда их мечты, как песок, сочатся сквозь пальцы…
Это роман о детстве и юности. Куда для многих вход закрыт. А без детства и юности нет и Родины. И далеко не каждый назовет это время «прекрасной порой». В классовом обществе детство и юность тоже поделены на классы. Ад и рай. Для одних, сытых и разбалованных, на улице — праздник. Другие, голодные и ненужные, наблюдают за улицей из песчаных карьеров, подворотен, подвалов. А эта улица слишком шумна, весела, пестра. В мороженом и шариках. В каруселях и аттракционах. В особняках и дорогих лимузинах. Но это чужой праздник. И эта улица может толкнуть на разбой и убийство, на смерть под пулями и самоубийство. И конечно, на революцию. И войну. Сила художественного произведения заключается в вечности темы. Причем для всех стран.
«Благотворительностью эту проблему не решить… Капитаны песка по-прежнему существуют. Одни вырастают, на их место приходят другие, их с каждым годом все больше и больше…»
Сегодня как никогда этот роман интернационален и актуален. К сожалению. А вечность темы, возможно, неизбежна. Похоже, это понял Амаду в трагические 90-е. Когда вместе с СССР вдребезги разбилась его мечта о том, что там, в далекой стране, где снега и метели, есть приют и для его загорелых ребят. Где свобода — это не помойки, разбой и нищета. А равенство и право. Право на детство и юность в том числе.
Еще в тридцатых годах прошлого века, когда дипломатические связи с Бразилией не были установлены, мы открыли Амаду для мира, позднее удостоив почестями и премиями. В 90-е мы его для мира закрыли, отметив лишь бранью в прессе. Сегодня пришло время вновь его открывать. Чтобы праздник был и на нашей улице. В том числе — на улице детства. Чтобы исправить ошибки. Чтобы Амаду сумел нас простить. Правда, уже после смерти… Как и другие писатели, которые потрясли мир.
Александр Александрович Блок. И опять идут двенадцать…

Это он написал. С изысканностью: «Девичий стан, шелками схваченный, В туманном движется окне…» И утонченностью: «Как белое платье пело в луче…» И обреченностью: «Живи еще хоть четверть века — Все будет так. Исхода нет…» И это он написал тоже. Жестко, дерзко, бескомпромиссно: «В последний раз — опомнись, старый мир!..» «„Мир и братство народов“ — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать. Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию…„“ — Отвяжись ты, шелудивый, Я штыком пощекочу! Старый мир, как пес паршивый, Провались — поколочу!..» «Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!..»
Потрясающе! Но это все он — Александр Александрович Блок. Этот дворянский интеллигент до мозга костей. Внук ректора и сын профессора. Идеалист и романтик. Утонченный эстет. Он первым услышал музыку революции и записал ее стихами. В поэме «Двенадцать». В первые зимние недели 1918-го. Ровно 95 лет назад…
Он не только поверил ей. Революции. Но всем сердцем ее принял. Он был последним поэтом старой России. И первым поэтом новой страны. И он был одним из первых русских интеллигентов, кто сразу же без колебаний согласился сотрудничать с советской властью. Кого-то — удивляя, кого-то — вдохновляя, кого-то — раздражая. До смертельной ненависти.
Он сумел почувствовать реальность. Он сумел перешагнуть через себя, модного поэта-символиста. И стал великим поэтом-гражданином… Тонкий, умный, трагичный, он сумел подняться над пошлостью, мещанством, примитивизмом и аполитичностью жизни. И поднять за собой очень и очень многих…
Закончив «Двенадцать», Блок, человек редкой скромности и глубокого самоанализа, записал в дневнике: «Сегодня я — гений». Он не преувеличивал. Это — странная поэма. Туманная поэма. И одновременно понятная и ясная. Как и «Черный вечер. Белый снег…» Как «Ветер, ветер — На всем божьем свете!»
Черно-белое произведение. Черно-белый стих. Черно-белое полотно. Черно-белая музыка по черно-белым клавишам. От частушек до марша. И до гимна новой страны. Кинематографичное как черно-белое кино. Когда цветной аккорд только в конце. Как у Эйзенштейна — взрывом — красный флаг… И это не случайно.
Двухцветная поэма. Как и наш мир. Ведь наш мир, куда ни крути, проще. Он черно-белый. Где лишь добро и зло.
Остальное — нюансы и оттенки. Такого черного и белого, такого злого и доброго мира.
Через двенадцать глав идут двенадцать красноармейцев. Как двенадцать апостолов. Несут новую правду в новый мир. А впереди — Иисус Христос. Среди бойцов. Так когда-то было разрушено язычество…
Это — символичный намек на новую религию. И в эту религию веришь. Как и Александру Блоку.
Уже в 1920-х годах поэму перевели и издали в США, Англии, Франции, Германии, Голландии, Чехии, Болгарии… Русские сторонники старого режима сразу же возненавидели Блока и его «Двенадцать». После крушения советской власти его возненавидели повторно. Революцию исключили из истории — не проходила по историческим догмам. Блока практически исключили из литературы — не проходил по литературным догмам…
Неужели эти «ликвидаторы» ближе к исторической правде? И Блок ошибался? Как и ошибались Маяковский, Алексей Толстой, Есенин, Тимирязев, Павлов, Герберт Уэллс, Джон Рид, Бернард Шоу, Чарли Чаплин?.. Да, чтобы перечислить все выдающиеся личности, поддержавшие советское государство, — одного тома вряд ли будет достаточно.
И все, оказывается, ошибались?! Вот Мережковский с Гиппиус, эти «заклятые друзья» Блока, нет — быстро перебрались за кордон. И в итоге они пришли к Муссолини и Гитлеру, рассуждая на немецком радио о «подвиге, взятом на себя Германией в святом крестовом походе против большевизма»… Политики, ученые, деятели искусств 90-х тоже и также «не ошибались»…
Впрочем, история вряд ли запишет и запомнит их имена. У истории своих достойных имен предостаточно. К тому же, как это ни волшебно звучит — она все ставит на свои места. И всех. И места эти распределены с точностью. Исторической.
Блок, человек «бесстрашной искренности» (по Горькому), искренне и бесстрашно принял советскую власть. Потому что знал: «Одно только делает человека человеком — знание о социальном неравенстве…»
У нас сегодня вновь все повторяется. Вновь голосят, что нельзя и не модно дружить с властью. Правда не уточняют — с властью, которая наконец-то стала прищемлять хвосты сытым и богатым. Хотя с властью 90-х, которая горой стояла за сытых и богатых, они прекрасно дружили с утра до вечера…
И опять идут двенадцать. Как и тогда, 95 лет назад. Куда они идут, ведомые Христом? Какие еще испытания их ждут? За такое простое и такое справедливое желание — единого счастья для всех. Какая голгофа, какое распятие, какая клевета и какие плевки? И какая бездна?.. Ответ на этот вопрос, пожалуй, уже дала Библия. Ответ на этот вопрос по-своему дал и Александр Александрович Блок… Как и другие писатели, которые потрясли мир.
Джордано Бруно. Изгнание торжествующего зверя

Когда-то он сказал, что героическая смерть в столетии дает бессмертие в веках. Но был ли прав?.. В августе 1603 года все произведения величайшего итальянского философа, мыслителя, писателя Джордано Бруно зафиксировали в истории Индекса запрещенных книг. И вычеркнули его имя из истории. Уже прошло более четырехсот лет, но католическая церковь так и не простила его. Впрочем, до сих пор в последнем издании Индекса отлученными от церкви фигурируют около 4 тысяч отдельных произведений и десятки авторов, все сочинения которых запрещены.
Это — высокая награда за правду. Этой чести удостоились Вольтер, Жан Жак Руссо, Оноре де Бальзак, Эмиль Золя, Жорж Санд. И еще отдельные произведения Гейне, Гюго, Мицкевича, Стендаля, Флобера. И, и, и… Книга Гитлера «Майн Кампф» в список не попала. Повезло? Или не удостоился чести?
Среди запрещенных — и книга «Изгнание торжествующего зверя». Пожалуй, одна из немногих, написанных Джордано Бруно, если вообще не единственная, которую мы еще можем прочесть. Она и сложна, и проста. Сложна потому, что написана много веков назад. Когда люди еще могли просто так мыслить. Просто так философствовать друг с другом. И просто так — за правду — терпеть неимоверные муки… А проста эта книга потому, что эта правда до сих пор — в нас. Просто мы не умеем как они — ни мыслить, ни философствовать, ни страдать. Никак. Блестящие диалоги, блестящая мысль, блестящая правда. Которую мы в неблестящем мире еще можем познать. Если захотим…
В каждом из нас живет зверь. И мы похожи на зверей. Кто на орла, кто на лебедя. Кто на медведя, кто на мышь. Кто на скорпиона, кто на дракона… Мы все похожи на кого-то. Но мы все берем из зверей именно зверское. Плохое, а не хорошее. Так не пора ли его уничтожить? К чему и призывал Бруно. Ведь до сих пор мы так и не изгнали этого зверя в себе. Просто в определенные моменты мы его усмиряем, в определенные он нас побеждает. А мы — это просто модель общества, в котором так или иначе тоже живет зверь.
«Дабы беззащитные ограждены были от власть имущих, слабые не угнетались сильными, низлагались тираны, назначались и утверждались справедливые правители и цари, поощрялись республики, насилие не подавляло разум, невежество не презирало науку, богатые помогали бедным, добродетели и занятия, полезные и необходимые обществу, поощрялись, развивались и поддерживались, преуспевающие возвышались и награждались, а праздные, скупые и собственники презирались и выставлялись на позор. Дабы страх и почтение к невидимым силам, честь, почтение и страх к ближайшим живым правителям держались; никто не получил власти, кроме тех, что выдались своими заслугами, доблестью и умом или сами по себе, что редко бывает и почти невозможно, или с помощью и по совету других, что — желательно, обычно и необходимо…»
А еще Бруно считал самым наихудшим грехом тот, что наносит ущерб государству и его народу.
Эту книгу нельзя просто читать. В эту книгу нужно вчитываться. В каждое слово. Если вы хотите узнать себя, узнать свой народ, узнать свою страну. Впрочем, узнать и другие страны. И всю Вселенную. Которую и представлял космический человек. Джордано Бруно.
Он до сих пор отлучен от католической церкви. Она простила, кстати, многих. Даже Коперника. Но не Бруно.
Похоже, он до сих пор опасен. Похоже, до сих пор его открытия (которые так тщательно скрывают) представляют угрозу для раскрытия тайны Вселенной. И тайны жизни и смерти. И правду о жизни и смерти… Но мы эту правду, открытую нам более четырехсот лет назад, так и не знаем. И узнаем ли?
Бруно выбрал опасный путь. И этот путь привел его на костер. Бруно однажды написал, что звезда — это огромное солнце и вокруг нее тоже планеты, планеты. И это тоже есть мир. И сколько в бесконечном пространстве таких миров!.. Он был прав. И каждая звезда — наша. Но, возможно, эти миры гораздо лучше нашего? И там за идейность и убеждения на кострах не сжигают?
Бруно, возможно, первый из первых предвосхитил космонавтику. Его не могли не казнить. Его казнили изощренно, в день празднования юбилея 50-ти кардиналов.
Это был праздник всепрощения. Когда его сожгли на площади Цветов. В солнечный день христианской любви. Человека, который один из немногих за эту вселенскую любовь сражался.
На голове философа возвышался высокий колпак, на котором был нарисован человек, извивающийся в муках от пламени. На желтой одежде ученого черной краской были нарисованы уродливые черти. На руках и ногах гения звенели тяжелые железные цепи. Язык Бруно был изуродован. И во рту — кляп.
Последнего гневного слова этого свободолюбивого человека боялись как никогда. Вдруг к последнему слову все же люди прислушаются?! Его привязали к столбу в центре костра железной цепью и перетянули мокрой веревкой, чтобы мучительнее было умирать. Веревка под огнем стягивалась и врезалась в тело.
Перед казнью палачи еще раз спросили мыслителя: откажется ли он от своего учения? Бруно брезгливо поморщился — вопрос был бессмысленен, нелеп и даже смешон. И твердо взошел на костер.
Спустя три столетия на площади Цветов, где он был сожжен, установили памятник великому философу. Что умирает — то вечно. Что сжигают — то бесконечно. На что клевещут — то возрождается правдой… Внизу на постаменте надпись: «Джордано Бруно — от столетия, которое он предвидел, на том месте, где был зажжен костер». Впрочем, также решительно шли на костер все гениальные философы и мыслители. Пусть по-разному. Но именно так. Как взошел Бруно… Как и другие писатели, которые потрясли мир.
Жюль Верн. Двадцать тысяч лье под водой

Кем он только не был! И страстным путешественником (на своей яхте «Сен-Мишель» дважды обошел Средиземное море, посетил многие страны Европы, заходил в африканские воды, побывал в Северной Америке). И членом Французского географического общества. И кавалером ордена Почетного легиона. И членом муниципального республиканского совета Амьена. И еще… Нет, в первую очередь, писателем-гуманистом. Классиком приключенческой и фантастической литературы. И сколько он написал! И что он только не написал! Невероятная работоспособность… Впрочем, Жюль Габриэль Верн — не легенда. Значит, вполне вероятная.
В этом году мир отмечал 185-летие со дня рождения великого писателя (2013 г. — Ред.). Автор около ста книг — стихи, пьесы, рассказы, около семидесяти повестей и романов. Многие из них проникнуты романтикой науки, идеалами утопического социализма и Парижской коммуны 1871 года. По статистике ЮНЕСКО, Жюль Верн — самый «переводимый» автор в мире. Его книги были напечатаны на ста сорока восьми языках. Сам Александр Дюма-отец ввел его в литературу. А с Дюма-младшим он дружил до конца дней. Сам Папа Римский благодарил его за нравственную чистоту произведений. А венецианцы под окнами гостиницы, где он жил, устраивали в его честь факельные шествия. Он был безумно популярен, и к нему приезжали люди со всего мира.
Но Жюль Верн был не просто писателем. Он был провидцем, предсказателем. Можно сказать — в некоторой степени ученым-романтиком без степени. То, что он предвосхитил в своих произведениях, невероятно и не поддается логике. На такое способен лишь истинный талант.
Это он предсказал научные открытия и изобретения в самых разных областях. Даже электрический стул — его выдумка. Но главное иное. Большие подводные лодки, способные длительное время находиться в плавании («Двадцать тысяч лье под водой»). Самолет («Властелин мира»). Самолет с переменным вектором тяги («Необыкновенные приключения экспедиции Барсака»). Вертолет («Робур-Завоеватель»). Космические корабли и пилотируемые полеты в космос, в том числе на Луну («С Земли на Луну»). Он точно описал размеры ракеты, место старта и даже экипаж: три человека, как это и было впоследствии в программе NASA. Башня в центре Европы (до строительства Эйфелевой башни) — описание весьма похоже. Межпланетные путешествия («Гектор Сервадак»), запуски космических аппаратов доказывают возможность межпланетных путешествий. Видеосвязь и телевидение («Париж в XX веке»). Строительство Турксиба («Клодиус Бомбарнак»). Не зря он так серьезно, так скрупулезно изучал естественные науки. Физику, астрономию, биологию. Не зря он так усердно, так верно следил за появлением новейших открытий и изобретений.
А еще Жюль Верн очень любил Россию. Хотя так в России и не побывал. Хотя так об этом мечтал. Но Россия в его творчестве есть, еще как! Полностью или частично именно в России разворачивается действие девяти его романов. Так после выхода романа «Михаил Строгов» во Франции появляется мода на все русское. В изначальной версии «Двадцать тысяч лье под водой» (это один из самых значительных романов писателя) капитан Немо был польским аристократом, построившим «Наутилус» для мести «проклятым русским оккупантам» (подразумевалось польское восстание 1863–65 годов). И только после активного вмешательства издателя Хетцеля, который торговал книгами и в России, капитан Немо стал сначала «бездомным», а в романе «Таинственный остров» превратился в индийского принца Даккара, сражающегося против рабовладения.
В этом романе писатель обращается к теме угнетенных колониальных народов, попытки которых облегчить свою участь жестоко и безжалостно подавляются. И, безусловно, Жюль Верн в своем романе грезит о достойных, умных, справедливых людях. Которые будут жить в достойном, умном, справедливом обществе. Он был великий мечтатель. Увы, его мечты сбылись только наполовину. Те, что касались научно-технического прогресса. Тем мечтам, которые про равенство и братство, увы, сбыться пока не суждено… Вся прогрессивная Россия очень любила Жюля Верна. Им восхищались Некрасов, Салтыков-Щедрин, Чехов, Лев Толстой, Николай Островский, Михаил Булгаков.
Безусловно, зарубежным, а теперь и нашим критикам выгодно сделать из Жюля Верна фантаста в чистом виде. Втиснуть его в рамки собственных грез и воображений (пусть даже и осуществимых). Этакий фантазер, этакий добрый мечтатель. А возможно, и певец буржуазного прогресса и чудес капиталистической техники (хотя в его поздних произведениях чувствуется откровенный страх перед использованием науки в преступных целях). Пусть он себе своими фантазиями уводит нас от политики и социальных проблем! Но Жюль Верн никуда в сторону от социальных проблем уводить не собирался. Даже наоборот. Он не скрывал от читателя теневых сторон жизни. Он пытался заставить читателя не оставаться в тени. Писатель жил во времена агрессивно наступающего капитализма, в частности американского, стремительно поднимающего голову, набирающего силы и уже показывающего свои (далеко не голливудские) зубы…
Великолепный роман «Пятьсот миллионов бегумы» предсказывает фашизм в образе отвратительного профессора-человеконенавистника. А «Плавучий остров» построили американские миллионеры, где мечтали праздно проводить время в бездумье и роскоши. Где жизнь — это только материальный расчет, и не более.
Его роман «Вверх дном» был переведен на многие языки, и прежде всего на русский. Первоначальное название говорит за себя: «О том, как американцы напугали весь мир». Вот американцы и не торопились объявлять об этой книге и тем более ее издавать. Она все же вышла спустя десять лет (американцы помнили, что они демократы). И очень незначительным тиражом. Вдруг так, пройдет мимо. Проходная книжонка. Жюль Верн сам подчеркивал, что это антиамериканский роман: «В Соединенных Штатах ни одно предприятие, даже самое дерзкое, почти невыполнимое, не останется без сторонников, готовых взять на себя практическую сторону дела и вложить в него свои средства». И ведь был прав! Куда только не вкладывали свои средства американцы! Аж страшно подумать…
Он умер в 1905 году и похоронен около своего дома в Амьене. Однако еще до 1910 года каждые шесть месяцев, как это делалось на протяжении сорока двух лет, Жюль Верн продолжал дарить читателям новый том «Необыкновенных путешествий»… На его могиле поставили памятник, изображавший писателя-фантаста восстающим из праха, с рукой, протянутой к звездам.
Незадолго до смерти он написал сестре: «Я вижу все хуже и хуже, моя дорогая сестра. Операции катаракты еще не было… Кроме того, я оглох на одно ухо. Итак, я в состоянии теперь слышать только половину глупостей и злопыхательств, которые ходят по свету, и это меня немало утешает!..» Глупостей и злопыхательств в этом мире стало гораздо больше. И один из выходов, чтобы их не слышать и не видеть, — стать глухим и слепым. Впрочем, еще можно стать Жюлем Верном. И сочинить новый мир, который пытается жить по законам мира… Как и другие писатели, которые потрясли мир.
Этель Войнич. Овод

Вот уже ровно два года исполнилось нашей рубрике «100 книг, которые потрясли мир» (2014 г. — Ред.). И вдруг с удивлением замечаешь, что герои рубрики — исключительно мужчины. Похоже, даже женщинам свойственен мужской шовинизм. Возможно, это исторически и литературно-критически оправданно. Хотя история не терпит догм. Разве что литературная критика. Впрочем, даже у такой эмансипированной женщины, как Этель Войнич, в главной роли ее основных романов выступает мужчина.
Этель Лилиан Войнич. Родилась в хорошей английской семье. Настолько хорошей, чтобы неизбежно стать писателем, переводчиком, композитором. И революционером. Дочь известного английского ученого и профессора математики Джорджа Буля. Дочь талантливой преподавательницы математики и журналистки Мери Эверест. Внучка известного профессора греческого языка Эвереста. Племянница самого сэра Джорджа Эвереста, возглавлявшего геодезическую службу Британской Индии и в честь которого названа самая высокая вершина нашей планеты (который, что интересно, эту вершину так никогда и не увидел). У Этель Лилиан жизнь просто должна была стать необыкновенной. Что это? Гены, корни, семейные традиции? Или атмосфера? Атмосфера времени — такого романтичного и такого бунтарского. Наверное, все вместе. Чтобы в свое время писательница неизбежно познакомилась с Энгельсом и Плехановым. Вышла замуж за польского революционера Михаила Войнича, сбежавшего из сибирской каторги. Чтобы одевалась в одно время только в черное в знак траура по такому несправедливому, такому смертельно-больному миру. Чтобы в Лондоне подружиться с политическими эмигрантами. Особенно русскими. И особенно с писателем и революционером Степняком-Кравчинским. Благодаря которому юная англичанка и отправилась в Петербург. И благодаря которому она сразу же нашла свое место среди революционной молодежи. Чтобы потом вернуться на родину и участвовать в «Обществе друзей русской свободы», созданном тем же Кравчинским. И работать в редакции эмигрантского журнала «Свободная Россия» и в Фонде вольной русской прессы. Чтобы уже позднее перевести для своих соотечественников Лермонтова и Гоголя. Достоевского и Салтыкова-Щедрина. И песнь о Степане Разине, включенную в роман «Оливия Летэм». И литературу славянских народов. Чтобы позднее заставить английского читателя познакомиться с творчеством великого украинского поэта Шевченко, опубликовав сборник «Шесть стихотворений Тараса Шевченко» с очерком о его пламенной жизни.
Кстати, Войнич — первая, кто открыл для Англии бессмертную лирику великого украинского поэта. Об этом, наверное, забыли сегодня на Украине. Вернее, заставляют забыть. Вернее, даже не знают об этом. И знать не хотят. Как и не хотят знать самого Тараса Шевченко. Что ж, пусть его помнят в Англии. Как помнят в России. А Войнич когда-то, в конце XIX века уехала ненадолго в Россию, чтобы навсегда ее полюбить. Чтобы гораздо, гораздо позднее, уже в середине ХХ века в нелюбимой ею Америке написать ораторию «Вавилон», посвященную свержению самодержавия в России. Наш человек. Умерший, увы, далеко не в нашей стране.
Впрочем, Россия отвечала ей не меньшей взаимностью. В отличие от той же Америки и других европейских стран, которые устроили «заговор молчания» ее произведениям. Которые возненавидели писательницу за идейность, смелость, независимость и справедливую борьбу за тот мир, в котором возможно ходить не в черном, а светлом. А в родной Англии ее имя принципиально не упоминалось ни в справочниках, ни в литературоведческих трудах. До сих пор на Западе ее не хотят простить. Ее, отважно бросившую вызов этому самому Западу. Его морали, его бездуховности и наглости, которая за два века почти не изменилась. Разве что в гораздо худшую сторону. Гораздо… Только Россия от всего сердца благодарно приняла писательницу-англичанку. Прошлая Россия. Потом СССР. И есть надежда, что новая Россия примет ее не с меньшей любовью и благодарностью.
Что еще могла написать Этель Войнич, вернувшись когда-то из России? Конечно, революционный роман «Овод». Что еще могла написать Этель Войнич, вернувшись когда-то из России? Конечно, романтичный роман «Овод». Что еще она могла написать, вернувшись когда-то из России? Конечно, интернациональный роман «Овод». В России роман был сразу же напечатан. Его приняли восторженно. Несмотря на многочисленные запрещения царской цензуры (так, в 1905 году был конфискован весь тираж «Овода»). Им зачитывалась прогрессивная интеллигенция, рабочие и крестьяне. За годы Советской власти «Овод» был издан 155 раз общим тиражом более 9 миллионов экземпляров! Он был переведен на 24 языка народов СССР! Сколько раз ставились инсценировки романа в театрах. Были написаны три оперы. И осуществлены три киноэкранизации. Только в нашей стране!..
Этель Войнич прожила долгую жизнь — 94 года. И написано ею было не так много. Пять романов. Три из которых о судьбе Артура Бертона — Овода. Но одного «Овода» для писателя может быть вполне достаточно, чтобы понять, что творческая жизнь удалась. Даже если сама жизнь удалась не очень. Как у Войнич.
Это роман о революционной Италии 30-40-х годов. Впрочем, Италия — лишь фон. Действие романа могло происходить в какой угодно стране — Англии, Германии, Франции… И, безусловно, в России. Народный протест, борьба за справедливость, подвиг. Деспотизм, национализм, трагизм… В какой угодно стране земного шара. «Прошлое принадлежит смерти, а будущее — в твоих собственных руках». Это строки из стихотворения Шелли, любимого поэта героини романа Джеммы Уоррен и самого Овода. Это строки для всех на Земле… Впрочем, Шелли был и любимым поэтом Войнич. Поэтому она в унисон ему когда-то сказала: «Берите его, будущее, пока оно ваше, и думайте не о том дурном, что вами когда-то сделано, а о том хорошем, что вы еще можете сделать…»
В романе Войнич сумела гармонично соединить два стиля — критический реализм и героический романтизм. Что придало сюжету драматичность и динамику… А сюжет действительно стремительный и пронзительный.
Главный герой Артур Бертон. В начале автор придала его внешности обаятельные, даже женственные черты. Чтобы подчеркнуть идеализм и романтизм героя. У которого в жизни было три божества: падре Монтинелле (который окажется его отцом), любимая девушка Джемма (которая обвинит его в предательстве) и Италия (хотя итальянцем он не был). Два из трех его предали. Но Италия… Нет, это не просто Италия. Это идея. А идеи не предают, особенно, если ты посвящаешь им жизнь. И смерть тоже. Поначалу главный герой искренне верил, что религия и революция вполне сочетаемы: «Ведь назначение духовенства — вести мир к высшим идеалам и целям, а разве не к этому мы стремимся.» И еще: «Священник — проповедник христианства, а Христос был величайшим революционером»…
Затем, когда по сюжету романа минуло 13 лет, автор безжалостно меняет внешность героя. Его не узнают даже самые близкие. Шрам, трость, сарказм и безверие. И наделяет его ядовитым прозвищем — Овод. Войнич уничтожает все, что было дорого Артуру в начале. И полностью опровергает его слова и его веру. Как автор, который писал в конце XIX века, когда атеизм стал основой справедливой борьбы, а справедливая борьба — атеизмом. И все же…
Иногда кажется, что именно Овода, этого непримиримого бунтаря, революционера, атеиста и мученика автор (вольно или невольно) сравнивает с Христом. И его смерть тоже сравнивает. И это — апофеоз романа… Овод сам командует своим расстрелом. Но солдаты не хотят, не смеют его убить, многие еле сдерживают слезы. И каждый надеется, что «смертельная пуля будет пущена рукой соседа».
Раненый, истекающий кровью Овод не перестает смеяться и над теми, кто его убивает и над собственной смертью. Потому что уже когда-то сказал: «Даже и две минуты не хочу быть серьезным, друг мой. Ни жизнь, ни смерть не стоят того». А смерть мучительно долго приходит к нему. И жизнь мучительно долго уходит… И по-прежнему Овод сам отдает последние слова команды: «Держать ружье!.. Целься!»
И его вера в будущее настолько велика, что кажется, он верит не просто в товарищей, которые будут сражаться за него. Он верит в бессмертие. Потому что «свою долю работы я выполнил, а смертный приговор — лишь свидетельство того, что она была выполнена добросовестно.» Уже позднее, кардинал Монтанелли, который сделал выбор между Христом и своим собственным сыном (выбор, закончившийся казню), скажет толпе, застывшей в мертвой тишине: «Но кто из вас подумал о страданиях бога-отца, который дал распять на кресте своего сына?» Овод никогда бы не принял эти слова. Он не верил небу. Он верил земле. Но автор «Овода», наверное, принимала. Можно обожать героя своего романа, но не обязательно быть с ним во всем заодно.
Недаром «Овод» так любил Николай Островский. Недаром «Овод» так любил Павка Корчагин: «Отброшен только ненужный трагизм мучительной операции с испытанием своей воли. Но я за основное в „Оводе“ — за его мужество, за безграничную выносливость, за этот тип человека, умеющего переносить страдания, не показывая их всем и каждому. Я за этот образ революционера, для которого личное ничто в сравнении с общим…» Недаром «Овод» был любимым романом Алексея Маресьева, Зои Космодемьянской, молодогвардейцев, Юрия Гагарина… Личное ничто в сравнении с общим… Это не только «образ революционера». Это даже не стиль жизни. Это — смысл жизни. Примета таланта, гения. И — очень редкой женщины. Для которой личное было ничто в сравнении с общим. Поэтому она выиграла и прошлое, и будущее… Даже если бы она осталась единственной женщиной среди всех писателей, которые потрясли мир.
Аркадий Гайдар. Военная тайна Мальчиша-Кибальчиша

Он погиб в октябре. 41-го. Одна пуля. Единственная. Прямо в сердце. Аркадий Петрович Гайдар (Голиков). Один из ста. Которого прочитать не просто стоит. Его произведениям нет цены. Как нет цены жизни. И смерти ради нее. И потому — бессмертию. Книги Гайдара издавались сотни и сотни раз. На 85 языках мира. Тиражом свыше 54 миллионов экземпляров. Практически все они экранизированы. Без этих книг можно, но сложно понять смысл жизни. Но уже выросло два поколения подростков, которые в глаза этих книг не видели. Как не могут увидеть и смысла единственной жизни… «Страницы честных, чистых книг / Стране оставил в дар — / Боец, Писатель, Большевик / И Гражданин — Гайдар», — такие стихотворные строки посвятил ему Сергей Михалков.
БОЕЦ. Участник Гражданской войны. В 14 лет вступил в ряды Красной Армии, где прослужил шесть лет. В 15 закончил Киевские командные курсы. В 16 возглавил атаку полка.
ПИСАТЕЛЬ. Классик и основоположник советской детской литературы. Его книги об искренней дружбе, о верности идеалам и вере в идеальное будущее. «P.B.C.», «Дальние страны», «Школа», «Чук и Гек», «Судьба барабанщика»… А повесть «Тимур и его команда» положила начало уникальному тимуровскому движению пионеров.
БОЛЬШЕВИК. Добровольно ушел на фронт в первые дни Великой Отечественной корреспондентом «Комсомолки». После окружения в районе Киева попал в партизанский отряд, стал пулеметчиком. Погиб в первые месяцы войны в бою. Когда вскочил в полный рост и повел товарищей в атаку: «Вперед! За мной!»… Смерть он принял стоя. Как и жил.
ГРАЖДАНИН. Военная гимнастерка. Широкий ремень. Папаха, сдвинутая на затылок. Открытое светлое лицо. Открытое светлое сердце. Жизнь Гайдара — пример военного и гражданского подвига. Когда в 41-ом грянула война, тысячи ребят ушли добровольцами на фронт. Они были воспитаны «на Гайдаре». Они знали главную военную тайну своей страны.
ГАЙДАР. Сегодня детским писателем пугают детей. Дожили! А вам не страшно, что они начинают жизнь с Г. Поттера? Возьмите ребенка за руку и идите на Воробьевы горы. К первому в Москве памятнику литературному персонажу Мальчишу-Кибальчишу. В дедовской буденовке. Отцовская сабля в одной руке, горн брата — в другой. Он рвется вперед. Только вперед. Чтобы за них отомстить. И не только. Чтобы за них погибнуть. Или выжить и жить за них. Это и есть преемственность поколений. А потом дайте ребенку почитать «Сказку о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове». Или почитайте сами. И вам захочется читать Гайдара еще и еще. Потому что эта сказка (которую автор чуть позже сделал частью повести «Военная тайна») откроет вам тайну жизни. И тайну смерти тоже. И еще — главную тайну своей страны. «- Что это за страна? — воскликнул тогда удивленный Главный Буржуин. — Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат свое твердое слово?..»
Это — гениальная сказка о свободе. Свободный стих в гениальной прозе. Или свободная проза в гениальных стихах. Она разве что сравнима с «Маленьким принцем» Сент-Экзюпери. Потому что эта проза-загадка. Попытка разгадать будущее. И его смысл. Вне времени и вне страны. Несмотря на конкретные символы эпохи. Все гораздо глубже, гораздо шире и гораздо-гораздо выше. Наверное, там, где и находится главная идея Земли. И образ всадника — возможно, образ свободы. И смерти во имя нее. За которую и погиб Кибальчиш. Он погиб за свободу. Преданный Мальчишом-Плохишом, который-таки выжил (Красная Армия не убивала детей). И притаился на время трусливый и жадный Плохиш, и нарожал еще плохишей, а те — еще и еще. И заполнилась наша страна плохишами. Которые за бочку варенья и корзину печенья продали нашу страну… Грустный конец у этой сказки. К счастью, Гайдар этого не увидел. Тот Гайдар. Для того, чтобы вообразить «страну плохишей», нужно извращенное воображение. А он был наделен светлым и чистым талантом. Его страна — Кибальчишей и тимуровцев. «Плывут пароходы — привет Мальчишу! / Пролетают летчики — привет Мальчишу! / Пробегут паровозы — привет Мальчишу! / А пройдут пионеры — салют Мальчишу!..» Салют и Гайдару! Которого оболгало поколение 90-х. И потеряло сегодняшнее. Так пусть же следующее его вернет. И вернется к нему… Как и к другим писателям, которые потрясли мир.
Иоганн Вольфганг Гете. Доктор Фауст и его сатана

«Где еще вы найдете на таком маленьком клочке земли столько прекрасного… Изберите своим местом жительства Веймар!» — писал Гете. Действительно удивительно! На таком клочке земли (при жизни Гете население города едва достигало сто тысяч человек) смогли уместиться и ужиться Бах и Виланд. Лист и Шиллер. Ницше и Рейнгольд. И, кончено, — Иоганн Вольфганг Гете. Величайший немецкий лирик, драматург, романист. Философ, ученый, политик…
Впрочем, чего только не коснулся пытливый ум Гете. Медицины и педагогики. Истории и эстетики. Геологии и минералогии. Ботаники, медицины, физики, зоологии, остеологии… Всего не перечислить.
Бесконечные тайны мира не пугали Гете. А манили — одна за другой. И, конечно, ему одной жизни было мало. Вот бы — одна за другой. Но ему была дана одна только жизнь. Как и всем. К сожалению для него. И для всех. Хотя он один из немногих, кто заслужил большего. Воистину не место красит человека, а человек место. А Гете украсил его в буквально смысле слова. До сих пор его любимый Веймар по весне расцветает синими, розовыми, голубыми фиалками.
Да, и в этом тоже «виноват» Гете! Ученый муж был тонким лириком. И обожал эти хрупкие цветы. А, может быть, в этом и есть простая истина жизни? Которую так мучительно и верно искал Гете? Чтобы выходить из дому непременно с маленьким пакетиком семян весенних цветов. И разбрасывать их по полям и паркам. И в солнце, и в дождь. И утром, и вечером. И вчера, и завтра. И обязательно сегодня искать ответы на безответные, порой, вопросы. И находить их непременно. Потом… Когда расцветают цветы… «Фиалка на лугу одна / Росла, невзрачна и скромна…» Одна — это скромно сказано. Скромна — это сказано громко.
Веймар вправе гордиться не только шедеврами Гете. Но и «цветами Гете». Что не удивительно. Его научные открытия предвосхитили гениальные изобретения самого Дарвина. Его литературные откровения открыли… кого еще как не Пушкина?! Который — наше все. И — начало всех начал. Как для немцев начало всех начал — Гете. И сегодня счастливчики могут неспешно прогуляться по тихой Пушкинштрассе в Веймаре. И наткнуться на бюст Александра Сергеевича. А всего лишь через Балтийское море другие счастливчики могут неспешно прогуляться по шумному Невскому и наткнуться на бюст Иоганна Вольфганга.
Не зря давным-давно гениальный немецкий поэт Гете (к этому времени он уже был награжден орденом святой Анны и являлся почетным академиком Санкт-Петербургской академии наук) подарил свое перо гениальному русскому поэту Пушкину. «Я могу спокойно умереть, ведь на земном шаре появился человек, который гораздо глубже меня вник в тайны мироздания…» Да здравствует золотой век русской литературы в лице Пушкина. С подачи золотого века немецкой — в лице Гете! Виват!
22 марта. День памяти 40 Севастийских мучеников. В народе — Сорок сороков. Второй приход весны. Зима заканчивается, начинается весна. И день равняется с ночью. Самое время разбрасывать семена фиалок по Веймару!… 22 марта 1832 года умирает Иоганн Гете. Катар верхних дыхательных путей. Какой злой парадокс! Ведь настой фиалок в немецкой медицине именно от этой болезни! Но Гете не спасли его любимые цветы. Впрочем, разве цветы могут спасти? Они слишком слабы для вызова смерти… Гете умирает: сколько еще мне осталось? Ответ врача лаконичен: только один час. И Гете облегченно вздыхает: слава Богу, только час… Разве часа мало, чтобы неспешно прогуляться по своей жизни? Да и 82 года — это много или мало? По сравнению с жизнью Пушкина — много. По сравнению с вечностью — миг. Поэтому часа достаточно, чтобы этот миг вспомнить.
Что он мог вспомнить? Свой родной Франкфурт-на-Майне, где родился в семье доктора права. Свою мать, которая в детстве читала ему народные немецкие сказки. Или то, как еще подростком он овладел пятью иностранными языками (латинским, греческим, английским, французским, итальянским). Как здорово научился играть на клавесине и рояле. Рисовать и фехтовать. А по утрам мчаться на гнедом коне, споря с ветром. А по вечерам сочинять. Чтобы однажды на кухонной плите безжалостно сжечь свои ранние творения.
Вспомнить, как в 15 лет поступил в Лейпцигский университет. Как стал в ряды «Бури и натиска» — крупнейшего литературного политического движения Германии. Участники которого, эти «бурные гении» с благородными сердцами, боролись против феодального убожества своей родины. За ее национальное единство, культуру и свободу. Кто кроме Гете мог возглавить «Бурю и натиск»? Лишь сам Гете. С его героями. Сильными и свободными личностями. Непокоренными бунтарями. Которые верили, что «лишь тот достоин жизни и свободы, / Кто каждый день идет за них на бой».
Может, Гете вспоминал, что в 25 лет перенес те же любовные страдания, что и «Страдания юного Вертера». Которые принесли ему славу. И разочарование. В любви. В буре. И в натиске. В жизни… Вертер заканчивает жизнь самоубийством. Гете выживает. А тогда волна самоубийств прокатилась по Германии. Юноши стрелялись с его томиком в руках. Непременно, как Вертер, в голубом фраке. И в желтом жилете… Впрочем, Гете не виноват. Если можно судить — то судить гений Гете… И сейчас в социальной психологии существует термин «эффект Вертера» (или «синдром Вертера») — массивная волна подражающих самоубийств. Только теперь они совершаются после самоубийства, разрекламированного по ТВ или в СМИ. А ведь Гете предупреждал!
А еще он мог вспомнить, как переехал в Веймар и подружился с Шиллером. И они останутся там навсегда. Уже каменные. Взявшись за руки. Держа один лавровый венок. Мог Гете вспомнить, как даже на время стал первым министром карликового государства — Саксен-Веймарского. И занимался «ничтожными делами ничтожного государства». И как быстро охладел к службе. И выбрал разочарование, успокоение и одиночество. И поиск. Вечный поиск смысла жизни. Который как правило рождается из ее бессмыслия.
Впрочем, мало ли что мог вспомнить Гете перед смертью! Как он много любил! Как много метался и терзался. Как ненавидел! Как побеждал! И как сдавался! Чтобы вновь победить. Или как однажды в полнолуние к доктору Гете. К этому горбоносому седому и высокому философу постучал сам сатана. И он ему грубо ответил: «Величия достичь злодей не может»…
А, может, Гете ничего и не вспоминал перед смертью? Ведь именно в этот последний час он изрек: «Отворите пошире ставни, больше света!». Но сам когда-то любил творить при закрытых ставнях, окнах, дверях. И хотя 22 июня день с ночью уровнялись. Он между ними знак равенства не поставил. И выбрал свет. И, возможно, целый час им просто любовался. И ловил его последнее дыхание. Хотя впереди его ждало только прохладное дыхание вечной ночи…
Впрочем, нам ли об этом знать? Гете об этом знал гораздо, гораздо больше. Ведь по Гете, «надежда живет даже у самых могил».
Вертер, Ифигения, Эгмонт, Тассо, Мейстер… И все же «красной нитью» через творчество великого писателя проходят идеи Фауста. Красная нить — не штамп, не шаблон, не безвкусица. Это опять — от Гете. Он первым использовал это крылатое выражение в романе «Родственные натуры»: «Тянется красная нить симпатии и привязанности, все сочетающая воедино и знаменательная для целого». Объяснив происхождение самой красной нити, которая вплеталась в канаты на военном флоте, «которую нельзя выдернуть иначе, как распустив все остальное».
Своего «Фауста» Гете писал 60 лет. И 60 лет писал Мефистофеля. Почти всю жизнь. Начиная с 20 лет и закончив перед самой смертью. Возможно, 60 лет к писателю приходил Мефистофель. Но он так и не заключил с ним сделку. Чтобы спасти Фауста — для истории. Чтобы спастись самому. И навсегда остаться в истории. Писателем, победившим самого сатану…
Впрочем к каждому из нас, живущих на Земле, однажды являлся Мефистофель. Или является прямо сейчас. Или обязательно явится. Чтобы предложить продать душу. И каждый вел переговоры на этот счет, возможно, не подозревая об этом. И не каждый, увы, отказывался от сделки. Не каждый принц, не каждый нищий. Не каждый президент, не каждый избиратель. Не каждый народ, не каждая страна. Ведь что может быть проще? Булавку продать гораздо сложнее, чем душу, как ни кощунственно это звучит…
Вначале было слово. А вторым, возможно, было слово Мефистофеля или змия искусителя, что одно и то же. В райском саду, когда Еве было предложено яблоко Еве… Этот сюжет вечен. Гете сделал его предельно вечным. Порог Гете еще никто не перешагнул. Ведь он «весь мир на сцену поместил». Все чувства мира. Все пороки мира. Все грани мира. И тайны. Но мир этого не оценил. И все чаще и чаще продается за 30 сребряников.
Порой не удосужившись прочитать хоть пару страниц из «Фауста», чтобы надолго задуматься, что мы творим ежеминутно?.. Гете писал «Фауста» 60 лет. Может быть, он пошутил над нами? И хотел, чтобы мы прочитали «Фауста» 60 раз. В идеале. Чтобы однажды. Когда расцветают фиалки. Понять хотя бы одну шестидесятую того, что происходит в мире.
А вообще после чтения Гете хочется говорить стихами. Вдруг, если бы мир заговорил стихами, мы бы и поняли друг друга?..
В своем произведении Гете создал глубинный, поэтический, философский образ. Доктор Фауст — современник Гете. Его единомышленник. Его товарищ. Гуманист и просветитель. Отчаянный искатель самой Истины. Рвущийся из мрака Средневековья. Туда, где разум может быть здравым… Мир Гете настолько глубок, насколько ограничен сам мир. Поэтому писатель рвался во Вселенную. Ужился ли он в ней? Где все равно идет спор между Богом и сатаной. Нескончаемый спор. Который так или иначе проецируется на нашей Земле.
Мефистофель — циник, прагматик, скептик. Впрочем. Это для тактичности слова. А просто, по просторечью — дрянь. По философски — олицетворение зла. Который дает конкретный приговор человеку: «Свой разум на одно лишь смог употребить — чтоб из скотов скотиной быть». Интересно, все-таки прав ли он? Или просто только зло способно на грязные карикатуры. А добро, которое представлял в том числе Гете, способно самое бесчеловечное очеловечить…
Мефистофель уверен, что любого человека может отбить для себя. И нахально заявляет об этом Богу. Тот принимает вызов. Поскольку уверен, что это очередная ложь. Даже если на Земле останется один человечный человек — Земля возродиться и пойдет по второму кругу. Может быть, так и есть?
«Пока еще умом во мраке он блуждает, Но истины лучом он будет озарен…» Вот только поэтому сделка все же случилась. Между добром и злом. Как просто. Кто победит? Жалкие соблазны Мефистофеля отвергаются. И все же… Фауст хочет узнать тайны природы. И тайны бытия. И небытия. А для этого нужен… Ну кто еще, кроме Мефисто?
Похоже, Мефистофель оказался просто глупее, как, кстати, и всякое зло. Он хотел использовать Фауста. А в итоге Фауст использовал его самого. «Остановись мгновенье, ты прекрасно!» Вот и вся сделка.«Когда на ложе сна в довольстве и покое / Я упаду, тогда настал мой срок!» Но есть ли это мгновение, за которое готов отдать жизнь? Есть. Этот тот миг, за который готов отдать жизнь. И жизнь эту совсем не жалко. И это уже не сделка… Похоже, надули самого Мефистофеля. Он был слишком глуп для подобных измышлений… Вот и начинается странствие Фауста в сопровождении Мефистофеля.
Иногда кажется, что добро слишком переоценивает зло. И наоборот. Поэтому добро и боится, и порой идет на кое-какие сделки, и порой просто молчит на вызов. Может быть, пора запомнить, как завещал Гете, что зло все равно глупее?
Путь Фауста — аллегорический путь человечества. Конечно, первый и самый простой соблазн — любовь. Фауст отказывается и от нее, подвергнув свою любовь невероятным испытаниям. И подвергнув испытаниям себя, став причиной гибели девушки. Но он по-прежнему считает — жизнь выше, глубже, дальше!
Вторая часть трагедии сложнее. Гете стал старше. И тоже сложнее. Фауст стал старше. Разве что Мефистофель не постарел — такие не стареют. История и антиистория. Философия и антифилософия. Вера и антивера. Логика и антилогика. Эстетика и антиэстетика. Мораль и антимораль… Вот для Фауста мучительные вопросы. Но ничто не может его удовлетворить. Ни тени античных героев. Ни придворная карьера. Ни власть и богатство. Ни любовь прекрасной Елены. Познав потрясающие испытания. Познав разочарования. Любовь. Искусство. Политику. Фауст умиротворился. Подобно своему хозяину — Гете. Еще есть природа! Ведь он ученый! Перед смертью он мечтает, чтобы на отвоеванной у моря земле поселились миллионы людей. Хороших, честных людей. Благородных тружеников.
«Чтоб я увидел в блеске силы дивной Свободный край, свободный мой народ!» Вот он — смысл жизни. И стоит ли его разгадывать, если до нас его уже давно разгадали. В том числе и великий Гете.
Фауст умирает. Формально победил Мефистофель. Зло всегда формально. Оно может убить. Физически. Но морально? Ничтожество человека сатана так и не доказал. Потому что душа ему не доступна. Как и мораль. Даже если ею овладевает в идеале всего один человек… В миг своего прозрения Фауст слепой. Все видится не глазами, а разумом. Все слышится не ушами. А душой…
А Генрих Гейне как-то написал: " Каждый человек должен написать своего «Фауста»…» И, наверно, у каждого Фауста свой Мефистофель. А у каждого Мефистофеля свой Фауст. Борьба за душу или бездушие? Совесть или бессовестность? Или просто борьба без борьбы. Когда Фауст и Мефистофель необязательны. И вот тогда начинается самое страшное… Безверие… И двери для безверия и войны наконец-то открыты…
Гете однажды открыл одну незнакомую до той поры кость — посредине человеческого лица — межчелюстную кость. А зачем ему это было надо? Чтобы понять, нужно прочитать «Фауста»… Хотя достаточно пробежаться по росистой траве в детстве. Пронестись на лихом коне навстречу утру в молодости. И размеренно проехаться в благополучной карете в стрости. Все-таки разбрасывая семена фиалок из маленького пакетика. И простудиться. Чтобы потом умереть…
Может, это и есть смысл жизни? Который не каждый из нас сможет перевести с немецкого? А может, это и есть смысл жизни, который не каждый из нас сможет перевести с русского? А, возможно, каждому доступен любой язык? Ведь фиалки везде. У них границ нет. И паспорта у них не спрашивают. Они синевеют, розовеют, вспыхивают. Они как маленький салют. Для огромной Вселенной. И для такой маленькой Земли. Они для вечности. Которую почти познал Иоганн Вольфганг Гете… Как и другие писатели, которые потрясли мир.
Николай Васильевич Гоголь. Живые и мертвые души

«Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня». Это сказал великий писатель, драматург, поэт, публицист. Николай Васильевич Гоголь. Имя которого еще при жизни стало великим. Хотя он сам и не был счастлив. А вот судьба его произведений действительно счастливая. Впрочем, его имя до сих пор склоняют со всех сторон. И те, кто любит. И те, кто ненавидит.
Может, потому, что по сегодняшний день Гоголь является одним из самых, самых популярных писателей. После Библии, после Достоевского — он, Гоголь. И поэтому какими слухами земля полнится! И параноик, и сумасшедший, и отшельник, и колдун, и Пушкин его не терпел, и оказывается завел дружбу с дьяволом, и в гробу он перевернулся. И вообще родился в день дураков — 1 апреля… А он даже и не в апреле родился, а в марте (по старому стилю). А остальное… Действительно для дураков, уважаемый Николай Васильевич! От подобных слухов можно действительно перевернуться в гробу.
«Сейчас прочел „Вечера близ Диканьки“… Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился…» (Пушкин)
«Что такое Тарас Бульба? Герой, представитель жизни целого народа, целого политического общества в известную эпоху жизни…» (Белинский)
«Ну, и пьеска! Всем досталось, а мне — больше всех…» (Николай I о «Ревизоре»)
«Мне очень приятно, что г. Гоголь знает, что в глубине Сибири он имеет пламенных почитателей…» (Декабрист В. Л. Давыдов)
Литература Гоголя такая неправдоподобно разная. И народная, и романтичная, и комичная, и реалистичная, и фантастичная, и символичная, и мистичная. А еще он, безусловно, первым предвосхитил модернизм. Гоголь очень был сложен, очень противоречив. Если бы он был простым и прямым, вряд ли мы вообще бы узнали его имя. Не в этом ли тайна такого таинственного писателя?
В основном, творчество писателей совпадает с их мировоззрением. Гоголь, пожалуй, единственный из писателей, мировоззрение которого всю жизнь воевало с его произведениями. Его произведения были гораздо смелее. И шли гораздо, гораздо дальше его мировоззрения. Дальше вверх. Потом дальше вниз… Крайности. Сам Гоголь всегда мог остановиться. Его талант — нет. Он часто отрекался от того, что любил. И часто принимал то, что ненавидел.
Гоголь — это и украинские Сорочинцы, где он родился. И Петербург, где он стал писателем. И Рим, где он прожил с перерывами десять лет и писал «Мертвые души». И Москва, где он умер и похоронен… Он был ни с кем. Ни со славянофилами, ни с западниками. Ни с революционерами, ни с государственниками. Хотя в начале его горячо поддерживали прогрессивные силы. Как его произведения — их. В конце — реакционные. Как его произведения — их. А он сам?..
В этом весь Гоголь. Он был сам по себе. А вот его творчество — нет. Когда его творчество желало, жаждало немедленной борьбы и справедливости. Он сам останавливался. Когда его творчество желало, жаждало немедленной смиренности, покаяния. Он сам останавливался. Впрочем, шумиха вокруг его имени была, есть и будет не столь литературная, и тем более личная — сколь идейная. Разве не символично, что в истории остался первый том «Мертвых душ». Для истории. Главное произведение Гоголя.
«Мертвые души» — история болезни, написанная рукой мастера» (Герцен). История болезни России, диагноз которой поставил Гоголь. Пушкин после знакомства с первыми главами этой грандиозной поэмы грустно произнес: «Боже, как грустна наша Россия!» Она была грустна, есть, и всегда будет. «Будьте не мертвые, а живые души», — завещал нам Гоголь.
Его всю жизнь мучили мертвые души. Он мучит своим невероятным талантом живые. По сей день. По сей день среди нас живут пять характеров гоголевских помещиков. Слащавые паразиты маниловы, безалаберные панибраты ноздревы, сетующие торгашки коробочки, твердолобые грубияны собакевичи, патологические скряги плюшкины. Ни одного утешения! Мертвые души. Умирание человеческого в человеке. Сегодня они живучи, как никогда. И конечно — главный мерзавец. Чичиков. Этакий мошенник, авантюрист, скупающий мертвые души. Точнее, по Гоголю, «хозяин», «приобретатель», а по-простому — «подлец». Этакий представитель бандитского капитализма в России. В советский период они, конечно, были. Но не как явление. Явление их случилось позднее. Они ворвались в нашу жизнь вместе с перестройкой, уже откровенно скупая мертвые души и убивая живые. Они были гораздо, гораздо хуже…
Сегодня пришло время другой эпохи. Когда вор Чичиков должен сидеть в тюрьме! И как же не хватает сегодня Гоголя!..
И все-таки это Россия. Гоголя могли обвинить в мраке, безнадежности, в депрессивности поэмы. Но ведь он завершил первый том «Мертвых душ» на высокой ноте: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, постораниваются, и дают ей дорогу другие народы и государства…»
А еще когда-то сказал: «Если русских останется только один хутор, то и тогда Россия возродится». И в этом тоже — Гоголь. Уж если великий фантазер верил в Россию. Нам сам бог велел верить…
Второй том «Мертвых душ» Гоголь сжег. Почему? «Почему» неуместно. Хотя над этим почему-то бьются несколько веков. Он знал — почему. И этого достаточно. Если талант победил свое произведение, уничтожая его. К тому же он не раз сжигал свои рукописи. И не раз рвал их. Для этого нужно не просто мужество. Для этого нужно понять, что творение оказалось не достойным гения. А на меньшее он не соглашался…
Хотя Гоголь не был максималистом. Скорее наоборот. Особенно к концу жизни. А в смерти шептал: «Лестницу, поскорее давай лестницу!..» Он всю жизнь шел по этой лестнице. Которая все выше, выше, ступенькой за ступенькой вела его к бессмертию… Как и другие писатели, которые потрясли мир.
Иван Александрович Гончаров. Обломов
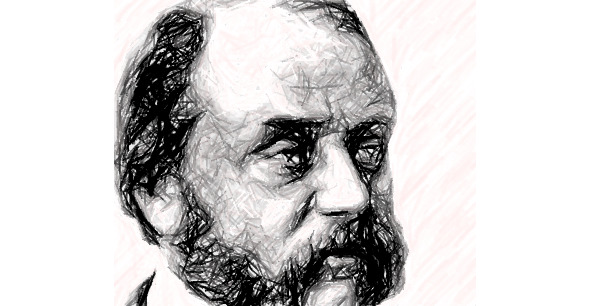
Осенний день. Хмурый или солнечный. Дождливый или улыбчивый. Вряд ли нам это узнать. Новом Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Более 30 венков. От всех вузов Москвы и Санкт-Петербурга. От газет и журналов. От музыкального сообщества. От людей. Огромная траурная процессия. За гробом. Великого русского романиста. Ивана Александровича Гончарова. Который всю жизнь хотел покоя. И наконец, в 79 лет, его обрел. Хотя, без лукавства, он из тех, немногих, кто обрел его и при жизни. Во всяком случае — максимально к этому приближался.
О, О, О!.. Или — Об, Об, Об!.. «Об-ыкновенная история». Обыкновенного «Об-ломова». Которая заканчивается обыкновенным «Об-рывом». Вернее — краем обрыва. На котором почти всегда стоит Россия. И, кстати, удерживается. На краю… Может быть, великий писатель Гончаров был героем обыкновенной истории Обломова на краю обрыва?
Нам этого уже не узнать наверняка. Хотя интересно, написал бы Обломов роман «Гончаров»? Наверное, написал бы, будь помоложе. Или постарше. Но возрасте за тридцать, когда мы его узнаем, — вряд ли. Гончаров и Обломов не были близнецами. Но для истории это уже не имеет значения. Кто написал романы на букву «О»? Конечно, Обломов. Ответ неверный. Все-таки Гончаров. Если бы Обломов написал роман «Гончаров», он бы Обломовым просто напросто уже не был. И в историю мировой литературы не вошел.
Впрочем, у Ивана Гончарова было прозвище — господин де Лень. По воспоминаниям некоторых современников, он был наискучнейшим и ленивейшим домоседом. Да и жизнь его кажется необыкновенно обыкновенной. Особенно на фоне всех остальных писателей, биографии которых читаешь взахлеб, как авантюрные или сентиментальные романы. Когда даже их романы порой отходят на второй план. Не поэтому ли Гончаров и оригинален? А, возможно, он просто оказался загадочнее других? И просто-напросто скрыл свою жизнь…
Родился он в обыкновенном провинциальном Симбирске. Узкие улочки. Скривленные дома. Дощатая мостовая. Даже дожди крапают не хотя. Все сонно, лениво, медлительно. Разве что хочется зевнуть. Так и вертится на языке: " За-ха-а-р!..» А маленький Ваня Гончаров ищет и находит свой настоящий, живой мир. В книгах. Уже в детстве им прочитаны Ломоносов, Фонвизин, Державин, Карамзин, Вольтер, Руссо. «Я с 14—15 летнего возраста, не подозревая в себе никакого таланта, читал все, что попадалось под руку, и писал сам непрестанно…» Затем были Московское коммерческое училище, которое он сразу же невзлюбил. И словесный факультет Московского университета, в который он влюбился мгновенно. Еще бы! Ведь в ту пору там учились Лермонтов, Белинский, Герцен, Станкевич. Хотя от их политических споров он держался в стороне. Может, просто ленился спорить? А вот Пушкина, который посетил Московский университет в 1832 году, он уже боготворил.
Затем — опять сонный Симбирск, канцелярия губернатора. И, наконец, Петербург. Опять та же скука. Мелкое чиновничье в департаменте Министерства финансов. И далеко не мелкое к нему отвращение.
«Если бы Вы знали, сквозь какую грязь, сквозь какой разврат, мелочь, грубость понятий ума, сердечных движений души проходил я от пелен и чего стоило бедной моей натуре пройти сквозь фалангу всякой нравственной и материальной грязи и заблуждений, чтобы выкарабкаться на ту стезю, на которой Вы видели меня, все еще… вздыхающего о том светлом и прекрасном человеческом образе, который часто снится мне…»
Отдельный человеческий образ, а не человеческое общество. Не в этом ли главное заблуждение Гончарова? Или просто характер? Талантливый и тем более гениальный писатель никогда не может быть аполитичным и равнодушным. И тем более рукоплескать злу. Даже если он всегда в стороне, его творчество всегда на стороне. Стороне правды. И справедливого общества. Жить в обществе и быть свободным от него, наверное, все-таки нельзя. Но писать гениальные книги и быть свободным от них, наверное, иногда можно.
«Он поэт, художник — и больше ничего. У него нет ни любви, ни вражды к создаваемым им лицам, они его не веселят, не сердят, он не дает никаких нравственных уроков ни им, ни читателю, он как будто думает: кто в беде, тот и в ответе, а мое дело сторона.» Это Белинский о Гончарове… " За-ха-а-р!..»
И вдруг Гончаров, этот господин де Лень, прерывает работу над «Обломовым» и отправляется в кругосветное путешествие на парусном военном фрегате «Паллада» в качестве секретаря адмирала Е. В. Путятина. Да уж, сам Обломов, наверное, упал бы с дивана, узнав об этом. Но Гончаров Обломову не изменяет. Шторм, взрывы волн, ослепляющий блеск молнии. И луна. Что может быть красивее?! Его несколько раз вызывали на палубу полюбоваться красотами: вы же писатель! «Молния как молния, только без грома, если его за ветром не слыхать. Луны не было. «Какова картина?» — спросил меня капитан… «Безобразие, беспорядок», — отвечал я», — вспоминал Гончаров. И парадокс: «Фрегат «Паллада» до сих пор признан одним из лучших произведений о морских путешествиях. Нет, конечно, не парадокс.
Это ведь Гончаров, а не Обломов. Возможно, писатель всю жизнь доказывал, что Обломов никакого к нему родственного отношения не имеет. Впрочем, своим сильным творчеством он это доказал. Но «Обломов», как бы этого не хотел автор, стал самым лучшим его произведением. Причем одним из тех, уникальных, которые нужно в идеале прочесть три раза в жизни. В юности, чтобы со свойственной юношеской энергией, осудив Обломова, заявить: я так жить не хочу. В зрелости, когда начинаешь обожать Обломова, завидовать и пытаться ему подражать. Лежа на диване. Чтобы наконец вскочить и заявить: я так жить все-таки не хочу. И в старости. Возможно, уже возненавидеть его или сильно пожалеть. И сказать: я так умереть не хочу…
Это поразительный роман. Без сложного сюжета, без стремительной фабулы. Медлительный и терпеливый. Словно о смене времен года. Весна. Обломов просыпается (на пару сотен страниц просыпается!) Летом влюбляется. Осенью скучает. Зимой засыпает… Роман наделал столько шума! Славянофилы разглядели в обломовщине чуть ли не лучшие черты русской жизни, этакий патриархальный уклад. Либералы-западники — проявление «русской национальной болезни». Социал-демократы утверждали, что обломовщина ни что иное как социальное явление, следствие крепостничества… И все же секрет успеха роман был в чем-то большем. Наверное, в том, что в каждом из нас неизбежно живет Обломов. Даже, если мы уверены, что не живет. Даже если мы такие деятельны, как Штольц, даже если мы такие идеалисты, как Ольга Ильинская. Даже если мы европейцы или азиаты. Есть такая партия — имени Обломова. И Гончаров ее создал своим бесспорным талантом.
Когда любому из нас хоть раз в жизни хочется укутаться в уютный персидский халат и залечь на диване, укрывшись с головой одеялом. И пусть даже муха жужжит на окне. И паутина блестит в углу. На столе тарелка со вчерашнего ужина. И графин с недопитой наливкой. «Глядишь, кажется, нельзя и жить на белом свете, а выпьешь — можно жить!..» А за окном — мягкий рассвет. Или это уже закат? И помечтать можно о чем-нибудь этаком. В общем-то ни о чем. И сон увидеть наиприятнейший. О своем райском детстве. И почувствовать прикосновение теплых маменьких рук. И вдохнуть жар самовара. А у печи увидеть медведя из нянькиных сказок. И пробежаться по пшеничному полю. А потом проснуться, зевнуть. Взять книжку и отбросить тут же ее. Поморщиться, потому что накопилось куча пренеприятнейших дел. Да ну их! Дела могут и подождать. А там, глядишь, и сами собой разрешаться. Ну, разве не красота? Не свобода?
И в этом однообразии дней есть некая вечность. Это Мцыри у Лермонтова хотел прожить три дня на свободе, чем в неволе всю жизнь. Обломов же выбрал для себя вечную свободу. И, как ни парадоксально, но в этом ничегонеделаньи есть тоже протест. Вызов миру и обществу. Почти как у Чацкого. С одним отличием — протест молчаливый. И что правильнее: не совершать зла? Или делать добро? Ведь любое общение — это и зло, и добро неизбежно. Это они, штольцы, пусть вращаются в обществе, путешествуют, гребут деньги лопатой, преклоняются перед сильными, зарабатывают чины. Обломов выбирает свободу. Даже если она ограничивается диваном. И глотком холодного кваса. И дождливым окном. И персидским халатом. И пустыми мечтами. И потерей любви и мечты. И неизбежной Агафьей Матвеевной… «За-ха-а-р!»
Общество, в котором жил Гончаров было далеко не справедливым. Пушкина и Лермонтова довело до могилы. Шевченко забрало в солдаты. Чаадаева объявило сумасшедшим. Салтыкова-Щедрина упекло в ссылку. А Гончаров пишет роман о скуке и о потере смысла жизни. Может быть, для того, чтобы нам удалось преодолеть скуку и найти смысл в жизни? Или хотя бы попытаться? Даже, если на диване. Впрочем, сегодня этот роман современен как никогда. Увы, но общество все конкретнее делится на обломовых и штольцев. Только обломовы гораздо менее чисты и непорочны. А штольцы более наглые и безнравственные. А где же третьи? Последние двадцать лет великий писатель Гончаров прожил в полном, почти болезненном уединении. Без семьи, без близких друзей. Уныние и одиночество. Он умер от воспаления легких в Петербурге. Свою литературную собственность завещал семье старого слуги… «За-ха-а-р!..» «Без жертв, без усилий и лишений нельзя жить на свете: жизнь — не сад, в котором растут только одни цветы…» Конечно, Иван Александрович Гончаров не был Обломовым. Он прошел и через жертвы, и через усилия, и через лишения. Порой в одиночестве. Он искал свой цветущий сад. Потому что честно спрашивал себя: «зачем жить?» А не «как жить?». И, наверное, находил ответ. Для всех нас… Как и другие писатели, которые потрясли мир.
Максим Горький. На дне
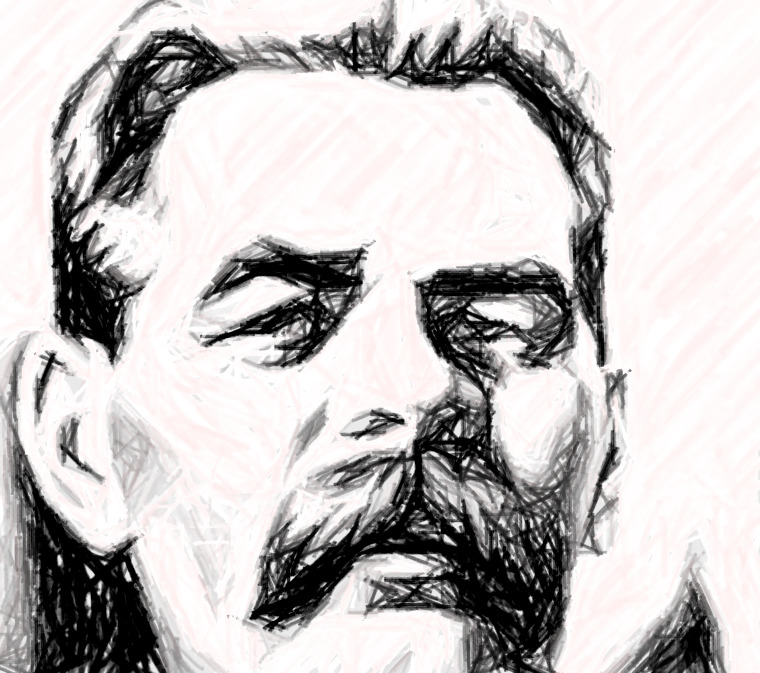
«Я как-то особенно люблю солнце, мне нравится самое имя его, сладкие звуки имени, звон, скрытый в них…» Он умер летом. Рано утром. Когда много солнца. Даже если ветер. Когда много тепла. Даже если дождь. Лето не отменяет смерть. Как жаль, что нет такого закона — отменить летом смерть. Ведь в «солнечный день не спрашивают — отчего светло»… Он был очень светлым человеком, взявший такой горький псевдоним — Горький. Хотя мог остаться и Алексеем Максимовичем Пешковым. И все же — Максим Горький. Может, потому, что была горька его судьба? Круглый сирота с 11 лет. Посыльный при обувном магазине, посудник на пароходах, чертежник. Это его «Детство». И — странник. По донским степям, по Украине до Дуная. Через Крым и Северный Кавказ — в Тифлис. Чтобы быть «В людях». Пропаганда среди рабочих и крестьян, участие в революционных кружках, написание прокламаций против самодержавия. Ссылка в Арзамас. И снова — «пусть сильнее грянет буря». За участие в революции 1905 года — Петропавловская крепость. Благодаря протесту русской и мировой общественности — освобождение и вынужденная эмиграция в Америку, в «Страну желтого дьявола». Наконец — амнистия и работа в большевистских газетах «Звезда» и «Правда». Это его «Мои университеты»… Писатель-самоучка стал величайшим, уникальным писателем своего времени, писателем от Бога. Он стал одним из образованнейших интеллигентов своего времени, он перечитал тысячи книг, статей заметок, обладая фантастической памятью…
Судьба его была горька? Как и у всей России. Пожалуй, псевдоним он взял от имени всей России. И тем самым низко поклонился в ноги всей России. Униженной и раздавленной. С очень горькой судьбой. Где «все люди так или иначе страдали, все были недовольны жизнью, искали чего-то лучшего…» Где все люди были «На дне». И вся Россия поклонилась Горькому в ноги, потому что он когда-то сказал: «Настало время нужды в героическом». И, конечно: «Человек — это звучит гордо». А не горько. Даже если мы имеем теперь миллионы поводов для сомнений. Тогда, в летнее утро, в другой, советской стране уже никто не сомневался, что есть «Человек Человечества». И всегда будет.
Два дня страна прощалась с «буревестником революции» в Колонном зале Доме Союзов. Два дня страна плакала. Торжественно сменялся почетный караул. В день похорон катафалк к месту погребения несли Сталин и Молотов. И за ними — море людей с опущенными головами. В «Лето». И за ними «Мужик» и «Горемыка Павел». И за ними «Фома Гордеев» и Артамоновы, и Клим Самгин и «Макар Чудра». И еще «Трое». А так же «Дед Архип и Ленька». И, конечно, «Челкаш» и «Старуха Изергиль». И даже «Мещане», и даже «Варвары», и даже «Враги». Но были и «Дачники», и «Дети солнца», «Егор Булычев и другие». И без сомнений, без сомнений гордо шла «Мать». И кто-то воодушевленно рассказывал «Сказки об Италии». А где-то высоко-высоко, от самого неба в унисон звучали «Песня о Буревестнике» и «Песня о Соколе», и растворялась их романтично-бунтарская мелодия по всей Красной площади, по всей огромной стране. Эхом отзываясь во всем мире.
А впереди похоронной процессии, безусловно, шел Данко, «высоко держа горящее сердце» писателя «и освещая им путь людям». И «оно пылало, как солнце». А замыкали траурную процессию люди, которые могли оказаться «На дне», но не оказались. В том числе благодаря Горькому.
Горький был единственным из советских писателей, который захоронен в Кремлевской стене. Редкая прижизненная слава. Редкая… Не потому ли, что он пять раз номинировался на Нобелевскую премию. Не потому ли, что стал основателем социалистического реализма — литературного течения, уникального и неповторимого, увы, как и страна. И вообще — лидером новой литературы. С народным званием — Великий пролетарский писатель. Не потому ли, что Совет народных комиссаров СССР отметил литературные заслуги Горького особым актом, избрав в Коммунистическую академию.
Или потому, что он вел активную общественно-организаторскую работу, основав большое количество печатных изданий и книжных серий, среди которых «Жизнь замечательных людей», «Библиотека поэта», «История гражданской войны», «История фабрик и заводов». Или потому, что в 1934 году под председательством Горького проходил Первый Всесоюзный съезд советских писателей, сыгравший ключевую роль в образовании Союза советских писателей. Или, что по инициативе Горького был основан Литературный институт, затем названный его именем…
Да мало ли почему. Заслуг Горького перед Родиной не перечислить. И это вполне справедливо. Но не в них дело. Не только в них. Просто однажды Горький в своей, пожалуй, лучшей пьесе «На дне» сказал: «Человек — свободен… он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум — человек за все платит сам, и потому он — свободен!.. Человек — вот правда! Что такое человек?.. Это — огромно! В этом — все начала и концы… Все — в человеке, все для человека! Существует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга! Чело-век! Это — великолепно! Это звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть… не унижать его жалостью… уважать надо!» И все же псевдоним — горький… А у нас теперь так много появилось сладеньких псевдонимов. Но от них душе читателя почему-то становиться только горше. И все больше людей, внимая сладенькие речи сладенькой интеллигенции, оказываются «На дне».
Мы все можем оказаться на дне. В любой день, в любую погоду. Драма Горького «На дне» была написана более ста десяти лет назад. Но ее возраст так ничего и не отменил. Не отменил дно. И людей на нем. Поэтому пьеса имела такой ошеломляющий, феноменальный успех. И с феноменальным успехом обошла все театры (а потом и кинотеатры) мира. Пьеса в одночасье разбила все границы. Уровняла все социальные сословия. Она стала воистину интернациональной пьесой. Каждый может оказаться на дне. И Барон, и Артист. И содержатель ночлежки. И слесарь. И торговка. И картузник. И сапожник. И полицейский. И богоугодный странник. «Без имени нет человека». Впрочем, далеко не только…
На самом дне в любой стране могут оказаться и принц, и шоу-мен. И хозяин казино, и священнослужитель. И владелец супермаркета, и генерал. И даже президент, например, Украины или США. А что тут такого? Есть народная мудрость (а народ никогда не ошибается): от тюрьмы и сумы не зарекайся.
От этого никто не застрахован. Нет такой страховки. Даже за миллиард долларов. Даже если взорвать полмира. Одним жестом, легко в любом уголке земного шара можно английский пиджак запросто поменять на тряпье или арестантскую робу. А то и вовсе — на петлю. Это на земле все неравны. А под землей очень даже. Как и «На дне».
Горький не ошибся. Его пьеса выстрела метко.
И попала во весь мир. И в его гниющие философии, точнее — антифилософии. И в его сладенькие лживенькие идеи, точнее — безыдейности. Максим Горький, этот идеологический романтик, написал настолько обнаженную пьесу, довел ее до такой степени реализма, что реализм превратился в нечто особое, нечто уникальное. Чуть ли не в авангардизм.
А авангард редко у кого получается — он по себе слишком искусственен. Настоящий авангард рождается только из настоящего реализма. И это доступно только гениям…
Это пьеса о горькой правде. И о сладкой лжи. Они борются, впрочем не так уж отчаянно. И побеждает ложь. Все как всегда. В пьесе все врут, чтобы спастись. «Видно вранье-то… приятнее правды…» Горький смотрит на своих персонажей со стороны. Иногда кажется, он никому не сочувствует. Потому что они принимают это «расписание жизни». И истине предпочитают утешительную ложь. Потому что «безумству храбрых» предпочитают «мудрость кротких».
Клещ: Какая — правда? Где — правда? (Треплет руками лохмотья на себе.) Вот — правда! Работы нет… силы нет! Вот — правда! Пристанища… пристанища нету! Издыхать надо… вот она, правда! Дьявол! На… на что мне она — правда? Дай вздохнуть… вздохнуть дай! Чем я виноват?.. За что мне — правду? Жить — дьявол — жить нельзя… вот она — правда!..»
Что ж — тогда ложь. И ее явление в образе Луки. Не святого Луки. А Луки лукавого. Вот он, акцент — не путать настоящую религию с религиозным лукавством. Эх, как сладенько журчит Лука о «земле праведной». Просто вот есть и все — этакая «праведная земля» с «хорошими людьми». И это журчание как-то принижает людей, парализует их волю к борьбе, гипнотизирует на смирение.
Увы, но смирение обрекает на дно. Без усилий, моральных, физических, идейных, со дна не выбраться. А Лука все журчит и журчит. И ему поверили. А кто-то настолько поверил, что взял и повесился. Когда понял — нет такой «праведной земли, нет. И не было. Иллюзии убивают. Правда тоже часто убивает. Но если ее принимаешь, то во всяком случае есть шанс самому убить зло.
Ложь Луки «во спасение» приближает жителей ночлежки к неизбежной трагедии. И эта трагедия разгорается именно тогда, когда они свято уверовали в тепленькие стариковские сказочки. Поверили в любовь, в работу, в прекрасную землю. И вообще, что на этой земле можно еще излечиться. Ружье, заряженное ложью, выстрелило. Ваську Пепла ждет каторга за убийство Костылева. Во имя любви. Наташу наверняка ждет психиатрическая лечебница. А Актер просто удавился. Слишком много мечтал под лелейные проповеди несвятого Луки. «Эх… дур-рак! испортил песню… " И во имя чего? А старикашка просто смылся, ловко разыграв очередную трагедию, и умыв руки… И был ли мальчик? И куда он теперь подастся со своим приторным язычком? (Цыпун ему на язык). Со своей котомочкой да чайничком?
Как-то, в середине пьесы Пепел спросил его: «Куда теперь?» Лука: В хохлы… Слыхал я — открыли там новую веру… поглядеть надо… да!..»
Вот он и поглядит. Может, мать, потерявшую детей в Донбассе под обстрелами неонацистов, успокоит. Мол, ничего, ты терпи. Им на небушке, деткам твоим, хорошо будет. С хлебушком. Лучше, чем здесь. Может, слезливенько поглядит старик на сгоревший Дом профсоюзов в Одессе, перекрестится: «На все воля Божья…»
А, может, и вовсе прожурчит ополченцам свою старую песенку о чудесной земле, где живут «хорошие люди». Пусть они сложат оружие, плюнут на все, и пойдут, отыщут этот райский уголок. И заживут долго и счастливо. Можно и Ване из Донецка что-нибудь тепленькое промурлыкать. Мол — простить всех врагов надо и смириться…
Максим Горький в свое время странствовал по Украине. Дружил со многими украинскими писателями. Даже печатал или помогал печататься многим украинским авторам в русских переводах, содействовал изданию «Кобзаря» Тараса Шевченко, а в юности организовал в селе Мануйловка на Полтавщине хор и самодеятельный украинский театр, даже сам исполнял роли в пьесе «Мартын Боруля». Он даже знал украинский язык. Он дружил с Михаилом Коцюбинским. И когда классик украинской литературы умер, Горький написал: «Смертен человек, народ бессмертен. Глубокий мой поклон народу Украины».
Чтобы он написал теперь? Или же, встретив на руинах городов и поселков Новороссии своего старенького умилительного персонажа — лукавого Луку, просто хорошенько ему бы врезал? И процитировал себя же: «Рожденный ползать — летать не может.»
Ползи, лукавый Лука, и дальше по миру… А всей киевской хунте, разжигающей войну против собственного народа, продекламировал из «Легенды о Марко»: " А вы на земле проживете, / Как черви слепые живут: / Ни сказок о вас не расскажут, / Ни песен про вас не споют…»
Как-то Ромен Роллан написал своему лучшему другу Максиму Горькому: «Вы были словно высокая арка, переброшенная между двумя мирами — прошлым и будущим, а также между Россией и Западом»…
Прошлое и будущее — для бессмертных писателей. Потому что они сумели познать настоящее. Потому что только они своим творчеством смогли разрушить границы между Россией и Западом. Это, безусловно, про Горького… Как и другие писатели, которые потрясли мир.
Эрнст Теодор Амадей Гофман. Золотой горшок: сказка из новых времен

Может быть, 240 лет — для кого-то это и много. Только вряд ли для Гофмана. Потому что Гофман придумал Гофмана. Потому что Гофман придумал гофманиаду. Вне хода часов. Вне границ. И вне материков. Он не умел читать по времени и пространству. Он не умел писать по времени и пространству. Маг или сказочник? Волшебник или фокусник? Старина Гофман. Он умер в 46 лет. Жить бы да жить. Не получилось… В этом году (2016 г. — Ред.) Эрнсту Теодору Амадею Гофману исполнилось бы 240 лет…
Немец Гофман, которого после смерти и забвения миру вернули (как часто было и будет) русские. «Наш» немец Гофман умудрился родиться в Кенигсберге (Калининграде). Так что вместе с Кенигсбергом Россия присоединила и Гофмана. Справедливо присоединила. Немцы всегда (мягко говоря) его недолюбливали. Он был им непонятен. «Не как все…» Волосы торчком. Поношенный фрак. Подпрыгивающая походка. Робкий взгляд и зловещая усмешка. В минуту — тысячи слов, и — полчаса гробового молчания. Вежливые жесты и грубая шутка. Человек — контраст. Безумный, хотя «у себя на уме». За его спиной сплетничали, перешептывались. И крутили пальцем у виска. Он так не был похож на них, на этих самодовольных невежественные филистеров. Этих лицемерных ханжей.
Ох, как им доставалось от Гофмана в его гениальных творениях!… И они не преминули отомстить. И на надгробном камне писателя сделали надпись с не очень скрытой могильной иронией: «…он был одинаково замечателен как юрист, как поэт, как музыкант, как живописец». «От его друзей». Юрист — на первом месте!
Хотя Гофман действительно был отличным юристом. Справедливым. Ему удалось помочь многим подсудимым, репрессированным властями под предлогом «борьбы с демагогами». Но все же в историю он вошел как блестящий писатель. А надпись — «от его друзей» из судебного департамента, который он всегда ненавидел — вообще веет издевкой. Учитывая, что незадолго до смерти, писатель подвергался судебному преследованию. За сатирическую сказку «Повелитель блох», в которой высмеял и обличил юридическое крючкотворство председателя особой комиссии. Сказку запретили. Было заведено «дело Гофмана».
В историю культуры вошел беспрецедентный по своей жестокости допрос гения на смертном ложе. За несколько дней до кончины… Так что от тюрьмы Гофмана спасла смерть… А вот от сумы… От сумы мало что спасало Гофмана. Похоже, правда, что «черт на все может положить свой хвост».
А про чертей Гофман знал как никто другой. Нет, он не водился с ними. Совсем наоборот. Просто «я похож на детей, родившихся в воскресенье: они видят то, что не видно другим людям». А дети любят по вечерам, в темной комнате пугать. Закатывать глаза, сдвигать брови и протягивать ручки: «У-у-у!..» «Ой, как страшно!» — в ответ врут им взрослые. А по-настоящему страшно лишь детям. Потому что они видят то, что не видно взрослым. Воображают то, что взрослые уже не способны вообразить. И сочинить, и придумать, и довести до абсолютного совершенства эти фантазии. И написать. Золотым пером. Вернее, вообразив, что перо золотое. И золотые буквы легко ложатся на пергамент.
Контраст. Двуликость. Двойственность. Двусмысленность? Дуализм?.. К чему так склонен был Гофман. Он пугал по-своему. Он был изящен и виртуозен в своем стращании. Слишком талантлив. Поэтому его произведения переливаются переменчивым светом. Хотя за окном — только ночь… Это и называется — жизнь. Она единственная могла напугать Гофмана. Жизнь от которой он всю жизнь бежал. В Атлантиду. В мир собственных грез.
Интересно, как бы сегодня Гофман отметил свой юбилей? Наверняка, по привычке. Заглянув вечерком в свой излюбленный погребок Лютерна и Вегнера. Правда, модернизированный — но это его не испугает. Он сам кого хочешь может напугать! 240 лет? Подумаешь! Его некоторые персонажи вообще живут вечно. Он сам умер в 49? Трагедия! Зато меньше трагедий на его долю. Гофманиада? Быть может… Нет, Гофмана ничем не запугать. Его привилегия — запугивать других. Сам он ничего не боится. Поэтому, по законам гофманиады, он сядет в свои 240 на привычное место, на деревянную лавку. Закажет еще, потом еще и еще искристого фирменного вина. Скользнет взглядом по картинам местных художников. (Неужели потом некоторые из них будут стоить миллионы! Наверняка бы стащил, хоть одну из них.) На знакомый буфетик. (И он тоже?) И, наконец, по-гофмановски, демонически усмехнется. Или также по-гофмански ласково улыбнется… (А ведь также любил посидеть и его обожаемый Моцарт! Да, Гофман даже изменил имя Вильгельм на Амадей! Все — из-за Моцарта! Страсть к музыке — от Моцарта! А на могиле — имя Амадей не указали! Вот уж этот судебный департамент. Его бы судить… А как композитор он вообще творил под псевдонимом Иоганн Крайслер. Зачем? Чтобы запутать историю?)
Гофман выпьет залпом искрящееся вино. И что? Что там, позади, за окном? Вечером. В Германии. Его судьба? Безотцовщина? Ненавистное служение судебным чиновником? Наполеон? Судьба его родной страны? Его родного города (который гораздо позже окажется в России)?..
За окном — молчаливый народ, трусливые политики и церковная реакционность. И его бесконечная «сума», от которой, впрочем, он и не зарекался.
«Это было как раз в начале пережитого нами рокового времени, когда я считал свою жизнь, посвященную искусству, разбитой и погибшей навсегда, и мною овладело глубокое отчаяние…»
И вновь — «тюрьма», где он должен служить юристом… Но где же, где же Моцарт? Нет, он мысленно не покидал Гофмана. Вот она, сочиненная Гофманом опера «Ундина» — 20 великолепных премьер! И потом — сгоревший театр… Гофманиада.
Гофман — из маленьких людей. Это не ирония. Просто он сознательно хотел быть среди них. Маленьких, гордых и талантливых. Может быть, раздавленных жизнью. И искусством. Но, никогда, никогда свою жизнь и искусство не продающих. Может быть, поэтому в его творчестве так гармонично сочетаются и красота, и уродство. И здравый смысл, и безумие… Пожалуй, родись он век назад — его сожгли бы на костре. Впрочем, его готовы были сжечь и после смерти.
Его спасла Россия. Его любили и по праву ценили. Если и существует гамбургский счет — то он только в России. И на свой юбилей Гофман, не раздумывая, пригласил бы в первую очередь наших, русских. С ними бы он нашел общий язык. Белинский громогласно назвал бы его «одним из величайших немецких поэтов, живописцем внутреннего мира». И потягивая шипучку, удивленно заметил бы: «Отчего доселе Европа не ставит Гофмана рядом с Шекспиром и Гете?..»
Достоевский, перечитавший всего Гофмана на языке оригинала, воскликнул бы: «Потрясающе!» А потом бы побежал писать своего «Двойника». Самый великий «возвращатель» Гофмана — Чайковский непременно бы выпил с автором «Щелкунчика» на посошок.
Да и вообще, Гофмана обязательно пришли бы поздравить и Жуковский, не раз с ним встречавшийся в Берлине. И Пушкин, у которого ан книжной полке стояло полное собрание сочинений Гофмана на французском. И Гоголь, и Герцен, и Чернышевский, и Андреев, и Булгаков… С нашими бы он с удовольствием пофилософствовал в винном погребке… Там, где ночь за окном. А впереди… Точка. Когда всего лишь 46 лет… А после 46-ти — аж 240… Ведь это — Гофман.
Он не любил гулять по ночам. Ему непременно казалось, что его персонажи материализуются. Выскочат со страниц книг. Которые он написал дерзко, вдохновенно, лукаво. И что они с ним могут сделать? Знает лишь сам Бог… Или сам черт… «Кавалер Глюк», «Дон-Жуан», «Щелкунчик», «Песочный человек», «Крошка Цахес», «Кот Мур»… Впрочем, разве что кот Мур не обидится. Обожаемый Гофманом кот Мур, которому он и посвятил свое последнее произведение.
А еще Гофман знал тайну «Золотого горшка»… В самом названии одного из лучших его произведений скрыта отчаянная ирония. Отчаянный сарказм. Отчаянное отчаяние. Не верьте золоту. Которое всего лишь может оказаться горшком… И продолжение названия: «сказка из новых времен». Вера в сказку — вечна. А новые времена всегда наступают потом. Завтра. Значит — никогда. Значит они — всего лишь мечта…
Обыкновенный Дрезден. Обыкновенные улочки. Обыкновенные немцы. Все настолько обыкновенно, что необыкновенное неизбежно. И там живет Гофман. Точнее — его герой. Студент Ансельм. Недотепа, неудачник, недо… Из тех, у кого бутерброд падает непременно масленой стороной. Мир законченных романтиков и законченных мещан. Мир прозы и поэзии. Гармонии и хаоса. В общем, мир сторонников музыки и противников ее.
Впрочем, такой обыкновенный мир… Ансельм этот мир не понимает и не принимает. Но этот мир, не понимая его, заключает в свои объятия. И это ужасно. Кто хочет сделать миру хуже — забирает лучшее…
Ансельм безволен, слаб. И жизнь его кружит в вихре волшебных событий. То поднимая вверх, к небу и звездам. То безжалостно бросая на землю… Автор подтрунивает над ним. Иногда грубо смеется. Но при этом сердце автора сжимается от боли и сострадания. Потому что он сам такой — Гофман. Потому что он знает, как необыкновенно тяжело вырваться из двуликости мира. И обрести гармонию. Для этого нужно быть необыкновенным…
За душу Ансельма борются темные силы и светлые. У него есть выбор. Стать надворным советником. Жениться на Веронике, предел мечты которой менять наряды и кокетничать в окне с проходящими франтами. Как прозаично! Но Гофман не был бы Гофманом, если бы этот продажный, примитивный мир не прировнял ко злу. Тут-то и возникает страшная колдунья — няня Вероники, которая помогает ей овладеть сердцем Ансельма. Тонкая аллегория: ведьма-няня, воспитавшая законченную мещанку. Мещанство по Гофману — это категоричное зло. От него — все пороки… Но светлые силы тоже волшебны. Это архивариус Линдхорст, князь саламандр, придумавший свою Атлантиду, потому что ее не придумала жизнь. Атлантиду, где можно спастись чистым натурам. И в его дочь Серпантину, золотисто-зеленую змейку, влюбляется Ансельм. И любовь эта возвышает его, пробуждает в нем абсолютно детскую веру в чудеса.
И как замечательно заканчивается сказка! Добро побеждает. Влюбленные женятся. Но! Это — старина Гофман. Он любит подшутить, похихикать и лукаво подмигнуть… В приданое Ансельм получает золотой горшок. Символ мещанского счастья. Который вот-вот примирит его с будничной жизнью. Потому что новые времена будут потом, потом. Ведь не все золото, что блестит. Так не все ли равно?
Если мечта заканчивается горшком, даже пусть золотым… Если Атлантида так и останется всего лишь мечтой…
Проза Гофмана необыкновенна. Он сделал невозможное возможным. Он синтезировал три вида искусств, в которых легко разбирался. Его проза — это одновременно стихи, живопись и музыка. Гофман — новатор. Революционер. Он сотворил неведомый в мировой литературе оригинальнейший стиль — музыкально-живописно-поэтический.
«Жизнь — ужасная игра мрачных сил,» — любил повторять Гофман эту сентенцию на все лады в своем творчестве. По Гофману, искусство — это трагедия. Художник — мученик. Отверженный и прокаженный.
И в то же время: «Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт, и золотые вечерние облака, проходя, уносили с собою отголоски этого пения в далекие страны…»
Он мог себе позволить так написать. Потому что в своей жизни познал трагедию и комедию. Прозу и поэзию. Драму и фарс. Романтику и филистерство. Он мог позволить себе романтику сделать фарсом. Фарс — трагедией. Трагедию — волшебством. И это уже не сказка. А нечто большее. Когда в конце стоит вопросительный знак. Для всей нашей далеко не сказочной жизни… Гофман все-таки победил в игре «мрачных сил» с помощью пения «тысячи флейт». Впрочем, как и другие писатели, которые потрясли мир.
Александр Сергеевич Грибоедов. Горе от ума
«Это один из самых умных людей в России», — заметил о нем еще один Александр Сергеевич — Пушкин. Тогда умели ценить, а не хулить собратьев по перу… Грибоедов был не просто умным, а очень умным. И не только в России. И не только потому, что за свою короткую жизнь смог совместить в себе и дипломата, и экономиста, и историка, и лингвиста, и композитора, и пианиста. И, конечно, — поэта и драматурга. И не только потому что владел французским, английским, немецким, итальянским, греческим, латинским, арабским, персидским, турецким. А еще и потому, что знал наверняка: от ума бывает только горе. Его «Горе от ума» без искажений и сокращений вышло в свет 150 лет назад. В 1862 году. Когда самого Грибоедова, погибшего от рук фанатиков в Иране, уже более 30 лет не было на этом свете. Написанная как никогда вовремя — накануне восстания декабристов — пьеса стала ярким поэтическим памфлетом, обличающим царствующий режим. Впервые так смело и откровенно поэзия ворвалась в политику. И политика уступила. Пьеса в рукописном виде прошлась по всей стране.
Грибоедов в очередной раз съязвил, назвав «Горе от ума» комедией. Шутка ли?! Около 40 тысяч экземпляров, переписанных от руки. Ошеломляющий успех. Это был откровенный плевок в высшее общество. И высшее общество над комедией не смеялось. Утерлось. И Грибоедова не простило. «Этот злобный ум» — так выразился о нем тот же его тезка Александр Сергеевич. Пушкин. Они были схожи не только в имени-отчестве. Не только в вольнодумстве и выборе друзей, которые в основном были декабристами и которые решили в случае неуспеха восстания двух Александров не выдавать. Они были схожи не только бурной жизнью и такой неправильной трагичной смертью — погибнув примерно в одном возрасте. Они были схожи в таланте. Нет, точнее — они оба были гениальны. И шли по литературе независимо друг от друга, но в ногу. И одновременно дерзко перевернули литературу.
Конечно, Грибоедов все равно был более одинок. Может быть, поэтому он — практически единственный писатель в русской литературе, образ которого точно совпадал с образом его героя. Грибоедова, как и Чацкого, признали сумасшедшим, про него пускали грязные слухи. «Ах, злые языки страшнее пистолета…» Грибоедов, как и Чацкий, был добрым, а не добреньким. Прямодушным, а не простодушным. «Не человек, змея!..» И Грибоедов, и Чацкий высмеивали сильных мира сего за «слабодушие, рассудка нищету». И одинаково презирали «умеренность и аккуратность», тупость и невежество, угодничество и лесть. «Служить бы рад, прислуживаться тошно…» Иронизировали над лжепатриотами. «Шумите вы и только!..» Грибоедов и Чацкий ненавидели «смешенье языков: французского с нижегородским» настолько, насколько любили «дым Отечества». Как и Россию. Да так сильно, что могли позволить себе порой ее ненавидеть. «А судьи кто?..» Грибоедов, как и Чацкий, не раз бежал из Москвы. «Карету мне! Карету!..» И еще Грибоедов, как и Чацкий, был бесконечно одинок. «Пойду искать по свету, Где оскорбленному есть чувству уголок!..»
Писателя прозвали Чацким. А Чацкого в театре гримировали под Грибоедова. Автор повторил судьбу своего персонажа настолько, насколько персонаж — судьбу своего автора. Может, поэтому Грибоедов известен как homo unius libri — писатель одной книги, блестящей поэтической пьесы «Горе от ума». Но, положа руку на сердце, такого сочинения за одну жизнь сочинителя бывает достаточно. За такую короткую долгую жизнь. «Горе от ума» пережило и смерть автора, и само время. Это не о прошлом. Это всегда о настоящем. И увы, наверное, всегда о будущем. Потому что пороки анахронизмом не бывают. Они всегда современны. Каждая фраза пьесы — афоризм. Каждый герой пьесы — нарицательный. И «если умом Россию не понять», то «Горе от ума"в этом обязательно поможет. «Нет, этого цензоры не пропустят. Они над моими баснями куражатся, а это куда похлеще! В наше время государыня за сию пиесу по первопутку в Сибирь бы препроводила», — заметил при встрече с Грибоедовым баснописец Иван Крылов…
Сегодня бы Грибоедова в Сибирь не сослали. И от цензуры он бы не страдал. У нас и без цензуры, и без Сибири запросто расправляются с талантливыми авторами. Сегодня «Горе от ума» просто бы не увидело свет. Но нам повезло. Грибоедов обхитрил всех, родившись два века назад. И оставил свое произведение на века… Как и другие писатели, которые потрясли мир.
Александр Грин. Алые паруса

Он мог стать кем угодно. Александр Степанович Гриневский. Сын польского шляхтича, сосланного за участие в январьском восстании 1863 года в Вятку. Он мог стать ремесленником, переплетчиком книг, охотником, матросом, солдатом, банщиком, грузчиком… Все это и многое другое он перепробовал. Жизнь его была лишена детства. И она настолько была безрадостна, беспросветна и так бессказочна, что в принципе он мог стать и преступником. Впрочем, с тем же успехом он мог стать мещанином и обывателем. Или во всяком случае — озлобленным циником. Но он стал Александром Грином. Мечтателем и романтиком. Философом и психологом. Писателем и поэтом. А еще человеком, который все-таки думал, что мир не может быть злым. И так в мире быть не должно.
Кстати, он мог стать и профессиональным революционером (он годы провел в ссылках и тюрьмах за революционную пропаганду — «Мой революционный энтузиазм был беспределен…"). Мог стать партийным работником. Ведь Октябрьскую революцию он принял восторженно. Она захлопывала наконец-то дверь, за которой навсегда остались обывательская Вятка. Голод и унижение. Убогая квартирка, пропитанная плесенью и сыростью. И еще грязное окно в раздавленных мухах. За которым маленький мальчик видел не только ночлежки, мусор и дрожащие руки, просящие милостыню.
Он видел всю Россию. Россию, в которой нет детства. Конечно, его спасали Джонатан Свифт, Майн Рид и Жюль Верн. Но разве они могли спасти его детство? Это потом он скажет: «А ведь детское живет в детях до седых волос».
А еще его в детстве спасали мечты о море. Которое он никогда не видел. Но знал, что оно есть. И оно не просто бесконечно, как мечта. Оно так же реально, как мечта… И уже позднее, когда пришла революция, он был уверен, что вот теперь, сейчас, немедленно он распахнет свое окно и увидит «Бегущую по волнам». И в синей глубине моря покажется «Блистающий мир». А еще к его каменистому берегу непременно сейчас же приплывут «Алые паруса»… Вон они, уже виднеются за солнечным горизонтом. И он босиком прибежит на берег и окунет руки в прохладные волны. И его мир наконец-то станет так понятен и прост. Как эти «Алые паруса». Как этот «Блистательный мир».
Но, как точно заметил Константин Паустовский, высоко ценивший его талант, «Грин принадлежал к людям, страдающим вечным нетерпением… Светлое будущее казалось Грину очень далеким, а он хотел осязать его сейчас, немедленно… Действительность не могла дать этого Грину тот час же… Если бы социалистический строй расцвел, как в сказке, за одну ночь, то Грин пришел бы в восторг… Но ждать он не умел и не хотел.»
И поэтому Грин сочинил «Гринландию». Он сочинил свою страну. И свое море. Ведь первое слово, которое маленький Саша сложил из букв, было «мо-ре». Хотя он родился не у моря. Зато он умер у моря. Значит и мечты, бывает, сбываются. После смерти. Хотя это и грустно звучит.
Впрочем, сам Грин не был веселым человеком. Скорее — замкнутым идеалистом с нелегким характером и смущенной улыбкой. Словно извинялся и за свой характер. И за свой, единственный мир, неповторимый и прекрасный, который он сочинил. В котором смог жить и выжить. В одиночку. За свою «Гринландию».
Наверное, трудно жить в раздвоенном мире. Мире реальности и мире мечты. Мире быта и мире фантазий. Или легко? Ведь это не Грин бежал за реальностью, не он спорил с ней и ей не подчинялся. Все наоборот. Это реальность бежала за ним, спорила с ним и ему подчинялась. А он просто смирялся. Он просто молчал…
Он вообще был молчаливым человеком. Что, возможно, в очередной раз спасало его от жизни. И уводило за ее пределы. Туда, где он мог встретить белый корабль с алыми парусами.
«Алые паруса» — это не просто одно из лучших произведений Грина. Это сам Грин. «Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе „Алые паруса“, то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству», — написал Константин Паустовский…
Однажды Грин в витрине магазина увидел игрушку — это была лодка с белым шелковым парусом. Он зачаровано смотрел на нее. И он, этот нетерпеливый человек, решил тут же написать повесть… Шла Гражданская война. Грин служил в рядах Красной Армии. И не переставал думать о повести. Которую уже назвал «Красные паруса». В честь революции. И в честь справедливой мечты. За которую он сражался и на войне, и в прозе. Он не переставал сочинять, даже когда заболел тифом. Даже когда голодным скитался по улицам Петрограда. И даже когда думал покончить с собой…
В эти отчаянные дни ему помог Максим Горький. Он помог ему получить комнату в «Доме искусств». Именно здесь он и написал свое поэтическое произведение, которое в итоге назвал «Алые паруса». Так более романтично. Или — более фантастично. Ведь он уже начинал понимать, что не все мечты сбываются. Во всяком случае быстро. Скорее — понимать этого он не хотел. Он мечтал о быстрой мечте.
«Трудно было представить, что такой светлый, согретый любовью к людям цветок мог родиться здесь, в сумрачном, холодном и полуголодном Петрограде в зимних сумерках сурового 1920 года, и что выращен он человеком внешне угрюмым, неприветливым и как бы замкнутым в особом мире, куда ему не хотелось никого впускать», — написал позже Всеволод Рождественский.
Горький одним из первых назвал «Алые паруса» шедевром и не раз зачитывал отрывки из притчи вслух. «Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу много соберется народу, удивляясь и ахая: и ты будешь стоять там…».
В «Алых парусах» — вымышленный городок. Вымышленное море. И небо тоже вымышленное. И даже земля. Вымышленное время. Вымышленное пространство. Вымышленные имена: Лонгрен, Эгль, Грэй. И, конечно, прекрасная Ассоль, чье имя «так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины.» «Счастье сидело в ней пушистым котенком…» Как же это похоже на Грина! Который иногда тоже кажется вымышленным писателем с вымышленной фамилией.
В «Алых парусах» Грин со свойственной ему категоричностью, даже морализаторством, проводит четкие границы добра и зла. Благородства и подлости. Милосердия и жадности. Как в сказке. И все же это не сказка. Здесь быль и небыль, реалистичность и фантастичность, романтизм и авангардизм переплелись настолько, что намеренная атмосферная сказочность выглядит просто чистой правдой.
А еще в «Алых парусах» много веры. Почти религиозной веры. И мотивы Библии поэтому неизбежны. Да последние будут первыми. Да бедные станут богатыми и поделятся с бедными. Да оклеветанные найдут правду и помогут другим оклеветанным.
Девочка Ассоль и ее отец Лонгрен… Их не любили в деревне. Над ними смеялись, на них клеветали, их дразнили. Только потому, что они были лучше, честнее, умнее. В мире лжи, цинизма и пошлости. В них бросали грязь и камни. Только потому, что Ассоль поверила в «Алые паруса». В свою любовь под алыми парусами. Ее считали умалишенной. И она вынесла все. Потому что вера — это больше, чем вера. Веру нельзя предавать. И продавать. «Море и любовь не терпят педантов».
«Алые паруса» легко перевести на музыку. Настолько оно музыкально. «Алые паруса» легко переписать стихами. Настолько оно поэтично. «Алые паруса легко изобразить на холсте. Настолько оно живописно. «Алые паруса» легко экранизировать. Настолько оно кинематографично… Фантазия Грина легка. В отличие от жизни Грина.
Поэтому он выбрал фантазию. И только она стала для него реальной жизнью…
Грин всю жизнь куда-то бежал. Одесса, Баку, Севастополь, Феодосия, Старый Крым. Наверно, потому что верил, что счастье там, где его нет. Что идеальный мир там, где его нет. Но он бежал не от себя. Потому что счастье и идеальный мир всегда был с ним, в его неугомонной фантазии. Но не вокруг. Вокруг он его так и не нашел.
Возможно потому, что его просто не существует. А, возможно, еще потому, чтобы дать право искать его нам. Даже если мы тоже его не отыщем. Право на веру в мечту мы не имеем право терять. Иначе мы так и останемся просто людьми без веры. Просто жалкими обывателями. Которые даже не способны подарить детство детям. Или хотя бы маленький кораблик с алыми парусами из игрушечного магазина.
Это произведение для всех времен, всех пространств и всех возрастов. Возможно, оно для Вселенной. Недаром планета «Гриневия» уже существует. В наше время, циничное и прагматичное, эта планета нужна как никогда. Потому что падение духа и упадок души неизбежно нуждается в творчестве Грина. И, возможно, в первую очередь, «Алые паруса» — именно для юношей, которые хотят стать мужчинами. Ведь чтобы стать мужчиной — необязательно покупать две тысячи метров шелка алого цвета. И не обязательно иметь свой белый корабль. Просто нужно быть способным на поступок. Обязательно благородный… На такой поступок был способен Александр Грин… Как и другие писатели, которые потрясли мир.
Виктор Гюго. Гаврош и отверженные
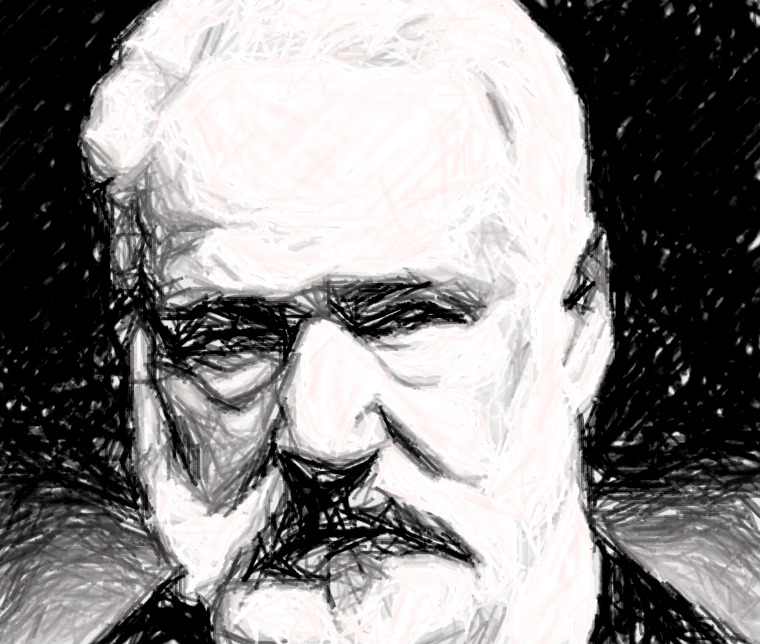
Гюго писал около семидесяти лет. По сути, он всю жизнь писал об отверженных. «Я всем поверженным и угнетенным друг». По сути, он всю жизнь писал «Отверженные». 26 томов стихотворений, 20 томов романов, 12 томов драм, 21 том философских и теоретических работ. Всего79 томов! Под одним названием — «Отверженные». Хотя сам он никогда отверженным не был.
Он родился в семье наполеоновского генерала, с детства много путешествовал. С ранней юности получал награды и литературные премии. И с ранней молодости познал успех. Который ему никогда не изменял. Он был членом Французской академии. Он был членом Национального собрания. Он одно время даже был сенатором.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
