
Бесплатный фрагмент - Пашня
Альманах. Выпуск 4
Четвертый тост
Перед вами новый выпуск «Пашни», альманаха наших литературных мастерских, в котором мы подводим итоги года, по счету четвертый. Четыре — число целостности, гармонии, устойчивости, полноты, завершенности. И все мы внутри нашей школы это чувствуем: мы вступаем в стадию зрелости, и значит, мы на пороге изменений. Скоро увидим, каких.
В новую «Пашню» вошло лучшее из написанного за истекший год. Здесь представлены работы очных и онлайн-мастерских по короткой и крупной художественной прозе, которые вели замечательные и известные писатели Ольга Славникова, Марина Степнова, Елена Холмогорова, Анна Старобинец, Дарья Бобылева, а также совсем молодые авторы, лишь недавно дебютировавшие и в прозе и в преподавании творческого письма — Александра Сорокина, Дарья Скворцова, Денис Банников, Сергей Лебеденко, Анастасия Фрыгина, Анастасия Пономарева. Писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов провел мастерскую по драматургии и поделился с «Пашней» пьесами своих слушателей, а художник Елена Авинова и филолог Наталья Осипова — комиксами.
В этом году в «Пашне» оказалось заметно больше документальной прозы — мемуаров, реальных семейных историй, лонгридов — это плоды наших новых мастерских по нон-фикшн, которые филологи Екатерина Лямина и Алексей Вдовин провели в онлайн-формате, а Нина Назарова и Олег Лекманов в Тургеневской библиотеке на Чистых прудах. К взрослым голосам присоединяется и детский хор, и это свежее и чистое пение раздается из мастерских Олега Швеца, Ирины Лукьяновой, Стефана Хмельницкого, Екатерины Какуриной. Не все наши проекты удалось представить в этом сборнике — нынешним летом, например, у нас прошла замечательная мастерская Галины Юзефович и Анастасии Завозовой, которые рассказывали, как грамотно вести книжный блог и подкаст, но жанр блога слишком мимолетен и в «Пашню» естественно не попал. Как и концепты будущих компьютерных игр (несколько — восхитительных) из мастерской Павла Миронова и Антона Радуса, как и стремительные тексты, написанные в рамках наших сверхкратких мастерских выходного дня — «9 месяцев с CWS».
Впрочем, и из работ, создававшихся долго, и в привычных литературных жанрах, до встречи с широким читателем добрались только самые сильные и умелые, и, пройдя по «Пашне» насквозь, вы убедитесь — здесь действительно много настоящих литературных удач.
Мы приглашаем вас порадоваться им вместе с авторами, их преподавателями и нами, организаторами этого литературного праздника, каждый год он немного иной, но и на этот раз согрет влюбленностью в слово.
Майя Кучерская
Мастерская Ольги Славниковой «Проза для начинающих»
Зоя Бездель
Моя бабушка дома
Мне кажется, что моя бабушка до сих пор дома. Вот она открывает мне обитую коричневым дерматином дверь. У нее всегда тревожный взгляд, суетливые руки поправляют коротко стриженные волосы цвета «дикая вишня».
В коридоре я медленно вешаю болоньевую куртку на покосившуюся рогатую вешалку. Эта вешалка помнит много семейных историй. Мне кажется, или она на самом деле мне тихо их рассказывает? Биография вешалки началась в 1952 году в гулкой полупустой комнате: на ней висят крепдешиновое платьице в розочку и плечистый жакет с брошкой — бутоном тюльпана из янтаря. Новенькая вешалка живет по соседству с круглым ворчливым столом с кружевным рушником, закопченой керосиновой лампой и балалайкой.
Вешалка помнит, как худенькая владелица незамысловатой одежды плакала, узнав от молодого мужа, что комната в коммуналке съемная и денег на оплату третьего месяца у него нет, как, впрочем, и работы. И они вот-вот окажутся на улице.
— Вась, зачем ты меня обманул? — сквозь слезы сердилась она.
— А как еще я мог вытащить тебя, дурочка, из деревни в Москву? — оправдывался муж. Его армейская одежда, донашиваемая из-за бедности в мирное время, по ночам тоскливо болталась рядом с крепдешиновым платьицем.
— Много ты понимаешь, — отвечала худенькая, покусывая тонкие губы и отдавая ему практически все свои сбережения.
— Конечно, — беря деньги, ворчал красивый парень. — Много ты понимаешь…
Я сбрасываю наваждение и бегу на кухню. Меня манит аромат свежеиспеченных блинчиков, смешанный со смолистым запахом клея.
Накануне бабушка приволокла из книжного магазина две холщовые сумки с простыми деревянными линейками и обклеила ими фасады старых кухонных шкафов цифрами внутрь. Осталось только покрыть их прозрачным лаком. Дед подтрунивал над бабушкиной затеей, а по мне, получилось симпатично и нестандартно. Бабушка даже во времена тотального дефицита умела создавать уют.
***
Моя бабушка была удивительным, оригинальным человеком.
Она работала учительницей младших классов. Кроме математики и русского, учила детей вокалу и аккомпанировала им на скрипке. Но в семье она никогда не пела и не играла. Она стыдилась своего инструмента. Просила нас, внуков, не рассказывать о нем знакомым и другим родственникам.
— Скрипка — инструмент бедных еврейских мальчиков, — назидательно говорил дед. — С ней они выбиваются в люди. А ты, педагог, чему детей учишь? Побираться? То ли дело, русская балалайка.
— Много ты понимаешь в музыке, — зло отвечала бабушка.
Дед любил бренчать на балалайке, а мы с сестрой, его внучки, обязаны были плясать под его незамысловатые частушки:
Балалаечка гудит.
Вы, девчонки, чуете?
Нехорошие — домой,
Хорошие — ночуйте.
— Деда, а почему самая еврейская песня называется «Тумбалалайка»? — однажды спросила я у дедушки, услышав передачу по радио. Дед покраснел, возмутился и, не найдя подходящих слов, отвесил мне легкий подзатыльник.
***
Слышу мерное металлическое постукивание, выходящее из-под бабушкиных узловатых пальцев. Бабушка любила вязать на спицах какие-то странные и не совсем модные вещи. Спицы двигались в ее руках то быстро, то медленно — по ходу ее мыслей. Иногда бабушка задумывалась, сидя на старом выцветшем диване, и спицы совсем останавливались.
Она по полгода корпела над каждой вещью, скрупулезно вывязывая сложный орнамент, а когда заканчивала, удовлетворенно говорила:
— Такую жилетку можно продать не меньше, чем за три рубля!
— А твоя ангорская пряжа стоила пять! — иронично подхватывал дед.
— Молчи, Василий, — говорила бабушка. — Ты ничего не понимаешь…
На мое двенадцатилетие она связала для меня белое платье с ярко-оранжевым жаккардовым узором, думая привести этим в восторг. Я с кислым видом потрогала колючий воротничок и отошла.
— Ты ничего не понимаешь, Яна, — сказала, сконфузившись, бабушка.
Мама посмотрела на меня строго. Пришлось снять свои единственные вареные джинсы и надеть это нелепое платье. В нем я весь свой праздник чувствовала себя неловко.
Чтобы не обижать бабушку, мама требовала, чтобы ее жилетки с шарфами мы с сестрой надевали в школу. В школьной раздевалке, в самом дальнем и темном углу, я незаметно снимала вязаные вещи и прятала их в ранец, чтобы не быть высмеянной одноклассниками. Колючие жилетки совсем не шли к джинсам «мальвинам» и коротким джинсовым юбкам с белыми оборочками, которые в девяностые годы пришли на смену советской школьной форме.
***
В 1953 году вешалка вместе с керосинкой и балалайкой переехала в новую комнату. Это был маленький милицейский городок в пригороде Москвы. Его так и называли — Милицейский поселок. Теперь вместо старой армейской формы на вешалке часто отдыхал шерстяной китель синего цвета, на стоячем воротничке строго алел форменный кант. Хозяин кителя больше года назад, нашатавшись по московским улицам, нашёл работу: стал опером в уголовном розыске. Шелковые креп-сатиновые и шерстяные платья с машинным кружевом «ришелье» его жены-учительницы теперь висели в обшарпанном зеркальном шкафу. Вешалка коротала вечера с угрюмым зонтом-тростью, парой вязаных шарфов и замысловатой шляпкой, на которой желтела янтарная брошка-тюльпан.
Выучив за сорок лет в своей школе не одно поколение детей, бабушка обзавелась массой знакомых.
Для нее было большим удовольствием каждый раз, встречаясь с ними, подробно расспрашивать об их жизни, а потом, кормя нас с сестрой гречневой кашей с котлетами, в деталях пересказывать эти истории.
Меня вовсе не увлекали эти чужие примеры «жизненного опыта». Я любила приключенческие романы с погонями, любовью и сокровищами.
Однажды бабушка дала в долг большую сумму денег, отложенную на что-то очень важное, какой-то Татьяне Степановне.
— Лучше бы Татьяна Степановна на работу устроилась, а не жаловалась бы и денег бы у тебя не просила. Ты уверена, что она вернет? — сердито спрашивал дедушка.
— Ты ничего не понимаешь, Вася, — деликатно возражала бабушка. — Она очень хороший человек. Я выучила двух её дочек, они закончили школу с отличием, поступили в институты. Сама она бывшая актриса, играла в московском театре. Ты бы послушал, как она интересно рассказывает о театре и актерах. Это совсем другая жизнь, не то, что наша…
— Да мне-то что! Теперь всем, кто играет в театре, давать в долг?
— Ты ничего не понимаешь, Вася, — печально повторяла бабушка и уходила в свою комнату вязать новую колючую жилетку.
Деньги Татьяна Степановна долго не отдавала, а когда вернула, они оказались обесцененными инфляцией бумажками.
***
Я любила книги про пиратов, и бабушка подарила мне волнистого попугая Чеха с кривым крепким клювом. Почему я должна была восхищаться тем, что у него хохолок короной и огромная борода из перьев, до сих пор считаю невыясненным. Мне совсем не нравилось просыпаться раньше всех от его неразборчивой скрипучей болтовни и кормить его скорее, чтобы заставить замолчать неугомонную птицу. Через три месяца я привела в исполнение адский план — открыла дверцу клетки, надеясь, что попугай сейчас же улетит. Но проклятый Чех безмятежно сидел на жердочке. Впрочем, открытая дверца оказалась полезна: ночью кошка задрала попугая, принеся мне облегчение, а бабушке горе и тихие слезы. Позже я узнала, что можно было избежать утренних побудок, просто накрывая клетку с птицей на ночь тряпкой. В темноте попугаи видят плохо и под покрывалом быстро засыпают.
***
В память о деревенской жизни бабушка собирала керосиновые лампы. Несмотря на то, что первая электрическая лампочка зажглась в подмосковной деревне Кашино в 1920 году, главным видом освещения в деревнях до шестидесятых годов двадцатого века оставались керосиновые семилинейки. От бабушки я узнала, что фитиль таких ламп в ширину равняется семи русским линиям, каждая линия равна десяти точкам, или 2,54 миллиметрам. Родительскую семилинейку она практично захватила с собой при переезде в Москву.
Бабушка высматривала керосинки в комиссионках, долго торговалась и, если цену получалось хорошо сбить, торжественно их покупала.
Гостям она первым делом гордо демонстрировала свою коллекцию. Фонарь «Летучая мышь», лампа Игнатия Лукасевича, калильная лампа с подогревом воздуха, «стенник» с подвесом, кольцевая горелка и, конечно, любимая неприметная семилинейка. Лампы важно стояли на кухонной полке, освещенные электричеством, пылились и мешали всему семейству.
Бабушка никогда их не зажигала. Берегла керосин для компрессов от ангины: разогревала его в сотейнике, смачивала марлю и прикладывала к шее. Сверху шея обматывалась старым вязаным шарфом в сине-белую полосочку.
***
Брошка-тюльпан тоже имела свою историю. Вот что рассказывала бабушка: «После окончания педучилища, за пару лет до того, как я вышла замуж за дедушку и переехала в Москву, меня с подругой отправили работать по распределению в Сибирь. В деревню Утьма. Там жили раскулаченные в тридцатые годы крестьяне из Прибалтики и поволжские немцы. Я учила их детей. Деревня была большая, в сто пятьдесят одинаковых домов. Жили они там хорошо, кулаки хозяйство вести умеют, коровы у всех. Курам, правда, было холодно зимой, и держали их в это время под столами в домах.
Летом по утрам было холодно, а днем жарко. Комаров тьма, но жители, несмотря на это, собирали в лесу кедровые орешки и сдавали их в колхоз. Никто не имел права уйти дальше пяти километров от деревни. Чтобы выехать до районного центра — тридцать пять километров, — нужно было брать разрешение.
Мы с подругой жили в съемной комнате у учителя физики. Они имел связь с браконьерами и покупал у них мясо лося. Другого мяса не было. Да и это мы редко ели.
Я понравилась там литовцу Витаутасу. Я Витей его называла. Худенький был очень. Провожал меня. А русскую грамоту плохо знал. Я его учить стала. Он на занятия через раз приходил. Приготовлюсь порой к уроку — а он не приходит. Работа в колхозе тяжелая была. А по весне явился свататься и принес эту брошку. Не знаю, как она у него сохранилась. Отец его был известным до революции ювелиром в Вильнюсе.
— Таких тюльпанов из янтаря мало на свете, — сказал мне Витя. — Папа считал, что их обладатели обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к тюльпану.
Я ему согласия не дала, но подарок взяла.
Мне там погода не нравилась, да и в магазинах нечего было купить, кроме карамельных подушечек. Люди выживали за счет личного хозяйства. Я не хотела после уроков еще за огородом и курами присматривать. Да и в город не выберешься.
Летом на каникулах я поехала домой и дедушку встретила. Он посватался, и мы сразу расписались. Это был для меня единственный шанс не возвращаться в Сибирь.
А позже я поняла, как я любила Витю. Когда разрешили выезжать из Утьмы, он разыскивал меня, приезжал к нам в деревню, а я уже в Москве была. Так он в Москве нашел меня. Но разве я брошу мужа? Это же позор для него и для меня на всю жизнь. Вот так, внученька, я всю жизнь я прожила с нелюбимым мужем и счастливой брошкой».
***
Однажды зимой мы с сестрой, вернувшись из школы, застали в коридоре довольного носильщика, заработавшего хорошие чаевые. На полу стояла, завернутая в газету, странного вида вещь.
— Что это такое? — спросила я.
Дедушка топтался рядом и смотрел на этот предмет с беспокойством. Рогатая вешалка еще больше накренилась от тяжелых зимних тулупов и дубленок, мне показалось, что она охает и ахает от тяжести. Бабушкины темно-карие глаза в лучиках морщин сияли гордостью.
— Увидите, — загадочно проговорила она. — Только перенесем ее в мою комнату.
Весила лампа, как старый дедушкин телевизор. Она напоминала огромный кактус, увенчанный стеклянным матовым полушарием.
— Редчайшая лампа, девятнадцатый век, — торжественно провозгласила бабушка. — Я торговалась целый час, пока мне не уступили.
— А я подумал, что глобус, — озадаченно вставил дед.
— Не правда ли, — подхватила бабушка, — прекрасная вещица. Ну, как думаешь, Яна, сколько она стоит?
— Семь тысяч, — предположила я. — Но ее некуда ставить, и она нелепо будет выглядеть в твоей комнате.
— Много ты понимаешь! — парировала бабушка.
Дедушка сел в уголок и растерянно заморгал глазами. Бабушка подошла к деду, нагнулась и, как бы оправдываясь, поцеловала его в лоб.
Лампу-кактус бабушка решила использовать по назначению и оживила ее, налив керосин. Мне показалось, что лампа почувствовала себя снова молодой. Керосин вскоре потек, отравляя воздух. Дед лампу починил. Но лампа не поняла чужеродного вторжения и на всякий случай замерла, втянув в себя громадный черный фитиль. Бабушка вытащила застрявший шнур пинцетом для бровей и снова зажгла. Лампа обрадовалась и решила рассказать о своей жизни во всю силу: фитиль так разгорелся и начадил, что дым просочился в подъезд. Проходившие мимо соседи даже позвонили, чтобы узнать, не горим ли мы и не нужна ли помощь. Лампе не дали выговориться, вылив на нее кувшин воды.
Через неделю, когда высох фитиль, бабушка снова зажгла волшебную лампу. Пыл ее поутих после затопления. Язычок огня стал крохотным, он язвительно прищелкивал, освещая выцветшие фотографии, кружевные салфетки. От керосинового огонька вещи отбрасывали причудливо змеившиеся тени. Фарфоровые статуэтки на полках создавали вокруг сказочный мир. Бабушка дышала удушливым запахом керосина, завороженно смотрела на огонь и позвякивала металлическими спицами.
Нам с сестрой нравилось наблюдать за живым огоньком. Горящая лампа отражалась в оконном стекле, подмигивая одинокому уличному фонарю. А мама переживала, что запах керосина от старой лампы может навредить нашему здоровью.
Как-то раз мы с сестрой вошли в бабушкину комнату и удивились: под старыми фотографиями было пусто. Взлохмаченная бабушка, понуро опустив голову, сидела на кровати, а мама деловито вытирала пыль.
— Что ты с ней сделала? — спросила я маму.
— Продала.
— Много дали? — подала голос молчавшая прежде бабушка.
— Тысячу. Только не они дали, а я… Чтобы ее унесли. Детям вредно дышать керосином.
По комнате прошелестел бабушкин подавленный шепот:
— Много ты понимаешь!
***
Теперь она умерла, моя бабушка. Старую вешалку вместе с коллекцией керосинок отнесли на помойку, а счастливую брошку с янтарным тюльпаном мне удалось оставить себе.
Только мне все время кажется, что бабушка дома. Вот позвоню в дверь, и она откроет.
Александр Васько
Ладонь
1999 год. Аравийский залив. Танкер «Нур-аль-Захар».
Ночная вахта. Очень темно. Луны нет, поэтому погружение в вакуум черноты полное. Хотя, если побыть на мостике минут тридцать, то человек превращается в кошку. Он уже чувствует себя уверенно: не натыкается на всякие препятствия и не спотыкается. Многое становится видимым. Звезды на небе как будто устроили сумасшедший спектакль. Знакомые созвездия раскинулись во все стороны. Большой Пес с выскочкой Сириусом, Орион — четкий и узнаваемый со своим поясом и кинжалом, всяческие дельфины и ковши, ковши. Если смотреть на звезды долго, обязательно увидишь, как проносится метеорит. Временами он чиркает по небу довольно ярко: вдруг встрепенешься и примешься загадывать желание. На тягучей океанской воде от носа судна усами расходятся мерцающие неоновые бело-зеленые волны. Это светится планктон и всякая морская мелочь.
Иногда ночь наполняют назойливые вопли иранских рыбаков по VHF: «Ship captain, ship captain! Left side, left side!» Или: «Right side, right side!» Они орут, чтобы большое судно не наехало на их сети, расставленные повсюду. Эти крики совершенно не волнуют вахтенных. К ним уже настолько привыкли, как будто это какой-нибудь орнамент на стене мечети. Переговоры судов в порту Фуджейра тоже стали реже и глуше, больше не докучают. Через пару часов будет поворот, и судно пойдет Ормузским проливом.
На мостике второй помощник Василий Саблин и матрос, индус с коротким именем Ваз. Саблин обычно не разговаривает с Вазом, потому что тот из деревни, плохо знает английский и очень пуглив.
Вдруг у дверей возникло какое-то шевеление и послышалось: «Разрешите?»
Саблин выглянул за шторы, огораживающие мостик от освещенной штурманской. Там стоял четвертый механик Никита, он же Клавиш. Его так назвали из-за часто употребляемого, модного в каких-то туманных молодёжных кругах, словечка «клавиш», что означало «приятель», «тип», «кадр». Никита отпустил бороду, но по молодости она была очень редкая и имела цвет пакли. На нем была бело-ржавая дырявая майка и сермяжные шорты.
— Добрый вечер. Разрешите?
— Привет, Никита. Не спится?
— Вот, — произнес Клавиш и показал правый кулак, щедро обмотанный бинтами и представлявший собой небольшой мячик.
— Ого. Что с рукой?
— Да вот, непруха. Ладонь разрезал. А мастер замотал лейкопластырем и забинтовал. Сказал, что в порту в больницу отправит.
— Да-а-а. Не повезло. Ну, ты держись. Дня два-три еще.
— Ну да. Хотя…
— Что?
— Может, зашьем ее? А то ведь за три дня там криво зарастет и вообще. Ты же у нас за медицину отвечаешь.
— Хм. Это точно, — сказал Саблин. Сам-то он не очень разбирался во всем этом. Да и в обязанностях у него было только проводить инвентаризацию таблеток и выкидывать просроченные. На самом деле основная ответственность за медуход была на старпоме и капитане. Но старпом и так все время занят, а кэп… Он уже сделал все что смог.
Саблин думал не очень долго.
— Ладно. Пошли в госпиталь.
— Как? Ты же на вахте! Покинешь мостик? — даже испугался Никита.
— Пойдем. Не парься.
Дело в том, что, за неимением свободным кают, в госпитале спал индиец, палубный кадет Джо. Саблину все равно нужно было убрать оттуда Джо, чтоб не мешался. А так как тот без пяти минут офицер, то на вахте подменить может вполне, он уже делал это. Да и, если честно, Саблин был рад согнать с теплой кроватки этого говнюка. Дело займет не больше одной минуты. Так и получилось.
— Джо! Вставай быстрей! — гаркнул Саблин, зайдя в госпиталь.
— А? Что? — худое, как палочка корицы тело кадета сразу вскинулось. Лицо его было ещё печально раздавлено сном.
— Нам нужен госпиталь. Быстро дуй на мостик, там только один Ваз стоит, а мы подходим к Ормузскому проливу.
Последние слова окончательно пробудили беднягу.
— Оставить Ваза одного — это не очень умная идея, — промычал он и поскакал наверх.
Саблин начал разматывать бинты и лейкопластырь. Часть он разрезал ножницами. Рана оказалась, и правда, большой и глубокой, через всю ладонь, ближе к ее ребру. Саблина волновало, как он будет ее зашивать, и как ему это все выдержать. Да и не только ему, но и Никите.
— Ну, и где ты умудрился?
— Вылазил из одного люка в машине, а там рядом вентилятор стоял. И меня лопастью чиркануло.
Саблин тщательно вымыл руки с мылом, но перчатки надевать не стал. Протер вокруг раны спиртом, вынул пакетики с одноразовыми иглами, в которые уже были вдеты готовые шелковые нити. Иглы были разного размера. Саблин выбрал средние: сантиметра полтора.
— Давай, я тебе обколю рану новокаином? Вообще не больно потом будет.
— Не-е-е. Нафиг. Я лучше потерплю. Я уколов боюсь.
Никита продолжал говорить. Наверное, чтобы отвлечься от процесса.
— Вот Серега, третий механик, сказал, что я теперь неполноценный мужчина, раз у меня будет такой дефект.
— Этот Серега тормоз. Кого ты слушаешь? И как вообще какая-то царапина может повлиять на твою мужскую полноценность? Это же не яйца.
— Да не, я не в этом смысле. Ну вот, если рука уже повреждена, значит, я не смогу ею делать со всей силы какую-нибудь работу.
— Скажи спасибо, что у тебя еще есть рука, а не обрубок. Да и вообще все затянется без следа, и забудешь о ране.
Саблин начал протыкать кожу иголкой. Это было очень странно. Шить человека. Это как шить самого себя. Это противоестественно. Это насилие! Так. Стоп. Лучше ни о чем не думать. Просто делай свое дело.
Лицо Никиты оставалось невозмутимым. Может, только немного напряглось, и вспотел лоб. «Хорошо держится», — подумал Саблин. Преодолевая сопротивление кожи и мяса, он проталкивал иглу через оба края раны и завязывал нитку обыкновенным прямым узлом. И так пять раз. Время тянулось вязко, оба взмокли, как будто делали тяжелую физическую работу. Но всему приходит конец. Последний узелок завязан. Края пропасти вроде аккуратно сошлись. Теперь рана выглядела стильно, будто какой-то безумный стимпанковский пирсинг. Для чистоты ее протерли спиртом и опять слегка обернули бинтом.
— Вот и все!
— Спасибо, Василий.
— Да ладно. Ты хорошо держался. Пошли на мостик. Мы заслужили выпить по бутылочке пива.
Конечно, пить пиво на вахте — не комильфо. Но ночью и после такого испытания… Ночью Аллах не видит.
Радар марки Фуруно высвечивал эхо-сигналы красивым оранжевым цветом. Саблин начертил что-то мелом на приставном экране.
— Что это? — спросил Никита.
— Это называется параллельный индекс. Вот видишь сиську на экране? Это островок. Он теперь перемещается по линии, которую я начертил параллельно курсу. Если мы уйдем с курса вправо или влево, он нам это покажет.
— Д-а-а, хорошая работа у вас, у судоводителей. Я бы тоже так хотел, — мечтательно вздохнул Никита.
«Наверное, ему понравилось слово сиська», — подумал Саблин.
Наталья Грозева
Подстаканники
Вика моталась в командировки этим поездом калужского направления каждые две недели уже четвертый месяц.
Любимым моментом поездки для нее было объявление по громкой связи о железнодорожных сувенирах. Тихий мужской голос библейским речитативом нудел о благотворительных лотерейных билетах, которые непременно помогут детям, а затем перечислял всевозможное казенное богатство, которое может за символическую плату перекочевать в руки пассажиров. Брелоки, игральные карты, открытки, открывалки, чайные ложки, дорожный набор. И жемчужина коллекции — подстаканники! Естественно, все с ностальгическим логотипом железной дороги.
Виктория Крылова — эксперт по маркетингу двадцати пяти лет, начинающая акула PR-технологий — восторгалась бездарностью подачи информации. «Этому мужику надо какие-то веселящие конфеты подогнать, — рассказывала она потом Светке из соседнего отдела, смачно надувая пузырь жвачки и громко лопая. — Ну бедолага редкостный! Что не так в его жизни?».
С самого первого раза, услышав унылое объявление, девушка мечтала увидеть обладателя депрессивного голоса. Желанная встреча состоялась довольно быстро. Начальник поезда, Сергей Васильевич Понкин, не только зачитывал текст, но и делал личный обход состава, груженый сумкой с образцами того самого брендированного барахла. Он оказался мужчиной лет шестидесяти. На вытянутом лице длинный нос загибался к подбородку, на затылке зияла лысина, тусклые голубые глаза болезненно слезились, широкий, испещренный морщинами лоб ходил ходуном, словно самостоятельно удивлялся всему вокруг. Бледные выпяченные губы делали его похожим на грустного селезня. Проходя между рядами, Понкин покачивался вправо-влево, в такт движению поезда, а подстаканники грустно вторили из сумки металлическим звоном. «Поночка», — прозвала его про себя Вика.
Сегодня миссией Крыловой было ни много, ни мало — прославить этого скромного героя железной дороги в Интернете. А заодно вытянуть свой аккаунт в топ. Она в красках описала персонажа будущей хроники коллегам и уже обо всем договорилась: пара посещаемых страничек обещала репостнуть ее материал, а админ Стасик с «твойприкол. орг» в нетерпении названивал второй день подряд, видимо, не так уж много качественных приколов получалось добывать. А тут рыба сама плывет в руки.
В ожидании поезда Вика сочиняла хэштеги, и пока остановилась на трех: #самый грустный поезд #купи подстаканник #развесели Поночку
Виктория пошутить очень любила и славилась своей хлесткой манерой, умела одним словом так припечатать, что человек вздрагивал, как от удара. При этом зла она по сути никому не желала, просто вот такое умение, словно от природы, было вложено в ее блондинистую голову. Порой Вика тайно сожалела о сказанном, но вида не подавала. Крылова отчаянно не умела сдержаться, готовый, отточенный текст остроты так и пёк ее изнутри и вырывался прежде, чем она успевала подумать о ее уместности. Оставалось смириться и жечь всех вокруг глаголом. «Сатирик от бога!» — восторгался директор пиар-агентства, которому от подчиненной, конечно, никогда не доставалось. Попасть под прицел Вики было сродни публичной порке, и руководитель тайно радовался, что при всей своей дерзости, Крылова придерживается субординации. «Фас, малышка», — мысленно говорил он ей вслед, глядя, как тощая, длинная блондинка по-хозяйски сгребает в кучу файлы и папки и вылетает прочь окучивать новую жертву.
В защиту Крыловой надо сказать, что для большинства людей она была крайне желанной компанией: интересная собеседница, легкая на подъем, шумная и активная. Дар злой сатиры, как и полагается, соседствовал в ней с убойным чувством юмора. И пока ее меч не заносился над вашей головой, все сказанное казалось в самом деле не более, чем остроумной шуткой.
Сегодня Вика ерзала на своем месте в сидячем вагоне в нетерпении и во всеоружии. Телефон ждал своего часа в кармане джинсовки. Людям не стоит сразу обозначать планы, зачем зря нервировать жертву. Она чувствовала себя львицей на просторах саванны, вот-вот глупая газель приблизится на расстояние прыжка. Объявление по громкой связи давно прозвучало и было прилежно записано на диктофон для последующего монтажа. Вагон у Вики был восьмой, а значит, с минуты на минуту Поночка ступит на свой путь к славе.
Дверь хлопала, народа в сидячем вагоне было битком. Кто-то тянулся в туалет, кто-то в тамбур заряжать технику. Начальника поезда все не было. Вика нервничала, чувствовала себя обманутой девушкой на свидании, которая пришла в красивом платье, да с укладкой, а этот гад написал: «Не смогу, малыш, приболел».
Не выдержав, Вика выдернула из кармана куртки телефон и обнаружила новое отягчающее обстоятельство. Ее верный друг был на последнем издыхании, батареи не хватит даже на отправку сообщения. Кровь прилила к щекам Вики, но проигрывать она не собиралась. Выхватив шнур из рюкзака, охотница ринулась в тамбур к заветной розетке, где оттеснила какого-то подростка со словами:
— С тебя хватит, уже давно заряжаешь!
Тот, кривясь, попятился, бросая на дылду-блондинку убийственные взгляды.
Стоило включиться в сеть, как дернулась дверь, и появился мешковатый силуэт Поночки. Вика понимала, что предстоит импровизировать, но, как назло, все мысли вылетели из головы, ни одной остроумной фразы для начала разговора, полный штиль.
— Что-то сегодня вы припозднились, — брякнула она, кося одним глазом на уровень заряда батареи. Тот предательски не рос. Параллельно Вика с удивлением обнаружила, что выше своей добычи на целую голову.
Поночка моргнул пару раз, словно настраивая внутреннюю камеру на восприятие говорящего человека. Фокусировка состоялась, но реакция запаздывала. Он одновременно пожал плечами и неопределенно мотнул головой, собираясь продолжить путь.
— Постойте-ка! Я вот давно хочу кое-что купить. Только мне необходима помощь с выбором.
— Да, да, конечно, — Понкин заученно кивнул и бухнул сумку в ноги, та в ответ звякнула, — Значит, у нас тут есть лотерейные билетики, вдруг захотите детям помочь, сувенирная продукция, ассортимент крайне широкий. А уж какие у нас подстаканники! Вы, молодежь, думаете, что за безделица, а это истинный защитный механизм прошлой эпохи! Он изначально не для красоты, а, чтобы защитить руки от ожога… Оберег, можно сказать! Этой традиции, представьте, уже почти двести лет!
— Ну, вы специалист! — цокнула языком Вика, прерывая поток его речи, и внутренне ликуя от того, что заряд медленно переполз на следующее деление. — Давайте я лучше вернусь на место и оттуда вас послушаю. А то неловко, что для меня одной распинаетесь! Все равно, зарядка здесь еле пашет!
— Бывает такое. Вам для дела нужно? Или так, в игры поиграть? — Понкин, видимо, не хотел упустить потенциальную клиентку.
— Не то слово, для срочного дела! — не поскупилась усугубить ситуацию Вика, лихорадочно соображая, как обогнать Поночку и успеть сделать хоть минимальную запись выступления. — Мне видео надо записать по работе.
— Может мой телефон подойдет? — Понкин вытянул из кармашка брюк поцарапанную Нокию. Вика хмыкнула, представив качество картинки в этом убитом гаджете. И Сергей Васильевич кивнул, словно соглашаясь с ее реакцией. — Слушайте, если так уж надо, у меня в купе есть переносная зарядка. Всякое пассажиры у нас забывают, я таскаю с собой, вдруг кому пригодится, или хозяин объявится.
Попасть в обитель Поночки, в святая святых, об этом Вика и не мечтала. Она широко улыбнулась и энергично закивала.
— Купе в шестом вагоне, — сообщил тот. — Я вернусь минут через десять и поищу. Можете прямо там подождать, держите ключ.
— Ну вы даете, — поразилась Виктория. — А вдруг я воровка?
— Да бросьте, девушка, — отмахнулся Понкин. — Брать там нечего, да и видно же, что приличный вы человек.
«Вот спасибо», — про себя усмехнулась Вика, хотя осадок остался неприятный. Она, однако, быстро отмахнулась от тревожного зуда. Кто спорит, еще многим приличным фору даст.
Но прежде, чем идти в шестой вагон, Вика вернулась на свое место: снимать торговлю. Понкин как раз начал свой путь среди публики. Он останавливался перед каждым пассажиром, медленно и вдумчиво демонстрируя кому лотерею, кому ложку, кому брелок. Но, как и ожидалось, никто ничего не покупал, люди носа не высовывали из своих планшетов, смартфонов, книжек и кроссвордов. Возникало чувство, что вдоль рядов движется человек-невидимка, и только Вике, за какие-то неведомые заслуги, дано его наблюдать. На несколько секунд она включила камеру и успела записать кусочек паломничества Поночки в надежде сбыть подстаканники. Но, как истинный хищник, чуяла, что этого ей теперь мало. Схватив рюкзак, Вика поспешила в шестой вагон, времени осталось в обрез, надо изучить быт начальника поезда до его возвращения.
Дверь, впуская, скрипнула, и охотницу обдало запахом чужой жизни: в воздухе витал дух столовских котлет и свалявшейся шерсти. В свете автоматически вспыхнувшей лампочки взвилась и осела пыль. Купе было узким: полка голая, темно-синяя, на ней грузно разлеглось лохматое зеленое одеяло, рядом аккуратной стопочкой белел комплект постельного белья, на столике синхронно вздрагивали бутылка воды и стакан с фирменным подстаканником, на вешалке болталась рабочая спецовка, а внизу, в углу между полкой и столом, пригрелись под батареей буро-коричневые стоптанные тапки. Единственным личным предметом во всей обстановке была фотография, которая пряталась за шторой, заправленной в щель, встык к оконному стеклу. На ней Понкин, еще помоложе и без лысины, стоял с радостной гримасой на фоне деревянного сруба. Вика почувствовала себя некомфортно. Несмотря на скудную, спартанскую обстановку чувствовалось, что это не временное купе, а настоящее жилье.
Снимать было особо нечего, к тому же свет не располагал, да и зарядка телефона опять сдулась. Виктория плюхнулась на край нижней полки и случайно сдвинула одеяло. То неуклюже поползло и открыло нестройную горку упаковок с обедами. Автоматически девушка протянула руку и схватила первый сверху контейнер. Тот оказался теплым. Обычный затянутый пленкой дорожный паёк — макароны с котлетой. Так вот откуда запах! Всего Вика насчитала семь штук припрятанных запасов. В этот момент дверь купе отъехала, и начальник поезда вернулся в свою берлогу.
Понкин скользнул по девушке взглядом, устало, чуть удивленно, затем на лице промелькнула тень понимания. То, что гостья держала в руках контейнер с едой, его нисколько не смутило.
— Ах, зарядка, — пробубнил он, бочком протиснулся, привстал на цыпочки и зашарил руками по верхней полке. Довольно быстро Понкин выудил из шуршавшего барахла переносной аккумулятор. Вика молча приняла его и подсоединила шнур. Телефон приветственно пискнул, стыковка прошла успешно, и в мобильный потек заряд.
— Хотите есть? — спросил Понкин, кивая на контейнер. — Берите!
— Нет уж, спасибо, — помотала головой Вика, — Это откуда вообще?
— Не думайте, не объедки, просто кто-то из пассажиров в бизнесе отказался, мало ли, дома поели, или на диете. А мне пригодятся.
— Подворовываете, значит? — ляпнула Вика и тут же закусила губу.
— Ну зачем так грубо, — нахмурился Понкин. — Просто эту еду кто-то ждет, а так утилизируют, да и все. Или вы думаете, что ее отдадут нищим, или кошкам-собакам? Запрещено все это протоколом, по правилам надо уничтожать, — он назидательно вздернул вверх крючковатый указательный палец и вдруг встрепенулся: — Погодите! Вы журналистка, что ли?
— Нет! — Виктория честно вылупилась на собеседника и оставила попытки незаметно включить режим диктофона в телефоне. — Правда, нет. Просто интересно. Я в пиаре работаю, специфика такая, все про всех хочу знать.
— Это не в пиаре, а в органах такая специфика, — хмыкнул начальник поезда, но заметно расслабился. — Я не для себя стараюсь. Сейчас остановка будет, стоянка всего пять минут. Вы курите?
— Не курю, — помотала головой Вика.
— Молодец! Ну все равно подсобите, раз уж так вышло, если не сложно. А то мне сильно светиться нельзя.
Понкин сгреб все съестное в откуда-то взявшийся линялый полиэтиленовый пакет и всучил его Вике. Сам натянул спецовку и сделал знак идти следом. Крылова пару минут помедлила и поплелась за ним. Ситуация ей отчаянно не нравилась, но хоть материала еще наберет для ролика. Можно снять, как начальник ворует. Это не просто хэштег #грустная Поночка#, это уже подсудное дело, ей еще МВД благодарность объявит. Только захлопнув дверь, она с досадой осознала, что телефон с зарядкой бросила на столе в купе, а сейчас в ее руке только побитый жизнью пакет с ворованной едой.
Поезд запыхтел и затормозил. Сергей Васильевич разблокировал дверь, мотнул головой в сторону выхода, а сам скрылся в недрах вагона. Станция была пустынна, если не считать нескольких рассыпавшихся по перрону курящих фигур. Вдалеке светился тусклый фонарь. Теплый сентябрьский вечер разливался в воздухе, ветер мягкими пальцами прикасался к лицу, но Вика поежилась. Казалось, что она в какой-то параллельной реальности, пакет с пропитанием оттягивал запястье, без привычной тяжести телефона в кармане было некомфортно. «Чистый сюр», — подумала Вика и даже уже была готова попросить сигарету у ближайшего курильщика. Закутанная, несмотря на тепло, шарообразная бабушка вперевалку шла по перрону и звенела колокольчиком: «Хрусталь, покупайте хрусталь!»
Поравнявшись с Викой, она поправила сбившийся платок и кивнула на пакет:
— Успела! Мне, наверное? Вот спасибо, милая. Будет, чем оглоедов покормить. Сереженьке привет, и бог в помощь!
Вика нервно сглотнула и кивнула. Пакет перекочевал в морщинистые руки бабули, которая тут же, шаркая, растворилась в темноте. Начальника поезда Вика нашла в его купе, тот что-то старательно записывал в тетрадку синей шариковой ручкой, заряженный мобильник Крыловой лежал возле его локтя.
— Тут же какое дело, — не поднимая головы, пробубнил Понкин, — главное, чтобы подотчетно все сходилось. Я много не беру, так по мелочи. На благое дело. Вы, столичные, жизни не знаете, что там в деревнях творится.
До следующей остановки — конечной — оставалось всего ничего, минут тридцать. Вика вдруг почувствовала, как ужасно устала. Ей давно пора возвращаться, батарея полная, видео, хоть и короткое, но есть. Пора в свою реальность, подальше от душных купе, загибающихся деревень, от спятившего железнодорожника, играющего в Робин Гуда. Что-то в этом устройстве мира было неправильно. Сидящий перед ней Понкин, со всем его жизненным багажом, с бликами на лысине, подтеками синих чернил на пальцах, с потертой формой в катышках, с пакетами спасенной еды, почему-то мешал ей сконцентрироваться на действительно важных вещах. Таких, как признание в коллективе, деньги, карьера, продающий блог, квартира в новостройке.
— Я, наверное, пойду, — Виктория потянулась за телефоном. «Где видео с Поночкой? Ты уже прославила этого жд-зануду?» — мигнуло сообщение от админа Стасика и зависло на экране. Вика резко схватила мобильник, но поняла, что Понкин тоже успел все прочитать. На минуту в купе воцарилась тишина, нарушаемая только перестуком колес. В голове у Крыловой клубилось много примирительных объяснений, но все казались неподходящими. Поэтому она просто схватила рюкзак, засунула телефон в карман и повернулась к выходу.
Понкин привстал, пожевал губами, задумчиво зыркнул на пассажирку и по-отечески потрепал ее по плечу. В его тусклых глазах на секунду вспыхнула искра веселья:
— Счастливо! Спасибо за помощь, дочка!
Вика на полной скорости прошагала два вагона и плюхнулась на свое место. Она была жутко недовольна собой, тоже мне профессионал, дала увлечь себя благотворительными речами, да поучаствовала в спасении утопающих, а материала на выходе с гулькин нос. Крылова загрузила видео с телефона и внимательно посмотрела, как унылый Понкин бредет с сумкой наперевес по проходу, дифирамбы подстаканникам тоже отлично записались. Виктория перематывала ролик туда-сюда до самого прибытия. На подъезде к вокзалу связь то и дело прерывалась, так что отправить ролик все равно не было возможности. Стасик подождет.
Через пятнадцать минут поезд прибыл на конечную станцию. Вика спрыгнула со ступенек на перрон и закинула рюкзак на плечо.
— Эй, девушка, — кто-то крикнул ей в спину, она обернулась и увидела, что из дверей свесилась чернявая проводница с густо накрашенными губами, растянутыми в елейной улыбке. — Держите, это вам в подарок, Сергей Васильевич велел передать с пожеланием поменьше обжигаться в жизни, — и женщина всучила ей белую картонную коробку.
Виктория Крылова шла, прижимая презент к груди, по перрону, через подземный переход, насквозь через здание вокзала. А потом села в организованное для нее такси. Вскрывать упаковку было незачем, и так понятно: теперь и у нее есть подстаканник.
Ярослав Жаворонков
Сатурн
Очень жаль, что наряду с новостями о смерти ученого или, скажем, писателя нельзя встретить новости о рождении ученого или писателя. «Сегодня родился будущий великий ядерный физик / романист. Он сделает первое открытие / издаст первую книгу через двадцать лет. Будет исключительно полезен для общества и проживет до конца века». Такой обратный некролог в новостях не прочтешь. Поэтому, когда умирает кто-то важный для тебя, остается только надеяться, что где-то рождается другой, который тоже станет важным.
Так думал Арсений, прочтя накануне, что умер Стив Ирвин — натуралист и исследователь крокодилов. В детстве Арсений, насмотревшись его передач, решил идти по его стопам. И вот два года назад устроился в Московский зоопарк, в отдел рептилий.
Арсений провел рукой по старому пыльному пианино, поставил на него рабочий рюкзак и начал наполнять его полезными вещами: сэндвичем, соком и зарядкой для телефона. Взял с полки книгу и кинул в рюкзак тоже — чтобы придать смысл времени, которое проведет в дороге.
Сегодня важный день. Для человека, который работает с четырехметровыми рептилиями, в каком-то смысле каждый день полон ответственности — глубокий вогнутый шрам от подбородка до правого уха, из-за которого щека казалась всосанной внутрь, не давал Арсению об этом забыть. Но именно сегодня ответственности было через край. Предстояло подготовить к осмотру и операции аллигатора Сатурна: накануне, когда он плавал в открытом вольере, какие-то ублюдки кидали в него бутылки и камни. В результате у него повредилась ротовая полость и начался стоматит. Сломалась челюстная кость. Очень жаль, что кости — не как дождевые черви. Разделившись надвое, бесполезны. Очень жаль, что существуют ублюдки.
Мне очень жаль, Сатурн.
Крокодилов никто не любит. Но Арсений — любит с той поры, когда только начал ходить. Может, потому, что больше некому. Может, потому, что ему больше некого. Может, это их объединяет. Он меняет им воду, кормит их рыбой, курицей и мышами, следит за их здоровьем и изучает их. Входит в транс, засматриваясь на похожие на резное дерево гребнистые тела и вертикальные зрачки, окруженные желто-зеленым огнем.
Сатурна после Второй мировой передали СССР. До этого он жил в Берлинском зоопарке. Говорят, на него приходил смотреть Гитлер. Арсения, еврея по маминой линии (то есть, по иудейским законам, — еврея), это не смущало. В отличие от вчерашних ублюдков с бутылками. Вчерашние ублюдки с бутылками сделали Сатурна таким же евреем, какими были те, кого жгли в концлагерях.
В зоопарке, проходя вдоль вольеров, Арсений мысленно проговаривал порядок действий. Сесть сверху и завязать глаза. Тогда не будет дергаться. Замотать пасть. Быстро. Он поднялся в блок рептилий и подошел к застекленным подобиям болот с крокодилами.
Появились первые утренние посетители. Когда начнется ловля аллигатора, их попросят выйти. Если что-то пойдет не так, лучше не видеть оторванные клыками руки. В каждом из нас много трагедий, незачем смотреть еще на одну.
— Какое страшилище! Что это?! — прозвенел ксилофонный голос девочки лет пяти, державшей шар сладкой лимонной ваты.
— Это крокодил. Смотри, какой большо-о-ой. Помнишь: горе-горе, крокодил солнце в небе проглотил… — начал объяснять ей отец, смешной человек в клетчатой рубашке и в очках, сидевших на самом кончике носа.
— А зачем такой страшный нужен?
Арсений развернулся к девочке и улыбнулся, дернув длинным безволосым шрамом:
— На самом деле, крокодилы очень полезны. Они едят насекомых, чистят…
— Ой, дяденька! Вы сами как крокодил! — шар сладкой ваты бросился бежать по коридору.
— Извините, пожалуйста, — пробормотал мужчина, шевеля очками, и пошлепал за дочерью.
Арсений остался один. Развернулся и прижался лбом к стеклу террариума Сатурна. Крокодил лежал неподвижно, только раздувались морщинистые бока. Из пасти стекала створоженная гнойная слюна. Что, если в каждом из нас слишком много трагедий?
— Арсений, да? — к нему приближалась стройная девушка в распахнутом медицинском халате. Она непринужденно вынула из кармана руку и протянула ее Арсению. — Мне о вас говорил ваш начальник. Меня зовут Алиса, я с коллегами буду оперировать Сатурна.
— О, доброе утро. Можно просто Сеня, — ответил он, пожимая тонкие пальцы.
— Хорошо, Сеня, — кивнула Алиса. Не смущаясь шрама, она смотрела ему в глаза. — Вы же поймаете нам Сатурна? Мы скоро сможем начинать.
— Да, конечно. Транквилизатор ему вколоть?
— Лучше не надо, сложно рассчитать дозу. Мы потом поставим ему укол в лапу.
— Как скажете, — согласился Арсений, глядя через стекло на аллигатора. Тот лежал на бетонном полу с открытыми глазами и сомкнутой пастью.
— Не переживайте так, операция не очень сложная.
— Вы хорошо разбираетесь в крокодилах?
— Конечно, я герпетолог, — и, ловко повернувшись, Алиса направилась к выходу. — Я побежала, нужно все подготовить. Увидимся вечером.
Засмотрев до дыр на кассетных пленках передачи Стива Ирвина, Арсений уже много лет назад знал, как ловить крокодилов. Позже приобрел навык — выучившись и на собственных ошибках.
Уплотненные резиновые сапоги защищают не столько от воды с дерьмом и отмершей кожей, сколько от челюстей. Даже сломанные, они докажут, что сильнее целой человеческой кости. Если бы в мире не было стоматита, крокодилы могли бы строгать дерево.
Перед дверью в клетку он машинально, как делал всегда, прокрутил сценарий ловли. Черная ткань набрасывается на глаза крокодилу, она его дезориентирует. Связываются челюсти и лапы. У Арсения были хорошие учителя. Стива Ирвина убил не крокодил.
Привычный сон за плотными веками сменился слепящей агонией. Челюсти не раскрывались. Нёбо жгло так, будто осколки были еще внутри. А может, они действительно там застряли. Горький ядовитый гной заполнял пасть и вытекал из щелей между зубами.
Это продолжалось с прошлого вечера — вечера брошенных камней и незнакомых опасных предметов. Плохое зрение не позволяло увидеть, откуда они летели, но развитый слух передавал странный громкий звук, не похожий ни на рев, ни на половой призыв, звучащий так: «А-ха-ха-а-а-а».
Сейчас ни на какие другие ощущения, кроме боли, восприятия не хватало. Внезапно свет исчез, пространство заполнила доисторическая чернота. Куда бежать? Почему не получается даже подняться?
Попытки вырваться — махи хвостом и защитный рык — ни к чему не приводят. Лапы и пасть, и так не раскрывавшуюся, парализовало сильным давлением. Тело подняли, вынесли из-под низкого солнца внутри пещеры, положили на неприятно холодную плоскость и, кажется, повезли. Только хвост болтался.
— Как он?
— Я знаю, вы привязаны ко всем нашим… питомцам, — улыбнулась Алиса. — Его состояние лучше. Мы вынули из нёба осколки, вправили кости и поставили фиксаторы на верхнюю челюсть. Проколем антибиотики. Всё будет хорошо.
— А сейчас он?..
— В изоляторе, еще под наркозом. Вы поезжайте домой, а завтра посмо́трите на него.
— А вы завтра будете?
— Конечно. Мне нужно наблюдать за Сатурном после операции.
— Тогда я завтра зайду к вам? — и, получив в ответ полукруг улыбки, Арсений закинул на плечо рюкзак и пошел к выходу.
По дороге прочел некролог об Ирвине. «Австралийский исследователь крокодилов был убит скатом-хвостоколом во время съемки…» Когда умирает кто-то важный для тебя, остается только надеяться, что где-то рождается другой, который тоже станет важным. И очень жаль, что нам так мало известно. Где этот человек? Скоро ли он придет? Долго ли будет рядом? Все ли евреи из концлагерей в раю? Вкусной ли была лимонная вата? Как бы предпочел умереть Стив Ирвин? Если бы Сатурн мог мыслить, ненавидел бы он Гитлера? И сожрал бы его или даже не стал бы марать об него клыки?
Войдя домой и переодевшись, Арсений сел за пианино, и пальцы зашагали по клавишам. Машинально наигрывая простые мелодии, он думал о том, что завтра навестит Алису, и вместе они навестят Сатурна. И если бы Сатурн был как они, то они втроем навестили бы кого-то еще.
Он закрыл крышку пианино. Ложась на диван, подумал, что день заканчивается намного лучше, чем начинался. Он закрыл клавиши дня и уснул.
Гребнистый хвост изогнулся, направив к краю водоема небольшую волну. Челюсть болела, но уже намного меньше. Над языком больше не жгло, и вчера Сатурн даже смог заглотить большую курицу. Он наслаждался, рассекая озеро под открытым небом.
Сатурн вынырнул и выбрался на сушу. За вертикальной прочной водой, которая всегда почему-то не дает выйти за территорию, стояли самец с самкой. Они обнимались и смотрели на него.
Денис Жигалов
Девочка и смерть
Одна Девочка давным-давно уже не чувствовала себя ни живой, ни мертвой, да скорее больше мертвой, чем живой. Так бы она о себе сама и сказала, кабы дожила лет эдак до сорока. Но дожила ли она до этих лет, мы не знаем, а если быть до конца честными, это уже совсем другая история.
Девочка эта была от природы молчаливой, диковатой и замкнутой, и никогда нельзя было понять, что она чувствует и чувствует ли вообще что-то. Девочка сама пыталась обнаружить в себе так часто упоминаемые другими «чувства», пыталась пробудить ну хотя бы самые простые, элементарные: улыбнуться, хотя бы кривовато (не до смеха вовсе), или слезинку проронить (куда там всплакнуть). Но нет, все было тщетно.
В школе ее часто дразнили царевной Несмеяной, но это было неправильное прозвище: царевна постоянно «канючила слезы», как приговаривала баба Валя, а у Девочки внутри все было стерильно, никаких влажных разводов, сухо-насухо, слезные железы либо атрофировались, либо вовсе отсутствовали. Одним словом, была Девочка околдована неведомым заклятьем, которое и раскрыть-то особо никто не пытался. Только снилось ей часто, что катается она клубком иссохших колючек по пустыне и нигде, ни к кому не может прибиться.
Отсутствие чувств Девочка компенсировала формальным логическим мышлением, которое она в себе упорно развивала, и строгим следованием чужим правилам, поскольку своих правил не имела. Но движение мысли тоже не отражалось на лице Девочки. Она всегда была бесстрастна и абсолютно спокойна. Изредка, правда, блеснет нечто в ее глазах, будто падающая звезда на ночном небе, — и сразу погаснет.
Девочка часто задавалась вопросом, почему у других мамы, а у нее — шлюха-потаскуха. Шлюху-потаскуху Девочка не видела никогда, а если и видела, то не помнила, а вот прозвание это постоянно слышала от лежачей бабы Вали и пьющего горькую отца. В ее ушах прозвание это звучало красиво и литературно-изысканно: не просто шлюха, и не просто потаскуха, а всегда вместе, шлюха-потаскуха, как, к примеру, Новиков-Прибой, или Сухово-Кобылин, или Соловьев-Седой, или Мамин-Сибиряк, на худой конец. Девочка, конечно, не могла знать, а баба Валя, надломленная долгим параличом, не поворачивающим ни в сторону жизни, ни в сторону смерти, и не собиралась открывать никакой правды о шлюхе-потаскухе. Секрет же заключался в том, что причиной ее замужества была вовсе не любовь и даже не случайная беременность, а обманное обещание бабы-Валиного сына жить на море, под звуки прибоя. Но когда шлюха, увязнув на полшпильки в этом болотистом городке, поняла всю несбыточность надежд, то уже было поздно для Девочки, но еще не поздно для потаскухи. Разродившись, шлюха тотчас убежала со своим научным руководителем, седым профессором Соловьевым, на его родину, которая, следуя сухим беспристрастным фактам, оказалась вовсе не на морях, а в Сибири, где беглецы осели и открыли конный завод. Если бы всю эту печальную историю можно было поведать несчастной Девочке, она поняла бы связку двух стабильных словосочетаний «шлюха-потаскуха» и «мамин сибиряк», что бултыхались в пьяной вязкой словесной глине отца, размываемой краткосрочными ливневыми осадками из желудка в унитаз.
— Тыыы прииишлааа? — с трудом проталкиваемый по гортани оклик бабы Вали настигал Девочку сразу же, как только она перешагивала порог и закрывала за собой входную дверь. По имени ее никто здесь не называл и называть не собирался. Девочка была позорным порождением шлюхи-потаскухи и так же, как и она, не имела права на имя.
— Приишлааа? — требовательно тянула парализованная баба Валя, пережившая два инсульта, которые активировали рубильник в ее голове, произвольно переключавший ушибленный мозг из состояния разума в состояние безумия.
Да пришла она, конечно же, пришла! Девочка давно уже пришла к беспристрастному выводу, что общается в этом доме только с одним Голосом: гортанным, натужным, выходящим наружу с трудом. Вначале глухой, с комьями кое-как выдавленных слов, а потом внезапно зычный, с долгим гласным последышем. Этот Голос жил своей жизнью и курсировал между бабой Валей с ее параличным горлом и отцом с его пьяным угаром, выбирая их в качестве своего рупора по абсолютно не ведомым Девочке законам. Это совсем не означало, что если дома не было отца, то Голос всегда исходил от измученной пролежнями бабы Вали. Напротив, она могла ни слова не прохрипеть за день, даже своего всегдашнего «Ты прииишлааа?» в ответ на скрип входной двери в послеобеденный час. И опять же, пьяный отец мог вломиться в ночи, заплетаясь ногами и сшибая все на своем ходу, злой, угловатый, с колючими тоскливыми глазами — и молчать, словно язык отрезало. И тогда Девочка слышала этот Голос внутри себя. Девочка пыталась логически себе объяснить, сколько еще людей включены в Голосовую матрицу и по какому праву. Девочка любила фантазировать на эту тему и всегда засыпала под неспешное развитие сюжета очередной серии воображаемой саги про Голос.
— Я пришла, — Девочка аккуратно положила сумку с учебниками на раскладной стул, стянула потрескавшиеся лаковые туфли, повесила пальто на выделенный для нее крючок и неспешно побрела в комнату бабы Вали.
— Долго ты опять… Я не могу ужо терпеть…. — левую половину лица бабы Вали свело судорогой, а вот правая была гладкая и плоская, напоминающая выцветшую рекламную растяжку на главной улице города. Иногда Девочке казалось, что на парализованной части лица бабы Вали даже морщины были отутюжены.
— Сейчас… конечно… Все сделаю, — Девочка присела на край кровати и расправила скомканную застиранную желтую простыню. — Давай посмотрю, что у тебя там.
Девочка попыталась приподнять одеяло, чтобы повернуть бабу Валю на бок, но та фыркнула и вцепилась в складки рабочей левой рукой.
— Что не так? Может, все же… — после небольшого, отвоеванного бабой Валей антракта, Девочка еще раз попробовала повернуть старуху, чтобы проверить под ней пеленки.
— Никаких ужо, — угрожающе выдохнула баба Валя и, внезапно обессилев, на мгновение прикрыла единственный вращающийся глаз.
— Ленивка ты… Всегда была такой… — через некоторое время продолжила она, вращая глазом, как Циклоп. Девочка подумала, что если тормозить руками виниловую пластинку или слушать по-настоящему зажеванную магнитофонную пленку, то получился бы как раз голос бабы Вали. — Днем с огнем тебя не допросишься, не дозовешься…
Девочка наклонилась над бабой Валей и стала смотреть на нее внимательно, не отрывая взгляда, не морщась, не отводя лица в сторону, не задерживая дыхания, не избегая ядовитых испарений гниющего тела. Без упрека, брезгливости и отвращения. Спокойно, буднично и ровно, как если бы просто делала свою работу. Хотя, если бы это была ее работа, Девочке пришлось бы надеть маску сострадания. Но чувства ей были неведомы. Поэтому она просто наблюдала за движениями вытаращенного мутного глаза, просто вдыхала гниль бабкиного нутра, просто слушала сухой свист в тощей старухиной груди.
— Ты дрянь… Ты даже умереть мне не даешь… Строишь из себя святую… Ужо… Кабы ненавидела ты меня, да чуралась, может, я скорее бы сдохла… Нет же, тварь такая, таскаешь меня… на горбине… И меня, и забулдыгу этого, горемычного, — баба Валя харкала фразами, и каждый раз изо рта ее, как из пасти дракона, вылетало зловоние. — А тебе рожать еще… Хотя такие, как ты, живучие… гадины… Опомниться не успеем, как в подоле принесешь… Глаз и глаз за тобой…
Девочка тихо вздохнула и спросила нараспев:
— Так может, все же пеленку поменяем?
Вся живая половина бабкиного тела выгнулась наподобие дуги:
— Ах ты, скотина неблагодарная… Кто выхаживал тебя, сопливку, когда шлюха-потаскуха бросила тебя на мои плечи? А сейчас чураешься меня тащить?
Девочка еще раз вздохнула, и пошла доставать шерстяное одеяло, на котором она каждый день таскала по полу бабу Валю до туалета, чтобы усадить ее на унитаз, не дождаться результатов и поволочь обратно, зная, что все это предстоит повторить еще несколько раз за день.
В таких повторениях проходила жизнь Девочки. Баба Валя сменилась буйной свекровью Таисией Павловной, не лежачей, но вполне себе двигающейся к инсульту пока еще бодрыми и резвыми шагами. Отец, «забулдыга горемычный», сменился мужем Сашкой, которого матушка Таисия Павловна ласково величала «сорванцом-выпивохой». Только Голос не сменился. Голос с каждым годом крепчал.
Девочка исполняла все, что от нее требовал Голос. Без упрека, брезгливости и отвращения. И так бы все и шло, спокойно, буднично и ровно, кабы Девочка дожила лет эдак до сорока. Но дожила ли она до этих лет, мы не знаем, а если быть до конца честными, это уже совсем другая история.
Ольга Захарова
«Лев Толстой»
О существовании такого человека, как Лев Толстой, я узнала довольно рано; не то, чтобы я была вундеркиндом, который в десять лет прочитал всю «Войну и мир», и взрослые мне о классике не рассказывали, не упоминали произведения, биографию. «Лев Толстой» для меня десятилетней — это четырехпалубный теплоход, самый большой и шикарный из тех, что заходили в наш небольшой город на Волге в девяностые.
— Кто такой Лев Толстой?
— Ну, тетя говорит, что это такой писатель, и я видела в библиотеке книги с таким именем на корешках, — говорит моя подруга Варя.
Теплый, солнечный летний день. Мы стоим на берегу, и Варя не отрывает глаз от корабля, который, совершая разворот, вспарывает воду мощным винтом и занимает почти половину реки. Швартуясь у скромной городской пристани, он подходит довольно близко к нам, и кажется, что мы даже можем разглядеть лица людей, которые машут с палубы.
«Лев Толстой» — это название, написанное крупными желтыми буквами на массивном теле корабля. Корабль обещает нам приключения: в город хлынут иностранцы, такие типичные туристы в шортах и панамках, увешанные фотоаппаратами, с поясными сумками под распущенными животами. Можно будет сказать им: «Hello! My name is Masha. I live in Russia», — и увидеть широкую улыбку в тридцать два ровных белоснежных зуба. Иногда, оказавшись на пути эти неуклюжих, непуганых людей, можно было получить в подарок упаковку «Juicy Fruit» или леденцы, которые красили язык в яркий синий или зеленый цвет.
Именно на «Льве Толстом» иностранцы предпочитали путешествовать по прежде незнакомой, пугающей стране, путевки расходились так же хорошо, как и на поезд, следующий по Транссибирской магистрали. Volga River открывала им самобытные города, где среди заброшенных домов культуры, бело-желтых церквей и первозданных природных красот в полном масштабе разворачивался капитализм, в какой-то момент оказавшийся неизбежным.
Почти все в городе так или иначе зарабатывали на туристах, на русских в том числе. Но именно «Лев Толстой» с иностранцами всегда обещал хорошие деньги. Прекрасно продавались картинки с изображением местных достопримечательностей — такие незатейливые акварельные рисунки на бересте в скромном деревянном обрамлении, — а еще глиняные игрушки и павлопосадские платки.
Радушно встретив «Льва Толстого», мы с Варей покидаем берег, возвращаемся на нашу улицу и расходимся по домам, ведь обед у нас по расписанию. Когда с едой покончено, и я усаживаюсь за книгу из списка обязательной литературы на лето, раздается стук в дверь. Открываю.
— Муха, у твоей мамы есть лак, ну, для ногтей? Прозрачный? Дашь? — просит меня Толян, загорелый тринадцатилетний пацан. Толян очень много времени проводит на воздухе, я часто наблюдаю, как он пропалывает грядки на огороде у своей бабки или собирает ягоды в колючих зарослях малины. Увидев мою ухмылку, он спокойно говорит:
— Ну что лыбишься? Для дела надо. Слышала, «Лев Толстой» отшвартовался! — И объясняет бегло, иногда «окая»: — Малой налепил игрушек из глины с речки, говорит, теперь их надо запечь и лаком покрыть. Не пойму, на хера их в печь совать-то, а? Да и лака дома нет, так что любой сгодится…
Толян смотрит на меня в упор и почесывает руки, они, кажется, все в комариных укусах или в ожогах от крапивы. Мы не дружим, нет, совсем нет, просто соседи, ведь в этом возрасте два с половиной года разницы — это пропасть, которая делит детей на младших и старших.
— У нас нет, но у Варькиной мамы точно водится, — отвечаю я, мне очень хочется быть полезной.
Через пару минут мы оказываемся у Варькиного деревянного дома, отворяем калитку, поднимаемся на крыльцо и настойчиво стучим в дверь. Ответа нет, и я вхожу без спроса, попадаю в прохладную пыльную прихожую с цветастыми половиками на полу. Пахнет вкусно — уютной сыростью и недавно приготовленной едой. На шум из дальней комнаты все же выходит Варька, сонная, трет глаза, она всегда спит после обеда.
Уговаривать ее долго не приходится. Мы проникаем в родительскую спальню и сразу же видим, что на трюмо, — а у меня дома такое же большое, деревянное, неповоротливое, с отпечатками пальцев на зеркалах, которые маслянисто подсвечиваются мутным дневным светом, — стоят флакончики. Среди них едва начатый с прозрачным лаком «Ruby Rose». Хватаю его и возвращаюсь к Толяну.
— На, держи!
Он берет флакончик грубыми, сухими руками и сбегает шумно с крыльца, так что ступени трещат, «спасибо» не говорит.
— Только верни, — кричу ему я, но Толян не отвечает, спешит, и калитку даже за собой не закрыл.
— Сегодня пойдем на рынок, а? — спрашивает Варя за моей спиной.
— Конечно, — я оборачиваюсь и беру ее за руку.
Стихийный рынок расположился у пристани, в какой-то момент именно она стала центром нашего города, воронкой, которая затягивала всех и вся. От пристани по обе стороны улицы расходились самодельные торговые ряды. Продавцы сидели на ящиках и раскладных стульчиках, перед ними на столах, а иногда и прямо на асфальте, были разложены разнообразные товары: овощи, соления, свежесобранные ягоды, украшения, картины и сувениры. Над всеми этими богатствами возвышался «Лев Толстой», закрывая своим мощным корпусом и реку, и противоположный берег.
Нам с Варей нравилось приходить на рынок, рассматривать не только красивые вещи, но и диковинных людей, склонившихся над ними. Вот, например, объемистый американец в футболке, которая еле налезает ему на живот, ощупывает игрушки и уже почти готов сделать покупку — лезет за деньгами.
Мы с Варей ходим по рынку медленно, представляем себя туристами, гостями города, хотя нас уже давно знают в лицо все продавцы. У меня даже есть пара любимых уголков, где мы проводим больше всего времени — любуемся на платки и на самодельные украшения. Обычно их хозяйка спокойно нас терпит, но сегодня, видимо, она не в духе:
— Ну что смотрите? Покупать все равно ничего не будете! Не мешайте другим, — ворчит она, и мы смущенно уходим.
В какой-то момент среди всего этого разнообразия замечаем Толяна. Прошло уже часа два с того момента, как он стучал в мою дверь. Толян где-то раздобыл деревянный ящик, постелил сверху газету, но вот игрушек на этом импровизированном столе нет, вместо них ровно разложены почтовые открытки с изображением городов Золотого кольца.
— А как же игрушки? — тихо спрашиваю я.
— Да херь какая-то кривая вышла. — Толян не любит оправдываться, поэтому говорит озлобленно, как будто мы виноваты, что с игрушками не получилось.
В своей грубой прямой манере Толян рассказал нам, что отчаялся, когда глиняные поделки обгорели, и на свои последние деньги купил в почтовом отделении открытки. Обычно их продавали по пятьдесят копеек, но он хотел сбыть их туристам по рублю. Для этого Толян выучил иностранное, как он нам сказал, выражение: «Ван Рубль».
— Ван, — говорил Толян и поднимал указательный палец вверх, когда проходящие мимо иностранцы задерживали взгляд на открытках. Полный американец в короткой футболке, которого мы уже видели раньше, тоже заинтересовался ассортиментом:
— Уаан? — переспросил мужчина, повторяя жест Толяна.
— Да, — кивнул он.
Американец, недолго думая, схватил первые попавшиеся под руку открытки, переливающиеся, глянцевые, и запихнул их в синюю сумку, которая висела у него на поясе, не сильно задумываясь о том, помнутся они или нет, а оттуда вытащил несколько купюр бледно-зеленого цвета и положил их на ящик.
У Толяна округлились глаза, он недоверчиво протянул руку, а потом резко схватил деньги и засунул в карман — выразительно посмотрел на нас и приложил палец к губам: «Шшшш». Американец улыбнулся и отправился дальше, к бабушке, которая продавала свежую малину в кулечках из газет.
Я очень обрадовалась за Толяна, ведь он получил не какую-нибудь там мелочь, типа жвачки или конфет, а настоящие доллары, которые вживую я видела лишь издалека. Мы с Варей решили остаться — посмотреть, что будет дальше, и расположились на траве в нескольких метрах от Толяна.
— Эй, мудак, я тебе уже сто раз говорил, чтобы ты тут не появлялся, — раздался голос с хрипотцой.
Толяна вдруг окружила опасная компания, состоявшая из троих парней. Они явно были его ровесниками, удивительно на Толяна похожими — тоже смуглые, с выгоревшими волосами. Говорил главарь, самый высокий и крупный, он широко расставил ноги и скрестил руки на груди. Про себя я прозвала его Гризли, это такой американский медведь, изображение которого недавно видела в книжке. Неужели он хочет отобрать доллары?
— Отвалите, — прорычал Толян, сжимая кулаки.
Гризли ловко подцепил ногой деревянный ящик и опрокинул его. Открытки разлетелись по траве, попадали на асфальт, одна из них угодила под чей-то ботинок, который оставил серый отпечаток поверх сочной березовой рощи.
— Я тебе, ушлепку, уже объяснял, еще раз увижу… — продолжил Гризли. Он мог похвастаться таким же запасом ругательств, как и наш сосед дядя Коля, который на русском матерном разговаривал даже с детьми, позволяя себе лишь иногда литературные выражения, будто это они были отборной бранью. — Иди на хер отсюда! Ты здесь не будешь торговать…
Похоже, парни не заметили, что американец купил у Толяна открытки, поэтому речь в этом рваном диалоге шла лишь о зонах подросткового влияния. Гризли, у которого быстро закончились матерные аргументы, подошел еще ближе к Толяну и ударил его по лицу — раз, еще раз, из носа брызнула кровь. Толян отшатнулся, но все же замахнулся в ответ, удар пришелся по касательной и лишь задел ухо Гризли.
Прямо на глазах у туристов они сцепились и повалились на траву. Но драка длилась недолго: Гризли явно превосходил моего соседа по весу и мастерству, он впечатал Толяна кулаком в траву, и тот как будто сдался, перестал сопротивляться. Ему в лицо прилетел смачный плевок. Гризли встал, заметив, что к ним, чтобы разнять, бегут двое взрослых мужчин. Напоследок он пнул лежащего:
— Ты понял, ушлепок?
Компания также быстро растворилась, как и появилась, а бабушка, продающая рядом малину, стала причитать.
Драки не были чем-то новым и регулярно происходили на моих глазах, но внезапность поединка и его исход меня потрясли. Мы с Варей сидели, не шелохнувшись, еще несколько минут, пока взрослые помогали Толяну подняться. Он брезгливо вытирал с лица кровь и плевок, смешанный с его слезами, выступившими на глазах от злости и обиды. Спустя несколько мгновений Толян оттолкнул взрослых и сбежал. Видимо, всё, что ему хотелось — это скрыться от тех, кто стал свидетелями его унижения.
Мы с Варей стали медленно собирать разбросанные открытки. Я взяла ту, на которой вперемешку с симпатичными цветастыми домами были понатыканы березы, повозила глянцевой стороной по траве, чтобы смазать грязь — под моей рукой оказался хрустящий комок, смятые бледно-зеленые купюры, которые выпали из Толиного кармана.
— Баб Насть. А Толя выйдет? — я стою у входа в дом, где Толян живет со своей семьей. В руках у меня открытки, а в кармане доллары. Его бабушка встала в дверях, внутрь меня не пускает и смотрит с недоумением.
— Тоооооляяяя! К тебе пришли, — кричит она куда-то назад и добавляет: — Невестааа!
Я краснею. Под рукой баб Насти, которой она опирается о дверной косяк, проскочил, согнувшись, брат Толяна.
— Пусть проваливает! — доносится из дома.
— Завтра приходи, — говорит бабка и закрывает дверь.
Но я не собираюсь сдаваться. Когда ее шаги затихают, я обхожу дом с другой стороны. Я двигаюсь медленно и аккуратно, чтобы не помять клумбы с цветами, и оказываюсь под окном комнаты, где, как мне кажется, живет Толян. Я забираюсь на полено, которое лежит рядом, чтобы посмотреть, действительно ли он там, внутри. Да, валяется на кровати и смотрит в потолок. Окно приоткрыто, и я стучу по раме, а потом зову: «Толяяян».
Он подходит к окну, вид у него рассерженный, так что я стараюсь не пялиться на его побитое лицо.
— И чего тебе?
— Вот, это твое, — я протягиваю ему пачку открыток, а затем на подоконник вываливается и комок долларов, который мне даже не хватило духу расправить по дороге — ведь не мое, чужое. Домой к Толяну я пошла не сразу, ведь ужин у меня тоже по расписанию. Всё это время деньги, притягательные, грели мне карман. Я стараюсь удержать равновесие на полене.
— Спасибо, — говорит Толян неожиданно, я удивлена, впервые услышала от него слова благодарности. Он любовно расправляет купюры и вдруг протягивает мне два доллара: — Твоя доля. Мороженое купи себе там. Ну и Варькина, за лак ей отдай.
Я не знаю, что сказать, хватаю деньги, пока он не передумал, и в этот момент, покачнувшись, грохаюсь с полена и оказываюсь ровно на клумбе с цветами. Локоть саднит, на него я приземлилась не слишком удачно, но всё, что мне хочется — это смеяться, вдыхая аромат раздавленных цветов. Небо надо мной стало чуть темнее, контрастнее, совсем скоро закат. Толя выглядывает из окна:
— Муха, ты чего?
«Лев Толстой» всегда отплывал на закате, а мы никогда не упускали возможности его проводить. Выходили на берег, слушали музыку, которая доносилась с палубы. Теплоход покидал наш город, разрезая волны и тяжелое закатное солнце — оранжевые лучи обрамляли корабль и подсвечивали, будто это самая красивая и ценная вещь на земле. В этот момент мы немного завидовали пассажирам «Льва Толстого» — ведь они уезжают, а мы остаемся на берегу, испытывая легкую и приятную грусть.
— Как думаешь, мы когда-нибудь отправимся в путешествие? — спрашиваю я Варю. Мы ушли далеко за ручей, туда, где начинается лес, и, возможно, не успеем вернуться засветло.
Варя пожимает плечами. Она сидит на корточках, в руках небольшая лопатка, обычно мы используем ее, чтобы накопать червей для рыбалки, но сейчас она нам нужна для совсем другой цели. Мы вырыли небольшую яму, чтобы сложить туда все наши сокровища в жестяной коробке: две купюры по одному доллару и другие сбережения, в основном мелочь.
Прежде чем закопать клад, мы еще раз проверяем ориентиры — пять шагов в сторону воды от сухой, накренившейся березы. Втыкаем в землю гладкие прутья, украшаем все сверху блестящими камнями.
— Это будет наш секрет, запас на черный день. Обещаешь, никому не говорить? — спрашивает Варя.
— Конечно.
Однажды осенью, много лет спустя, я гуляла вдоль воды у речного вокзала в Москве. У причала стоял скромный теплоход. Я прочитала название и замерла: «Лев Толстой». Не знаю, был ли это тот же самый корабль, который произвел на меня такое впечатление в детстве, но выглядел он старым, бледным, неопрятным рядом со своими более современными собратьями.
Детские воспоминания — вообще странная штука. Почему теперь этот теплоход кажется мне таким маленьким? Сейчас, погружаясь в то время, я уже не могу отличить фантазии от правды. Я смутно припоминаю, как «Лев Толстой» приходил в наш город, кто был на его борту, и что продавалось на рынке у пристани. Отчетливо я помню лишь наш клад, закопанный у ветхой березы, хотя мы так и не нашли его потом, вернувшись к тайнику через несколько недель.
Лилия Кечина
Найду тебя
Порой идти трудно. Сомневаешься, прицениваешься — а что, если так или вот эдак. А иногда сила какая-то несет, будто не ты решаешь, а так надо, и все тут.
хорошая сладкая девочка
Меня ошпарило этим «зачем», только когда за спиной лязгнули ворота с короной из колючей проволоки. Я застываю на узкой дорожке, смотрю на это холодное, этажей в семь, серое здание, как крепость изрезанное решетками и едва видными провалами окон, и не могу идти. Между нами поле снега. Оно слепит ровной белизной и сверкает микроскопическими солнцами, и все вокруг кажется еще темнее и мрачнее. А в центре дракон — зеленая четырехногая вышка, — и я чувствую себя мишенью: знаю, там, в его пасти, сидит караульный с автоматом и, может быть, целится прямо в меня. От этой мысли ноги сами несут дальше, по узкой тропинке, истоптанной вынужденными паломниками с тяжелым грузом в руках и на душе.
Внутри такая будничная суета, что страх отступает. Кто по лавкам расселся, кто подоконник под стол приспособил. Я презираю их почти так же, как тех, кто их ждет. В каком-то смысле они подельники и виновны в желании облегчить жизнь людям, которым и жить-то непозволительно. Перебирают свои жалкие гостинцы, шуршат шепотками и одноразовыми пакетами, пересчитывают дешевые сигареты. Здесь одна я без подношений. Вроде как не просить пришла, а брать, что причитается, да залежалось.
ты же никому не расскажешь?
Пахнет талой грязью, все до высоты человеческого роста покрыто той же плотно-зеленой лоснящейся краской, которой хватает и на подъезды хрущевок, и на детские поликлиники, и еще бог знает на что. Лицом к стене униженно нагнулась необъятная женщина в красном берете, украшенном катышками и аляпистой брошью, и голос такой плаксивый, будто заупокойную читает. Встаю за ней. Надежно защищенная от посетителей решеткой и толсто намазанной косметикой женщина выдает мне формуляры. Обходимся без объяснений — ее больше заботит серый, будто из кошачьего пуха, платок, норовящий съехать с аляпистой блузки. Бумаги на первый взгляд ничем не отличаются от сотен, подписанных за всю жизнь — я такая-то, серия-номер, проживающая по адресу, место для подписи. И только на последнем листке, спрятавшемся в конце будто для усыпления бдительности, снова впадаю в оцепенение. Собственноручно расписаться в том, что в места строгого режима я отправляюсь добровольно и претензий ни к кому не имею, оказывается многим сложнее, чем пройтись под прицелом невидимого снайпера. Хотя, это и правда: никто даже не знает, где я сейчас, почему сорвалась за сотню километров, какие такие срочные дела у меня возникли в северной глуши.
ты пахнешь конфетами. Любишь конфеты?
Удары засова по колючему металлическому кружеву, отмеряющие длинный коридор, погруженный в вечный сумрак, отдаются гулким стуком где-то на уровне грудины. Череда секундных приступов отчаяния. Легкий паралич воли. Так вот каково за решеткой. От нервного срыва спасает память: я здесь по собственной воле, в любой момент могу развернуться, и мне отопрут все запертые двери.
откроешь рот — найду тебя
В ожидании время теряет свою скорость. Странно, как суетно и назойливо пахло людьми в приемной, а здесь, в комнате свиданий, я одна. Длинное помещение, разрезанное все той же решеткой надвое, с зеркально одинаковыми парами стульев и допотопными телефонами со спутанной спиралью провода и пустотой вместо кнопок с цифрами. На стенах полки из толстого голого дерева, изрезанного грубым орнаментом. На окнах замечаю шторы и самые обыкновенные цветы, те, что растут в горшках, и меня охватывает злость на весь этот деревенский уют, охраняемый конвоирами. Я думаю о том, что совершили все эти люди — убийцы, наркоманы, изверги, — они не имеют права даже на самую малую, даже на самую безвкусную красоту. Мне кажется несправедливым отнимать у них только свободу и оставлять хотя бы кусочек нормальной человеческой жизни. Даже если это бутафория.
Я сижу так долго, что забываю, зачем я здесь. А когда неожиданно на другой половине комнаты появляются люди, все моментально встает на свои места. Перед глазами — белая юбка с запахом и любимая изумрудная кофточка. Я так и не смогла их больше надеть. Я успеваю подумать о том, что глухой черный цвет надежнее любой ограды спасает меня все эти годы, и он садится передо мной.
хорошая девочка
Нас разделяет мутное исцарапанное стекло и вездесущая железная решетка. В первые секунды я сомневаюсь в том, что это он. Без липких мелких кудрей, таких белых, будто из них высосали весь цвет, я не могу его узнать. Все, что я помнила все эти годы, — затылок в форме омерзительного одуванчика. Даже смешно, я продолжала мысленно видеть кудри, а он уже давно облысел. У него пустые выцветшие глаза — они могли когда-то быть голубыми или зелеными. Но я не запомнила их, а сейчас они не выражают и не отражают ничего. Как старый акварельный набросок — такие же тусклые и сухие. Крупные жирные поры на коже проваливаются в глубокие ровные морщины, которые похожи на шрамы от порезов, вывернутые наизнанку. Небольшой покатый нос, вдавленные в череп скулы и незаметный, будто оставленный на этом лице для галочки, рот. И он весь такой маленький, съежившийся, что я думаю: он похож на крысеныша или обычного уголовника.
все узнают, какая ты плохая
Я не могу произнести ни слова и вдруг понимаю, как все это нелепо. Свидание людей, которые не знают друг друга. Свидание вслепую.
Он первым поднимает телефонную трубку и, дождавшись, пока я соображу сделать то же самое, заявляет, что ему нечего рассказывать, и спрашивает, из какого я издания. Он думает, что я журналистка. Он всерьез считает, что его жалкая история хоть кого-то интересует. Все любят превращать свою жизнь в мелодраму.
«Я одна из тех», — говорю я, но дальше слова застревают. Он начинает догадываться, и глаза заметно оживают.
делай как я говорю и все будет хорошо
Я же тогда не поняла, что именно произошло. В восемь, десять лет такие вещи не формулируются даже в вопросы, особенно когда не знаешь, кому их задать. Только благодаря боли, продолжавшейся несколько недель, я поняла, что случилось что-то неправильное. Кожей почувствовала. Но сказать все равно побоялась, потому что дошел, наконец, смысл его слов — «должна молчать», «расскажу всем, какая ты плохая». Это только годам к пятнадцати я разглядела всех этих девчушек на качелях, с бантиками и кружевами. Они высоко взмывали в небо и падали птицами к земле, а юбочки и щечки так вздувались от удовольствия, что я так же захотела. Чтобы легко и свободно, а не оглядываться, не щетиниться, когда в чужой кухне зажимают и щерятся, поглаживая мои волосы. Кокетничать и влюбляться по-глупому.
Я увидела его фото в газете спустя год. Помню, родители в редком перемирии растянулись на диване, угадывают наперегонки какие-то глупые слова в телевикторине, а я листаю газету и подглядываю за ними. Тогда мне нравилось рассматривать девушек на последней странице. Этакие городские красавицы ждут свой выигрышный билет, а отправить в газету лучшую свою фотокарточку — это как купить лотерейку. Самые смелые — в купальниках, почти черные от двуцветной печати губы, коса через плечо и размер бюста как подпись к фото. Мне лет десять — и подписываться еще нечем, а уже завидую им. В тот вечер я так и не добралась до этой страницы.
Он был без очков и с каким-то опухшим лицом, но эти слипшиеся белесые кудри я узнала сразу. Помню, как у меня заполыхали щеки от ужаса. Будто прямо сейчас все раскроется, все узнают, какая я грязная испорченная лгунья. А дома в кои-то веки перемирие, и никак нельзя, чтобы из-за меня все порушилось. Впиваюсь глазами в буквы, и сердце колотится. Неуловимый маньяк пойман, под расплывшейся фотографией — его имя. В ту ночь я долго не могла уснуть, а потом во сне все путалась в его склизких волосах.
Они преследовали меня всю жизнь, и поэтому сейчас, глядя на этого облысевшего человека, я чувствую себя обманутой. Впервые я говорю вслух про белую юбку, отлетевшую пуговицу, подъезд и почтовые ящики, а со словами во рту снова оживает кислый вкус его рук.
только посмей крикнуть
Он пытается вспомнить. С дотошностью коллекционера он выкладывает передо мной свою добычу — сиреневые банты в городском парке, дачный поселок и красное платье, общительную девочку с веснушками на детской площадке. С ней было проще всего. Она пошла за ним, взяв за руку. Одну за другой он перечисляет всех, по ком прошелся тайфуном. Но меня так и не находит. Это ранит больнее, чем мои собственные воспоминания. Те десять минут растянулись на годы: ровные ряды белых затянувшихся шрамов на бедрах и почти физическое отвращение к себе. А для него это был такой несущественный эпизод, что он его даже не запомнил.
Я почти плачу, он это чувствует и предлагает рассказать, какой я была. Это от близких, причинивших боль, всегда требуешь объяснений, раскаяния, прощения. А чужакам достается только болезненное любопытство — почему я. Поэтому все, что я могу, — простить себя. И я начинаю рассказывать телефонной трубке о своем детстве как о давно умершем родственнике. Где-то поверх этих слов я замечаю его плотоядный взгляд, будто мне снова восемь, но не могу остановиться. Когда свидание заканчивается и за ним приходит конвоир с металлическим лицом, он просит написать ему письмо.
В холодном номере притюремной гостиницы, единственном жилом здании на всю заснеженную округу, меня начинает тошнить. Вялые полинявшие занавески в полоску, на окнах обыкновенные цветы с мясистыми листьями и сохнущими прямо на стеблях мелкими цветами, и повсюду грубый орнамент с заусенцами на бесстыже-голом дереве желтушного цвета. Я думаю о горошине, у которой скоро прямо в моей утробе появятся маленькие ручки и сморщенные пяточки, и меня выворачивает в пропахшей ржавчиной ванной. Через открытую дверь под резной тумбочкой замечаю посеревшие листы бумаги и дешевую ручку с хвостом из пыли.
Я здесь по своей воле и могу закончить все в любой момент.
Елена Кривоносова
Лучшие друзья
Потом все говорили, что это было простеньким заданием. Раз, два — и готово. Я же, со своей вечной дотошностью и склонностью закапываться в мелочах, потратил гораздо больше времени. Однако я свято верил, что результат измеряется исключительно вложенными усилиями, потому был чертовски доволен собой.
Началось же все весьма безобидно. Ну, или почти.
— Кто мой лучший друг? — грозно прозвучало из уст Нины Сергеевны. Вопрошание повисло в классе, сгустив атмосферу до предгрозовой.
Классная руководительница умудрялась наращивать свой авторитет ровно в том темпе, в каком росли мы, переходя из класса в класс. Поэтому преимущество было всегда на ее стороне. Даже когда нам казалось, что уж в этом году мы точно не попадемся на ее уловки и не дадим на себя давить, Нина Сергеевна оказывалась на шаг впереди: находила новую интонацию, по-новому, еще неотвратимей, нависала над провинившимся — и вуаля — тебе словно снова шесть лет.
Объяснение домашнего задания было кульминацией всего сорокапятиминутного действа. Монолог Нины Сергеевны распространял ее власть над нами и на то время, когда мы покинем кабинет и разбредемся по домам. Казалось, после звонка она незримо пойдет за каждым из нас, дабы проконтролировать выполнение заданного.
— Вот такая сегодня тема домашнего сочинения, — подвела итог вышесказанному Нина Сергеевна. — Вопросы?
Все отрицательно замотали головами.
— Значит, всем понятно, кто мой лучший друг? — грозно переспросила она, как любили делать многие учителя с большим стажем. Повторять по несколько раз одно и тоже.
— Я не знаю, кто ваш лучший друг, — пискнул с задней парты Коля Быстрыкин. Как вы уже поняли, он все воспринимал слишком буквально. Да, и до сих пор так делает. Тяжеловато ему, конечно, пришлось. Ну, знаете, совсем такой, без чувства юмора.
— Да не мой, а ваш, — снисходительно ответила Нина Сергеевна, зная Колю лучше, чем он сам себя.
— А если у меня нет лучшего друга? — спросил Митя Фомин, тихоня с первой парты.
— Не говори глупостей, Митенька, — отмахнулась она. — У каждого есть лучший друг.
Тут прозвучал звонок, и, получив разрешительный кивок Нины Сергеевны, все посрывались с мест.
Сочинения не относились к моим сильным сторонам. Я не то чтобы многословен. Никогда не любил много болтать, да и не умею. Но здесь хоть было, о чем рассказать.
Мы с Толькой носились по дворам вместе с тех самых пор, как начали ходить. Сколько же от нас натерпелись по округе — разбитые окна, разрушенные мячами клумбы, пыль столбом и хохот с самого утра. Только и разговоров было о том, куда мы сегодня потащим за собой всех окрестных парней.
Вернувшись домой, я сразу засел за тетрадку, чтобы покончить с этим побыстрее, но что-то не заладилось. Я смотрел на пустой лист, ерзал на стуле, ходил по комнате. Это было так странно: писать специально о том, что и так понятно. Мне просто хотелось показать всем картинку, что была в моей голове, и тогда сразу станет понятно, каков он, мой лучший друг.
Все же надо было уместить изображение в словах. Я постучал ручкой по краю стола, поперекладывал предметы, а потом пошел к отцу.
Он читал газету перед телевизором, периодически комментируя что-то вслух. Правда, для кого он это делал, было непонятно, потому что мама возилась на кухне и совершенно точно его не слышала.
— Паааап, а пап, — протянул я. — Кто такой лучший друг?
Он ответил что-то неразборчивое, поэтому я повторил вопрос.
Папа оторвался от газеты, внимательно посмотрел на меня и сказал:
— Спорт — твой лучший друг! Вот кто, — а потом крикнул в кухню: — Маш, мы так и не записали Костю в бассейн. Скоро лето, а он до сих пор плавать не умеет. Вот позор будет, если на море сумеем поехать.
— Так пойди и запиши, — крикнула в ответ мама, не заходя в комнату, — спаси семью от позора.
Папа поерзал в кресле и вновь углубился в чтение газеты. Я хотел было пойти к маме, но близилось время ужина, а значит, ей было точно не до меня.
Тогда я вернулся в комнату, сел вновь за тетрадку и написал все, как есть. Как мы играем во дворе, как пошли вместе в школу и как делили тайны. Описал самые важные победы, умолчал о поражениях и дал подробное описание припрятанным сокровищам. Получилось вроде неплохо. Довольный, я отложил сочинение и отправился на ужин.
На следующее утро мы все гудели в ожидании начала урока. Я нервничал, потому что предстояло зачитывать свою писанину перед классом, а я этого очень не любил. Почему-то слова, произнесенные вслух, звучат совсем не так, как написанные.
Нина Сергеевна вызвала первым Тольку, и я выдохнул. Послушаю сначала, что он написал. Было очень любопытно. Наверняка, у него получилось не так здорово, как у меня. Хотя, может, будет много чего похожего.
Толя вышел к доске, раскрыл тетрадь и начал неспешно читать.
Его рассказ был не обо мне.
Дарья Лебедева
Я была права
Недавно я переезжала на новую квартиру. Когда я паковала вещи и документы, мне на глаза попалась мятая фотография, на которой засняты выпускницы педагогического колледжа. Сейчас девочки на фото кажутся смешными — щедро залаченные кудри, люрексовые колготки под босоножки, губы, покрытые толстым слоем перламутрового блеска, и платья-«бандаж» в облипку. Но я не смеюсь, потому что мои глаза выхватывают круглое лицо Насти, которая стоит в центре. Есть на этой фотографии и я — девочка во втором ряду с неровным каре и в старомодной юбке.
Фотография наделяет меня возможностью обращать время вспять, и, вуаля, я снова в две тысячи пятом. У нее мелированные волосы, длинные ногти со стразами, наклеенными в упоительный момент эстетического восторга. Полоска ее мясистого живота плутовато подмигивает мне из широкого зазора между кофтой и джинсами с низкой посадкой.
Она была полноватой, нет, даже толстой, но своего веса не стеснялась — наоборот, всячески подчеркивала лишние килограммы экстремально короткими трикотажными кофточками и тугими джинсами, из которых выглядывала резинка красных стрингов.
И имя у нее было подходящее — Настя Кашёлкина.
— Кашёлка я, что непонятного? — громко выкашливала она низким голосом, слишком прокуренным для девочки четырнадцати лет. — Кашёлкаа!
Уже тогда учителя опасались давать своим подопечным прозвища, чтобы не вызвать скандала, но нет-нет, да и вырывалось у них оценочное суждение, которое было окрашено в десятки разных оттенков.
— Настя у нас боевая, — говорила учительница.
На ее языке это значило, что Настя — вульгарная хамка в самом буйстве своего полового созревания.
Я же проходила у учителей под кодовым названием «хорошая девочка». Это означало, что я всегда делаю домашнее задание, готова помочь всем учителям и выгляжу, как синий чулок. Вообще-то я и есть синий чулок.
Как же меня выворачивало от этой «хорошей девочки»! До сих пор во мне живет остаточная ненависть к слову «хороший». Хороший — значит посредственный, хороший — значит конформный, хороший — это никакой. Уже тогда я твердо усвоила, что, если собираюсь жить среди людей, а не учителей в «хороших» костюмах, то стоит разнести вдребезги свою «хорошесть». Люди тянутся к отрицательному обаянию.
К Насте тянулись. У нее была свора прихлебательниц, которые оттачивали свои колкости на мне и еще парочке подобных «хороших девочек». Но даже я не могла не признавать, что, при всей своей нарочитой вульгарности, Настя обладает каким-то неведомым мне бытовым умом и частенько бывает права. Я же, в том, что касалось житейских и организаторских вопросов, никогда не оказывалась права, и это жгло меня изнутри. Как такое возможно — я, столичная фифа, из семьи предпринимателей, неправа, а какая-то девица сомнительного происхождения получает лавры правоты с завидным постоянством?
Меня Настя Кашёлкина люто не любила. За надменное выражение лица, за непозволительную худобу, за то, что я считала себя лучше других лишь потому, что родилась и выросла в Москве, а еще за то, что я как-то сказала, что в столовой мои волосы пропахнут перепревшей капустой, поэтому дежурить я там не буду.
Настя тогда в своей громкой манере объяснила мне, кто я такая, откуда пришла и что у меня глисты и аконерсия.
— Анорексия, Насть. Ты, если оскорбить хочешь, хотя бы слова правильно произноси, — вяло парировала я, наблюдая, как лицо Насти наливается краснотой.
А потом она выплюнула:
— Думаешь, ты тут самая умная?
— Вообще, именно так я и думаю, — ответила я.
— Если ты такая вся из себя, что мужика-то себе еще не нашла? — предъявила Настя главный аргумент.
В каждом коллективе есть своя «настя». Обычно это «счастливая» семейная тетка, которая вслух жалеет всех незамужних и бездетных. А тогда это была шестнадцатилетняя Настя, во всеуслышание и со знанием дела рассуждавшая о множестве различных способов заниматься сексом.
Наша Настя на первом курсе колледжа, когда нам всем было от четырнадцати до пятнадцати лет и большинство из нас были невинными дурочками, рассказывала, какими способами надо делать минет. Я, помню, тогда наклонилась к одной из сокурсниц и спросила, что означает это слово на «м». Наша Настя каждую перемену громко и с нарочитым удовольствием перечисляла такие подробности своих увеселений, что мы в ужасе оглядывались по сторонам — не дай бог, кто-нибудь подумает, что мы, «хорошие девочки», принимаем участие в этом разговоре!
Иногда учительница заходила в кабинет в неподходящий момент и заставала Настю за описанием какого-нибудь особо пикантного момента.
— Настя, Настя! Ну что ты такое говоришь? — блеяла учительница.
— А че такова? — хмыкала Настя, и рассказ в лицах продолжался.
Наша Настя без стеснения рассказывала про свою молодую алкоголичку-мать — что она водит к себе мужчин, которые оплачивают ее кредиты. А Настя когда ждет на кухне, а когда и спит в одной комнате с ними.
Только потом до меня дойдет, что все эти отношения ломали и корежили жизнь Насти. Но в тот день я ни о чем таком не задумывалась. Я просто старалась побольнее уколоть ее, так доставшую меня своими вопросами.
Внезапно в моем сознании шевельнулась скользкая змейка. Ты у двери, за которой правда, внушала змейка, надо только открыть, смелей!
— Насть, да тебе же шестнадцать лет. Откуда столько опыта? Мама научила? — вкрадчиво спросила я.
Настя на миг побледнела. Я почувствовала, что нашла нужную струну, и стала дергать, дергать ее со все силы.
— Насть, слушай, ты же в однушке живешь! Ты за мамашкой подсматривала? Ай-яй-яй!
Пока я изображала укоризну противным голоском, меня осветила, как освещает ночную дорогу дальний свет фар, потрясающая в своей правоте мысль, и я тут же ее озвучила.
— Подожди! Ты же говорила, что спала с ними в одной комнате! Может, тебя научил всем твоим премудростям кто-то из мамкиных хахалей?
Я засмеялась и запрокинула голову, и только по неловкой всхлипывающей тишине поняла, что что-то не так. Настя стояла у доски, и по ее щекам, по толстому слою тонального крема, текли два черных мэйбеллиновских («Вы этого достойны!») ручейка.
— Думаешь, это смешно? — голосом, который был совершенно не похож на ее такой знакомый, визгливый треп, тихо произнесла Настя и выбежала из класса.
— Дошутилась, — сказала одна из девочек.
И вот тут-то, сидя на жестком стуле в кабинете психологии, я поняла, что вошла в дверь правды. Я, так страстно желавшая обратить на себя внимание, хоть когда-то оказаться правой, теперь была права безусловно. Но лучше бы я ошибалась.
Мне сделалось гадко, как никогда прежде. Девочки смотрели на меня с презрением и жалостью.
Прошло уже много лет, и за все эти годы в моей жизни было много таких насть, но никогда больше я не шутила над своими обидчицами. А вдруг я окажусь права? Вдруг под бравадой скрывается болезненная кровоточащая рана?
Когда меня одолевает соблазн обличить человека или указать на его недостатки, даже пусть в пределах самообороны, моя память воскрешает разговор, после которого Настя Кашёлкина не приходила на занятия неделю. Одна из ее «прихлебательниц» сообщила мне, что Настины синяки вовсе не следствие неумелых занятий физкультурой. И в одночасье оказалось, что все всё знали, только я, в своем эгоистичном высокомерии, не была способна увидеть, что скрывается за Настиной бравадой и пошляцкими рассказами.
Теперь я уже не «хорошая девочка». На работе за глаза меня называют Тварья Падловна.
Я не знаю, где теперь Настя. Может, она стала счастливой женой и матерью, а, может, закончила свою разбитную жизнь в грязной постели какого-нибудь торчка.
Но, глядя на фотографию с нашего выпускного, я больше не могу смеяться над нелепыми, дешевенько нарядными девочками. Я понимаю, что они — простые русские девочки с окраин провинциальных городов — не в пример добрее и лучше меня.
Анна Линская
Первое убийство
Володе исполнилось четырнадцать, когда отец повел его на первое убийство. В холодильнике после дня рождения еще оставалась банка сгущенки. За ней Володя и потянулся, когда отец зашел на кухню.
Кухня была самым просторным местом в доме. Володя любил развешанную на темных бревенчатых стенах медную, погнутую утварь, оставшуюся от умершей бабушки, которой он никогда и не видел. Ему представлялось, что кастрюли и ковши охраняют их от чудищ, как подковы, что дарят на счастье. Бабушка любила голубой цвет. В голубой было выкрашено всё: кухонный стол, печь и даже дверные ручки. Краска надувалась пузырями, трескалась и осыпалась маленькими чешуйками на пол.
Они жили в поселке Вангаш уже больше пяти лет. Небольшой, но крепкий дом стоял на самом краю деревни: до ближайших соседей идти с версту, а до единственной школы-семилетки и того больше.
— Жопа не слипнется? — спросил отец и хохотнул.
Когда его лицо, все в рытвинах и бурых пятнах, расплывалось в улыбке, казалось, будто трещина проходит по древней горе. И рот открывался темный, с темными же зубами, как дыра.
— Завтра на дело пойдем, — сообщил он серьезно. — Встаем в пять, Сане уже сказал.
Володя опустил взгляд. Все-таки пойдем, подумал он. Завтра. Отец постоял еще немного и вышел с кухни. Заскрипела лестница. Он залез на печь. Что-то зашуршало под полом, ветер бросился на окно и царапнул стекло заледеневшим снегом.
Саше было семнадцать. У него получалось всё: забрасывать удочку сильно, ловко и далеко. Разжигать костер прямо в снегу. Отыскивать кровавые дорожки в снежных бороздах, оставленные подстреленными зайцами. Вот уж кто точно был отцовским любимчиком. Зато тебя мама больше любила, говорил брат, будто оправдываясь.
Но к чему эта любовь, если Володе только и остались, что воспоминания о больших теплых щеках, которые ему нравилось брать в свои ладони. Мама умерла, когда Володе было шесть — выцвела за несколько месяцев в Красноярской больнице. На похоронах ее руки и лицо чем-то намазали, но Володя знал, какая мама на самом деле серая за этими слоями, совсем без цвета.
Не прошло и трех месяцев после ее смерти, как отец организовал их переезд в свой родной поселок. Десять часов пути от Красноярска. Его больше ничего не держало.
Мама любила большие города и презирала деревни, вроде той, в которой родилась и прожила шестнадцать невеселых лет. Она училась в Красноярском педагогическом и мечтала о Москве, когда познакомилась с Володиным отцом — молодым парнем из аграрного техникума на Толстого. Он жил у двоюродного дяди и ненавидел душные маленькие квартиры в панельных коробках. А еще заборно ругался, носил усы и добивался мамы молчаливой покорностью несколько лет подряд. Москву пришлось отодвинуть с рождением первого, Сашеньки, а потом и совсем забыть о столице с появлением Володи.
Володя наощупь добрался до лестницы на чердак, где была их с братом комната. Наверху он скинул на сундук одежду и залез под тяжелое старое одеяло.
— Отец тебе сказал? — донеслось из темноты.
— Угу, — тихо сказал Володя.
— Ты готов?
Володя молчал.
— Он тебя убьет, если струсишь, — снова подал голос Саша.
Володя только заерзал. Он уже решил, что брат заснул, когда услышал его голос прямо над своим ухом.
— Это нужно, Вовка, — быстро зашептал Саша. — Потом еще четыре года, и вали отсюда, хоть в Красноярск, хоть в Москву, — он говорил быстро, обдавая Володю теплым воздухом изо рта.
— Да, — коротко сказал Володя.
— Совсем немного подожди, — брат еще постоял над его кроватью и метнулся к себе, шлепнув Володю ладонью по плечу.
— Спокойной ночи, — сказал Володя, но Саша ему уже не ответил.
Отец разбудил их рано. Володя увидел, щуря глаза от света висящей под потолком лампочки, что он уже натянул свои охотничьи штаны и темную майку, которая сильно обтягивала его выпяченный живот.
Володя начал собираться. На теплые кальсоны он надел штаны и самосбросы, поверх тельняшки — шерстяной свитер. Сидеть в снегу, быть может, придется долго.
Внизу отец выдал каждому термос и по два толстых ломтя хлеба с наваленной сверху тушенкой. Первое с собой, второе сейчас, сказал он и положил руку Володе на плечо. Столько внимания не доставалось ему со смерти матери. Он невольно улыбнулся. В сенях отец снял со стены ружья.
На улице сразу защипало в носу. Отец сходил за собаками и привел обеих. Володя наклонился, чтобы похлопать длинноухих Машку и Юлу по холкам. Конура стояла на заднем дворе рядом с сараем. Володя в который раз подумал о том, как псинам должно быть холодно зимой.
Северной стороной дом упирался в лес. Отец сделал второй вход с незаметной калиткой, чтобы вставать сразу на тропу. Он пошел первым, следом Саша и Володя. Собаки трусили по сторонам. Ухнула сова, и к ней тут же присоединились протяжным хрипом вороны. Володя поднял голову. Сквозь деревья темнело небо.
Брат остановился так резко, что Володя на него натолкнулся. Он пошатнулся, раскинув руки, но сохранил равновесие. Отец сидел впереди на корточках, в свете его фонаря на снегу виднелись следы — по два полумесяца на одну лапу.
— Ну, кто? — спросил отец.
— Кабаны, — послушно ответил Володя.
Единственное, в чем он выигрывал у Саши, — следы. За годы в деревне он научился с легкостью читать зимний снег и осеннюю грязь, отличал русаков по длинным лапам, соболей по отсутствию подушечек, маленьких и смелых горностаев по рваной траектории прыжков. Он долго пытался научить и Сашу считать расстояние между следами, обращать внимание на то, удаляются ли они от водоема или нет, — все напрасно. Брат только хохотал и говорил, белка, ну на этот раз точно белка, Вовка.
— Кабаны пробежали, — подтвердил отец. — Но мы-то сегодня не за ними.
— За кем? — спросил Володя.
— Это тебе подарок от бати, — сказал отец, — сюрприз.
Они шли еще с полчаса, дальше углубляясь в лес. Шли молча, пока отец не остановился. Володя осмотрелся, и догадка мелькнула в его голове одновременно с тем, как отец обернулся и произнес: «Медведь». Он показал на сугроб впереди. Володя пригляделся. На деревьях ободрана кора. Видно, зверь постарался, выкладывая ею днище своей берлоги вместе с листьями и мхом. Массивное корневище. Вход и чело для поступления воздуха.
Отец приступил к расстановке, сам встал у чела, Саше сказал взять собак, а Володе идти ко входу.
Володя шел медленно, чувствуя, как внутри все холодеет. На позиции он дрожащей рукой махнул отцу. Тот вскинул ружье. Володя последовал его примеру. Он не видел, как отец подал знак брату, чтобы тот спускал собак. На глаза от холодного воздуха накатывали слезы, в горле что-то начало шириться и расти. Он будто погрузился под воду и сквозь эту толщу слышал, как заголосили собаки и начался облай. Машка и Юла были хорошими псинами, бесстрашными, они с двух сторон подступали к дыре, через которую в медвежью берлогу проникал воздух. Лай разносился по лесу и улетал наверх. С деревьев с криками поднялись вороны.
Володя почувствовал, как начинает покалывать спину и руки. Лай становился громче, и он стиснул ружье. Медведь может вылезти через минуту, а может ворочаться внизу и несколько часов. У него нет души, сказал себе Володя. Нет души. Это огромный кровожадный зверь. Он убьет меня, если я не убью его. Убьет меня.
Володя сглотнул и посмотрел в сторону Саши: тот стоял уверенно, уперев приклад в плечо. Прошло пять минут, а может, и все двадцать — Володя потерял счет. Ему казалось, что он сросся с ружьем, что это продолжение его руки, что прицел есть не что иное, как его глаз. В голове слабо ворочались мысли. Но ведь тогда я рожден убийцей, если ружье — часть моего тела. Значит, и выбора никакого нет. Собаки надрывались, бегая вокруг чела, они выглядели взбудораженными и радостными.
Внезапно все зашевелилось. Снег вокруг берлоги разлетелся в стороны, и из-под земли вырвалось, заревев, массивное бурое животное. Собаки зашлись в экстазе, переходя с лая на визг и прыгая вокруг медведя.
— Стреляй, Вовка! — закричал Саша. — Стреляй!
Пальцы Володи будто окаменели. Прошла вечность, пока он сделал короткий вдох и задержал дыхание. Животное без души посмотрело прямо на него. Что-то живое и умное блеснуло в его глазах.
Раздался выстрел, и Володя вздрогнул. Затем еще один и еще. Стрелял Саша. Медведь тяжелыми прыжками бросился прочь. За ним понеслись собаки.
Уйдет! Стреляй в него! Стреляй! Володя уже не различал голоса отца и Саши, все смешалось с ревом медведя, треском веток и лаем собак. Животное упало. Отец забежал с другой стороны. Медведь шевелился, из последних сил пытаясь уползти в чащу. Собаки осмелели и вцеплялись по очереди зубами в его бока. Отец подошел ближе и выстрелил медведю в голову. Володя отвернулся.
Все затихло. Все затихло и внутри Володи. Затихло и сжалось. Сзади к нему подошел Саша и слегка подтолкнул в спину.
— Ты стрелял?
Володя покачал головой.
— Ладно, — Саша обнял его за плечи. — Может, он не заметил. Пойдем, Вовка.
Володя машинально поплелся за Сашей к медведю, возле которого стоял отец.
— Ну, пацаны, — сказал отец, тяжело дыша и покачивая головой. — Ну… — И, не найдя слов, только победно потряс в воздухе кулаком.
Володя старался не смотреть вниз, туда, где снег вокруг большой туши зверя пропитывался темным и красным.
— Ну, теперь за дело, — отец снял рюкзак, порылся в нем и протянул Володе небольшую лучковую пилу. — Теперь это твоя работа.
Когда они повернули домой, солнце уже встало. Володя шел вторым и нес за спиной мешок.
— Лапы и желчь медведя — это золотая жила, — сказал отец. — За пузырь дадут тыщ семьдесят. Сын! Сын!
Он рассмеялся, и смех этот зазвучал в верхушках сосен слишком звонко и легко для его старого тела и оплывшего лица. Володя, не моргая, широко раскрытыми глазами смотрел прямо перед собой.
С неба на мешок падал снег.
Александр Михайлов
Словами никогда
Он внимательно осмотрел себя в зеркале и усмехнулся, вспомнив, сколько раз уже проделывал это за сегодняшнее утро. Затем, смыв с рук остатки воска, вытер их о полотенце и провел ладонью по гладко выбритому лицу.
Молодой человек вышел из ванной и прошел в соседнюю комнату. У стены на заправленной кровати лежало несколько отглаженных рубашек и пара джинсов. Над кроватью висела старая афиша фильма «Жить своей жизнью» с винным пятном на плече героини и припиской карандашом в углу: «Я знаю, что должна поговорить с тобой, но сейчас у меня на это просто нет сил». Молодой человек поправил ногой постоянно выпадавшую из паркета дощечку, выбрал белую рубашку. Когда зазвонил телефон, он включил громкую связь и продолжил, сидя на кровати, натягивать носки.
Послышался женский голос:
— Алло, привет, ну как ты? Как все прошло?
Молодой человек понюхал носок и согнулся к коленям.
— Привет, Ань. Еще никак, я только собираюсь выходить.
— Ты же говорил, вы с утра встречаетесь.
— Ну да, в двенадцать.
— Это не утро.
— А сейчас и не двенадцать.
— Послушай меня, вчера на репетицию приходил Дорохов, и он спрашивал о тебе. Сказал, что будет ставить Пинтера, правда, не поняла, где. Ты бы видел, как он растолстел. В общем, спрашивал, что ты собираешься делать.
— И что ты сказала? — спросил молодой человек. Он встал с кровати и подошел к окну.
— Сказала, что ты сам не знаешь, но в театр не вернешься, вообще ни в какой. Но может, ты с ним поговоришь, а? Алло? Илья, слышишь? Алло-о?
— Ага.
— Позвони ему. Вдруг он поможет.
— Мне не требуется помощь.
— Да что с тобой не так? В любом случае, это лучше, чем ничего. И, честно говоря, я не думаю, что правильно со всем рвать.
— Я тебе говорил.
— Это все абстракция, уж прости. Я не понимаю тебя. При чем здесь стерильная жизнь? И какой ты хочешь иметь опыт? Мы все, значит, играем лишь свое куцее представление, кажется, так ты формулировал?.. Не имеющее отношения к действительности. А ты один…
— Аня, подожди секунду.
Илья взял со стола телефон и отсоединил шнур зарядки. Потом, держа его как блюдце, вышел на балкон и закурил.
— Да, Ань? — сказал он, выпуская дым.
— Илюш, я тебя, конечно, люблю, но, по-моему, ты слишком много мечтаешь о себе.
— Спасибо — это замечательная новость.
— Ладно, ты уже определился с Таиландом? Не забудь, к четырем я пригласила Лену с Андреем. Они наверняка спросят насчет отпуска. И пожалуйста, не называй ее загадочной морской свинкой.
Молодой человек улыбнулся и помолчал, всматриваясь в улицу.
— Алло?
— Слушай, Ань… Честно говоря, у меня вообще нет желания куда-либо ехать. Вообще. Понимаешь? Ни в Таиланд, ни в Балашиху. Может, как-то… — Он глубоко затянулся. — Вы ведь с Ирой собирались вдвоем отдохнуть.
— Нет, ты обещал, что мы вместе поедем. Это будет здорово: они и мы. Я хочу с тобой. А насчет денег не парься, я же сказала, что у меня есть. Мне еще папа подарил. Ты как думаешь, долго ваша встреча будет?
— Не знаю. Он остановился у своего брата. Я поеду к ним.
Илья выкинул сигарету в ветки дерева и вернулся в комнату.
— Волнуешься? — спросил телефон.
— Немного странно, — сказал молодой человек и сел на кровать. — Словно в какой-то пьесе оказался. И не в самой оригинальной. Знаешь, я столько раз представлял, как это будет.
— Уверена, ты себе там напридумывал. Но девять лет, конечно, огромный срок. Я очень рада, что вы наконец.…
— Слушай, Ань, мне надо уже выезжать.
— Илюш, позвони Дорохову.
— После я тебе наберу, как все пройдет. Давай, целую.
Молодой человек взглянул на экран телефона и выскочил в коридор.
Обувшись, он выпрямился, проверил карманы и прошел, стараясь наступать на краешки пяток, на балкон. Схватил с подоконника сигареты и так же проковылял обратно. В очередной раз встал перед зеркалом. Замер.
— В порядке, — объявил он двойнику и вышел из квартиры.
Всю дорогу, в маршрутке, он сидел очень прямо, не опираясь на спинку сидения. Сойдя на три остановки раньше, он закурил и пошел пешком. Во всем городе сиял июнь. Солнце било прямо в лицо, но было приятно идти под его горячим ослепительным светом. От набегающего ветерка негромко шумели деревья, и сквозь их зеленые волны пробивался чистый прозрачный день.
Проходя мимо бульвара, он сунул руку в карман джинсов и вынул металлическую зажигалку. Несколько раз открыл и закрыл крышку. Во многих местах краска стерлась, а там, где когда-то были стеклянные камушки, остались лишь пустые гнезда. Он пощелкал неработающей зажигалкой и, переминая ее в руке, свернул в прохладу дворов.
Увидев знакомое окно, Илья на ходу расправил плечи, одернул на себе рубашку. Белые занавески были плотно сомкнуты и не шелохнулись.
Потом на звонок долго не отвечали, но, наконец, хрустнуло, и домофон запищал, констатируя чью-то клиническую смерть.
В темноте подъезда пахло жареной печенкой и луком. Илья услышал щелчок замка, прорезалась полоса света, и в ней показалась белая девичья голова.
— О, Илюха, привет, заходи.
— Привет, Оля, как ты?
— Спасибо. — девочка закрыла за ним дверь. — Сижу, придумываю сторис в инстаграм. А у тебя как дела? Бли-и-н, я такая коротышка рядом с тобой, — и она на секунду привстала на цыпочки.
— Да все по-старому, — сказал Илья, рассматривая девочку. — Нормально. И давно ты стала блондинкой?
— О-о, да еще с прошлого года. Просто ты совсем нас забыл — никогда не зайдешь. Вон тапочки.
Она указала ножкой в сторону, а на ее платьице распускались желтые цветы.
— Когда ты уже пригласишь к себе на спектакль? А то я всем рассказываю, что мой брат играет в театре, а сама его ни разу не видела.
— Да, без проблем. Выбери день, я сделаю вам с Таней пригласительные.
— А ты там будешь? — Она заправила за ухо прядь волос и осторожно коснулась глаза указательным пальцем. — Я хочу, где ты.
— Это в другой раз, — сказал Илья и улыбнулся ей. — Тебе, кстати, идет. Есть в этом шарм. Как будто очень насыщенно проводишь ночи.
— Ну да, пошути еще. Меня это так достало. Уже второй раз за несколько месяцев. И все на том же веке, — девочка слегка опустила голову и как бы между прочим, повернулась к нему в пол-оборота.
— Тут главное капать капли, и чаще смотри на луну. И не обижай сестру, тогда все быстро пройдет. И не надо стесняться, уверен, твои подписчики оценят.
— У меня их, между прочим, уже пятьсот семь.
— О, счастливцы.
Девочка скрестила ножки и все смотрела на него, она явно хотела поболтать еще.
— Они на кухне, — сообщила она нехотя, — Зайди потом ко мне — сделаем сторис вместе.
Она повернулась и скользнула в дверь своей комнаты. На какой-то момент Илья увидел туалетный столик, заваленный тюбиками, баночками, кисточками, помадами, румянами, смятыми салфетками и еще, наверное, тысячей разных вещей, затем дверь быстро закрылась.
Илья прислушался — где-то жужжал электрический вентилятор — шагнул к висевшему на стене зеркалу, провел ладонью по волосам и прошел в кухню.
Белые занавески на окне были плотно сомкнуты. За покрытым клеенкой столом сидели двое мужчин.
— Ну, привет, — сказал один.
— Привет, — ответил Илья и остановился в проходе.
Тогда тот, что поздоровался, встал, — он был долговязый, в одних спортивных штанах, — и обнял Илью.
— Фу, бл…, — сказал мужчина и отшагнул назад, — надушился как баба.
Перед Ильей стоял худой старый человек с почти животным лицом и выцветшими глазами.
— Ну как ты, сына? — спросил человек.
— Отлично, — ответил Илья.
— Бл…, как ты вырос, — сказал мужчина и сделал еще шаг назад, разглядывая молодого человека. — Я так рад, что ты пришел.
— И я, — произнес Илья чуть позже, чем следовало.
Несколько секунд они молча стояли друг перед другом.
— Эй, я ведь тоже здесь, — напомнил сидевший за столом. У него был высокий сиплый голос. — Я сказал, я тоже здесь. Я здесь сижу, — повторил он.
— Как дела? — спросил Илья, протягивая ему руку.
— М-м… Неплохо, — ответил сидевший. Он был болезненно толст, и на его плечах висел китель машиниста метро.
— А мы тут с дядей твоим Димой, — подхватил первый, возвращаясь за стол, — вот отметили немножечко мой приезд. Ну, сам понимаешь, — мужчина несколько раз пригладил усы и откинулся на спинку стула, но снова поднялся. — Ты это, садись. Проходи.
Илья сел на предложенный ему табурет, не сводя с животного лица глаз.
— Да-а-а, — протянул мужчина. — Какой ты стал. Ты не представляешь, сына, как я рад тебя видеть. Ну, рассказывай.
— Что? — спросил Илья.
— Все, — сказал мужчина возбужденно. — Я все хочу знать. Вот с самого…
— Ты когда приехал? — перебил Илья.
— Когда, нах, вчера, да, Дим? Вчера же?
Толстяк кивнул.
— Да. На Казанский, потом на электричку и сюда. Чуть не сдох в этой жаре. Оленька меня встретила — у Димы смена была.
— Значит, поездом.
— Ага, шесть суток в плацкарте, — он запнулся. — Вот. Ну давай, рассказывай ты. Я хочу, чтоб ты рассказал.
Илья пожал плечами.
— Не знаю, что, — произнес он. — Спрашивай.
— И я не знаю, — сказал мужчина. — Черт. Сюда ехал, столько всего хотел спросить, а сейчас вот…. Забыл.
Мужчина замолчал и уставился на Илью, моргая чаще и чаще.
— Сейчас, подожди, — заговорил он. — Мы с Димой выпьем. Дим, слышь?
Толстяк, равнодушно смотревший сквозь занавеску в улицу, наклонился к окну и взял с подоконника пластиковую бутылку.
— Это вот Дима делает, но жестковата, — сообщил мужчина и кивком показал на рюмку. — Ты как?
— Нет. Спасибо, — ответил Илья.
Мужчины выпили молча, очень просто, заели дольками яблока.
— Мне тут сказали, — начал долговязый, — что ты закончил ГИТИС.
— Ну да.
— Мой сын артист. Круто! — Он поднялся, подошел к Илье и обнял его. — Фу, бл…, чо ты с волосами-то сделал?
Илья отстранился от него и встал.
— Пойдем на бульваре посидим. Давай на воздух.
— А чо? Ну как хочешь, мы с Димой еще сразу тогда, да? И пойду, оденусь.
Улица наливалась жарой, и они перешли через дорогу — на сторону, где тянулись стеной деревья. Мужчина шагал тяжело. В руке он сжимал грязный носовой платок, которым то и дело вытирал лицо. Временами он останавливался передохнуть, оттягивал ворот рубашки и дул на грудь. На нем остались те же спортивные штаны с болтавшимся шнурком. Добавилась лишь невероятная рубашка — настолько советская, что было загадкой: из какого сундука могли ее достать.
— Значит, она все так же в бухгалтерии, — проговорил мужчина. — Одна или есть кто?
— Есть, — сказал Илья. — Вон свободная, давай сядем.
Они подошли к стоявшей в тени деревьев скамейке. Мужчина сел, уперев локти в колени. Он тяжело дышал.
— И давно? — спросил он.
— Несколько лет, — ответил Илья.
И, поколебавшись, добавил:
— А сам что?
— Сына, кому я на х.. нужен, — он вытер шею платком. — У меня колени больные — еле хожу. Да и привык.
Мужчина закурил и сразу закашлялся. Звук был такой, будто в нем клокотала нефть или болото, или он давно сгнил.
Илья стоял напротив, рассматривая его словно откуда-то очень издалека.
— Невеста есть? — задрав голову, спросил мужчина.
Илья немного подумал и покачал головой.
— Нету? — удивился мужчина. — А ты это, не гомик?
Илья, не отвечая, смотрел на него.
Потом сел рядом на скамейку и вытащил из кармана джинсов металлическую зажигалку.
— Помнишь? — спросил он и протянул ее мужчине.
— Нет, — ответил тот. — Дай-ка сюда.
Он пощелкал пару раз сточенным колесиком.
— Она ж не работает.
— Не работает, — согласился Илья. — Неужели не помнишь?
— Не-а.
— Ты мне ее подарил. Тогда на вокзале.
— А-а-а… ну может быть, да, — мужчина не был уверен. — И ты ее хранишь? Хм-м… Нафиг?
Илья ничего не ответил. Он забрал зажигалку и спрятал в карман. Минуту они сидели молча. Мужчина осоловело оглядывался по сторонам. На улице его лицо стало другим — растерянным и от этого более человечным. Он зажег сигарету от только что выкуренной и бросил чинарик в голубя.
— Приезжай потом, как освободишься, — начал он. — А? Хотя бы на недельку. Помнишь, как мы там отдыхали? Ты же раньше любил деревню.
— Я же сказал, что не могу, — ответил Илья. — У меня дела в Москве с театром. Ну, в общем, работа.
— Сына, пожалуйста, — он положил руку Илье на плечо. — Мне так хочется побыть с тобой. Узнать. Я не могу у Димы остаться — ты ж понимаешь. И надо навестить мать. Поехали.
— Я бы хотел, но никак не получится.
Мужчина убрал руку и уставился на свои ботинки. Он сидел ссутулившись, на коричневой шее виднелись капли пота.
— Значит, потом вернешься на Север? — спросил Илья.
— А что еще остается? Я там электрик. Полтора месяца херачу в тайге, ну, вахта. Полтора в городе — расслабляюсь. Но аккуратно, потихоньку, здоровья уже нет.
Он поглядел на Илью.
— Сына, ты меня хоть проводишь? У меня обратный билет на седьмое августа. Так же с Казанского, а?
— Да. Провожу.
Оба снова замолчали.
Какое-то время они так и сидели, не говоря ни слова. Смотрели, как блестит день и листья на деревьях. По бульвару прогуливались молодые люди, родители с детьми; они улыбались и щурились от солнечного света.
— Знаешь, когда твоя мать тебя забрала, — заговорил мужчина, глядя в какую-то невидимую для других точку, — я восемь лет на стакане. Чуть не помер, — он утер лицо платком. — Спасибо соседям, здорово выручали. Очнулся через восемь лет. Ни хера не помню, что было. Все как в тумане или в черноте… не знаю. Помню, какое-то время хотелось сдохнуть, потом нет.
Он примолк, затем махнул рукой.
— А-а-а… Словами никогда. Я ехал, столько думал сказать тебе, спросить, а теперь все повылетало.
Илья посмотрел на лицо мужчины — того будто держали за горло.
— Пошли обратно, — сказал Илья и встал со скамейки.
Они возвращались той же дорогой, той же теневой стороной. Шли рядом и почти не разговаривали.
На углу улицы мужчина сошел с жаркого тротуара и присел на ограждение. Он тяжело дышал. Расстегнул еще шире ворот рубашки, вытащил из кармана платок и отер налившееся кровью лицо. Воздух густел от жары. Над низкорослыми домами торчала из дворов колокольня. А выше, где-то в безоблачном, ярком небе, гудел самолет.
— Мам! — крикнул мальчик лет семи, прыгнув под дерево рядом с ними. — Мам, когда Чапик умрет, давай похороним его здесь, — и он ударил ножкой землю.
— Почему вдруг Чапик должен умереть? — спросила молодая женщина, не останавливаясь.
— Ну, когда умрет, пожалуйста. Тогда мы всегда будем проходить мимо него, — крикнул мальчик вдогонку своей матери и побежал за нею.
Мужчина проводил пацана взглядом, отвернулся и сплюнул в пыль. Затем встал.
Пронизанный светом город плыл в зное. Тут и там в кустах валялись дворняги, выронив из розовых пастей подвижные языки.
— Может, зайдешь? — спросил мужчина, когда они подошли к дому.
— Нет. Мне надо ехать.
— Так что же дальше? — негромко произнес мужчина.
— А что дальше?
— Сына, приезжай, пожалуйста.
Илья обнял его.
— Пока. Я сделаю, что смогу. Постараюсь.
Молодой человек развернулся и пошел прочь. Через несколько шагов он оглянулся — у подъезда никого не было. Тогда он обошел дом и посмотрел на окно первого этажа. Закурил, не отводя от окна взгляда, сделал пару глубоких затяжек, — белые занавески были плотно сомкнуты и не шелохнулись. Он направился к автобусной остановке. Проходя через дворы, мимо площадки для мусора, он поморщился от запаха, достал из кармана зажигалку и бросил в бак. Она глухо стукнулась о стенку контейнера, утонув в отходах. Он пошел дальше.
День был огромный. Солнце безжалостно палило, и это было замечательно.
Когда он вернулся домой, его сосед по квартире, точно знающий, что все болезни из-за мяса и только из-за мяса, спросил Илью, почему от него так воняет.
Маргарита Николаева
Ильин день
— Вы с нами?
— Да, интересно посмотреть, что у вас за родник такой.
— Ну, родник как родник был, а недавно там часовенку поставили, батюшка приезжал, освятил все. А на Ильин день с утра праздничную службу совершает, — гордо сообщила тетка Лиза.
— Ясно.
Ильин день, деревенская свобода, последние дни отпуска у родственников в деревне и незатейливые развлечения. Странно, что накануне никто не заикался о поездке на родник, а только с утра вдруг зашел разговор. Солнечный, жаркий день, а все равно, скажет тетка Лиза, Илья воду любит. Ну успеем сто раз, небо чистое, ехать-то недалеко ведь?
Едем. Полная машина. Всем неместным интересно посмотреть местную достопримечательность — родник Илии-пророка. А рядом родник святого Павла. Ну вообще прекрасно, фотик взял, Дим?
Едем вдоль рязанских поселений, ну и названия: Еголдаево, Дегтярное. Дома мелькают, сплошное разочарование, нет, никогда не будут у нас жить по-человечески. Да и сами-то, что, забор покрасить, подлатать не могут? Пригляделись, привыкли к убожеству, не замечают или не хотят?
Да что это я, из города приехала и давай морду воротить, некрасиво. А люди тут живут как могут, как получается.
Хоть поля стали засевать, надо же — подсолнуховое поле, словно миллионы солнечных колес катятся по зеленым волнам, и даже чайки кружат. Ах нет, это не чайки, вороны, а морская волна все же шумит, добрая, приветливая, переливается сотнями тысяч солнечных отблесков.
Вот и поворот к роднику. Много машин, и народу много, в очереди придется потратить несколько часов. Вот уж развлечение.
За водой из родника выстроился длинный хвост. Да мы тут сваримся под солнцем, пока до нас очередь дойдет. Ладно, канистры в руки, и кто последний?
— Ой, Натка, и вы тут! — тетка Лиза замечает знакомую подъехавшую машину, дальние родственники.
— Здрасьте. Ну идите, очередь занимайте, а мы тут погуляем пока.
Из машины достается новенькая зеркалка Nikon. Наконец-то можно пофоткать что-то интересное.
Поле уходит вниз ровно до горизонта, пологие холмы то выглядывают, то прячутся за реденькими рощицами. Небо ровное, спокойное, цвета разбавленных школьных чернил. Будь трава чуть желтее — получился бы флаг Украины.
Справа и слева поля пшеницы, сухие колосья трепещут на легком ветру и постукивают друг о друга, как будто перешептываются — не скоро еще за нами придут?
Десятка два машин припаркованы прямо на поле, все местные. Придавили колесами колосья и рассыпались драгоценные зерна. Верующие идут по ним, наступают, вдавливают в сухую землю — авось, какое и прорастет, если прольется на них живая родниковая вода из неплотно закрученных фляг и канистр.
Пойдем сначала к дальнему роднику, там народу меньше, хоть попьем и обольемся, жарит как в сауне, только выйти некуда — кругом парилка.
Хм… обычный колодец, и никакой не родник. Но вода хорошая, вкусная.
— Обрызгай меня из ведра прям. Да не бойся, ничего фотику не будет, она же святая. Или все-таки обычная?
Ох, свежо и легко, еще умыться и с собой в бутылку налить, очередь ни с места, и спрятаться некуда.
— Ну, как, двигаемся?
— Да не очень, но обычное дело, Ильин день все-таки.
— Ага, даже полиция здесь, только странно, неужели вера слабая, или Илья не защищает?
— Да успокойся ты уже, завелась в святом месте.
— А и правда, святое, смотри, вот и часовенка, да уж больно неказистая. Зато иконки кто-то булавкой пришпилил, сразу видно, намолено тут, вот и свечи плавятся, а эта, смотри, на чью-то ногу в красном чулке похожа, а тут прям оладушком растеклась. Да, что и говорить, очень духовно.
Пока еще не хватил солнечный удар, встану в тень. Спасибо тебе, ручеек, ты напитал эти жиденькие, но долговязые кустики, островок жизни в этой пустыне с родником — миражом святости.
Почему же так долго? Нет, ну это никуда не годится! Илюша, ты меня удивляешь, что за струйка? Смех один. Вон, посмотри на Павлика, тот молодец, не парился долго, колодец доверху налил, и гудбай. А с тобой мы тут надолго застрянем, одна канистра минут пять наполняется. Знал же, что сегодня народ приедет, мог бы и подготовиться. Ай, ай, ай.
Почти два часа. Я больше не могу стоять, и присесть некуда, в машине тоже пекло. Некуда бежать.
— На Илью всегда дождь, — внезапно замечает тетка Лиза.
— Слышите? Что это? Гром?
— Вот и Илья пожаловал, — крестится вся очередь.
Подняв руку к глазам, пытаюсь рассмотреть, откуда несет грозу.
Слева. Тучи на помрачневшем небе сходятся, как нахмуренные седые брови. Гром раскатился над полем, словно предупреждающий выстрел.
— Илья колесницу запряг.
— Неужели не успеем воды набрать?
В очереди паника. Кто-то машет рукой и, придерживая панаму от вихря, бежит к колодцу — как-никак, а эта вода все же лучше, чем из-под крана.
Молния не заставила себя ждать, замерцала, осветила небо, и вода, как миллионы пуль, сразу пронизала все вокруг.
Пот гнева, подумала я и прикусила язык.
Очередь быстро поредела. Тетка Лиза, довольная, с наполненными канистрами, карабкается вверх, к стоянке.
— Быстрее, быстрее, все в машину.
— Эх, Натка-то еще набирает, ну ничего, дома обсохнет.
В машине жарко и душно, но снаружи дождь лупит по крыше стрелами мщения. Кто тут над Ильей смеялся? Струйка слабая? А как тебе такое? Дворники не справляются с потоком воды. Гром где-то прямо над нами. Бахнуло с треском, и в глазах радужные круги от яркой вспышки. Все на месте? Да. Поехали.
Машина не завелась.
Господи, прости и помилуй, бормочет тетка на заднем сидении.
Мои огромные испуганные глаза смотрят на меня из зеркала заднего вида. Боже, прости! Что я натворила?!
Дима выбегает на улицу, натянув футболку на голову заглядывает под капот. Всё в порядке. Может, батарейка в брелоке разрядилась? Говорили тебе, отключи ты эту спутниковую сигнализацию, один геморрой от неё.
И что теперь делать? Вон мужик, спроси, где тут ближайший сервис? Да какой тут сервис, деревни кругом. А батарейку-то хоть можно такую где-нибудь купить? Это можно, в Ряжске точно. Но там магазин до шести работает. А сейчас сколько? Успеем.
— Натка, выручай, свези Димку до Ряжска.
— Давайте, раз такое дело.
Почти час, не переставая, гром грохотал, рушил какие-то небесные громады и пугал пассажиров единственной оставшейся у родника машины. Ливень извивался вокруг множеством кнутов. Тут и полиция не спасет, да и уехала она, как только первые капли-пули рассекли воздух.
Стекла запотели, дышать в машине нечем, а окна не откроешь, дождь только этого и ждет, словно спрашивает — ну, что, струйка слабая? И брызжет, стоит приотворить щелку, прямо в салон.
Вспоминай молитвы, какие знаешь, помнишь. В салоне тихо, но тишина эта мрачная, беспокойная. Сколько мы тут уже сидим? Не пора ли им вернуться?
Но вдруг на небе блеснул солнечный луч. Суровое небо подобрело, как бы показывая — прощаю, дурёха. Напоследок громыхнуло, и ветер стих. Несколько крупных капель аккуратно, как альпинисты, сползли по лобовому стеклу. Окна можно открыть, но не выходите, грязь кругом.
А вот и Наткина машина.
— Не поверишь, последняя батарейка была, за пять минут до закрытия приехали.
— Слава Богу!
На обратном пути за рулем сидит муж. То и дело поглядывает на меня. Я еду молча, тупо смотрю перед собой на мокрую дорогу, трясусь мелкой дрожью. А вот и подсолнуховое поле, стоят бедолаги, мокрые головы повесили, прежней гордости и следа нет.
— Ну, ты как? Испугалась?
— Да.
— А я тебе говорил. А ты?
— Уверовала! — шепчу чуть слышно.
Дрожь постепенно унялась. Солнце засветило в глаза. На душе теперь светло и спокойно. Вспомнились пшеничные зерна на дороге у родника — Илья-пророк подарил им сегодня новую жизнь.
Валентина Стефаненко
Вместе
Он шел по свежевыпавшему снегу. Шел быстрым шагом, так, как никогда не ходил, когда она была рядом. Он ощущал эту скорость по-новому. Хотя раньше часто бегал в Сбербанк платить за квартиру или в магазин за продуктами без нее — так было быстрее, — ведь она собиралась подолгу: то теряла сумку, то вдруг меняла одну кофту на другую. А потом он зашнуровывал ей ботинки, ведь она не могла наклоняться, а он не сразу попадал в дырочки. Во-первых, они были маленькие, во-вторых, на конце шнурков отломились пластиковые кончики. Он все хотел купить новые шнурки, но не доходили руки.
Когда он уходил, она ждала его. Бывало, звонила на сотовый телефон, если вспоминала, что еще нужно купить. Он открывал старую раскладушку на морозе и слышал ее громкий голос в трубке. Она была глуховата, он привык говорить громче и по нескольку раз повторять сказанное. Но не помнил, чтобы когда-либо злился на нее из-за этого, просто однажды взял и привык. А теперь он шел быстрым шагом так, как если бы она ждала его дома, но ее больше не было. Ему казалось, что он шел скорее обычного — будто куда-то спешил. Просто ее больше не было, и он не понимал, куда теперь торопиться, но спешил и совершенно не выглядел на свои восемьдесят три года.
Вот тот самый магазин возле дома, с вывеской «Торты». В этот магазин они никогда не заходили. Лестница вела наверх, по ней было неудобно подниматься вдвоем. Он решил посмотреть, что за торты там продаются.
Магазин оказался небольшим кафе, где тесно стояли столы и стулья, а в глубине виднелась витрина со сладостями. На стене над витриной красивым крупным почерком были указаны цены на кофе. Он ничего не понимал из того, что было написано, и спросил продавщицу, что такое латте. В магазине в столь ранний час никого не было, и он не боялся кому-то помешать. Хотя обычно избегал мест, где чего-то не знал, предпочитая ходить в большие магазины, чтобы можно было складывать продукты в корзинку. Продавщица ответила ему, что это кофе с молоком.
— Ах, кофе с молоком, — сказал он, подумав, почему бы не называть вещи своими именами. — Дайте мне латте и вот этот кусочек торта.
— Это чизкейк, — пояснила продавщица.
— Дайте чизкейк и латте, — сказал он, — попробую, что это такое. — И полез в карман за кошельком.
Он не представлял, сколько это все стоит, и достал самую крупную купюру. Теперь, когда ее не стало, пенсии хватало впритык, и он старался экономить, но знал, что за последние три дня ничего не потратил, поэтому решил себе позволить торт и кофе с молоком.
Он вспомнил, как она пекла пироги: вставала рано, он еще спал, и утром из кухни шел запах расстегаев. Начинку она делала из консервов, и, если тесто не опадало, получалось очень вкусно. Он вспомнил, как она стояла перед духовкой и боялась открыть ее, вглядывалась в тусклую картинку по ту сторону дверцы в надежде, что тесто не подведет. Но даже если оно опадало, он ел пирог, потому что иначе у нее поднималось давление. Он ел, чтобы она успокоилась. Пирог был не таким вкусным, но съедобным, а кто отказывается от съедобного?
Он убрал сдачу в кошелек, взял поднос с кофе и тортом и присел за стол. «Вот и позавтракаю, — подумал он, — попробую латте и чизкейк, может быть, понравится». Он взял в руки бумажный стакан с пластмассовой крышкой и не сразу нашел отверстие. Оно было прикрыто затычкой, и нужно было сначала отогнуть ее в сторону, а потом уже пить. Ему не понравилась эта идея, конструкция была неудобной, капли кофе стекали по подбородку, а во рту оставался вкус пластмассы. Он снял крышку и осторожно отпил из стакана. «Вот теперь нормально!».
— Хороший кофе, — сказал он продавщице.
— Спасибо, вот только вчера привезли зерна, варим из южноамериканских, местной обжарки.
Он подумал, что, наверное, важно, какой обжарки кофе и откуда зерна, но ведь здесь не только кофе, но и молоко.
— А молоко откуда? — спросил он.
— Молоко местное, покупаем в пакетах.
— А, ну если местное, тоже хорошо!
— Главное срок годности, чтобы было не просроченное.
— Это хорошо!
Он взял в руку пластмассовую ложечку и отломил кусочек чизкейка. С виду чизкейк не был похож на обычный торт. «Что же это такое», — подумал он и отправил кусочек в рот.
— Вкусный чизкейк, из чего он?
— Это творожный, — ответила продавщица.
— Из творога? — удивился он.
— Тоже сегодняшний, — сообщила она, — у нас все свежее.
— Спасибо, — он отломил еще кусочек.
Ей бы понравились латте и чизкейк, подумал он, но она, наверное, начала бы ворчать, что дорого и незачем покупать все эти модные штуки, когда она все может приготовить сама, только дайте ей рецепт. Он улыбнулся. Точно, ворчала бы, а потом приготовила торт со сгущенкой и объявила бы, что он вкусней.
Вдруг мысль о том, что ее нет, и больше не будет, прервала поток воспоминаний. Он представил, как она лежит глубоко в земле, так глубоко, что, когда он увидел эту яму, эту дыру в его сердце, то испугался туда упасть. Он представил, какая она глубокая, какая холодная, и какие ровные у нее стенки. Он выронил пластмассовую ложку и замер. Мысли об этой яме жили отдельно от него, но принадлежали ему, он чувствовал их присутствие каждый день, но не давал им проникать вглубь, хотя иногда они не слушались: захватывали его и крутили, и вертели, и сжимали, будто в кулак. Мешали двигаться и дышать. Он сидел и ждал, когда они отступят.
— Вам плохо? — спросила продавщица.
— Нет, нет, все хорошо, — ответил он и взял ложку с подноса.
Вот он уже почти доел чизкейк и выпил кофе, а дальше что делать? Наверное, пора идти домой, но что там дома? Сидеть? А что сидеть? Весь день смотреть телевизор? А что смотреть? Он поднялся и спросил, куда убрать поднос.
— Нет, нет, оставьте на столе, я уберу, — сказала продавщица.
— Много у вас посетителей? — спросил он.
— Да вот с утра не так много, а днем и на вынос кофе берут, и торты покупают.
— Неплохо.
— Заходите к нам почаще!
— Буду, куда мне деваться.
— Вот и заходите!
Он вышел из магазина и сделал глубокий вдох на морозе. Черные мысли отпустили его. Он начал думать о том, что сегодня разберет старые фотографии и проверит, правильно ли лежат документы в папках. Хотя он сам их складывал и убирал в шкаф, но стоит лишний раз посмотреть.
***
Прошло два месяца с тех пор, как его не стало. Она продолжала накрывать стол на двоих, приносила его фотографию на кухню, ставила у стены и накладывала еду в обе тарелки. Всем родственникам она говорила по телефону, что обедала с ним. Она ведь и правда обедала с ним, и неважно, что это всего лишь снимок. Соседка в доме напротив, ее давняя знакомая, семнадцать лет уже так обедает. В углу комнаты она поставила желтую свечку, желтая меньше дымила, рядом иконы и его фотокарточка. Перед сном она читала молитвы и желала ему спокойной ночи. Забывала и снова прощалась с ним — и так по кругу, пока в какой-то момент не останавливалась и не уходила в спальню. Утром, проснувшись, она говорила с ним. Советовалась, какие дела сделать сегодня, а что можно отложить на завтра. Днем она ловила себя на мысли, что ждет его, хотя знала, что он больше никогда не вернется.
Время от времени ее беспокоило, что она ничем не может ему помочь. Что вот сидит здесь на диване и ничего не может сделать для него. Она мысленно возвращалась к тем дням, когда еще могла что-то сделать, и корила себя за то, что не поговорила с ним и не настояла на том, чтобы врачи дали лекарство посильнее.
Порой сердце ее начинало колоть острыми иголками. Они впивались в грудь холодными остриями и ранили ее. Она шла измерять давление, но не могла надеть рукав. Без его помощи она еще этого не умела. Потом отпускало, но оставалась глухая боль. Так продолжалось два месяца с тех пор, как его не стало. И однажды к ней пришла мысль — думать о том, что бы он делал, если бы она первая ушла, и он остался один.
Она включала телевизор, садилась в кресло и представляла его жизнь без нее в мельчайших подробностях: как он просыпается, как завтракает, что себе готовит, как потом идет в магазин, как скучает по ней, как натягивает бельевые веревки.
Сначала ему было очень тяжело, она это чувствовала, как он спотыкается на каждом шагу, о любую ее вещь или воспоминание. Но постепенно у него начинало получаться: он сам составлял список продуктов, сам выбирал их, выходил на улицу, общался с родственниками и соседями. Он не решился взять кошку, в отличие от нее, да и не она придумала завести животинку, принесли родственники. Но с течением времени ему становилось чуточку легче.
И так каждый день она представляла его, живущего без нее. Вот и весна пришла, и он отправился на дачу. Вот он едет в автобусе. На улице солнечно и светло. За окном шум шин, гудки. Окно в автобусе открыто, немного дует. Он держится за поручень одной рукой, а в другой везет сумку с инструментами. У него получается. И у нее получится — думала она, вставляя новый шнурок пластмассовым кончиком в маленькую дырочку ботинка.
Вадим Тарасов
Следующая станция
***
Уважаемые пассажиры. Поезд следует. До станции. Серпухов. Со всеми остановками. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция…
Этот электрический голос меня доконает, подумала Олеся. Будто приговор объявляет. Хорошо еще, что вагон не совсем старый попался. Топят, правда, адски, попа как на сковородке. Еще и нечетный вагон — теперь вибрировать буду на каждой остановке. Ну и денек…. Может, пока домашку по дойчу поделаю… Так лень. Чертовы отделяемые приставки… Ихщ руфэ Хэррн Фишер ан… Ан этот вечно не пришей кобыле хвост! Угораздит ведь все усложнить!
Так, надо Мишане написать, что села, а то, как тогда, проторчу на перроне.

Как такое вообще возможно: договариваешься, а потом стоишь-мерзнешь. Долго просил прощения, конечно, даже киндер купил, но факт остается фактом.

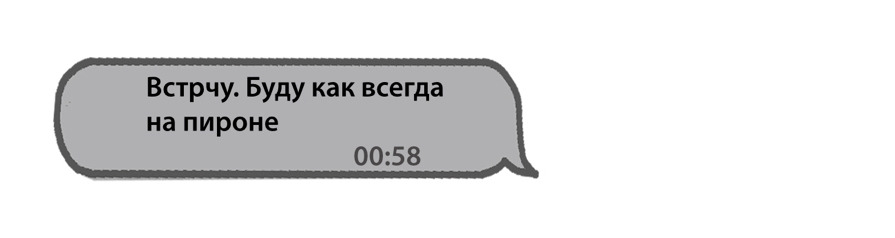
Ни «привет, любимая», ни хотя бы просто «привет». Вечно с очепятками! «На пироне»! В жизни запятой не поставит! Бесит! Общается, как со своими дружбанами гаражными. Скипидар, Кипяток, Гамбит… что за клички такие! Животные. Им бы только выпить, да… Этот Скипидар, помню, пожирал меня тогда своими мутными рыбьими глазами. Быдло быдлом. Самое печальное, что Мишаня-то в развитии недалеко ушел. Ну как можно не знать столицу Финляндии! Или спрашивать про перестройку, или… Да вообще! В лесу, что ли, вырос? Почему я до сих пор с ним? Он, конечно, ничего такой. Не красавец, чего уж там. Нос, как мятый огурец, раздвоенный подбородок… Но какой он, зато, обаятельный и красивый, когда улыбается. Сразу хочется быть рядом. Если еще добавить огромное раскаченное тело… ножки при этом тоненькие, как два прутика… хи-хи… но тело у него, это да… На Истру, вон, когда ездили, девки так и вылупились на него. Нет, это все, конечно, замечательно, но как с таким жить? Он же и двух слов связать не может. Наклюкался тогда и полез рассуждать о высоких материях… Уж не помню, о чем он там вещал, но было стыдно… А эта Марго со своим «да-да, я тебя понимаю, ты такой проницательный», и, главное, с таким видом. Сучка! Проникновенная нашлась, хоть бы при мне постыдилась шашни крутить. А мой увалень так и развесил уши. Не, ну как с таким вот строить семью? Ладно, опять завела шарманку! Что, мужики к тебе пачками клеятся? Вот то-то и оно…
…Следующая станция — Москворечье. Осторожно. Двери закрываются.
***
Мишане оставалось помыть салон синей «тойоты», когда он получил сообщение от Олеси.
Начальник строго следил, чтобы никто не отвлекался от работы, и даже мог оштрафовать за «несанкционное» общение по телефону. Поэтому Мишаня прочитал сообщение контрабандой и на скорую руку настрочил ответ.
На заднем сиденье предательски проступало пятно. Он обильно обмокнул щетку в моющее средство и обрушился на врага всей мощью своего исполинского тела. После пяти минут битвы, промыв место сечи водой, он снова увидал зловредную кляксу. Мишаня сплюнул от злости.
— Да заманала, паскуда! Скипидар! Подтащи булки…
Из-за угла появился сухощавый напарник.
— Слышь, можешь подстраховать? — обратился Мишаня к другу, показывая рукой на сиденье. — Мне, это, моя написала… На собаке едет из Москвы… обещал встретить. Короче, надо гнать на станцию… Добьешь за меня?
— Ваще без бэ!
— От души! — он смачно похлопал друга по плечу и посеменил переодеваться в подсобку.
***
…Следующая станция — Москворечье. Осторожно. Двери закрываются.
Двери тамбура откатились в стороны, и в вагон вошел молодой владелец щеголеватого пальто.
Ой! Какой красавчик, — мелькнуло в голове Олеси, заставив ее приосаниться.
Как я выгляжу? Твою ж мать, голова грязная! Так, ладно, сиди ровно. Сюда идет! Аааа! Загадочно смотри в окно. Сел напротив! Явно, не просто так. Удачненько. Пахнет сигаретами. Не поворачивайся, смотри в окно. Черт! Под таким углом в окне не видно его отражения! Какие вылизанные туфли, и с синим пальто сочетаются безупречно… Достал толстую книгу. Блин, какой он крутой! Просто «беру, запакуйте, пожалуйста». Неужели уйдет, а ты так и будешь буренкой сидеть. Нужно что-то делать… привлечь внимание… внимание… думай-думай… О, а это идея…
***
До прибытия электрички оставалось около получаса. Обычно Мишаня добирался до станции за десять минут на маршрутке, но сейчас они уже не ходили, а на такси не было денег, поэтому он пошел пешком по короткой дороге — вдоль рельсов.
Треть пути была позади, когда Мишаня решил купить Олесе шоколадку в круглосуточном продуктовом на другой стороне железной дороги.
Переходя рельсы, Мишаня увлеченно писал ей сообщение, не особо смотря под ноги. Внезапно что-то металлическое с визгом сдвинулось, капканом вонзившись в правую ступню. Он повалился, взвыв от боли. Теплая, отвратительно липкая кровь мгновенно заполнила ботинок. Весь мир вокруг — бесконечный бетонный забор, безжизненный ангар, ледяные рельсы, отстраненные гудки паровозов, строки недописанного сообщения — все резко сжалось в жесткий комок боли. Он потерял сознание.
***
Таак-с, начнем-с, — Олеся достала учебник по немецкому языку и стала делать записи в блочной тетради. Затем она, словно потеряв ценную вещь, начала так бурно рыться в сумочке, что лежавшая на тетради ручка скатилась в ноги незнакомцу.
Ха! Идеальное попадание!
Молодой человек поднял ручку и передал ее Олесе с приторно учтивой улыбкой.
— Спасибо, Вы очень любезны, — заглядывая ему в глаза, промурлыкала она.
«Любезны»… ну ты загнула… ничего, пусть знает интеллигенцию.
— Не за что, — отозвался молодой человек.
Какие глаза необычные. Карие вроде, но с желтоватыми пигментами, прям как у змеи.
— Не боитесь одна ездить в такое время? — продолжил он.
— Куда деваться, приходится. На учебе просто поздно заканчиваю. Да и кого бояться?
— Всякие здесь встречаются. Вы до какой станции едете?
— А вы с какой целью интересуетесь? — игриво и скорее риторически уточнила Олеся. — Я до Силикатной, а вы?
— О, мы соседи! Я на Щербинке выхожу. Можно, кстати, на «ты». Арсений, — протянув руку, сказал он.
***
Придя в себя, Мишаня огляделся сквозь застилавшую глаза дымку пульсирующей боли.
Нога-а! Почему не чувствую! Ногу! Что за?!. — заговорил в нем сгусток панической боли.
Его взгляд судорожно бегал, пока не наткнулся на кровавое месиво на месте ступни.
Нет-нет-нет! Только не это! Только не это! Афу-афу-афу-афу. Дыши ровно! Афу-афу. Ровно, я сказал! Афу-афууу-афуууу-афууууу.
На мгновение собравшись с силами, он попытался высвободиться из тисков, отталкиваясь свободной ногой, но эта слабая попытка отдалась такой нестерпимой мукой, что он в отчаянии опустил голову на рельсы.
В ушах звенело. Сердце тошнотворно колотилось.
— Э-эй! Помоги-ите! Кто-нибу-удь! Э-эээй! Эээээээй! Помогите! Я здесь! Ээээээй! — он кричал, что было сил, пока совершенно не потерял голос.
— Помогите! Пожалуйста, — уже сиплым шепотом молил он окутавшую его тишину. К горлу подступал комок рыданий. Еще не хватало плакать! Он зарычал от ярости на себя и осмотрелся. Телефон! Он дотянулся до валявшегося рядом мобильного. На экране светились цифры «01:46». Через пять-десять минут электричка из Москвы! Проедет прям здесь… Лихорадочный мандраж пробежал по всему телу и ударил в голову волной адреналина. Олеся! Точняк! Надо позвонить Олесе! Нажмет на стоп-кран!
***
— Можно, кстати, на «ты». Арсений, — протянув руку, сказал он.
Арсений… Красивое имя… Арсеньевич, Арсеньевна… недурно… так, о чем ты думаешь вообще?! — пресекла Олеся поплывшие мечтания.
В этот момент в ее сумочке зазвенел телефон. Она посмотрела на экран, едва заметно закатила глаза от раздражения, переключила мобильный на беззвучный режим и бросила его назад.
— Я… Меня зовут Олеся. Очень приятно, — растерянно затараторила она, словно пытаясь переменить тему своих мыслей.
Интересно, что он подумает о неотвеченном вызове? Чего трезвонить! Раньше никогда не звонил, а тут на тебе! Наверно, снова встретить не сможет. Ну и черт с ним!
— Тебя кто-нибудь встречает? Если хочешь, могу проводить.
— Не стоит, благодарю. Меня встречает папа, — на ходу сообразила она.
Ну вот, теперь подумает, что я ботаничка, живу с родителями. Что ты несешь? Соберись.
— Что читаешь? — спросила она.
— Сагу о космическом волке, — демонстрируя обложку, ответил Арсений.
Космический волк? Серьезно? Вот мужики, — язвительно усмехнулась про себя Олеся.
— Ух ты! А о чем она?
Арсений принялся с энтузиазмом рассказывал про капитана звездолета, у которого заклинил ремень безопасности во время падения. В этот момент сумочка Олеси снова завибрировала.
Да он угомонится или нет! — не подавая виду, почти в бешенстве подумала Олеся. Удерживая внимательный взгляд на губах собеседника, она незаметно сбросила входящий вызов и выключила телефон.
Следующая станция. Щербинка.
— Ой, мне на следующей выходить… — сказал Арсений и умолк на несколько неловких минут.
Когда электричка начала сбавлять ход, Арсений очнулся:
— Мне пора. Очень приятно было познакомиться. Амм, ты знаешь, я был бы рад увидеться снова, если ты, конечно, не против.
Затем он написал что-то на книжной закладке, вручил ее Олесе и поспешил в тамбур.
***
Гудки тянулись мучительно долго, будто Мишаня пытался дозвониться до небес. Вдруг звонок сбросили. Мишаня снова нажал задубевшими от холода пальцами на кнопку звонка, но из трубки послышался приговор: «Абонент временно недосту…». Он не дослушал, швырнул телефон в сторону и лихорадочно рассмеялся.
Совсем недавно с пеной у рта доказывал Олесе, что у человека всегда есть выбор. Отличный выбор: отрезать себе ногу или голову! Просто класс! Перед глазами всплыла картина, как он просыпается в больничной палате. Одеяло подымается только над одной ногой… Перед кроватью стоят родители, его пацаны, Олеся… и все с такими лицами… Эти сочувственные взгляды хуже всего!
В этот момент на железнодорожном светофоре загорелся зеленый свет, прорезав сквозь толщу черного воздуха изумрудный тоннель.
Щеку и подбородок защекотали стекавшие капли холодного пота. Спустя мгновения рельсы зашипели зловещим чугунным шепотом.
Железная дорога стала заливаться светом, как при первых предрассветных лучах. На горизонте появились очертания белесого шара, разраставшегося с каждой секундой. Взгляд Мишани упал на бетонный забор, с беспомощной неловкостью наблюдавший происходящее. Забор был повсеместно изрисован баллончиками рьяных художников и изгажен дерьмом. В щелях виднелись смятые жестяные банки из-под пива и неубиваемые упаковки от чипсов. Забор. Справа и слева. Забор. А ведь через такой забор Мишаня не раз перелезал, когда ездил зайцем на электричке в школу. Он удивительно отчетливо вспомнил, как спрыгивал с него. Как со шлепком отбивались пятки, а в поясницу ударялся портфель с учебниками. Как со спины, — его лицо просветлело от живой улыбки, — как со спины доносились матюки взбешенной билетной контролерши. Аха! Выкуси, толстожопая!
***
Олеся снова и снова прокручивала в голове свежие романтичные кадры, нежно держа бумажку с номером телефона.
Неужели я встретила его!? А-а-а-а, какой он классный! Глаза просто волшебные, а говорит как… И пальто от Кензо. Явно при деньжатах.
Вдруг поезд так резко затормозил, что она чуть не ударилась головой о сиденье напротив.
Наверно, какой-то дебил дернул стоп-кран, — пронеслось в ее голове.
Сейчас машинист будет материться… Какие же волшебные глаза. Надо ему написать! Не сразу, конечно. Хи-хи. Ой, я ж мобильник выключила. Интересно, где там Мишаня? Пусть только попробует опоздать, прибью.
Зинаида Татаринова
В активном поиске
— И давно ты не ешь мясо? — с недоверием спросила она Ладова.
Под его рубашкой проступал скульптурный рельеф мышц, и он совсем не был похож на вегетарианца.
— Недавно, — доедая суп из чечевицы, спокойно ответил Ладов.
Несмотря на внешнюю невозмутимость, он мысленно ругал себя за этот ответ. Но возможность продолжить разговор и быть интересным этой женщине победила всё, чем он жил последние пару лет. Начав заниматься спортом просто так, он втянулся и вскоре стал тратить свою небольшую зарплату на спортивное питание, на одежду для тренировок, на обучение у более опытных коллег. Даже пару раз заказывал фотосессию. Мясо — это белок, а белок — это материал для роста мышц. И вот так, просто в разговоре, отказаться от строительства мышечной массы было каким-то безумием.
Они сидели в кафе йога-центра, куда Ладова направили для выполнения очередного заказа по установке кондиционеров в новые помещения. Расширение площадей было связано с закрытием небольшого продуктового магазина, располагавшегося за стенкой. Магазин ушел с рынка, не выдержав конкуренции с сетевым гигантом, распахнувшим свои скидочные ловушки в новом доме на соседней улице.
Катя была тут волонтером, четыре дня в неделю она помогала администратору справляться с потоком посетителей: складывала коврики после занятий, раздавала и собирала анкеты у новеньких, помогала им освоиться. Их было особенно много в последнее время, менеджмент запустил в интернете какую-то акцию в преддверии расширения своих площадей. Платой за эту нехитрую подработку было безлимитное посещение занятий остальные три дня в неделю.
Ладову хватило нескольких минут общения с Катей, пока она провожала его в кабинет менеджера, чтобы понять: он найдет способ встретиться с ней снова и попытается хотя бы что-то выдавить из себя, чтобы получить надежду на продолжительное знакомство. Встреться они где-нибудь в парке или в кафе, Ладов завел бы разговор на спортивную тему, которая стала настолько популярна, что иногда можно просто назвать какой-нибудь фитнес-проект или марафон, как собеседница сразу откликнется, ну а дальше, что называется, как повезет. Но в месте, где люди ищут медитативный покой и предаются расслаблению в асанах, разговор о фитнес-проектах показался Ладову не к месту, а терпкий запах благовоний под неторопливый голос Кати одурманил его до онемения.
Катя находилась в поисках любви и заодно смысла жизни. Эти поиски привели ее в не менее модное течение: она стала вегетарианкой, день начинала с медитаций, размещала на страничке в социальной сети цитаты просветленных учителей, знала все вегетарианские кафе в городе и периодически заказывала витамины для сохранения аминокислотного баланса.
Катя смотрела на Ладова. То, с каким удовольствием он ел чечевичный суп, развеяло ее сомнения, и она с радостью поделилась своими находками по освоению вегетарианства: сайтами, где можно вдохновиться примерами других людей, найти быстрые рецепты. Если все же он почувствует, что растительного белка недостаточно, Катя скинет ему список баночек, которые помогают ей восстановить баланс необходимых организму веществ.
Следующие полгода они практически не расставались. Катя уже не волонтерила и, подарив Ладову коврик для йоги, сказала, что теперь они могут практиковать и медитировать в любом месте. Но медитировал Ладов все больше один.
Ознакомившись с постами начинающих вегетарианцев (некоторые довольно агрессивно порицали куртки и ботинки из кожи), Ладов уже взахлеб читал о духовном развитии. Затем он купил заинтересовавшие его труды просветленных учителей, чтобы выбрать свой путь, и вскоре значительно обогнал Катю в вопросах эволюции духа и души, гармонии формы и содержания. Изменение образа жизни Ладова, теперь предпочитавшего протеиновому батончику овощной смузи, было настолько стремительным, будто только ради открытия двери в этот новый мир Ладов прежде и жил, или «спал до пробуждения», согласно одной из изученных им новых практик.
Этот многодневный ретрит в Индию они запланировали вместе. Но за пару месяцев до отъезда Катя познакомилась в парке с мужчиной атлетического телосложения и увлеклась тренировками на открытом воздухе. Увидев фото атлета на страничке Кати в социальной сети, Ладов отметил, что он и сам при знакомстве с ней был таким же.
Он еще раз пролистнул новостную ленту, внес изменения в свой профиль, указав, что находится «в активном поиске», и пошел собирать рюкзак. Ладов уже давно понял, что Кате не важен был ответ на вопрос о мясе и вообще не было важно, вегетарианец ли он, она просто была в поиске. Но обретенный Ладовым путь стоил того, чтобы сперва обмануться в Кате, а потом ее потерять. Ему даже не хотелось думать, какой бы была его жизнь сейчас, если бы не тот чечевичный суп.
Вероника Чибис
Пишите в директ
На бордюре фонтана Треви сидела нарядная загорелая девушка. Инфантильное черное платье в белый горошек было в стиле а-ля шестидесятые. Ее фотографировала крупная женщина, похожая на скульптуру «Родина-мать» с воздетым айфоном вместо меча. То и дело в кадр совался кто-нибудь из группы взбудораженных китайцев. Женщина вытерла рукой лицо, задела очки и оставила на стеклах размазанный след от пота. Сзади ее подпирала очередь других туристов. Нимфа, напряженно державшая спину, наконец расклеила густо накрашенные губы:
— Мам, ты точно «портрет» включила?
— Кать, еще учить будешь? Портрет, портрет. Сумочку разверни больше, не видно этой бляхи с буквами.
Катя послушно поправила маленькую сумку молодого российского бренда. Ее мать, раскачиваясь, расчищала своим большим телом пространство для них двоих и старательно выискивала ракурс без чужих рук и затылков в кадре. На фотографии застыла взрослая красотка с приоткрытым идеальным бедром на первом плане на фоне размытого палаццо Поли.
Вечером пряный воздух старого города немного поостыл. За столиком уличного кафе возвышалась Катина мама в ветровке. Ее ноги-колонны надежно удерживали равновесие, в отличие от шатающейся, резной ножки круглого стола. То, как она смотрела на город и как отпивала белое вино из бокала, словно запертая в большом теле блоковская незнакомка, как бы говорило: неизвестно, кто из нас более вечен, Рим или я. Катя еще ниже натянула капюшон легкого худи. За соседним столиком хохотала семейная пара. Полноватый благообразный мужчина и поджарая, с выбеленными волосами, супруга. По доносящимся обрывкам разговора было понятно, что они русские.
— Никуда от наших не деться, — вздохнула мама Кати. — Ты довольна каникулами, котенок?
— Да, очень, — не отрывая взгляда от бокала, сказала Катя. Она плохо слышала маму, в основном только стук своего сердца, отдававший в виски.
В небольшой комнате с икеевскими подушками и поддельной бронзой был косметологический кабинет на дому. Катя свернулась тихим калачиком на диване с двумя айфонами в руках. В этой аляповатом комнате, пока мама занималась клиентками, ей было тепло и спокойно. Сначала ей было неловко слушать, как мама ее расхваливает каждой посетительнице, но потом она приучила себя думать, что это не про нее, а про ту красивую девочку из ее аккаунта.
— У нее, Мариночка, уже почти девяносто тысяч подписчиков. Фолловеров, как они называются. Ой, я сначала понять не могла, что это за инстаграм такой. Вот эту руку в лампу. А сейчас, конечно, понимаю, что без соцсетей никуда. Вот и мои услуги Катька как-то туда выставляет.
Сорокалетняя Маринка бросила взгляд на Катю, получившийся из-за кокетливых стрелок на веках несколько двусмысленным. Катя все так же тихонько сидела на диване, поджав ноги, в окружении гаджетов.
— Да вижу, — усмехнулась клиентка. — Ну я-то к тебе, Наташ, и без всякого инстаграма буду ходить. Ты же знаешь.
Наташа знала это и всякий раз с удовольствием отмечала, что москвичка Маринка как работала в гостинице администратором пятнадцать лет назад, так и работает. А вот она, приехав из своего Замухосранска, с работы в занюханной парикмахерской поднялась до собственной трешки и домашнего кабинета. Но главное, конечно, Катя. Ни у одной из ее клиенток не было такой красавицы-дочери. А Наташа практически в одиночку ее подняла. Когда папаша ее скончался, Катьке и пяти лет не было. Спасибо, что хоть однушку Витька оставил после себя, было что менять потом. Наташа все на себе тянула. Катя всегда училась с детьми людей богаче и успешнее Наташи на голову, а то и на десять. Ну тут уж как. Не родился в семье миллионера — нарушил первое правило миллионера. Крутись, как хочешь. И языкам Катю обучила, и в МГИМО устроила. У других чада нахлебниками растут, а ее дочь деньги в телефоне зарабатывает. И даже там выглядит так, будто у нее мама не маникюрша, а успешная бизнес-вумен. Иногда такой Наташа себя и чувствовала. Быстрый ум, хватка. Правило «шести рукопожатий» ей не было нужно. Максимум три, и любая ее проблема в этом городе была решена.
— Я тут, Мариночка, приятелям помогла. Устроила их дочку в Большой театр петь. Вот ходили, слушали недавно. Другую руку в лампу. Сушим. Катенька у меня каждый месяц в театр, в оперу. Хотя, конечно, нагрузка большая в университете. Но развиваться-то надо, как без этого.
Катенька сидела в паре метров от них, совершенно не реагируя на происходящее. На ней были наушники, но звучала ли там музыка, понять было сложно. Марина поерзала на стуле и, между переменой рук, глотнула кофе.
— Почему МГИМО? Женихов на бэшках ловить? Иняз же лучший в МГУ.
— Нет. Давно не лучший, я справки наводила. Катя у меня и в школе языковой училась. Одна из первых, а знаний ее только на месяц хватило в МГИМО. Потом слезы над учебниками, репетиторов брали. Ну ничего, сейчас справляется. А про женихов вообще не думает.
— Мам, я все запостила. Тебе там в директ написали насчет ботокса, ты посмотри потом, внеси в свое расписание. Я пойду, курьер должен приехать скоро.
— Давай, котенок.
Когда за Катей закрылась дверь, «Маринка из Савоя», так она была записана в телефоне Наташи, наклонилась над столом и понизила голос.
— Слушай, ей двадцать лет. О чем же еще думать? Может, она тебе просто не говорит?
— Она мне все говорит. Большой суши. Отдельно. Я вообще ее не трогаю на эту тему. Как-то попробовала, она мне: «Мам, мне это вообще пока не интересно». Ну, я и отстала.
Наташа, заговорщически покосившись на дверь, придвинулась ближе к Марине.
— Девочка она еще. Не было никого.
— Да ладно? Наташ, ну это совсем как-то…
Марина недоверчиво смотрела на Наташу. Та припечатала о стол флакон с маслом для кутикул.
— Как? Нормально это. Сейчас обе ручки в лампу положи, и давай подольше посушим. Ты не смотри, что она в инстаграме постоянно в ресторанах и барах. Это работа такая. А то мне тут позвонила знакомая, говорит, что это твоя Катя постоянно в дорогих местах? Появился кто-то, выгуливает? Как зятек? Пришлось объяснять.
— Ну, это-то я понимаю. Главное, просто чтоб счастье свое не упустила.
Незамужняя и бездетная Маринка, потратившая десять лет на женатика, не то чтобы завидовала, просто уже ничему не верила.
— А мама на что? Вот когда появится достойный мужчина, конечно, помогу ей сориентироваться. И свадьбу сыграем, как надо. Всегда мечтала, чтобы обручальные кольца от Тиффани были, ну и вообще все как у людей. Все, дорогая закончили. Когда на Сбербанк будешь переводить, напиши, что долг.
Засыпая, Катя всегда знала, что будет дальше. И сегодня все повторилось. Мама тихонько открыла дверь и, проверив комплекты одежды на вешалках, поправила на ней одеяло. Так же тихо вышла. Катя приоткрыла один глаз. Ее телефона на тумбочке не было. Она вздохнула и перевернулась на другой бок. Казалось, вместе с ней вздохнули на стенах все карандашные портреты с угловатыми скулами и подбородками.
Несмотря на то, что кухня была просторная, Наташа занимала собой почти все пространство. Даже бытовые приборы теснились по стеночкам, и, несмотря на приоткрытое окно, висела духота. Палец с длинным, острым ногтем заправски тапал по смартфону. Привычно заглянув в сообщения и пролистав новые фотографии, Наташа открыла Катин инстаграм. Она читала комментарии и переходила на страницы аккаунтов. Так, известный кинопродюсер лайкает все фото, но у него девушка. Ресторатор — женат. Мелкий бизнесмен — слишком мелкий. Бокал с вином пустел. Образы потенциальных женихов мелькали отсветами на стене между телевизором и картиной какой-то ее клиентки. Наташа все глубже погружалась в этот красивый мир отфильтрованных фотографий, и все больше ей казалось, что пишут ей. Оставалась ее любимая рубрика — проверить Катин директ и заблокировать молодых недоносков, присылающих фотографии своих половых органов. Делала она это не торопясь, смакуя акционное Мерло. Осенние бесчинства среди золотой листвы постепенно вытеснялись в ленте радостью от первого снега, от второго снега, и наконец, нытьем из-за долгой зимы. В декоре ресторанов на заднем плане Катиных фотографий появилось рождественское убранство.
«Зачеты сданы, встречаем католическое рождество», — и много несмешных и популярных хештегов. Катя запостила фотографию, где она в красном платье среди друзей на фоне огромной елки в холле особняка. А тем временем сама она, в брючном костюме и с рюкзаком, входила в лифт помпезной гостиницы в центре города. Ей было страшно и весело одновременно. Увидев свое лицо в зеркале кабины, Катя принялась дразнить отражение смешными гримасами. Двери раскрылись на рожице «обиженная узкоглазая собачка», и она в секунду вернула привычное, немного недовольное выражение лица. Лифт ожидала компания мужчин в превосходных костюмах. Катя томно прошла мимо них, и только когда лифт тронулся, усмехнулась.
Дверь в номер ей открыл приятный немолодой мужчина.
— Привет, дорогая! Как хорошо, что ты смогла приехать!
Он схватил ее в охапку и начал целовать. Опустившись на колени, снял с нее сапоги и, подхватив, как любимую куклу, поставил на кровать.
— Смотри, кто к нам пришел! — крикнул он в сторону ванной.
Там, в дверях, уже стояла стройная женщина лет сорока пяти в откровенной комбинации. Она нарочито медленно, кошачьим шагом, двинулась в сторону кровати.
— Ну наконец-то, наша девочка приехала.
Звонок телефона раздался, когда Наташа закрывала дверь за последней клиенткой. «Боже, неужели какая-то идиотка что-то сегодня у меня забыла», — подумала она. Перед Новым годом все, как безумные, бросились наводить красоту, и у Наташи к вечеру разламывалась спина. Звонила Маринка из Савоя. Это было странно. Она приходила несколько дней назад и все сделала, что хотела.
— Наташ, привет! Слушай, а что, наш рестик заказал твоей Кате рекламу?
Сначала Наташа просто не поняла, что ей там щебечет этот неприятный голос.
— С чего ты взяла? Мне дочь ничего не говорила.
— Ну, с того, что я сейчас вижу ее в нашем ресторане в компании какой-то семейной пары. Это друзья, что ли, твои? А ты придешь сама?
— Марин, ты что-то путаешь. Катя уехала на три дня к друзьям на Рублевку, праздновать католическое рождество. Завтра должна вернуться.
— Я ничего не путаю. Я сейчас стою и смотрю на нее. Вот через четыре стола от меня сидит твоя Катя. С какой-то пожилой парой.
У Наташи все оборвалось внутри. Сначала стало холодно, а потом горячо и дышать трудно.
— Да, я, наверное, что-то путаю.
— Так ты не приедешь, да? — немного уже запинаясь, выдавила из себя Марина.
— Я… Да. Нет. Не приеду. Нет. Приеду. Марин, я приеду.
Бросив телефон, Наташа стала судорожно натягивать угги, остановилась и начала набирать Ксюше — подружке Кати. Потом подумала, может, правда, дочке предложили рекламу, и она сорвалась из Рублевки, и ничего в этом страшного нет? Но что за семейная пара? Бред. Ксюша трубку не брала.
Наташа прямо в уличной обуви и полунадетом пуховике ринулась в Катину комнату. Она сама не понимала, что ищет. Но чутье ей подсказывало: что-то должно быть. На столе громоздились тетради и распечатки. В календаре на стене, конечно, никакого «Савоя» и в помине не отмечено. Все три дня были обведены красным и подписаны: «Рублевка. Ксюша». Наташа беспорядочно метала все по комнате, открывала ящики, опустошала полки — пока из очередной груды книг не выпал старый планшет. Наташа замерла. Катя была с планшетом неразлучна, всегда говорила, что ей удобно работать с таблицами и письмами именно на нем. Но только сейчас Наташа задумалась: почему если все дочкины гаджеты с яблоком, то эта штука другой системы? Ни в каком эппл айди и фотопотоках Наташа не разбиралась, но нутром чуяла: здесь что-то не так. Планшет был запаролен. Она ввела Катин день рождения, это не помогло. Ввела свой день рождения: конечно, нет. Внутри стала закипать злоба на дочь. Наташа была уже готова положить эту бесполезную штуку на стол, но неожиданно для самой себя ввела день смерти Витьки. Планшет открылся. Когда-то у нее был телефон с похожим интерфейсом. Она нашла иконку фотографий, нажала. И резко отшвырнула от себя гаджет. «Это неправда. Это не моя дочь». На тяжело дышащую Наташу безмолвно смотрели со стен угловатые люди. Она медленно приблизилась к гаджету, как будто это дикое животное, и трясущимися руками подобрала. Стараясь держать планшет подальше от себя, перелистнула несколько фото. Там была Катя. Голая. С женщиной. По-разному. И селфи с мужчиной и этой женщиной в постели. В голове стало совсем горячо, и запульсировал левый висок. Воздуха не хватало катастрофически, Наташа рванула из комнаты, желая только одного: притащить сюда целую и невредимую Катю, чтобы все вернулось на круги своя, как было еще четверть часа назад.
Она неслась по серому, вязкому месиву. Казалось, ее мощная фигура может в одиночку развернуть человеческий поток на улице в нужную ей сторону. Наташа чуть не сшибла бомжа-попрошайку и, сдержав приступ рвоты, нырнула в метро. Она бы так и бежала всю дорогу, пытаясь, между всполохами бушевавшего давления, стереть из памяти увиденное. Но вагон несся сам, а ей пришлось стоять, зажатой людьми, подарочными пакетами и большими сумками. Внутри у нее все горело. «Это ненормально. Что теперь говорить людям? Ее дочь не могла пойти на такое. Она же не больная».
Представления о нормальности в постели у Наташи были стандартные. Она долгие годы считала себя Анной Карениной из-за того, что как-то изменила Витьке по пьяни. А потом все это стало неважно. Когда она клала деньги на счет, она испытывала не меньшее удовольствие, чем когда-то от близости с мужчиной. Может, Катька из-за денег? Да нет, это все они, уроды. Растлили ее девочку. Ничего, она их посадит. Она позвонит Светке, своей клиентке, у нее муж генерал МВД. Не страшно, что Катьке двадцать, может, они ее накачали чем-то. Как она могла молчать, тихушница?! Тоже мне ангел!
Наконец, Наташа влетела в «Савой». К ней ринулся охранник, но Маринка опередила его:
— Спокойно, это ко мне. Все хорошо.
Охранник с сомнением оглядел запыхавшуюся Наташу в промокших уггах, с которых текла грязь на светлый начищенный пол, сдержался и ничего не сказал.
Наташа ворвалась в ресторан и еще издалека увидела свою дочку, сидящую с полноватым мужчиной и поджарой блондинкой за столиком в центре зала. Она резко остановилась. Через бликовавшие струи фонтана она увидела, как Катя счастливо смеется и казалось, освещает пространство перед собой метра на два. Мужчина положил руку на спинку Катиного стула, как бы защищая ее худые плечики. Его супруга держала Наташину дочку за руку и увлеченно рассказывала что-то веселое. Наташа задохнулась от их счастья. Внутри разрасталась горькая, детская обида, как будто ее не взяли на праздник, для которого она так долго наряжалась и готовила пирожные, потому что лицом не вышла. Потому что это праздник для других детей, лучше ее, красивее ее. Боль в висках нарастала, и во рту появился металлический привкус. Блондинка достала небольшой пакет, и Катя захлопала в ладоши, совсем как маленькая. Как на давнишний Новый год, когда ее папа еще был жив и купил ей смешную лошадь-качалку. Пакет был знаменитого бирюзового цвета «Тиффани».
Левая рука налилась тяжестью и заныла. Наташа смотрела на это счастливое семейство, по-другому назвать их было нельзя. Не зная неприличной правды, любой бы в зале сказал, что это мама, папа и дочь празднуют Рождество. Катя в восторге перебирала фирменные карандаши. К столику подошел официант с шампанским в серебряном ведре. Смотреть на это Наташе было еще более нестерпимо, чем на фотографии с планшета. Внутри у нее все выкипело, так и не обратившись в слезы. Тяжелым слоем осело чувство, которое она еще не могла понять. Наташа медленно повернулась к еле дышавшей Маринке:
— Я надеюсь, они заказали «Моэт»?
Мастерская Марины Степновой «Даль свободного романа»
Алина Винокурова
Усница
(из романа «Я с тобой в Рокленде»)
К вечеру стали лениво просыпаться телефоны. Сигнал был совсем слабый, символический. Насупленная Новгородская область подступала внезапными ветрами, погрохатывала, выгоняла. Сопов курил на застеленном пакетами бревне. Он все еще толком не поспал. Миша и Маша ушли, и он совершенно не помнил, куда и на сколько. Впрочем, это не имело никакого значения.
Вчера здесь прошел жестокий отвесный ливень. Тропинки не стало, а передвигаться теперь можно было только по островам травы, лавируя между палаток.
— Ну а что, вон на Вудстоке тоже говно месили, — с видом участника событий шестьдесят девятого года сообщил Вовик.
Вовик никогда и никуда не приходил — он появлялся. Спрашивал, спас ли кто сегодня мир, и удовлетворялся любым ответом. Вовик выглядел, как исхудавшая сова из «Ежика в тумане», и имел удивительную, неоткалиброванную речь: соседние слова могли произноситься с совершенно разной скоростью, и от этого укачивало. Он везде таскал с собой спортивную сумку «Ruma» и катал в пальцах сигаретные фильтры, пока бумажная обертка не спадала и фильтр не превращался в метелку. Несколько пальцев не сгибались.
Он присел рядом, оглядел Сопова, потом хлопнул одной рукой по замусоленному своему колену, другой — по скамейке-бревну.
— Вообще ничего, я доволен. Марьяше тоже такое нравится. Марьяша — ты ее должен помнить. А ты тут как вообще? В смысле, вроде не очень вписываешься, что ли… По лицу видно. Я не чтоб обидеть, я так.
— Мои приятели будут играть, — фраза будто выпала из учебника по иностранному языку, и подробности за ней не успели. Сопов хотел было добавить, что его явно с кем-то путают и никакой Марьяши он знать не знает, но тут Вовик сел прямо — чистая сова — и занес руку над его плечом.
— А вот по секрету. Ничего здесь не пей. Я серьезно. Только водичку бутилированную, только водичку. И чтобы при тебе открывалась. Лучше не влезать. У меня давно так. Марьяша вот тоже больше ни-ни. С того раза. Она рассудительная, не то что я. Тебе бы понравилась… Вы даже чем-то внешне похожи, по-моему, только у нее еще, — Вовик покрутил кистью у рта, — зубки такие своенравные. Она самбо занималась, давно еще, вот и вдарили. Надо вас познакомить, — он усмехнулся и выбросил свой окурок-метелку.
— Обязательно. Она, судя по всему, интересный человек, — все это, конечно, начало утомлять.
— Спасибо… Марьяша передает тебе спасибо за добрые слова. Кстати, а что за DOM?
— Что?
— Ну, на майке у тебя. И причем тут «Бенедиктин»?
Сопов опустил голову, будто впервые рассматривая надпись на груди:
— Кажется, его монах-бенедиктинец изобрел. Вообще DOM — это сокращение, Deo optimo maximo, «величайшему и лучшему богу», что-то вроде. В языческом Риме использовалось, потом в христианский переехало.
— Вроде как дружба культур, значит. Жвачка. В Бога веришь?
— Нет. Ликер жалую.
Вовик резко качнулся, будто разбуженный на конечной станции алкоголик.
— А название у твоих приятелей какое?
— «Софья Палеонтолог».
— Да… Если б среди воров в законе были дамы, у одной из них точно была бы такая кликуха. Ну, типа, девочка Соня, злобная такая умница из бедной семьи, неоконченный биофак, дно, нищета, зона, то-се, ангел-хранитель, торговля, потом немножко рэкет, охранные агентства. А на шестидесятилетие ей дарят чучело какого-нибудь мелкого хератопса.
— У меня тетка таксидермист, — сам не зная зачем, сказал Сопов и уставился на тропу.
Те же, кто еще утром озабоченно подворачивал штаны и пробовал коснуться грязевых луж носками обуви, теперь спокойно переходили тропинку босиком и вброд, и выбирались из жижи в одинаковых коричневых гольфах едва ли не до колен. Пытаясь смеяться шепотом, пронеслась в полуметре девица. Добежала до полянки и тенью стала плясать там в одной ей ведомом стиле, размахивая верхом от купальника.
— Во дает… — крякнул Вовик, поднимаясь. — Я тоже побегу, наверное. Надо успеть вписаться к кому-то. Давай, короче! Я тебе позвоню как-нибудь, да?
— Каким, интересно, образом, — ровно произнес Сопов и только теперь понял, что дрожит по-дворняжьи на своем бревне.
— Да блин, кто орет? — буркнула ближняя желтая палатка с нашивками.
Вовик доплелся до кромки травяного островка и, чавкнув было кроссовкой в грязь, обернулся и вскинул кулак.
— Но пасаран! Я Вовик! — и окончательно исчез.
Ближе к ночи Сопова нашел Штейн, единственный в округе одетый по погоде — в древний полосатый свитер — и, называя Петром Георгиевичем (Штейн уже немного выпил), повел к остальным, потому что «честно, нет совершенно никакого смысла сидеть как сыч на завалинке». Он говорил с интонацией переспроса, всякая его фраза виляла нелепым хвостишкой. Интонационная конструкция номер три, филфак, первый курс, первый семестр, вспомнил Сопов. Они прошли мимо дредастой компании с шестью джембе на пятерых и плакатом «Мы сидим, а они рубят лес!», мимо покосившегося книжного развала, мимо освещенной светодиодными фонариками доски объявлений на перекрестке («Пропала тульпа. Звонить Сергею по номеру…»), мимо онемевшей электронной сцены и тихой фолковой. Любя и собирая на виниле то, о чем в музыкальных магазинах чаще всего не имели понятия, рядом с живой психоделической группой Сопов чувствовал себя детективом-недоучкой, преследующим каких-нибудь призрачных воров: за что браться, что читать, что слушать? Но Штейн, носивший в выцветшем рюкзачке нераспакованную пачку басовых струн Rotosound (только с плоской обмоткой!), газету «Ведомости» и пустой спичечный коробок из девяносто второго года, был и вовсе непроницаем. Глядя на пушистое длинноносое пятно, в которое превратилась его голова, едва закончилась фонарная аллея, Петя пытался представить его маленьким.
Непонятно было, кто из них первым свернул к реке.
— Какая, однако, молниеносная драка. Всегда бы так, а. Пойдем?
Женщина, похожая на таксу, прошагала мимо, жестом киношного боксера вытирая кровь с губы. Мужик с ежиком и в шароварах, в слабом свете выглядевший почти соповским ровесником, потоптался на траве, потом на мгновение перегородил дорогу и, разведя руками, резюмировал:
— Занавес, епть!
В конце пути ждала река, та самая Усница, которая подарила название фестивалю, а заодно и относительную чистоту его гостям и участникам. У небольшой заводи, где, всхлипывая от холода, пыталась искупаться целая толпа, Сопов и Штейн развернулись и пошли на световое шевеление за кустами. Там были все, кроме Языка с отпрыском: «Софья Палеонтолог», Маша с Мишей, пакеты, дождевики, бутылки и влажный хлеб, которым подкармливали какую-то дворнягу с ушами как у летучей мыши. Ира светила фонариком на свое новое кольцо. Очень толстое, почти старушечье, привезенное на фестиваль питерскими умельцами, оно было совершенно гладким снаружи, а внутри — Ира гордо снимала его и показывала — скрывало надпись: «Само не пройдет». Маша пыталась сыграть на гитаре стальными когтями, которые то и дело спадали с пальцев в траву, и приговаривала: «Старею».
Предусмотрительно нырнув лишь под самую поверхность опьянения, стараясь не смотреть на голых людей у берега, Сопов лег на один из расстеленных дождевиков. Повернув голову, он увидел невдалеке какой-то длинноногий садовый фонарь, воткнутый в землю, поломанный куст и рядом с ним кусок брезента, на котором сладко спал бородатый детина в футболке с императором Хирохито и с трусами на голове. Трусы были женские.
Миша, выманив гитару у жены, бренчал, пел вполголоса неузнанное. Кто-то сверху лениво размахнулся, ударил по ветке, и она устало поклонилась. Крошечные, аэрозольные брызги полетели Пете в лицо. Он снял очки, положил их на грудь, закрыл глаза, скрепил руки в замок. Бесконечно затихал и все не мог затихнуть вдали какой-то хитрый рифф. Метрах в тридцати, уже в реке, смеялись, будто скулили.
— Слушайте, — Сопов вдруг как был, с закрытыми глазами, приподнялся на локтях. — А Вовик вообще существует?
— О, Ленин в Мавзолее пробудился, — голос Мити, никто не слушает. — Существует-существует, куда без Вовика-то. Как-никак талисман «Усницы». Миф и легенда, блин… Я тут, кстати, слышал, что у него в прошлом году дама сердца чем-то траванулась на хиппятнике в Крылатском. Не откачали. Вот так вот. Не знаю, к чему мне это рассказали. Живет он черт знает где, бичует по факту. Жалко мужика… А ты-то где его откопал? Мне ни в этот раз, ни в прошлый не попадался.
— Сам пришел и ушел.
Жалость к Вовику, нелепая и сильная, как медведь в зоопарке, не успев родиться, уже соскальзывала вместе с раздражением, с бренчанием и плеском воды обратно в полусон, и оставались только голоса.
— Я вот, допустим, полагаю, что, когда я помру, через время родится еще какой-то человек, которого я буду называть «я». Это, конечно, не имеет отношения к переселению душ и прочей такой лабуде, нет…
Это Штейн, кажется. Точно, интонационная конструкция три.
— Миша, пошто ты так хорошо поешь? — это Ира. — Почему ты не можешь уйти от Маши и жениться на мне, например? Я невеста завидная, с дачей.
— Ирка, я тебя люблю душою, но не совсем так, как надо. Да и для дачи я еще недостаточно стар.
— А какие проблемы? Есть же ведь такой штамп, что в кино, что в книжках: не любил-не любил, потом увидел на сцене, скажем, или еще за каким любимым делом — и втрескался сразу. Сходишь послезавтра нас послушать — и все, все! Сделаем семейный дуэт. Как Carpenters.
— Они вроде брат и сестра были, Ирк, — усмехнулась Маша.
— Да какая разница…
— Дети в сугробах шумно играют в Афганистаааааааан…
Не то Андрей, не то Митя. Коньяк феноменально сближал их голоса.
— Штейн, будь друженькой, сгоняй к тем милым людям еще раз за ножиком. Тебе там на метр ближе.
— Кус мир ин тухес унд зай гезунд.
Когда кто-то растолкал его длинной настойчивой рукой, Сопов ожидал увидеть службу безопасности, но ни камуфляжных незнакомцев, ни овчарок вокруг не оказалось. Рука исчезла. На берегу было почти пусто. Ира холодным ночным коконом неподвижно стояла лицом к реке возле знака «Купаться запрещено».
— Звони в Росприроднадзор. Сволочи.
Пете привиделась страница полуразвалившейся синей телефонной книги, наподобие той, что лежала под чучелом воробушка у Тани в коридоре с начала девяностых: номер и напротив него — «Росприроднадзор. Сволочи». Ира взяла телефон обеими руками, будто в надежде улучшить этим связь.
— Не слышу! Еще раз. Точно в пятнадцатую везут?
Об интернете здесь никто не мечтал, иначе многие уже знали бы, что за несколько часов до этого дым от горящего мусорного полигона накрыл Балашиху, Люберцы и юго-восток Москвы. Близко к эпицентру была тихая Ирина девятиэтажка, из которой «скорая» увезла Ирину дочку Эмму, едва в сознании, с признаками сильного отравления, и Ирину маму с давлением и одышкой. По пути мама позвонила Ире, потом в Росприроднадзор, не зная, что в ближайшие двое суток там будет занято.
Раньше всех очнулся Андрей. Он ухватился за хвост цепочки оргкомитета и через пару часов разыскал легендарного Антоху Генератора. Выступление было отменено. Ира так и не повернулась. Маша с Мишей, обнимая ее и друг друга, ушли помогать ей собирать вещи. Митя, отец двоих, тоже куда-то звонил, с нажимом расчесывая бороду пятерней. Штейн молча увязал весь мусор в большой полиэтиленовый узел и, неся его перед собой, распорол ногу о штырь, оставшийся от спиленной когда-то переодевалки. В медпункте, который оказался бревенчатой избой с двумя стенами и вывеской «Больничка», ему сделали перевязку и велели сразу же по возвращении показаться нормальному врачу, «возможно, наложить швы» и сделать прививку от столбняка. Там же Штейн попрощался с Соповым, протянув полосатую руку. От него пахло настоящей больницей. Дворняга убрела в сторону моста. Ночь закончилась.
Обратный путь Петя не вспомнил бы и на сеансе гипноза. Порезанным диафильмом шли только несколько картин: где-то у трассы М-11 валяются болотные сапоги, самокрутку засовывают в щель между сидениями газели, телефоном стучат по колену, будто он сушеная вобла. В двадцать тридцать две Сопов вошел в вестибюль «Комсомольской». Отчего-то ему хотелось поехать не домой, а к Тане, и он двинулся вверх по красной ветке.
В вагоне из стороны в сторону ходили сквозняки и иногда попахивало проводкой. Сопов подумал об Эмме, о неприятной перспективе быть разбуженным ядовитыми парами мусорного полигона или очистных сооружений, о чуть более утешительной — не проснуться из-за них вовсе, о том, что Москва делится на Запад и Восток, что Запад есть Запад, а Восток есть Восток, и где-то в районе «Сокольников» задремал. Ему успело присниться, будто он бродит по своей квартире перед рассветом, а с потолка свисают искрящие провода. В узком коридоре их десятки, и поначалу Сопов пригибается, но, случайно задев один или два, понимает, что они совсем неопасны. Он толкает дверь в комнату, дверь не поддается, но за ней, он знает, проводов гораздо больше, и, может быть, хоть один…
Поезд остановился, и на несколько секунд вагон обложила тишина, какая бывает только в дальних поездах ночью: за окном какая-нибудь станция Дно, вибрирует далекий быстрый шаг проводницы, духота, шершавая простынь. Сопов открыл глаза. Напротив сидела старушка с мотком белоснежной сладкой ваты на голове, рядом парень в больших наушниках, который, казалось, стучал зубами в такт музыке. Где-то справа мужчина посмеивался и выводил толстым голосом:
— Дадут, ага. А потом догонят и еще дадут. Поддадут, отпускные-то, да…
Голос все никак не мог слезть с фразы, а наоборот, крутился, устраивался, как кот, в мягкой, безобидной шутке.
«Уважаемые пассажиры, просьба соблюдать спокойствие и порядок, поезд скоро отправится». За слоями каких-то досок, проводов, труб, толстых и тонких, далеко, до странного негромко, несся встречный поезд, несся в центр, к бару, где Петя имел привычку в одиночестве перечитывать тексты к собственным семинарам, к скользкой плитке, к Кремлю. Потом, через каких-то десять минут, свободнее вздохнув после «Лубянки», полупустой встречный отправится на юго-запад, туда, где в П-образном доме начала шестидесятых вместе со своими странными соседями живет Штейн.
Сопов уставился на схему метро, потом на свою сумку, рассеянно потер ее. Он чувствовал, что и сумка, и ветровка, и кожа пропахли бинтом, самодельной больницей, забинтованной ногой с уже выступившим, с пятирублевую монету, пятнышком крови, непролазным новгородским туманом, завистью и нежностью, и сквозь слои досок, проводов и труб он увидел горизонтальные полосы на штейновском свитере — светло-серая, голубая, бордовая, — и отчетливо услышал, как они гудят. «Ничего здесь не пей», — грозил несгибающимся пальцем Вовик. Вагон тронулся, трубы пошли волнами. «Само не пройдет», — отзывалась Ира, покручивая кольцо.
И Пете казалось, что он совершенно спокоен, до тех пор, пока на «Бульваре Рокоссовского» он не встал и не попытался выбежать из вагона до открытия дверей.
Таня никак не могла нашарить выключатель. Щурясь, она обняла Сопова одной рукой (он не смог разглядеть, что было в другой). Она что-то спросила. Смотрела озабоченно, и точно так же выглядывал из кухни привставший из-за стола Александр Иванович. Он промакивал ус зеленой, праздничной, салфеткой. Петя понял, что забыл предупредить о приходе. Он поздоровался, разделся, сгреб сумку, поднял, поставил обратно на пол и прошел в комнату. Там работал телевизор: камера ползла сквозь толщи осенней травы, под Эрика Сати зачитывали чье-то письмо. Под мышкой оказалось постельное белье, Таня предлагала рыбки, жаловалась на ночную вонь с полигона и просила рассказать о фестивале и правда ли, что там был БГ. Александр Иванович молчал через стену.
Когда письмо закончилось, Петя отвел взгляд от телевизора и, полуобернувшись к Тане, сказал то, чего она не слышала от него много лет:
— Я очень устал. Я пойду спать.
Юлия Жукова
Саркофаг
(из романа «Азимут»)
Смотри мне в глаза. Смотри мне в глаза.
Слова вспыхивали под закрытыми веками, как остроугольные пики кардиограммы, и, хотя сон уже расползался рваными клочьями, Алиса крепче зажмурилась, пытаясь зацепиться за голос, который приказывал ей.
Вместо этого она слышала монотонный гул толкающихся в пробке машин и тонкий скулеж ветра в щербатой раме.
Во рту было кисло и горько, пустота распирала желудок, как надутый гелием шарик, который, казалось, вот-вот поднимет ее вверх. Но тяжелую голову невозможно было оторвать от шершавой поверхности, на которой она лежала. По вискам, словно стянутым проводом, носился туда-сюда один и тот же электрический импульс, едва оформившийся в мысль.
Где я?
У нее наконец получилось открыть глаза, но это не помогло. Полумрак дрожал в незнакомой комнате: тусклое бра не освещало ничего, кроме самого себя. Наглухо задернутые шторы молчали о времени суток. Алиса поднялась на локтях и поморщилась: ребра болели от выпуклых пружин в продавленной оттоманке, на которой ее угораздило заснуть.
Воздух, сгущенный до такой плотности, что его можно было нарезать на слои, пах пылью, лекарствами и прокисшим молоком, но изнанка этой комнаты, ее потайные швы были насквозь пропитаны табачным дымом.
На полу стояла переполненная окурками креманка, в которой бабушка Луиза тушила папиросы. Она доставала их из квадратной лимонной пачки с красивым и загадочным названием «Salve». Когда бабушка перестала гастролировать и выезжать из Москвы, ей продолжали привозить их из Одессы то ли поклонники, то ли приятели — хотя Алиса не верила в существование ни первых, ни вторых.
Бабушка Луиза. Значит, Алиса на Ордынке в ее квартире.
Как же она могла забыть, что поехала ночевать сюда? Значит, вчера был эпизод. Черт. Она так хорошо держалась, почти месяц. Сорвалась, снова. Но это ничего, ничего. Все под контролем, она все исправила. Теперь надо просто встать, умыться, выбросить мусор и пойти на работу.
Какой сегодня день?
Должна быть суббота, вчера вечером она пришла сюда из редакции. Ей наконец удалось выудить связное воспоминание из липкой каши, в которую превратились ее мысли.
Алиса вышла с работы около восьми и, чтобы не спускаться в душный ад метро, отправилась пешком — до бабушкиного дома было всего полчаса. В банкомате на «Третьяковской» она сняла наличные — пять тысячных купюр — таких новых и острых, что она порезала краем указательный палец и долго не могла остановить кровь. Когда Алиса зашла в магазин в квартале от дома, с кровящим пальцем во рту, внутри нее уже закручивалась жадная воронка смерча. Выкладывая на ленту очередное эскимо, она еще могла шутить с продавщицей о погодках-сластенах, но последний предохранитель должен был вот-вот полететь. Дрожь волнами расходилась по всему телу, и центром ее был желудок, сжавшийся до размеров детского кулачка.
Больше она ничего не помнила.
А вдруг сегодня воскресенье? Пару раз во время эпизодов такое уже бывало: сознание отключалось и возвращалось спустя двое суток.
Алиса качнулась вперед, чтобы сесть, и уронила тяжелые ноги на липкий паркет. О классе нечего было и думать: за ночь ее словно разобрали на запчасти, а потом собрали в случайном порядке.
Отекшие ступни плоско шлепали по полу, ловя равновесие, язык и нёбо терлись друг о друга, как два листа крупнозернистой наждачки. Надо было срочно попить.
Спотыкаясь о разбросанные по полу вещи, коробки и пакеты, она добрела до кухни, достала из сушилки почти чистую чашку — императорский фарфоровый завод, костяные полупрозрачные лепестки, отколотая ручка — налила в нее сырую, крепко пахнущую хлоркой воду. Опрокидывала в себя одну чашку за другой, и вода тяжело падала в пустой желудок, пытаясь растянуть его. Он не поддавался, как жестяная фляга в кожаном чехле. Сухость во рту не проходила.
Где-то на столе завибрировал телефон. Алиса нашарила его под ворохом блестящих оберток, включила и чертыхнулась. Желудок, внутри которого плескалась вода, заныл, предупреждая о неизбежной катастрофе.
Восемь пропущенных от мамы, начиная с девяти утра, а сейчас — половина двенадцатого. Наверное, она уже едет сюда. И если она увидит все это, то сразу поймет, что Алиса снова сорвалась. Попытается засунуть ее в очередную лечебницу, и тогда можно будет забыть о той нормальной жизни, иллюзию которой Алиса с таким трудом поддерживала последний год.
Нет, нельзя допустить, чтобы мама приехала.
Алиса набрала ее номер, и пока монотонные гудки отмеряли секунды до очередного вранья, она морщила лоб, пытаясь сочинить что-нибудь убедительное.
— Где ты? — Спросила мама сухо вместо «Алло».
— Привет, мам. Я на работе.
— Сегодня суббота. Что ты там делаешь?
— Не успела закончить материал, мне нужно сдать к понедельнику.
— Почему ты не брала трубку? — тиски тревоги, сжимавшие мамин голос, немного ослабли, и он снова стал похож на себя.
— Забыла телефон на работе. Мам, все в порядке, перестань меня подозревать.
— Когда ты приедешь домой?
Алиса набрала побольше воздуха, чтобы ответить.
— Мам, я переехала, помнишь? Мой дом теперь на Ордынке.
— Прекрати, это смешно. Как можно жить в саркофаге?
— Ну, перестань, у тебя просто дурацкие воспоминания. Зато центр, до работы пешком. Я буду понемногу делать ремонт. Может, откопаю здесь какой-нибудь антиквариат, продам. Даже копить не придется. — Она рассмеялась, но на том конце провода стало так тихо, словно связь оборвалась.
— Элли. Я очень за тебя волнуюсь, понимаешь? — Нежный, усталый, очень усталый голос.
Прости, мама, я вру тебе, ты волнуешься не зря, я опять сорвалась, — следовало бы сказать Алисе. Но вместо этого она выпрямилась, встала в третью позицию и профессионально небрежным тоном ответила:
— Мам, у меня все в порядке. Я здорова. И я хочу жить одна. Или вдвоем с мужчиной. Но точно не просиживать твой диван.
Лгунья. Лгунья. Лиса-Алиса. Вот она кто на самом деле.
Маленькая хищная мордочка скалится в пустоту, глаза-бусины блестят притворной радостью, но шерсть на загривке стоит дыбом. Она готова в любой момент броситься на того, кто попробует выведать ее секрет.
Алиса распрощалась с мамой, сославшись на работу, и пошла в ванную. Очень скоро выяснилось, что принять душ ей не удастся: лейка была покрыта окаменевшей бело-желтой коростой, не пропускавшей даже тонкую струю. Под напором замурованной воды трубы протяжно застонали, угрожая рвануть. Алиса сдалась и включила кран. Шершавая серая ванна с рыжими подпалинами была похожа, скорее, на цинковое корыто, и залезать туда совсем не хотелось, но другого выбора не было. Она потерла пористую поверхность куском старой марли, валявшейся на раковине, вставила пробку и аккуратно, стараясь ни до чего не дотрагиваться, легла в теплую мелкую лужу.
Внутри ржавой воды ее бледная кожа казалась лиловой, словно подсвеченной изнутри. Руки, оплетенные голубыми змейками вен, коленки, симметричными треугольниками выступающие над поверхностью, ледяные ступни, которые никогда не согревались — все части ее безразмерного тела медленно утопали, становясь невесомыми. Привычными и точными хирургическими жестами она ощупала себя, словно проверяя, не потерялась ли какая-то деталь, пока ее пересобирали перед пробуждением: ключицы, запястья, позвонки, тазобедренные, щиколотки. Все косточки были на месте, ничего страшного не случилось. Можно было ослабить напряжение, шелковой лентой стягивающее лопатки к позвоночнику.
Алиса уставилась на брызги черной плесени, съедающей свободную от кафеля стену. Эта квартира погибала — гнила и разваливалась на куски, словно ее хозяйка отправилась в мир иной, прихватив с собой бальзамирующую жидкость, спасавшую потрепанный фасад от разложения. Как бабушка Луиза прожила здесь одна полвека? Как она, например, мылась в свои девяносто, если у нее не работал душ? Почему не продала этот гигантский клоповник? Купила бы новую квартиру человеческого размера, чтобы в ней можно было изредка убираться. Хотя о чем это она? Мама не зря называла квартиру саркофагом. Наверное, только благодаря ему бабушка и протянула так долго, несмотря на две пачки «Salve» в день.
Вытереться было нечем: единственное вылинявшее полотенце, которое, судя по размеру, было предназначено для рук, показалось Алисе грязным. Она кое-как промокнула влажную кожу футболкой и побежала в комнату, чтобы успеть одеться до того, как окоченеет.
Убирая последствия вчерашнего срыва, Алиса мысленно составляла список покупок: полотенце, губки, средство для мытья посуды и ванной, шампунь, мыло. Похоже, надо было идти в хозяйственный и сгребать все, что попадется под руку — здесь не было ничего, кроме соды и спичек.
Вчера она выпотрошила содержимое кухонных шкафов: столетние жестяные банки под крупы, почти все — пустые или с засохшими трупиками пищевой моли, каменные сушки, которые ей хватило ума не попробовать раскусить, тяжелая коробка из-под чая — судя по «ятям» на конце выпуклых облезлых слов, купленная на новоселье. Чай товарищества чайной торговли В. Высоцкий и Ко. Полный тезка легендарного барда до революции, наверное, разбогател, продавая симпатичные упаковки с цветочным орнаментом. Вчера Алиса пробовала открыть ее, но крышка приржавела и не поддалась нетерпеливым пальцам. Она грохнула жестянку об пол, та погнулась, но и только.
Теперь времени и нервов было больше. Алиса поддела крышку столовым ножом, покачала его со всех сторон, и наконец коробка открылась. Внутри, конечно, не оказалось ни чая, ни бриллиантов, которые начали было дразнить ее воображаемым блеском.
Сверху лежал гребень из слоновой кости, с лебедем, плывущим по озеру среди лиловых кувшинок. По гладкой эмали ползли тонкие трещины — очень может быть, они появились после удара коробки об пол. Собрав на затылке тьму длинных волос, Алиса закрепила их гребнем, как будто это была обычная заколка из магазина копеечной бижутерии.
Все остальное место занимали две толстые тетради в черных кожаных обложках с потертой гравировкой — двумя переплетенными заглавными «А». Тонкие желтоватые страницы, старомодный аккуратный почерк с идеальным углом наклона — словно кто-то напечатал весь текст курсивом.
Алиса не успела начать читать, как телефон завибрировал на краю стола и, юркой рыбкой нырнув вниз, плашмя шлепнулся стеклом об плитку. Напоминание на треснувшем экране содержало два слова: «выставка Врубеля». Хорошо, что вчера днем она еще что-то соображала и позаботилась напомнить себе сегодняшней о делах.
Вообще-то, Алиса работала в отделе ЗОЖ: модные диеты, звездные тренировки, персональные нутрициологи и фитнес-гуру — все, без чего немыслима жизнь всякой уважающей себя потребительницы глянца.
Культурой занимался отдел, существовавший в редакции как атавизм непонятного назначения: единственным искусством, достойным целого разворота, была мода. За последние полгода там сменилось полдюжины журналистов, которые или исчезали еще до окончания испытательного срока, или, не выдержав московского уныния, уезжали в Тай на вечную зимовку, или просто не отличали Брейгеля-старшего от Брейгеля-младшего. Главная хмуро шутила, что их прокляли конкуренты.
Между тем, выставка Врубеля неожиданно оказалась вполне светским событием, и об этом нужно было кому-то написать. К столетию со дня смерти художника в Третьяковку привезли самую большую коллекцию его работ — из Питера, Киева и даже из частного собрания, о котором никто не знал еще месяц назад.
— Достань мне интервью с коллекционером. — Сказала главная. Видимо, она была в отчаянии или откуда-то узнала о любви Алисы к Врубелю. Неужели читала дурацкие анкеты, которые все заполняли на общем диске? — Как собирал, почему не показывал раньше. Все нахваливают картины, но это скука: старые все видели, а новые пойдут и посмотрят. Мы напишем о персоне. Кто он вообще такой? Выпрыгнул, как черт из табакерки. Договорись о фотосессии! — крикнула она вслед Алисе, когда та уже выходила из кабинета.
Алиса понятия не имела, где разыскивать персону, но для начала надо было сходить на выставку.
Она перерыла всю сумку в поисках журналистского удостоверения, но так и не нашла его. Забыла на работе, идиотка. Теперь придется идти без аккредитации и стоять в немыслимой очереди.
В новостях уже который день показывали многокилометровую кишку, компактными петлями уложенную в Лаврушинском переулке. Люди жаловались, превращались в ледяных истуканов, но продолжали стоять за своей дозой концентрированной красоты.
Алиса упаковалась в самый теплый свитер, намотала шарф поверх мехового воротника и, нагрузившись мешками с мусором, вышла из квартиры.
Переходя на другую сторону Большой Ордынки, она едва не угодила под колеса сплюснутой, вытянутой, как футляр для очков, машины. Металлический кошачий оскал на черном лаковом капоте блеснул так близко от ее лица, что на мгновение Алиса оглохла. Это спасло ее от проклятий водителя, которого она не успела разглядеть за тонированным стеклом. Тяжело переставляя ноги, словно разбитые параличом, она доковыляла до тротуара. «Какая же ты балерина? Ты курица», — бодро сообщил ей голос бабушки Луизы, и слух сразу вернулся, вместе с удаляющимся рычанием ретро-мотора.
Алиса постояла на глазированной плитке, дожидаясь, пока адреналин и кортизол перестанут колошматить сердце и кровь снова спокойно потечет по привычному кругу.
Наконец она тронулась, как грузный товарный поезд, с усилием выбрасывая вперед плохо гнущиеся ноги.
Рекламные тумбы, верстовыми столбами проплывающие мимо нее, вспыхивали молочно-лиловым, подсвечивая фантастически крупные жирные грозди сирени. Поверх вакханалии фиолетового тлели огромные, угольно-черные ломаные буквы: Врубель.
Да иду я уже, иду.
Татьяна Ковалева
Крадущийся Мыш Высоких Прерий
(из романа «Коза, камень и море»)
Акация нагло желтела в окно, заглядывая летом. Илька лежал на кровати и читал. Неуклюжая большая книга давила то острым углом в живот, то наползала на нос, то и вовсе падала под кровать — приходилось свешиваться и шарить рукой под пружинистым брюхом. Дома бы Илька непременно наткнулся на пушистый комок пыли. Он бы его катал и тыкал почти что в кошачий мягкий бок. А потом расчихался — от аллергии не уйти — и побежал бы на кухню за стаканом воды. Вода в графине, крышечка звякает, главное ее придерживать — а то упадет и снова скол будет, Илье влетит. Ему вообще всегда влетало. За графин, пыль, книги, пружинки и голову между прутьев — а что! Какой же дурак удержится и не проверит, ведь и правда, может, не пролезает.
Но больше всего Ильку ругали за ощипанный хвост Грундильды. Ну да, ну взял он пару гусиных перышек, ну и что! Им же для дела надо было. А то, что гусыня потом на все, что движется, шипеть начала — так то все бабы такие, это Илька еще у ДядьКоли узнал. Тот когда курит, всегда что-то интересное говорит. Главное, у него под ногами не болтаться, пока он с мотоциклом возится. А так и про баб, и про Беломор, и про пращу с рогаткой у него узнать можно было.
Он однажды Илье даже такую сделал: и снаряды из орехов, и оружие. Он бы и футляр ему сделал, но не успел — змей поганый его скрутил, из ДядьКоли он стал Пьяницей-Забулдыгой и пополз пастись под забор. Таким Илька ДядьКолю не любил и побаивался. Ему то и дело прилетал подзатыльник, поджопник и в ногой-в-спину-ударчик. Больно не было — и не так летали — но обидно еще как. Только что ведь по-мужски разговаривали, о важном, о его стремительной «Яве» или об его, Илькиных, индейских приключениях. ДядьКоля подтягивал треники, садился на корты, сдвигал белый застиранный кепи на бок и улыбался ему-конопатому, блестя единственным золотым зубом. Илька тогда вырастал прямо над ним и невольно выпячивал довольно живот, и размахивал руками, рассказывая о том, как он там побеждает всех в Гороховой войне.
Дядя хмыкал, не размыкая губ, потягивал дым из папироски и сплевывал — почти всегда мимо. Илька восхищался. Настоящий мужик! Прямо как бабушка всегда и мечтала.
— А бабуль, а давай ты за него замуж выйдешь — сказал однажды ее оболдуй
— За кого ит?
— ДядьКолю!
— Ой, смишной, а, да кому ж он такой козел пьяный нужен!
— Мне. Мне очень нужен, бабуль — он такие трубки гороховые делает, а представь если б он… папой мне стал…
— Горе ты мое луковое, чому тебя ток в школе твоей учот-то.
— А чего я не так сказал-то
— Да ежли ж я замуж за него пойду, то дед он тебе станет, а никак не батя!
— А как же тогда, а?… ААА! Бабуль, так давай мы его усыновим тогда, а?
Бабушка от чувств аж полотенцем ему по шее надавала. Обрадовалась, наверное, идея-то ВО. А Илька побежал ДядьКоле рассказывать… Он даже не бежал, он летел, аж через три ступеньки прыгал, как будто за ним сама Грундильда бежит, шипит и крыльями хлопает, а он вишь и не видит ничего. Будто и он не он, а уже Крадущийся Мыш Высоких Прерий. И его духовая трубка дробно бьет о колено, призывая к бою, а Венец из перьев на голове сияет, ослепляя врагов своим великолепием. Да и кто решится напасть теперь на него, Мыша, когда он без пяти минут батькин. Когда еще поворот, и он выскочит с победным эээ-иии-аааа-ооо, поднырнет под яблоневыми ветками, кубарем перекатится через сочный зеленый дерн и вынырнет прямо к газеткам на асфальте, на которых уютно раскинулась деталями батькина «Ява». И Илька обязательно поможет ее починить — теперь-то конечно — и даже научит из гороховой трубки стрелять, а змея они вместе победят. Это просто Змей с Крадущимся Мышем еще не знаком. Да он ничего не боится, ни пауков, ни молний, ни змей! Душить он ДядьКолю вздумал, негодяй, да Мыш его сам задушит! Вот так задушит, прямо с разбега!
Илька выскочил внезапно, прямо под визжащие колеса джигитной тачки. Он по-жеребячьи подпрыгнул и с индейским криком, кажется, даже перелетел капот. Тонкие ручки взмыли вверх, гусиные перья вырвались и разлетелись, а Илька с веселым жестяным грохотом упал за машиной.
— Батька, а, вот это я придумал, а… — Илька улыбался, глядя в прозрачное небо.
Слова булькали у него в горле то ли смехом, то ли слюной. Небо загородил огромный красный нос и тут же исчез. Ильке было щекотно затылком, но встать почему-то никак не получалось и он решил немного полежать. И небо вот было не против. Смотрело на него донышком бабкиной манки. Будто Илька скребет ложечкой по дну тарелки, а теплая густая жижа все не кончается и зализывает синюю спинку неба, еще немного и она проглотит даже солнце.
В ухе вот еще что-то пищит, и никак не разобрать, хоть глаза закрывай — может, так услышит. Кто там у него. Пищит.
Артём Кулаков
Царица мертвых
(из романа «Границы Разумного»)
Золото пробуют огнём,
женщину — золотом,
а мужчину — женщиной.
Луций Сенека
После смерти Дюши бессонница Разоева вышла на новый уровень. Он практически не выходил из своей комнатки в Люберцах. Деньги закончились еще в прошлый понедельник, а он так и не нашел работу. Еще на неделю должно было хватить тех денег, что он потратил на «поросятину», но Разоев не мог даже помыслить о том, чтобы заявиться с этим к родным Дюши. «Помните, заключение было — потерял управление от неисправного дифференциала? Так это я ему этот дифференциал и принес! И он мне еще денег за него должен, кстати, с вас 10 тысяч!» Она выносит деньги, все целуются, занавес.
Похороны пристрастили Разоева к алкоголю. Но манила его не водка с салом и черным хлебом, а заунывная, тянущая, густая атмосфера смерти, витавшая над толпами соболезнующих, столами и тихой землей. Он хотел снова и снова чувствовать этот эфир, вдыхать его полной грудью и проникаться освобождением от смертных дел, которое испытывало тело покойного. Но ведь одной атмосферой сыт не будешь.
Пара голодных дней ушла на то, чтобы завести знакомство с нужными людьми в Митинском крематории. Сложнее всего было выяснить, кто где работает — сотрудники разумно не распространялись о работе в социальных сетях. Наконец, брешь в круговой обороне удалось отыскать — слабым местом оказались геометки на фото в инстаграме.
Применив свой опыт риелтора и переговорщика, он познакомился с «шашлычником» Валерием Георгиевичем — машинистом ритуального оборудования. Тот спустя пару возлиятельных вечеров рассказал, что встречается с медсестрой, забирающей на скорой покойников из домов, а все втроем с водителем они сидели в милом телеграм-чате «Митинские ангелочки», где перетирали превратности профессии, шутили и заодно обсуждали причудливые колумбарии небедных и отмучившихся москвичей.
Несмотря на то, что с 1985 года в крематории много что изменилось, желание пораньше уйти домой осталось прежним. Оно же вытолкнуло на обочину громоздкие распоряжения по почте, да и тридцать кремаций в день — это вовсе не так уж много. С бумагами все было строго, но их оформляли задним числом, а основные распоряжения сотрудники пересылали друг другу в мессенджерах — так получалось быстрее и начальство это поддерживало. Валерий Георгиевич отправлял подходящие варианты Разоеву. Подходящие — это значит, что на таких похоронах последнего вряд ли бы кто-то приметил. В неделю получалось, что Разоева могли видеть на 6—8 поминках, а погребальный персонал думал, что он вроде мужика-плакальщика, и часто просили закурить. Флегматичное лицо Разоева как нельзя лучше отыгрывало такую роль, особенно когда родственники разбирали перед ним на столе спиртное и закуску.
Дневное расписание Разоева изменилось и стало напоминать сочинские дни. Утром он отправлялся в город, вместе с похоронными процессиями — часов в десять-двенадцать. Чтобы не возникало лишних подозрений, нужно было присутствовать и на самой процедуре кремации. Ритуальных залов было всего три — он побывал во всех. Каждый раз, оказываясь в толпе чужого горя, он застывал взглядом на идеально ровных линях печи, где исчезали уставшие, откоптившие свое люди. Отделенные двойным стеклом от таинства сожжения, Разоев и чужие страдальцы наблюдали с разными лицами. Дети не скрывали любопытства и вставали на цыпочки, чтобы только достать до зрелища очищающего пламени. Правда, самого пламени не было видно — лишь отражались плясавшие тени на стенках и блестящей крышке жерла печи. Мужчины подставляли для рыданий грудь и гладили жен по черным платкам, те же лишний раз не показывали красных глаз с потекшей тушью и попеременно шмыгали.
Валерий Георгиевич без устали и с каменным лицом повторял ежедневные движения, его мощное тело никак не указывало на полувековой возраст. Черная форма крематория в моменты напряжения выдавала деревянные бицепсы. Закаленный в боях с жаром печи нос часто отражал пляшущий огонь, а острые глаза и тонкие губы не двигались. Снова и снова он загонял вагонетку с гробом, каждый раз новым, на конвейер по производству праха, чтобы после, когда родственники уйдут, смести в симпатичную кучку расплавленные золотые коронки и протезы. Он показывал мне одну из таких — смешанная с серой костной мукой грязно-желтая горошина мало была похожа на золотую — как по виду, так и по ценности. Постоянные иски от фанатиков, мечтавших уличить крематорий в доходах от многоразовых гробов (Вы сжигаете тела голыми!) или от продажи вещей покойников (Я видела пиджак мужа в комиссионке через улицу!) заставляли Валерия Георгиевича носить эти горошины с собой. Каждый раз он в подтверждение слов директора появлялся из ниоткуда и легким движением подкидывал в раскрытые ладони одну горошину, возвращая обезумевшим спорщикам рассудок. Покойничьи горошины действовали, подобно магической пилюле, которую даже не приходилось пить — оказавшись в руках, они действовали незамедлительно. «Аскорбинка» — называл их Валерий Георгиевич.
В условиях постоянного пребывания Разоева в гостиной у смерти, черное пальто стало для него рабочей формой. Вещи и раньше часто кормили его. Кормил костюм деда Мороза — подрабатывать диджеем на корпоративе было легко, достаточно иметь флешку с музыкой, костюм и деньги на аренду оборудования. Кормил пиджак — втереться в доверие было всегда проще, поправляя выглаженный у себя на животе перламутровый язык, повязанный в виндзор. Но времена менялись. Накладные плечи и целлофановую бороду заменила собственная щетина и красный от водки взгляд, а матерчатый костюм — толстое драповое пальто в пол. В нем он легко смешивался и ехал на кладбища, иногда на такси, если родственникам не заказывали автобусов. Там он научился непроницаемо смотреть в землю, пока все были заняты судорожными рыданиями. Он скорбел вместе со всеми и ни у кого не возникало подозрений. Когда спрашивали, он называл себя другом погибшего по работе. Разоев не врал в одном: скорбь и правда была его — слишком личная, злая и глубокая. Та выходила наружу яростными толчками, окружающие принимали их за беззвучные рыдания и изредка похлопывали по плечу. Скорбь сжигала все калории, что удавалось нагнать водкой и блинами — домой он приходил снова голодным и без сил мгновенно отключался.
Однажды его-таки поймали на одном из таких кладбищенских «афтепати». Разоев пренебрег правилом «никогда не смотреть близким родственникам в глаза» и тут же поплатился.
— А вы как сюда попали, — спросил единственный мужик, который не содрогался от рыданий и вообще не выражал никаких эмоций — только его кавказские брови угрожающе нависали подобно водостокам.
— Я друг Павла Васильевича, по работе. — Разоев отвлекся от блинов, водка играла в крови и придавала уверенности словам.
— Лжете. Вы только что поздоровались с собутыльниками — это могильщикам от него досталось. Те стояли в стороне и уже чуяли, что их обсуждают.
— Мне что, уже нельзя дружить с могильщиками?
— Покойного зовут не Павел Васильевич. Убирайтесь и не позорьтесь. Пока я не вышвырнул вас при ваших же, мы не нуждаемся в плакальщиках за еду.
Разоев делано посмеялся, улыбнулся и глянул на могильщиков — те как раз наблюдали за происходившим. Почему-то действительно стало перед ними стыдно, и Разоев с едкой насмешкой на губах обернулся:
— Мои соболезнования. — Он протянул мятую визитку кулинарных мастер-классов с почерком Регины, — блины ваша готовить совсем не умеет.
Юлия Линде
Советский Союз, город N., 1942 год
(из романа «Улица Ручей»)
Нет, ну я, конечно, слышал, что Марецкая живет в коммуналке, но никогда у нее не был. Да никто из наших у нее не был никогда, кроме Шубы. Шуба наверняка заходила, подруга же. Пес собачий, почему к ней иду я? Кто мне поверит? Вот если бы кто-нибудь из взрослых, но мама опять дежурит и придет незнамо когда, матери Чибиса не до того, остальные наверняка не поверят. Я и сам не шибко верю, но Генка говорит, информация из самого надежного источника, ошибки быть не может. Очень интересно, какой у него такой источник и почему Огранин ничего нам не говорит. Мы, видимо, ему идиотами кажемся, которые не умеют хранить военные тайны. Столько лет нас знает, а теперь не верит. А если с ним что-нибудь случится? Будем заново искать этих партизан или кого он там нашел?
Ладно. Второй подъезд — это точно, Марецкая всегда оттуда выходит, с этажом разберемся. На первом две двери. У каждой список жильцов. Уховы — 1 зв., Фролова — 2 зв., Чагинцев — 3 зв., Кобель — 4 зв. (очень интересно: кобель!), Адабашьяны — 5 зв. Вот так сидишь ты дома, чуть звякнуло — и каждый раз считаешь, к тебе или нет. Хуже всего, конечно, Адабашьянам, им больше всех считать приходится. На противоположной двери тоже нет Марецких. И система посложнее: Цыплакова — 1 д. +1 к. (длинный и короткий), Петрович — 1 д. +2 к. и так далее. Второй этаж. На втором полная путаница идиотская. Никаких тебе табличек, вся стена в разных звонках, и ладно, если бы по порядку висели, но нет — куча мала, а над звонками бумажки приклеены. Я сбился, потом начал искать снова, наконец, нашел! Коричневый с пожелтевшей от времени кнопкой. Нажал — и ничего, конечно, не произошло. Потому что я осёл. Электричества давно не было, какой звонок! Тарабанить пришлось довольно долго. Наконец из-за двери спросили: «Кто?» Это был голос Миры. С одной стороны, хорошо, что она оказалась дома, с другой — мне сразу стало не по себе от того, что дома она может оказаться одна, и тогда беседовать придется наедине.
— Конь в пальто! — ответил я.
— Очень оригинальный ответ, Рыжиков, — ответила она.
— Открывай давай, дело важное есть.
— Прямо уж важное.
— Я тебе Лениным клянусь, важное!
— Ну смотри.
Марецкая загремела замками и засовами, я бы не удивился, узнав, что замок здесь тоже у каждого свой. Я попал в темный лабиринт.
— У тебя взрослые дома есть?
— Мама рано ушла на рынок, дома дедушка.
— Ясно. Веди к деду. Важная информация.
— Иди за мной, наша комната в самом конце.
— Сколько тут вообще комнат?
— Двенадцать.
Я присвистнул. В коридоре стояли какие-то люди, которых я поначалу не заметил в полутьме. Интересно, почему они не открыли, а ждали пока подойдет Мира? Один дед стоял с хомутом на шее, приглядевшись, я понял, что это стульчак. В темноте блеснули дедовы очки. Ага, очередь в сортир.
— Доброе утро, — сказал я.
— Доброе, куда уж добрее, — отозвался кто-то.
— Мирка, после гостя сама мой, калидор натопчет, — раздался другой голос.
И вдруг что-то звякнуло, утробно зарычало и с ревом унеслось в недра земли. Потом цокнул крючок, по-старушечьи скрипнула дверь и послышалось миролюбивое журчание воды.
— Что ж ты, Авдеич, намывался там долго-то как, общественность не уважаешь, — упрекал женский голос, только что говоривший про «калидор натопчет». — И накурил-то как, что у черта в пекле.
— Уж лучше махорка, чем дерьмо, — справедливо заметил дед со стульчаком.
— Газету жечь надо, если смердит, — поучал тот же женский голос.
Наконец Марецкая толкнула какую-то дверь. Мы оказались в большой комнате с двумя окнами. Возле одного из окон за столом сидел в черном фартуке дед Марецкой, при свете керосинки он строгал какую-то деревяшку. В полумраке я рассмотрел пианино, белую голландку, огромную тяжелую ширму в мелкий цветок, огромные узлы из простыней и две связки книг. Марецкие уже готовились к переезду.
— Дедушка, это мой одноклассник Павлик, он пришел сообщить что-то важное.
Дед отложил деревяшку и встал из-за стола. Кажется, он был одного роста со мной и такой же худой. Но у него была полукруглая густая борода, довольно длинная и не совсем еще седая, борода добавляла солидности. Еще он был в очках, к счастью, не в таких аквариумах, как у Марецкой. Я вспомнил, что видел его много раз на улице, но никогда бы не догадался, что это дед Миры. Да что мы вообще знали про ее семью? Кажется, почти ничего. Родители и дед. Сейчас отец, конечно, на фронте, где ему еще быть?
— Очень приятно, Павлик. Меня зовут Ицхак, можешь называть меня просто по имени, без отчества, — дед улыбнулся и протянул мне руку.
Я кивнул и пожал руку, но уже решил, что лучше вообще никак стараться деда не называть, потому что без отчества слишком непривычно, а спрашивать неудобно, вдруг оно у него совсем какое-нибудь непроизносимое. Тут и имя с подвохом, с кучей согласных, попробуй выговори с первого раза!
— Садись, чая у нас нет, только морковный. Ты будешь морковный?
Как назло, из коридора снова донеслось утробное гудение и грохот водопада. Кто-то, смачно похрюкивая, высморкался.
— Не, я вообще привык уже кипяток пить, — соврал я и уселся на какой-то скрипучий стул. — Я принес тут кое-чего.
— Иерихонская труба, — вздохнул дед.
— Что?
— Трубы в уборной барахлят. Разобраться надо бы, а никому дела нет.
Как тут вообще можно разговаривать? Я сто раз уже прокручивал в голове, что скажу, но мысли все спутались. Ладно, допустим, я никакой не Павел Рыжиков, а просто «тарелка», репродуктор. Я вишу или висю на стене и сообщаю серьезным и бесстрастным голосом последние известия. Надо настроиться. Я достал ту самую шоколадку Юргена в жестяной красно-белой баночке, сел ровно и замер. Я тарелка. Тарелке все равно, ревет там вода в канализации или нет. Дед Ицхак сел снова за свой стол. Представим, что он работает и слушает радио. «От Советского информбюро…» Интересно, куда Генка утащил наш приемник. Вот бы сейчас действительно услышать наше радио! Мира вернулась с чайником. В коридоре опять возмущалась тетка, теперь она призывала «пользовать ерш, один сортир уже заколочен, скоро с ведрами во двор ходить будем».
Марецкая поставила вазочку с сухарями и посмотрела на шоколадку. Я заметил, что в косе у Миры нет ленты, но она почему-то не расплетается.
— Что это? — удивилась Марецкая.
— Шоколад. Шо-ка-кола написано.
— Откуда?
— Юрген подсунул. Давно еще. Я не брал, конечно. А потом взял… ну, после этого… Бери, я шоколад не ем.
— Спасибо. Можно я сохраню его на память?
— Глупо. Лучше съешь, что добру пропадать? Банку сохрани, если надо.
— Съешьте, конечно, — добавил дед.
— Нет, я не могу. Я спрячу, если можно. Спасибо, Павлик.
— Как хочешь.
Снова зарычали трубы. Всё, я репродуктор. Сейчас. Иначе никогда не начну!
— Вчера поступила важная информация от советского командования. Всем жителям города еврейской национальности не верить в фашистскую провокацию и по возможности скрыться. Информация о переселении в гетто является ложной. Вместо переселения… возможно, планируется расстрел.
Марецкая шкрябала по банке, наверное, хотела отскрести свастику в когтях у орла. Дед шкрябал свою деревяшку. Ш-ш-ш, ш-ш-ш, как шум в репродукторе. В коридоре шел спор из-за какой-то свечи.
— Слухи ходят разные, — сказал наконец дед. — И не знаешь, чему верить. Мой отец жил когда-то в гетто, не так уж это и плохо. Если нас хотят убить, зачем велели явиться с вещами? Кому наши пожитки нужны?
— Это не слухи, самая точная информация! — сказал я.
— Откуда она?
— От советского командования!
— Где же ты нашел это советское командование?
— Секрет.
Я смотрел на пальцы Миры. И заметил, что они очень тонкие, а вот фаланги широкие. На правой руке, которая лежит на столе, указательный и средний пальцы изогнуты вправо, а мизинец и безымянный — влево. То есть они смотрят друг на друга. Левой рукой, немного запачканной чернилами, Марецкая шкрябала. В аквариумах, как под лупой, виднелись огромные ресницы.
— Значит, слухи. Почему нас не уничтожили сразу, в первые дни? Нет, что-то другое у них на уме. Может, отправят на какие-то работы. Разное говорят о немцах, но и немец немцу рознь. Не могут они все поголовно оказаться зверями.
— Не могут, — повторила Марецкая и зачем-то сняла очки. Наверняка почуяла, что я на нее смотрю. Иногда. — Ты сам знаешь. Вот.
Она постучала по красно-белой баночке с шоколадом. Труба наконец затихла, очередь, наверное, разошлась. Теперь было слышно только навязчивое журчание воды, которая набиралась в бачок. У воды, запертой в трубы, был какой-то ненастоящий, железный звук. Я бы спятил жить в такой комнате, а Марецкие, наверное, и не замечают.
— Это исключение. Вряд ли он думал в тот момент, что делает, — возразил наконец я.
— Не думал, — согласился дед. — Но осталось же в нем что-то человеческое, так выходит? Видишь вот эту штуку?
Дед показал мне то, что он шлифовал.
— Это что? — спросил я.
— Я был в гестапо, Павлик.
— Где?! — я чуть не подпрыгнул.
— Знаешь, зачем меня туда позвали? Не догадаешься. У них там рояль из филармонии. Я этот рояль хорошо помню, я много инструментов в нашем городе помню.
— Дедушка настройщик, — пояснила Марецкая. — Он лучший настройщик!
— Замечательный рояль. Но вот пострадал немного, дека треснула.
— Рояль у фашистов? — удивился я. — Зачем им сдался наш рояль? Трофей? Переправят этого слона в Германию? Почему вы вообще согласились на них работать?!
— Инструменты как люди. У каждого свой голос и своя судьба. В чем виноват рояль? Если бы я был врачом, как думаешь, хорошо вышло бы, если бы я выбирал, кому помочь, а кому — нет? Чем бы я тогда отличался от фашистов?
— Так это рояль, он же не живой! И в целом я не уверен, что так уж нужно всем помогать. Вот мама моя, медсестра, помогает всем, а что получается? Ну вот помог ты сегодня немцу, а завтра он жив-здоров со свежими силами пойдет наших убивать.
— У каждого свой долг. Мой долг — настраивать рояли и фортепиано. Я не знаю, кто этот немец, который попросил меня настроить инструмент, но я верю, что если он способен чувствовать музыку, в нем еще не погиб человек.
«Фрицы и рояль — это уже чересчур, — подумал я. — Все равно что конь на велосипеде». Железные ручьи наконец начали стихать, теперь они урчали где-то далеко (или глубоко), но теперь капала вода. Судя по всему, капала она в таз, и поэтому звучала как колокол.
— Никогда не поверю, что этот черт Герберт Троц умеет играть на пианино! — сказал я вслух.
— Это был не он. Немцы — культурная нация и очень музыкальная. Не думаю, что они собираются нас уничтожать, как дикари. И еще вот что… им никогда не удастся нас истребить, потому что мы бессмертны.
— Как так?
— Именно так. Бессмертны. Это доказывают тысячелетия нашей истории.
— Вы мне не верите, ладно. А что если я прав? Что если всю вашу семью расстреляют? А ведь вы могли бы спасти и себя, и… всех. — Я хотел сказать «И Миру», но не смог назвать ее по имени. В глотке застряло имя.
— Тогда это будет наша судьба. Если нас действительно задумали истребить, они ни перед чем не остановятся. Не сегодня, так завтра это совершится. Впрочем, я верю в лучшее. Да и куда нам скрываться? Из города без пропуска не выберешься.
Скандальная тетка завопила, что нужно класть тряпку в ведро, а тряпку сперли, теперь «молоток в уши настукивает». Судя по тому, что капель стала глуше, тряпку тетка все же нашла.
— А если получится? Если я помогу? — сказал я.
Я и сам не знал, как собирался помогать. Но ведь у нас есть Генка, он наверняка придумает!
— Как?
— Разберемся. Всегда есть, где спрятаться, город большой. И потом… зачем вам кому-то говорить, что вы евреи?
— Везде найдется осведомитель. Я уверен, что даже среди наших соседей есть люди, которые донесут. Хотя зачем доносы? Достаточно посмотреть на нашу внешность.
— А что не так?
Я посмотрел на деда и не нашел в нем ничего особенного. Ну разве что он в шапке какой-то маленькой, это у них народная традиция, но можно ведь снять. И что? Узбеки тоже в шапке бывают, и татары, и казахи, и туркмены… А Марецкую любой дурак опознает по очкам-биноклям. Но она наверняка может ходить без них. Тьфу, при чем шапки? А очки? Русские их, что ли, не носят? Ерунда непонятная.
— Марецкая, на пианино играть умеешь?
— Нет. Только дедушка умеет. Он, наверное, мог бы стать знаменитым пианистом, но поступить в консерваторию было не так просто.
— Почему?
— Потому что. Это вам все просто.
Она снова надела свои бинокли. Я понял, что разговаривать с дедом — дело гиблое. Нужно прийти еще раз, вечером и попробовать убедить Мирину мать. Вот если бы удалось Генку поймать и сразу план придумать! Тогда я не просто пришел бы, а предложил дело. А то хорошо говорить «спасайся», а как спасаться, сам не знаешь. Ну и дурак. А дед такой спокойный, что трудно ему не поверить. Может, правда ничего с ними не случится? Я попрощался и вышел, Мира проводила меня до двери. Я зачем-то взял ее за руку. Нет, не потому, что боялся потеряться в лабиринте. Она ничего не сказала. Только у самой двери — «спасибо». И опять сняла аквариумы. Из глубины квартиры послышалась музыка.
— Дедушка, — сказала Марецкая. — Бах, «Хоральная прелюдия».
Я до сих пор держал ее за руку, оказывается. Она даже замки открывала одной рукой и ничего не сказала!
Анастасия Мальцева
Начало
(из романа «Пограничница»)
Когда у москвича все плохо, он садится в поезд и едет в Питер.
Сапсан. Красная стрела. Безымянный 056А.
Двести, семьдесят и шестьдесят километров в час.
Все проходят один и тот же путь. Все преодолевают расстояние в шестьсот пятьдесят километров. Все путешествуют из Москвы в Петербург.
По рельсам, дребезжащим под стальными колесами.
По мостам через зеркальные озера, усыпанные утками, пустотой и рыбаками.
По безлюдной железной магистрали, губящей в год сотню-другую человек.
— Вы сидите на моем месте.
Ася вскинула голову, глянула на номер сиденья. В телефоне вспыхнул заготовленный электронный билет.
— Это мое место.
— Вот смотрите, — женщина сунула бумажку.
Цифры размывались. Цифры, буквы, закорючки. Это же билет? Билет, да. Полоски, отметки — где номер?
Ася показала билет на экране. Почти уверенная в своей правоте.
Женщина въелась в него. Поджала губы, будто боялась выронить вставную челюсть. Тут же потянулась рукой, но Ася отстранила телефон от переманикюренной лапы.
— Нет, ну посмотрите: вот место номер пять. Видите?
Она стала тыкать своей бумажкой, как ценным артефактом, способным решить проблемы мира или развязать войну.
Как не поверить такой настойчивости? Вдруг у Аси вовсе не пятое место? Не пятое? А какое? Снова глаза в телефоне. В школе учили: это цифра пять. Пять. Пятерка выглядит именно так, не иначе. Не зря же она отмотала пятилетку в физмате. Даже четверка по алгебре была. Поставили бы ей четверку, не знай она цифру пять? Может, это и было уже в прошлом веке… и в музыкалке не такое забудешь… но…
— Девушка!
Ася отвлеклась от экрана.
— Я так и буду стоять?
Брови смяли лоб до извилистых борозд, рот согнулся дугой.
— Стойте.
— Нет, ну вы посмотрите! Расселась тут, еще и хамит. Молодой человек! Молодой человек!
Проводник подоспел на сипловатый голос.
— Здравствуйте. Чем могу помочь?
— Эта. Заняла мое место. И вставать не хочет.
Ася вжалась в спинку сиденья. Зубы сцепились, как у пса на горле дотошного алкоголика.
— Давайте посмотрим ваш билет, — сказал проводник.
Женщина сунула его с преждевременно победным видом. И тут же торжественно наклеенные ресницы стыдливо прикрыли опустевшие глаза, поползли на втянувшиеся щеки.
— Вам в другой вагон. Видите? Это девятнадцатый, а двадцатый вон там.
Она мигом подхватила сумки и зашаркала, расталкивая встречных пассажиров.
— Пока-а-а, — попрощалась Ася. Тихо, еле слышно. Но с отчетливой издевкой, согревшей оледенелое утро.
Облако приторно-сладких духов еще с минуту висело над проходом и спрутом расползалось по сиденьям.
Только теперь Ася заметила побелевшие пальцы, вцепившиеся в телефон. И даже когда их расслабила, руки снова впивались во все, что ни попадя.
— Сука.
Так хорошие поездки не начинаются.
Не начинается новая жизнь.
Не…
Началось.
Потолок потерялся в мареве. Оно укрывало окна, людей, чемоданы. Пожирало. Стягивало мир в размытую точку. В точке была книга. Лежала на почти невидимом откидном столике.
Там ни Норвегии, ни леса. Разве можно называть книгу как песню, если в ней нет ничего из названия? Безумие.
Голосовой фон слился с темнотой. Слился с ничто.
«Сука, сука, сука. Чтоб ты сдохла. Все из-за тебя. Тихо. Тихо, Ася, успокойся. Раз… два… вдох… выдох… три… четыре… пять… пять… Пять. Пять! С-с-сука».
Кадык мотался по шее. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Замирал. Не двигался. Снова скакал туда и обратно. Застревал наверху. Проваливался внутрь.
— Девушка, вам плохо?
— Нет.
Не было ни марева, ни точки, ничего. Только Ася, ее улыбка, проводник и поезд.
— Если что, обращайтесь.
— Хорошо.
«И где тут хорошее?»
Улыбка ушла с проводником.
«Что это опять было?..»
Ноябрь притворялся зимой. Платформу заметали смерчи вьюги. Крохотные — не осилили бы домик. Не отправили бы в сказочную страну, где выдадут мозги, сердце и храбрость.
Что бы выбрала Ася? Мозги б ей пригодились. Они бы давали видеть в поезде поезд. В человеке — человека. В книге — книгу.
Люди кутались в не по погоде короткие куртки, подволакивали чемоданы, жмурились.
Ася наблюдала за их противостоянием вьюге. Отворачивалась от утробы вагона, кишевшего пассажирами.
— Добрый день!
— Здравствуйте!
Мужчина ловко закинул поклажу на полку. Одернул свитер на пузе, пригладил бороду и уселся рядом.
— Михаил.
— Ася.
— Куда едете?
— Как ни странно, в Питер.
— Как ни странно, я тоже.
Формально посмеялись.
«Значит, нам по пути, — нормальная же фраза? Скажи. Сюда подойдет».
— Домой или в гости?
«Ну вот, уже поздно. Нечего было тормозить».
— Не домой.
— Москвичка?
— Да.
— А я из Питера. Был в командировке, вот теперь возвращаюсь.
Михаил снова пригладил бороду. И пузо. Заботливо, будто у него в нем сидел ребеночек. Переваривался. Сучил ножками.
— Конференция для преподавателей была.
Поезд медленно ожил, платформа стала отъезжать. Со своими смерчами, провожавшими и вокзалом.
— Вы учитель?
— Да. По физкультуре.
«Можно смеяться? Обидится, наверно».
— Все обычно смеются, когда узнают.
«А я не посмеялась. Это хорошо или плохо?»
Полились физкультурная философия, школьные истории, козлы, упоры лежа, скакалки.
Ася слушала. В нужные моменты кивала. Потом кивала в ненужные. Потом козлы смешались с философией, и уши милосердно упускали половину рассказов.
«Ого! Нихрена себе».
В носу Михаила был волос. Большой, длинный и черный. Губы под носом трепыхались, шевелили бороду и усы, а черный волос величаво выглядывал из ноздри и наслаждался полученным вниманием.
«Вырвать? Можно подстричь. Или поджечь! А тогда борода не сожжется?»
Михаил выклянчил улыбку.
— Да-да! Так и было! — ухнул он и заколыхался, как барабан стиральной машинки.
Ася очухалась.
«Блин, о чем он?»
— Ну а вы-то, Ася, зачем в Питер едете? А то я все о себе да о себе.
— Да… так… просто…
— Отдыхать?
— Отдыхать.
— Отдыхать — это хорошо. Хорошо-о-о. А вы не учитесь?
— Я давно закончила.
Мохнатые брови подпрыгнули, потом расслабленно опустились.
— Я, в смысле, в институте.
— Я же говорю, давно уже закончила.
— Закончили?
Копченые колбаски пальцев заелозили друг по другу.
— Закончили, значит?
— Ну… да… а что?
— Я просто думал, вы совсем юная. Девушек, конечно, о возрасте не спрашивают…
— Мне двадцать восемь.
«Еще бы паспорт показала».
— Да вы что?!
Волос в носу удивленно вскинулся. Ася растеклась по сиденью от трепета невысказанного комплимента.
— В жизни бы не подумал, что у нас всего три года разница.
Внутренние овации утихли. Ася поелозила из стороны в сторону, почесала руку обгрызенными ногтями и одернула рукав. Пониже.
— А вы не замужем?
— Нет.
— Может, чаю? Мне что-то чаю захотелось.
— Нет, спасибо.
— Горяченького, а?
— Нет, я не хочу, спасибо.
— Да ладно, самое время для чая.
И правда, может, Михаилу лучше знать? Все-таки учитель. Когда пить чай, когда не пить.
Ася неопределенно дернула плечами, и Михаил пригласил проводника. Заказал два чая и снова погладил пузо. Затем разгладил усы, задев выдающийся волос.
Чай он хлебал громко, с аппетитом, пыхтел и нахваливал. Вместо антуража поезда подошла бы банька с самоваром.
Запах бергамота пытался расслабить напряженные мышцы, напоминал о чем-то, что никак нельзя было вспомнить.
— А вы, Асенька, чего не пьете?
Ася дернулась к кружке, быстро отхлебнула. Обожглась и замерла, чтобы Михаил не заметил.
Асенька. Асенька? Может, теперь ей звать его Мишенькой?
— Я вот помню, был как-то случай такой. Сидели мы с коллегами в учительской. Я там редко бываю, у меня свой кабинет есть, я вот обычно там как-то…
Слова. Слова. Слова. Опять козлы, шведские стенки и истории.
— Я отойду, — наконец отрапортовал он и грузно поднялся с места.
Ася глубоко вдохнула. Выдохнула. И, подняв ноги на сиденье, отвернулась к окну.
Белые дорожки разделительных полос змеями извивались вдоль состава. Случайные платформы уносились в даль прошлого и оставались безымянными. Кусочки мира, слепые пятна, крепления между столицами.
Михаил не возвращался. «Срет, наверное».
Одинокая избушка выпрыгнула у железной дороги. Темно-коричневая, изъеденная временем и непогодой. Каково это жить в вечном гуле проносящихся поездов и так никуда не поехать?
Обрывки путешествий падали на пустынный дворик: окурки, мусор, бутылки, — сувениры для оседлого хозяина.
За закрывавшимися веками рисовался мир одинокой лачужки, его несчастных жильцов и безвременья.
— Станция Тверь.
Язык прилип к небу, Ася приоткрыла глаза и зевнула. Потянулась, села на попу.
— Как спалось?
«Да блин…»
— Хорошо, спасибо.
— А ты, на удивление, свежо выглядишь. Обычно девушки после сна все помятые. А ты красивая.
«Ты?»
— Спасибо.
— А я еще чайку себе заказал.
— М…
— Будешь?
— Да нет, я еще тот не допила. Спасибо.
«Спасибо, спасибо, спасибо. Пошел в жопу».
— Помню, как-то мы с товарищами пошли на стадион. Наш местный. Так вот один из них…
«Бла-бла-бла-бла».
Ася отсчитывала секунды. Набирала минуты. Прикидывала порог приличия, за которым снова можно поспать.
— А что ты читаешь?
— А?
— Норвежский лес?
— А… да…
— И как?
— Ну… интересно. Мне нравится. Хотя стиль на любителя, почему-то навевает Сэлинджера…
— А то я такое обычно не читаю. Вообще редко почитать удается — не до книжек. Работа. Да, работа, сама понимаешь. Когда получается, беру детективы какие-нибудь. Люблю угадывать, что убийца — садовник.
Пузо заколыхалось, ритмично, завораживающе. Ася изобразила благопристойный смех и с трудом оторвалась от жизни живота.
Мысль продолжала рассказывать о книге. О том, что не нравилось. О том, что зацепило. О том, что не было там никакого леса.
А за окнами расползались леса. Плотные хвойные стены облепляли долины по бокам от дороги. Лысые ветви осин и берез содрогались от беспутного ветра.
— Отойду ненадолго.
Стоило Михаилу встать, посветив ложбинкой зада, как Ася снова прилипла к окну.
«Надо было пустить ту тетку на свое место. Чтобы подавилась болтовней Михаила».
Когда он пришел, она так и не повернулась.
С улицы таращились захолустные дыры. От одного взгляда на них хотелось проклясть себя за жалобы и недовольства собственной жизнью. Но Асе не удавалось поймать благодарность. Благодарность за то, что она не жила в такой же глубокой жопе.
Жопы бывают разные, и вне зависимости от их глубины они все остаются жопами.
Унылые заводы, покоцанные домишки, полуразвалившиеся дома культуры и бескультурья, — все удручало. Еще больше, еще сильнее заставляло чувствовать боль земли. Свою боль.
Среди тьмы захолустья аномальными клыками торчали новостройки. Вычурные, лишние, никчемные. Им здесь не было места. Не было места ничему новому, радостному. Не было места счастью.
— Мама, смотри, как красиво! — пропищала девочка на руках у прошедшей мимо женщины.
Ася осмотрительно не обернулась. Сдавленно зевнула.
Михаил поджидал. Прихлебывал уже третий чаек.
«Да чтоб он сдох… дотошный идиот…»
Из-за него приходилось спать. Притворяться спящей. Неудобно ютиться лицом к окну. Только бы он не увидел открытых глаз. Только бы не завел шарманку про свою дурацкую жизнь. Кому она была интересна кроме него? Глупого физрука среднеобразовательной школы.
В полусонном окне мелькала мама. Она усердно натирала его газетой. Никаких разводов. Все должно было быть идеально.
Со стороны улицы виднелись блестящие окна, дальше шли шторы. Время от времени из-за них выглядывали люди. Мама. Ася. Очередной случайный отец.
Шторы набожно скрывали семейный сор: от покрывшегося плесенью хлеба до тихих побоев.
Мама мыла окна каждую неделю. Драила до иллюзии отсутствия стекол. Она смотрела на мир из окопа. Следила за прохожими, усмехалась над соседской дурочкой, таскавшей полусгнившие ботфорты.
Ася смотрела в окно и вместо мелькавших окрестностей Твери видела скудное отражение идиота.
Надо было мыть лучше.
Мочевой пузырь — в пути не товарищ. Можно было попробовать дотерпеть до Питера — но люди слабы, и Ася не выдержала.
Михаил учтиво выпустил ее и стал поджидать возвращения.
Ася заперлась в туалете, крохотном, как кладовая. «Как он тут со своим пузом помещался?»
Запах предыдущих посетителей не давал дышать носом.
Бумажным полотенцем она протерла сидушку и аккуратно выстлала ее туалетной бумагой. Сидеть было неудобно — качало. И почему так не качало в вагоне? Какие-то особые спецэффекты, унитазные горки.
— Бологое, — сообщил поезд женским голосом и остановился.
Смыв с тревожным рыком засосал остатки чая. Ася вымыла руки, вытерла и осторожно запихала полотенце в урну.
Хорошо, что в Сапсане можно было справлять нужду во время остановок. Не то, что в старых жестянках на колесах. Живо представился холодный туалет с окном, из которого сквозила непогода. Лед металлического унитаза и неприветливый свет. И Ася, запертая в клетке сортирных приключений. Проводник, стучащий в дверь, чтобы она не вздумала смывать свое богатство — пусть сидит и ждет, когда поезд отъедет от пустынной платформы.
Все снова пришло в движение. Минута на посадку-высадку. Кто не успел, тот будет мерзнуть в Бологом и пытаться вернуть время.
Ася уставилась в зеркало, протерла уголки глаз, проверила нос на наличие выдающихся элементов.
Что бы еще сделать? Не идти же обратно. С другой стороны, всем станет ясно, что она гадит.
Пришлось возвращаться.
Ася прошла свое место. Уткнулась в конец вагона.
— Попросили пересесть, — сказал Михаил, оказавшийся у самой двери.
Ася обернулась. Вместо него теперь сидело маленькое нечто с жидкими хвостиками и планшетом.
— А… а я по вам ориентировалась и проскочила. Пойду.
Михаил выжидающе кивнул.
Асю качало будто от хода поезда. Она встала рядом с ребенком. Ребенок болтал кривоватыми ножками и не обращал на нее внимания.
— Катенька, пропусти тетю, — сказала женщина сзади. С ней был еще ребенок — мальчик лет пяти.
Катенька подняла голову и поджала ноги.
— Спасибо, — поблагодарила Ася. И Катеньку, и ее маму.
«Тетю… тетю, блин…»
Девочка сидела тихо. Мальчик тоже не скулил. Михаил не приставал с разговорами. Ася смотрела в окно и глотками проталкивала ком в горле.
В конце концов, он от нее отсел. Как пить дать, Ася ему не понравилась. А болтал из вежливости. Иначе бы наверняка остался.
Она отгородилась от вагона наушниками, от сопящего дыхания Катеньки, от разговора парочки, болтавшей через проход.
Но чтобы заглушить мысли, музыки было недостаточно. Чем больше шума выливалось из наушников, чем сильнее визжали гитары, тем дальше была Ася. Она не слышала ничего кроме навязчивых историй прошлого. Кроме сомнительных перспектив, возможно, невозможного будущего. Кроме страхов, от которых пыталась бежать. Они ехали с ней на сиденье, из-за которого ныла задница. Они смотрели на потускневшие фото мира в окне. Они были с ней.
На столике все еще покоились недопитый чай и открытая книга. Ася заставила себя читать. Чай не трогала.
Что-то было противное в этом чае. С отвратительным запахом бергамота.
Одна страница, две, три, двенадцать.
Глаза стали закрываться. Дурить было некого, а спать хотелось. Ася отложила книгу, и во сне смешался вычитанный в ней пансионат и обрывистые воспоминания.
И уже казалось, будто это она была в одной комнате с сумасшедшей.
Будто она сама была сумасшедшей.
Приближался Московский вокзал. Ася потерла глаза и слишком поздно вспомнила о туши.
— Блин.
Полезла в рюкзак за салфетками. Из его переполненного брюха выглядывал плюшевый лисенок. Она погладила его и с трудом отыскала салфетки. Стала протирать нижние веки.
Катенька косилась на лисенка. Ася заметила ее взгляд и, задернув молнию, отвернулась к окну.
На нее смотрел снеговик. Дряхлый балкон привокзального дома. А на нем — снеговик. Маленький. Тоже игрушечный. Посеревший от постаревших новых годов. Он из последних сил приветственно махал рукой-палкой. Трогательно и жалко.
Казалось, и там жили сумасшедшие. И то ли делились счастьем, недоступным нормальным. То ли хоть как-то приобщались к миру, в который им не продали билет.
— Давай помогу.
Ася вздрогнула, когда на платформе Михаил выхватил сумку.
— Спасибо.
«Опять он».
Мысли улыбнулись. Все же не плевать ему на нее. Не плевать.
— Там женщина с двумя детишками зашла — на Бологое — а сиденья в разных местах. Попросили поменяться с девочкой. Не откажешь же. Дети — цветы жизни.
— Угу…
— А ты далеко сейчас?
— Меня встретят.
— А… тогда, может обменяемся номерами?
«Блин…»
— Угу…
Михаил записал Асин телефон и тут же его набрал. Такого не обманешь.
Ася осталась на вокзале, а он поторопился в метро, чтобы проскочить до часа пик.
Она выждала минут десять и вышла на улицу. Идти было недалеко. Никто ее не встречал.
Некому.
Мария Орлова
Хулиган
(из романа «Спасение утопающих»)
Общежитие казалось вымершим — как всегда посередине лета. Футбольное поле у подъезда уже начало зарастать зеленым, застывшая глина под сводами облупившихся ворот пошла трещинами. Трибуны пустовали. Даже псы, обыкновенно стаей дремлющие в траве вдоль газовой трассы, и те куда-то подевались.
Потревоженная дверь взвизгнула, Егор поморщился: пять лет собирался лично переварить петли, да так и не собрался. Смазывал, подтягивал — не помогало, дверь продолжала звучать и вибрировать. Днем почти не слышно, а вот по ночам, или сейчас… Егор шагнул в стекляшку холла, дверь хохотнула за спиной. На звук появился вахтер.
Незнакомый. Молодой, одет как Егор, только почище, и по размеру. Не из студентов, хотя лицо показалось смутно знакомым.
Увидев в дверях Егора, парень невольно отшатнулся, сделал шаг назад, но тут же опомнился, вытянулся, расправив плечи.
Егор тоже приосанился, и уверенно двинулся в обход турникета:
— Добрый вечер, двадцать шестая.
Юный вахтер решительно преградил путь телом.
— Закрыто.
— Пропуск в номерах, — с наигранной беззаботностью сообщил Егор, — нет с собой.
— Закрыто общежитие. Ремонт, — молодой опасливо отстранился, но с пути не отошел, только добавил, будто оправдываясь: — Вчера тараканов травили.
— Знаю, что закрыто. Я тут все лето живу. У меня с Борисовной уговор.
Егор собирался пробыть в общаге до августа, пока не начнут заселять первачей. Договор истекал в конце июня, но так бывало каждый год, и каждый раз удавалось договориться с комендантшей: услуга за услугу. По общаге ходили слухи, что услуги, которые Егор оказывал Борисовне, носили сексуальный характер — слишком многое ему дозволялось. Даже девки. Даже жить одному в трехместной комнате. Платить приходилось за троих, но все равно выходило сильно дешевле, чем снимать в городе, и до института пешком — время тоже деньги.
Никому и в голову не приходило, что дели Егор кровать с комендантшей, привилегии его ограничились бы комнатой, без всяких девок. Девки дозволялись за куда более особые услуги: пользуясь служебным положением, Егор справил ей новые окна, за бесценок, ставил лично, ручаясь за качество. Заодно подремонтировал квартирку, уложил плитку над кухонной мойкой, заменил унитаз. Денег не брал, работал на перспективу, и не напрасно — три года жил в комфорте, позволял себе ходить без пропуска, и, главное, оставался в общаге летом.
— С Борисовной? — переспросил вахтер. — Ты, что ли, Егор?
Егор облегченно выдохнул.
— Егор. Белов. Двадцать шестая.
Лицо вахтера расплылось в улыбке. Зубы его, как будто набранные из разных комплектов, торчали невпопад, в точности, как у комендантши.
— Ну, ты даешь, братишка. Реально круто. Только на фига ты это? — поинтересовался вахтер, не переставая улыбаться.
— Кто, если не я? Никто не услышит мой голос, если я буду молчать, — Егор невольно повторил интонацию, с которой эту фразу произносил Тереза. Получилось немного картинно, но на вахтера впечатления не произвело.
— Ну и не молчал бы. А чего без штанов-то?
Егор не сразу нашелся, что ответить. Воодушевленные речи Терезы о том, что одежда — это искусственный барьер, выдуманный человеком дабы подчеркнуть свое превосходство над миром животных, прозвучали бы здесь нелепицей, поэтому ответил честно:
— Случайно вышло.
— Ничего себе, случайно. Тут такой шухер был! Носи с собой паспорт, брат. Всегда носи. Клади в карман. Может, тогда и штаны забывать перестанешь. Хорошо, мать его сразу нашла.
— Чья мать?!
— Моя. Борисовна, — пояснил вахтер, но спина Егора уже успела покрыться испариной от мысли, что обстоятельства вдруг подвигли его мать появиться в его жизни.
— Хорошо, — выдавил он, выдыхая. Чего разволновался-то? Даже если бы и мать. — Домой-то пропустишь?
Вахтер скорчил скорбную мину.
— Проблема, брат. Тебя выселили. Ты отчислен. За хулиганство, приказ ректора, все дела. Говорю же, шухер тут был лютый.
Новость об отчислении поразила Егора, но не то чтобы сильно. Как будто речь шла не о нем самом, а о каком-то его знакомом, или это просто сон, не взаправду. Не по-настоящему.
— Так. А где мои вещи?
— У мамы в кабинете. Во вторник заберешь.
Эта новость ошарашила Егора куда сильнее предыдущей.
— В смысле? Почему — во вторник?!
— Потому, что у меня ключа нет. А мать в деревне, до вторника.
— Как — нет? На вахте должен быть ключ!
— Должен. Только он один и есть, который должен. Она его всегда с собой носит.
— Зачем?!
— Затем, что здесь шакалы бродят. А в кабинете даже сейфа нет. Не финансируют.
Действительно. Сам же замок врезал. И коробку укреплял по периметру.
— Черт… И чего мне теперь делать?
Вахтер покачал головой: без понятия, брат. Сам решай. Егор решил решать.
— Телефон есть?
— Есть, — кивнул вахтер, извлекая из кармана древний кнопочный аппарат с торчащей антенной. — Сто рублей минута.
Егор так уставился на кривозубого охранника, что тот поспешил пояснить:
— Шучу. Звони. Героям бесплатно.
Егор уложил в ладонь аппарат, провел пальцем по кнопкам. У него самого давно был современный смартфон, подвязанный на все актуальные сервисы, со списком контактов, продублированным в облаке. Где он теперь, этот смартфон? По собственной памяти он мог набрать только два номера. Первый — в офис фирмы «Горстроймонтаж», где он работал мастером по установке светопрозрачных конструкций, и был на хорошем, даже отличном, счету. Второй вспоминать не хотелось.
Таня ответила сразу. Сезон.
— Горстроймонтаж, Татьяна. Чем могу помочь?
— Таня? Это Егор. Белов, — пояснил он, как будто в конторе трудились и другие Егоры.
— Ой, Егорчик! Привет, — обрадовалась Таня, — ты как? Уже выпустили?
Знают, понял Егор.
— Да. Час назад.
— Ой, супер. Ты нормально?
— Более-менее. Чего там у вас?
— У нас, Егорчик, атас. Монтажи горят. Шеф бесится. Хотел тебя уволить за прогулы, а Люда говорит, не имеем права, так у него прямо припадок был. Монтажников нет. Объявление висит, толку ноль, шеф орет, все орут. Заказы висят. И денег опять нет, мне за июнь еще не давали. Я сегодня даже плакала, — доверительно сообщила Татьяна.
— Ясно.
— Егор, — она заговорила быстрым полушепотом, — ты там держись, ладно? Ты молодец. Мех — это зло. Я тебя поддерживаю, слышишь? Ты держись.
— Буду, — пообещал Егор.
Про мех Егор не понял. Он вообще мало что понял. Чего он такого натворил, чтобы его, опытного и работящего монтажника, уволили в разгар сезона? Он просто вышел под утро на улицу, раздетым. Раздетым совсем. Не помня себя, добрался до центра. Там был принят патрулем. Сначала заподозрили, что он пребывал в состоянии наркотического опьянения, но медкомиссия это быстро опровергла. Впаяли административку за хулиганство. Ничего хорошего. Но и ужасного — ничего! С институтом было ясно, дефиле случилось в аккурат накануне защиты диплома. Собственно, защитой все и объяснялось: научрук, желая получить Егора себе в аспиранты, придирался к нему с особенным пристрастием — оказывал честь. Диплом переписывался трижды, и все это без отрыва от работы: кризис в стране миновал, и заказы сыпались градом. Егор учился вечерами и по ночам, днем трудился, а в промежутках тоже трудился, мимо кассы конторы, на себя, и на износ. Переоценил свои силы, нервная система дала сбой. Отбывая наказание, непрерывно спал. Даже когда не спал — не положено — пребывал в полудреме, отдыхал. Первый раз за шесть лет.
— Ну как, брат? Разрулил?
— Пока не очень. Сейчас, — Егор заторможено размышлял. Снова звонить Лике, после ее истерики, не хотелось. Он говорил с ней после суда — она рыдала, обвиняла Егора в том, что он ее опозорил, и вообще — обвиняла, в итоге велела забыть ее номер. Он, даже с облегчением, решил забыть: Лика уже начинала ему надоедать.
Был еще один, третий вариант — Тереза. Он заставил Егора выучить свой номер, ежедневно проверяя Егорову память. Видимо, так хотел получить обратно свои штаны. Терезу отпустили на час раньше Егора.
Штаны Егора очень выручили. Колбасу, которой Тереза щедро делился, Егор старался не брать. А от штанов и футболки отказаться не смог. Он и теперь стоял в этой одежде. В груди скребло от давно забытого ощущения собственной беспомощности. Вечер пятницы, идти некуда. Возможно, с утра удастся снять денег со счета, купить одежду и арендовать хоть какое-то жилье. В понедельник следует поговорить с научруком. Зайти в офис. Как-то снова налаживать жизнь. Но это только через два дня. А пока хотелось поесть чего-то съедобного, лечь на ровное во весь рост, уложить гудящую в унисон с ногами голову на широкую подушку где-нибудь в комнате с распахнутым окном, чтобы воздух, и так и лежать, пока минус не сменится на плюс и энергия не потечет в обратном направлении, снова заполняя тело и душу. Егор знал, что силы обязательно вернутся. Все вернется. Не может быть, чтобы не вернулось.
Ничего. Лучше Тереза, чем Лика. Раз в жизни можно и попросить, ничего страшного. Надо.
Гордость не позволила просить у вахтера взаймы, так что пришлось снова идти пешком. Метель в голове улеглась, не успев разыграться — Егор как будто функционировал в энергосберегающем режиме, выжидая, пока ситуация обретет определенность, и он сможет составить четкий план что делать и как теперь жить.
У него всегда был план, а на случай, если что-то пойдет не так, непременно имелся запасной. Еще подростком Егор четко понял, что без хорошего плана ему в жизни ничего не светит — и принялся работать. Выбрал профессию, которая казалась хлебной, окончил школу, сделав упор на необходимые для поступления в сильнейший вуз города предметы. Сразу поступить не вышло, и Егор спокойно отправился служить, зная, что институт имеет добрые отношения с военным комиссариатом, и поддерживает отдавших долг Родине. Через год он был зачислен, получил место в общежитии, перебрался в город и сразу нашел работу — его карьере в «Горстроймонтаже» ближайшей осенью должно было исполниться пять лет. Учился не слишком прилежно, но в целом неплохо, лучше многих, выручал быстрый ум и хорошая память. Много работал, накопившееся напряжение снимал в спортзале: сильнее стресс, мощнее пресс. Заработанное откладывал, копил на жилье. С девушками, когда в них возникала острая нужда, предпочитал действовать по программе подарок-ресторан-интим. Рассчитано и запрограммировано. В общем, неудивительно, что друзей у него не было. Егор относился к этому факту с грустью, но без драмы: он помнил поговорку «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Ровесники прожигали свои жизни, растрачивая время на посиделки и треп. Они хотели пива, выясняли отношения с девчонками, братались, дрались, шарились по клубам, фотографировались, лазали по крышам, искали денег или просто стреляли сигареты, сидя на деревянных трибунах общажного стадиона. Каждый раз, когда Егор проходил мимо, голоса смолкали и смех прекращался — чтобы взорваться снова, когда Егор отойдет на достаточное расстояние. Никто ни разу не попросил у него сигарету. Может потому, что все знали — он не курит.
Если бы он курил, возможно, что-то складывалось бы иначе. Возможно, он тоже проводил бы вечера за веселым трепом на заборе, не испытывал бы переутомления и не выходил бы на улицу спящим и раздетым. Не провел бы две недели в спецприемнике. А если и провел бы, то не попал бы в камеру для некурящих, не познакомился бы с Терезой, задержанным в ту же ночь. Тереза, как и Егор, бродил под утро по улицам, голым. Со свистком во рту, размахивая шваброй. На швабре раскачивались подвешенные за шеи плюшевые псы и коты. Тереза размахивал и свистел. Это был его протест против травли бездомных животных. Он хотел привлечь внимание, и у него получилось: на суде стало понятно, что акция попала в объектив камер местного новостного канала. Благодаря совпадению, Егора тоже сочли зоозащитником. Он не возражал. Наказание впаяли за компанию, максимальное: Тереза был злостным. Егор и здесь не возражал, понимал, что бесполезно.
Когда пропитанный потом и пылью Егор явился по названному ему адресу, уже начинало темнеть.
Это был частный дом на рабочей окраине города, где появиться на улице в тренировочных штанах и резиновых тапках не было признаком дурного тона. Ряды разноцветных заборов, асфальт разбит, тополя опилены. Ни людей, ни автомобилей. Тишина.
Забор был выкрашен в небесно-голубой. Калитка нараспашку, за ней дикий сад, и дом — небольшой, коренастый, кирпичный. На окнах решетки, дверь из железа. Смонтирована хорошо, отметил Егор. Света в окнах не было. Поискал звонок — не обнаружил. Подергал дверь — поддалась.
Егор заглянул в темный коридор. Где-то в доме ухал басами телевизор. Пахло краской, но не той, какой красят заборы — пахло как в школе, в кабинете, где проходили занятия по труду: фанерой, гуашью, клеем. Запах показался Егору тревожным — с кистью он не дружил.
Егор остановился в нерешительности. Постучал о косяк, раз, другой — никто не отозвался. Пройти в дом, означало напугать хозяев — решат, что их грабят. Может выйти скандал. Уйти — значит, ночевать на автобусной остановке… Уханье на миг прекратилось, и Егор решился: пригладил волосы, расправил плечи, и прошел по коридору вперед, туда, на звук. Увидел слева открытую дверь, за ней темную в сумерках спальню, большую кровать. Пустую. Из окна было видно калитку. Захотелось завалиться на эту кровать, да и уснуть: хозяева, обнаружив огромного спящего мужика, тихо вызовут полицию, и вопрос с ночлегом будет решен. Но так нельзя. Да и перед Терезой неудобно.
Вторая дверь была закрыта. Источник звука скрывался за ней. Не телевизор — негромкая музыка. Егор постучал, переждал два вдоха и открыл дверь.
— Прошу прощения…
Ухали огромные напольные колонки. Вид у них был недешевый. Хозяин обнаружился здесь же: сидел в огромном кресле спиной к двери, уставившись в монитор. На мониторе — чертеж, выделены цветные полигоны. Человек был занят работой. Егор еще раз постучал костяшкой пальца о дверное полотно, и, постаравшись придать голосу мягкости, произнес:
— Я очень извиняюсь…
Сидящий человек обернулся на миг, и снова отвернулся. Егору показалось, что перед ним женщина. Точно, напугал. Сейчас будет звонить в полицию… Музыка затихла. Цветные полигоны сменились равнинным пейзажем. Кресло развернулось.
— Да?
Хозяин все же оказался мужчиной, молодым, определенно помладше Егора. Сходство с женщиной ему придавала розовая спортивная фуфайка и длинная челка, зачесанная назад. Испуга в его лице не читалось, наоборот, он с любопытством уставился Егора. Егору вдруг сделалось неловко от его взгляда.
— Я очень извиняюсь. Я стучал. Там дверь открытая… Мне бы комнату снять… На время…
Хозяин, не стесняясь, внимательно оглядел Егора с головы до ног. Оценил костюмчик, тапочки, торчащие из них сбитые, серые от пыли пальцы.
— Извините, — Егор сделал шаг назад, — я ошибся, наверное. Прошу прощения. До свидания.
— Да подожди ты, — хозяин, быстрыми движениями одернув закатанные рукава, поднялся с кресла, — Комната срочно нужна?
— Срочно.
— Ясно. Что, сложная жизненная ситуация?
— Точно.
Егор хотел было сообщить, что явиться сюда ему рекомендовал Тереза, но вдруг понял, что не знает, как об этом сказать: фамилией товарища по несчастью он так и не поинтересовался. Он и насчет имени не был вполне уверен. Кажется, Терезу звали Максимом, но это совсем не точно. Странно проторчать с человеком в камере две недели, и так и не поинтересоваться его именем… Отсюда странно. Там было нормально.
Конечно, Тереза представился при знакомстве, но оглушенный происходящим Егор тогда с трудом воспринимал действительность, и память информацию не отложила. А потом уточнять имя соседа не было ни повода, ни смысла. Тереза есть Тереза, он и сам себя называл только так. Егор решил молчать, может, и не спросят.
Хозяин и не собирался спрашивать. Он просто протянул Егору руку:
— Всеволод Краев. Друзья кличут Краем.
— Я Егор. Белов.
— Насчет комнаты я подумаю. Тебе, Егор, есть, где сегодня ночевать?
Егор пожал плечами:
— Найду, где. Ночи теплые. Не проблема.
— Ясно. Не надо ничего сейчас искать. Я один, спальни две. Можешь здесь остаться. Простынь чистую найду, вода горячая есть. Насчет пожрать сейчас решу.
— Только такое дело… У меня денег нет. То есть деньги есть, но не с собой, их снять надо. Из банка. Карты тоже нет…
— Это я понял, — кивнул Краев. — Не проблема. Пойдем, покажу, где вымыться, — он обогнул Егора, щелкнул выключателем в коридоре.
— Подожди, Всеволод, — засуетился Егор, — держи мой паспорт.
— На кой фиг он мне?
— Ну как… На всякий случай. Кто я, что я. У меня ничего больше нет.
— Не надо.
— Как так — не надо? Ты же меня не знаешь! Я же просто с улицы зашел! Мало ли, что у меня на уме? Ты что, не боишься?
— Не боюсь. Я вообще мало чего боюсь, — Краев облокотился на стену, и еще раз оглядел Егора с ног до головы. — Чего мне твой паспорт? Хватит того, что на тебе моя одежда.
Светлана Рейснер
Марина Загорская
(из романа «Былое и мы»)
Марина Загорская жила в городе Зеленограде с самого своего детства. Мама — воспитательница в детском саду, папа — водитель-дальнобойщик. Еще правда был кот, почему-то Альфредо. Имя дала ему Марина, наверное, вычитала где-то. Читать она научилась рано и сама. Всю жизнь потом читала бессистемно и беспорядочно, третьесортный любовный романчик параллельно с Маркесом и Достоевским. Жили Загорские в малогабаритной двушке, под крышей панельной пятиэтажки. Крыша протекала, и перед сном Марина рассматривала подтеки на потолке всех оттенков желтого: от едва уловимого, соломенного, до густо-охряного, с явной примесью бог весть откуда взявшейся ржавчины.
Училась Марина так себе. Круглые упругие тройки перемежались у нее в классном журнале с угловатыми, гораздо менее нахальными четверками и уж совсем редко проскакивали немного удивленные, но от этого не менее прекрасные пятерки. По труду, например. Была Марина девочкой усидчивой и аккуратной, с той мерой внутренней интеллигентности, которая дается только при рождении, и которую не способны вытравить из человека ни прозаическая жизнь на задворках яркого столичного мира, ни влюбленность в Сашу Ситникова из соседнего подъезда, который, каждый раз как видел Марину, неизменно сплевывал на изрытый временем асфальт густую слюну.
С Сашей не сложилось. Для него она как-то совсем мелко плавала. Зато к одиннадцатому классу прибился откуда-то Сережа. Здоровый, метра под два, с телячьим взглядом из-под по-девичьи густых ресниц. Они гуляли, сцепив руки в сквере у кинотеатра «Электрон» и мечтали о том, как по окончании Мариной школы (Сережа уже заканчивал профучилище на автомеханика) поженятся, как им дадут комнату и заживут они крепко и дружно, совсем не так, как их родители. А потом Сережу увела лучшая (по крайней мере, единственная) Маринкина подруга, Ленка Соколова и теперь они, сволочи, жили в соседнем подъезде и каждый раз, выходя на улицу, Марина с замиранием сердца думала: встретит, нет?
В институт она не поступила. Надо было выбрать в педе факультет попроще, а то ишь ты, иностранные языки. Да и кому они нужны, эти языки, разве что выездным… Пошла на курсы официантов-метрдотелей. За исполнительность, аккуратность и миловидность попала по распределению в столовую при ЦК партии. Там она его и встретила.
Солидный, холеный, сразу видно, что не из соцблока. Он сидел у самого окна и жиденькие, сквозь занавеску, лучи московского июньского солнца казались бледными и жалкими на фоне этого южанина. Спросил негромко по-английски, едва перекрывая столовский гул, что она посоветует и тепло улыбнулся. Марина едва заметно улыбнулась в ответ:
— Bitochki are good.
Он ел неторопливо, как все знающие в жизни толк люди. Марина иногда ловила на себе его взгляд, он кивал, жестом благодарил за биточки.
Через пару дней пришел снова, потом еще раз и непременно садился за Маринин столик. Пытался о чем-то расспрашивать, но из-за скудного запаса школьного английского, Марина лишь испуганно смотрела на него и смущенно кивала. Она уже знала, что зовут его Сальвадор Альварес и что он атташе по культуре далекой и абсолютно незнакомой Чили. Вот Куба — другое дело, про нее хоть в новостях говорят. А Чили? Это же, как другая планета.
Что ей больше всего нравилось в чилийце, так это то, как он пах. Наши партийные либо надушатся так, что хоть топор вешай, либо разит от них честным коммунистическим потом. А этот пах едва уловимо. Чем-то знакомым, грустно-сладким, Марина все никак не могла понять чем.
— И чего он сюда ходит, как на работу? — спросила она как-то вторую официантку.
— Да, — махнула та в ответ, — все за Хонеккера просит, чтобы не выдавали Германии. — После короткой паузы зачем-то добавила: — Говорят, разведен. Здесь все всегда про всех знали. Еще говорят шпионы, разведка… зачем?
Чилиец Марине нравился, но только в качестве клиента столовой. Староват. Хоть и вылощен весь до серебряных запонок, а видно, что сильно за сорок. Марине, правда, и самой уже почти тридцать. Мать только тихо вздыхает по этому поводу. Отец же, приняв после рейса, всегда начинает свое:
— Какая-то ты у нас, Маринка… Ну прям на кривой козе не подъедешь… Попроще надо быть, попроще, ей-богу.
Нет, может и надо, но как… Пару раз чиновники приглашали ее покататься по ночной Москве, но она так менялась в лице и так быстро начинала лепетать невнятное про «мама ждет», что те сами уж стремились побыстрее ретироваться. А Марина потом долго злилась на себя, на них, на жизнь.
Как-то чилиец пришел особенно поздно и засиделся до самого закрытия. Все доставал из кармана какую-то бумажку, читал, складывал, снова шевелил губами, закрыв глаза, будто силясь что-то запомнить.
— Простите, закрываемся, — улыбнулась Марина. К концу смены она так устала, что и не пыталась вспомнить, как сказать это по-английски.
— Марина, — он тут же встал, отодвигая стул, — Марина… — взял ее руку в свои теплые сухие ладони, которые грели как прожаренная солнцем галька на берегу моря, — Марина: жениться, жениться, жениться, — это все что он смог запомнить из длинной витиеватой фразы, написанной переводчиком.
Марина испугалась, забрала руку:
— Да что вы… Да как это…
— Марина, — продолжил он по-английски, — я буду здесь через три дня, и ты скажешь мне, выйдешь ты за меня или нет.
В электричке Марина все смотрела в окно. Как же так? Разве так женятся, ничего друг о друге не зная? Ведь у нее есть своя жизнь. Комната в малогабаритной двушке в пятиэтажке, стареющая мать, кот Альфредо-младший, тоже уже старик, папа с его нравоучениями, Ленка с Сережей в соседнем подъезде в конце концов. Все это бросить ради стареющего чилийца? Она вышла из электрички. Вечерний воздух был душист и плотен. Теплый вечер, небо едва окрасилось розовым золотом. Марина шла от станции мимо кустов увядающей сирени и вдруг остановилась. Подошла, положила на ладонь умирающую кисть — влажноватые подувядшие цветы ее казались живыми, и поднесла к лицу. Грустный, терпкий запах. Сладкий, медовый, трогательный своей искренностью. Марина вздрогнула, почти так и пах Сальвадор. Она первый раз назвала его наедине с собой по имени, а не просто «чилиец». Она еще раз вдохнула полные легкие черемухового аромата, поморгала быстро-быстро, вот дура, чуть не расплакалась и побежала домой.
Когда они поженились, Марина просила только об одном: не уезжать из России. Он обещал, что останутся. Сальвадор оказался старше, чем она думала — почти шестьдесят. Давно в разводе, старший сын — ее ровесник. На свадьбу он подарил ей красную спортивную машину.
— Зачем, удивилась Марина, — я и водить-то не умею?
— Научишься, — ответил он по-русски (он начал учить её еще три месяца назад), — будешь мальчиков красивых катать.
А через три года грянул скандал с экстрадицией Хонеккера в Германию и чилийское посольство почти в полном составе покинуло Россию. Марина была уже беременна вторым сыном, но делать нечего — улетели в Чили. Там она родила Сальвадору еще и дочку. На Рождество присылала красочные открытки, а как-то приехала к маме со всеми детьми. Вышла из такси вся благоухающая, в норке до пят и почти сразу же увидела Сережу. Он чуть не выронил пакет с мусором, который нес к помойке, только и смог удивленно спросить:
— Марина?
Она лишь кивнула, быстро отвернулась к детям и заговорила с ними по-испански. Домой поднялась взволнованная и от этого еще более красивая. Мама испытующе посмотрела на нее — все видела в окно. А вечером, когда сыновей кое-как разместили на старой Маринкиной кровати, а младшую, Мари, на поставленных одно к другому креслах, так что получалась вполне себе уютная кроватка, мать спросила:
— Марин, ты его хоть любишь?
— Знаешь мама, — Марина отпила из бокала с чилийским вином и откинулась на старом кухонном уголке (надо, пока я здесь, договориться о ремонте, тут же мелькнуло у нее), — знаешь, он все свое свободное время проводит с детьми. Играет с ними, ползает по полу, учит играть в шахматы и еще бог весть во что. А когда устает, он просто сидит и смотрит на них, и в глазах у него слезы от счастья. Как ты думаешь, могу я его не любить?
Сергей Седов
Сырок и Лизун ищут Гвинивер
(из романа «Воображаемые друзья»)
Лизун просто разбила мне стекло. Камнем.
— А что мне было делать? Я куковала, мяукала, кидала тебе в форточку ветки, а ты все не просыпался и не просыпался.
Ее лицо сморщилось, она явно собиралась зареветь.
Я приложил палец к губам, а правой рукой показал в сторону разбитого окна, из которого только что выпрыгнул. Лизун проглотила всхлип, наклонилась и зашептала мне в ухо:
— Твои сестры! Я ведь их не разбудила? Потому что, если разбудила, ты не сможешь пойти со мной, да? Сырок, миленький, мне так надо, так надо, чтобы ты пошел со мной.
Я поднес палец к губам. Лизун замерла. Мы долго вслушивались, но тишину так ничто и не потревожило. Похоже, сестер не разбудил ни звон разбитого стекла, ни падение вазы с цветными карандашами, которую расколол камень Лизуна. Зато наш разговор вполне мог их поднять, учитывая, что окно больше не глушит звуки, а Лизун вот-вот разревется.
Гуго недовольно завертелся на моей голове, желая устроить себе гнездо из моих волос — ветер был полон мелких дождевых капель. Я попытался прикрыть его ладонью, но он сердито отпихнул ее оранжевой лапой. Лизун, конечно, ничего этого не видела. Она хлюпала носом и смотрела на меня, с надеждой, блин, смотрела. Я бросил взгляд на окно и понял, что идея слазить за джинсами и ветровкой — утопия. Хоть и привлекательная.
Я вытянул руку в сторону леса — в темноте бесформенную слитную тень и шепнул:
— Они спят, уйдем подальше.
Гуго ругался и бормотал, но светил исправно. Оранжевый свет освещал дорогу на несколько метров вперед. Правда, только для меня. Для Лизуна ночь продолжала оставаться непроглядной. Зато на ней были резиновые сапоги и красная дутая куртка с капюшоном, из-под которого торчал только веснушчатый нос. Мои же шлепанцы уже зачерпнули воды и грязи, так что я уже подумывал, не лучше ли будет их бросить и пойти босиком.
Мы подошли к слитной тени деревьев. Я посмотрел на бесформенный силуэт своего дома, снова поднял руку, прикрыл дом ладонью. Она укрыла его полностью — значит мы ушли достаточно далеко.
— Теперь можем говорить. Лизун, что случилось? Опять Гвинивер?
Она часто закивала, а потом у нее дернулась нижняя губа, и Лизун наконец заревела.
Постепенно я узнал, что ее мышь снова потерялась. Ее нет в доме, потому что:
— Я перерыла все места, где она любила прятаться, включая корзину с грязным бельем в постирочной, вентиляционную трубу, из которой всегда такие сквозняки, дыру в потолке, щель между ванной и стеной — ее нигде нет. Тогда я перерыла все места, где она никогда не пряталась, а потом даже те, которые она терпеть не могла. И… не нашла ее.
— Может быть, она пробралась в подвал?
— Гвинивер?! Да она эту дверь по дуге огибает. Очень, очень боится. И я тоже. Там что-то есть. Оно гудит и скребется! Я порезала верблюжий плед и законопатила им все щели. Закидала подушками со всех диванов, даже мои любимые с незабудками не пожалела. А через два дня приволокла буфет из кухни, вместе со всей посудой…
Я представил, как Лизун толкает перед собой тяжеленный буфет с резными слонами на боковинах, и мне стало не по себе. Она, между тем, продолжала, шмыгая носом.
— Это все равно не помогло. Гвинивер поджимает хвост, когда пробегает мимо, а я каждый день заваливаю чем-нибудь эту дверь. Вчера вот подперла ее той картиной, помнишь, где этот неприятный дядька на мосту кричит… Неважно, я только и хотела сказать, что это последнее место, где она будет прятаться… Она возможно во дворе спряталась или в колодце, но все занесло этой мокрой листвой и ничего не видно. Я искала, звала — только она никогда не откликается, может, сидит в какой-то куче и дрожит — всегда дрожит, когда я ее нахожу. Глупая! Зачем ей это?
У меня тоже не было идей, для чего невидимой мыши Гвинивер, которая очевидно привязана к своей хозяйке, постоянно прятаться в самые темные и мрачные места. И желания искать ее не было никакого. Но это же Лизун, а не кто-нибудь другой, стоит и глотает слезы, чтобы не разбудить моих сестер.
— Ладно, не реви — отыщем твою мышь. Обшарим каждую кучу, каждую яму и каждую лужу. И когда найдем, я ее так отчитаю!
Ее лицо словно засветилось изнутри, кончики губ поползли вверх:
— Пожалуйста, Сырок, не ругай ее — она же такая бедная, мокрая и глупенькая. Только… мост, через который я к тебе шла, свернулся за мной. До утра не развернется. Теперь только через лес можно, а у меня ни фонарика, ни даже свечки.
Она снова приуныла.
— Ничего, надо, значит, надо — пройдем через лес. Не заблудимся — там тропа такая, захочешь заблудиться — не сможешь.
— Не хочу заблуждаться. И темноты не хочу. А можно я буду тебя за руку держать, а, Сырок?
Она схватила меня за рукав пижамы мокрой ладонью, но тут же отдернула ее и вскрикнула. И тут же зажала себе рот.
— Ты чего?
Из-под капюшона на меня смотрели распахнутые в ужасе глаза.
— У тебя на голове кто-то сидит!
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.