
Бесплатный фрагмент - Осень в розыске
Руины забытых империй
Ночью шорох последний потерян,
Тишина — даже та не слышна,
На руины забытых империй
Равнодушная смотрит луна.
Полночь ищет и ждет, полночь верит,
До полуночи семь, шесть и пять —
И руины забытых империй
Просыпаются в полночь опять
И пустынный заброшенный берег
Жадно слушает морока хмарь,
Как руины забытых империй
Говорят об исчезнувшем встарь.
Но рассвета распахнуты двери
Солнца луч рассекает миры
И руины забытых империй
Замолкают до ночи навзрыд.
Снова полночь придет, свято веря
Что которые ночи подряд
Вновь руины забытых империй
О несбыточном заговорят.
Памкин-холл

…больше всего маленький особнячок на Квин-стрит мечтал перебраться куда-нибудь в маленький городок или паче того, в уютную деревушку, жить на лоне природы, по утрам выходить в сад и срезать розы, а потом пить чай на веранде и смотреть на бескрайние зеленые холмы. Стоять на оживленном перекрестке в окружении бесконечного потока машин нашему герою нравилось меньше всего.

Особнячок (кстати, его звали Памкин-Холл) не раз и не два просил хозяина перебраться поближе к природе — но хозяин (кстати, его звали Шеридан) снова и снова объяснял, что с его скромными доходами о переезде за город не может быть и речи — даже ради своего дома Шеридан не собирается ездить каждое утро из пригородов на работу на электричке, и вставать для этого в пять утра.

Стоит ли говорить, что Памкин-холл был счастлив, когда однажды хозяин объявил, что берет отпуск на месяц…
— …ты поедешь отдыхать на месяц? — спросил Памкин-холл, — но это же так далеко! А на чем ты полетишь — ведь космический корабль стоит так дорого!
— Ну что ты, я не собираюсь никуда лететь, мы поедем в деревню…
— Так на месяц… или в деревню?
— В деревню. На месяц.

…итак, Памкин-холл был счастлив, что поедет в деревню — правда, так и не понял, как можно поехать на месяц на поезде, и немало удивился, когда вечером над трубой увидел месяц — месяц, на который они должны были ехать.

Впрочем, Памкин-холл быстро забыл об этом, ведь в деревне за городом было так замечательно.

Можно было выходить поутру в сад и срезать свежие розы, можно было пить чай на веранде, можно было болтать о том, о сем с другими домиками — маленькими, уютными, в два-три этажа,

а не с исполинскими городскими громадинами, которые даже не кивнут в ответ на вежливое «Добрый день».
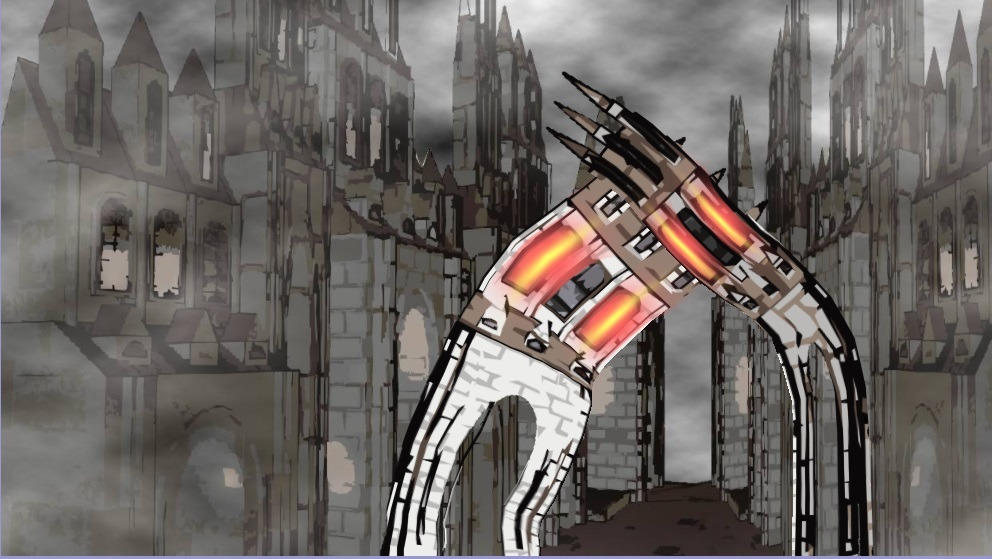
Время шло, месяц неумолимо подходил к концу, и чем больше приближался день, когда нужно было возвращаться в город, тем больше Памкин-холл думал о том, как можно остаться в деревне насовсем.

— Если бы ты мог не работать, — говорил он хозяину.
— Если бы, — вдыхал Шеридан.
— Если бы ты, например, нашел клад…
— Если бы, — кивал Шеридан и добавлял, — слушай, а у тебя на чердаке или в подвале нигде не завалялся сундук с сокровищами?

Памкин-холл терпеливо оглядывал свои комнаты, но никакого намека на сокровища не находил.
— А если бы ты получил наследство… — продолжал Памкин-холл.
— Если бы, — Шеридан шел на кухню, заваривал кофе, — но тетушка Вайолет, похоже, собирается жить вечно… да и кто сказал, что она непременно что-то мне оставит?
Памкин-холл задумался.
— Говоришь, у тебя есть тетушка?
— Да, Вайолет… правда, живет далековато…
— …и ты ни разу не навестил её все это время? Хороший же ты племянничек, ничего не скажешь…
Шеридану стало неловко, что он ни разу не навестил тетушку, и он сказал:
— Ну… если тебя не смущает долгий путь целую ночь… то к утру мы будем на месте, в Трик-холле.

— Все в порядке, — ответил Памкин-холл, — я включу фонари.
И он действительно включил фонари — два возле входа, два у калитки и один под самой крышей — и отправился в путь…

.
— …так вы признаете, что тем вечером говорили о наследстве?
— Ну да, был разговор, — Шеридан кивает, — ну и что теперь, если я про наследство говорил, я, что ли, убил тетушку?
Следователь хмурится.
— А почему вы считаете… что её именно убили?
— Ну а что же вы тут, в таком случае, делаете?
— Ну, это обычная процедура, когда кто-то умирает… В конце концов… ради такого наследства…
— Какого наследства?
— Вы что, не в курсе, что вам оставила тетушка?
— Фамильный сервиз? Старинные часы?
— Отнюдь… речь идет о миллионах фунтов…
— Ничего себе! Слушайте, я этого не знал…
— Вот это да! — дом подскакивает на месте, — значит… значит, мы можем остаться в деревне?
— Да чему ты радуешься, глупый ты дом! Как ты не понимаешь, тетушка умерла, моя драгоценная тетя Вайолет!
— И часто ты её навещал? Хорош же племянничек, ничего не скажешь!
— Спокойно, спокойно, — следователь начинает сердиться, — скажите… вы ночевали в своем доме или в тетушкином?
— В тетушкином… в комнате для гостей.
— Так-так… это вы нашли тетушку мертвой?
— Нет, Элизабет.
— Элизабет?
— Моя двоюродная сестра… Она утром вошла в спальню тетушки, и увидела…
.
— …вы утром вошли в спальню тетушки, и увидели…
— …тетя лежала на кровати… мертвая…
— Насколько я понимаю, вы живете у тети?
— Да… в Трик-холле.
— И, насколько мне известно… вы и Трик-холл влюблены друг в друга?
Элизабет вспыхивает.
— Вы… откуда вы…
— …Трик-холл уже рассказал мне… Дома не умеют хранить секреты, знаете ли… Так вы подтверждаете сказанное?
— Но послушайте, это же наше личное с Трик-холлом дело…
— …речь идет о следствии… и мы подозреваем, что вашу тетушку убили…
— …да… да, мы с Трик-холлом любили друг друга…
— И вы знали, что в случае смерти тетушки дом отойдет вам?
— Нет… честное слово, я этого не знала… Силы небесные… дом… дом, в который я влюблена… очаровательный замок… Трик-холл…
— Кроме того он сказал, у вас с тетушкой были натянутые отношения?
— Ну… у неё был скверный характер… но неужели вы думаете, что я убила её?
— Пока я еще ничего не думаю… я собираю данные…
.
— …да что вы вообще привязались к моим племянникам? Оставьте их, наконец, в покое!
— Вы… вы…
Следователь смотрит, следователь не понимает, что он видит, что происходит вообще, что за призрачный силуэт мерцает на фоне тусклого ночного света, почему сквозь старческое лицо проступают кости черепа, пустые глазницы, то ли платье, то ли саван спадает на плечи…
— Вы… вы….
— …да, это я…
— Но… как?
— Обыкновенно… Или вы первый раз видите привидение в замке?
— Да знаете, как-то…
— Удивительно, дожить до таких лет… и ни разу…
— Да, я и сам поражаюсь, как это я… — соглашается следователь…
— Да, я что хотела сказать… оставьте в покое моих племянников, они ни в чем не виноваты.
— Вы… вы уверены?
— Ну а как я могу быть не уверена? Сердечный приступ, это, знаете ли, дело такое…
— Но вы уверены, что это был сердечный приступ, а не… скажем… кто-то мог подсыпать вам в кофе…
— …я не пью кофе, только чай.
— …ну, в чай…
— Дорогой мой, в вашем возрасте пора бы уже знать, что призракам известно гораздо больше, чем людям!
— Да, да, разумеется… уже пора знать… я непременно извинюсь перед вашими племянниками…
— Да-да, обязательно, не забудьте!

.
Вечереет.
Над крышами поднимается месяц. Памкин-холл снова думает, как это хозяин собирался ехать на месяц, ведь туда не проложены рельсы.
Призрак тетушки желает Шеридану спокойной ночи.
Шеридан идет спать.
Памкин-холл осторожно убирает кинопроектор и динамик, где записан голос тетушки и лицо тетушки. Прячет в тайник, где лежит яд, так, на всякий случай, остался после тетушки, может, еще пригодится, а то вроде как хозяин в город перебраться хочет, зима в деревне ему, видите ли, не нравится…
Имя Имя
Я убиваю К.С. каждый день в половине одиннадцатого — выстрелом в голову. Потому что К.С. приходит в половине одиннадцатого, а если бы он приходил в двенадцать или в три, то я и убивал бы его в двенадцать или в три. Хотя нет, в двенадцать или в три я бы никого не убил, потому что в одиннадцать убивают меня самого, и я даже не знаю, кто это делает — потому что мне стреляют в спину.
Так не бывает, скажете вы, так не бывает — и будете правы, так действительно не бывает, нельзя убивать кого-то каждый день, убить можно только один раз. Вы совершенно правы, меня и убили один раз, где-то там, за миллионы световых лет отсюда, и я даже не знаю, как именно это случилось. Почему-то это кажется обиднее всего, что я даже не знаю, как это случилось, может, я сгорел в пламени пожара вместе со всеми, а может, что-то случилось со мной раньше, когда мы еще пытались спастись на обреченной земле…
Поэтому я — это не совсем я, и К.С. — это не совсем К.С., но в то же время я, и в то же время К. С. Сегодня я мешкаю, сегодня я не успеваю застрелить К.С. в половине одиннадцатого, и этой мимолетной заминки ему хватает, чтобы перепорхнуть в другой конец зала и крикнуть:
— Да постой же… постой! Выслушай!
Усмехаюсь про себя, выслушай, какое может быть выслушай после того, что он сделал с моей землей…
— Да не я же… не я…
— …а ты стоял и смотрел, как твои нашу землю дотла жгут?
— А твои нашу землю дотла не жгли, а? Нашелся умник хренов… Сзади!
Успеваю отскочить от его окрика, — луч лазера рассекает то место, где я стоял, на этот раз я даже успеваю обернуться и увидеть Обнулюкса. Я не знаю его имени, как и имени К.С., для меня он просто Обнулюкс, как и К.С. для меня просто К.С., как он представился в нашем клубе.
— Вы… вы не понимаете… — продолжает К.С., на всякий случай прячется за причудливой колонной — тихонько проклинаю себя, что понаделал столько арок и колонн, когда проектировал наш клуб.
— Вы не понимаете, — продолжает К.С. уже откуда-то из ниоткуда, — мы должны дописать историю…
Наконец-то сбиваю его одним выстрелом, — за секунду до того, как лазер рассекает меня самого…
…на этот раз я готовлюсь лучше, насколько я вообще могу подготовиться лучше за полчаса — я появляюсь в клубе каждый день в десять утра, и у меня есть полчаса, чтобы убить своих врагов и не дать убить себя. К.С. появляется в половине одиннадцатого, тогда же и Обнулюкс — а вот А. Стра и Клин-Клан появляются около часу. Я знаю, что они появляются около часу, потому что именно этим временем датированы записи, сделанные, быть может, вчера, если здесь вообще бывает какое-то вчера.
«План.
После мировой войны в живых остаются участники виртуального литературного клуба — вернее, не сами участники, а их аватары, электромагнитные сигналы, еще летящие от их родных планет, которых больше не существует. Скоро сигналы угаснут, но пока они еще есть, у аватаров осталось время дописать соавторскую историю, тем самым сделать себя бессмертными…
Действующие лица:
Имя Имя — он выступает под таким необычным ником, видимо, хочет выглядеть оригинальным, а вместо лица у него знак вопроса…»
Что-то переворачивается внутри, не удерживаюсь, дописываю —
«Когда Имя Имя заполнял свою анкету в Сети, он не понял, что нужно вводить имя и аватар — поэтому и остался Именем Именем со знаком вопроса вместо лица…»
Часы бьют половину одиннадцатого, спохватываюсь, что пора убивать К.С., интересно, почему он все-таки К.С., я для себя расшифровываю как Крутой Сюжет, уж что-что, а это он умел, без него я бы ни одну историю не состряпал как следует…

Эт
Хочется сказать — я вижу город — но я могу сказать только — я вижу то, что когда-то давно было городом.
Проще сказать — мы возвращаемся домой — именно так я и говорил, когда мы расправляли крылья — мы возвращаемся домой — но я могу сказать только — мы возвращаемся к тому, что когда-то давно было домом.
Мы спускаемся на руины, припорошенные снегом, я еще удивляюсь, что снега так мало, как будто вообще должен быть какой-то снег — наша стая рассыпается на стайки, стаечки, стайчушечки, каждый ищет свой дом, вернее то, что бесконечно давно было его домом. Кто-то смахивает снег со стола, кто-то поднимает остатки плетеного кресла, кто-то вытряхивает покрывало на кровати, разлетается снежная пурга. Старая дама поднимает разбитую чашку, не знает, что с ней делать.
Все вопросительно смотрят на меня. Я сам готов вопросительно смотреть на себя, а еще лучше достать Луч, чтобы он посмотрел мне в глаза.
Тогда будет не больно.
Я знаю — тогда будет не больно.
Тогда я только посмеюсь над тем собой, который стремился сюда через световые годы, который вел стаю, как мне казалось, — домой. Тогда я только посмеюсь над тем собой, у которого тревожно щемит в груди при виде почерневшей от времени стены, которая осталась от моего дома. Только это надо было делать не здесь, на заснеженных руинах, а там, где я говорил — мы возвращаемся домой…
Я смотрю на то, что было моим домом, я вижу остальные три стены, лестницу на второй этаж, там были наши с Эт кровати, когда мы были еще совсем маленькие, почему я вижу Эт, как она читает с фонариком под одеялом, широко зевает, клюет носом, а фонарик упрашивает — ну пожа-а-алуйста, ну еще страницу, ну пол страницы, ну, Эт… Почему я вижу Эт, разве она не пала в битве под чужими звездами, почему я вижу фонарик, разве его проржавленные останки не лежат, засыпанные снегом…
Все смотрят на меня, ждут чего-то, чего тут можно ждать, что я могу им сказать — жечь костры, пока есть из чего жечь, распахивать землю, как будто в этой мерзлой пустоши можно что-то посеять, складывать из обломков какое-то подобие города…
…бред, говорю я сам себе, бред, бред, бред…
Они смотрят на меня — все, разом, они бросаются на меня — все, разом, я уже знаю, что будет дальше — за мгновение до того, как тысячи тысяч клювов пронзают меня. Почему меня всецело занимают мысли о прошлом, когда я падаю замертво и успеваю заметить, как сквозь заснеженную пустошь пробивается зеленый росток, а бесконечно далеко на горизонте проклевывается что-то, похожее на отблески рассвета…
Перевод с…
Прежде всего, фраза — … — может быть истолкована двояко, или как «Фейн настиг Эванса», или как «Фейн убил Эванса» — из-за этого и начинаются недопонимания и противоречия. Эванс норовит появиться в тех моментах, где про него ничего не сказано, аргументируя это тем, что он живой, его только настигли — Фейн же уверяет, что убил Эванса, поэтому Эванс не имеет права расхаживать по Санта-де-Пальма, пытаться вернуть рукопись, которую у него отобрали.
Есть и более курьезные моменты — так, например, первые же фразы — … — можно перевести и как Эванс сидел в кафе и ждал рукопись, в смысле, человека с рукописью, так и — Эванс сидел в кафе и ждал рукопись, то есть, непосредственно ждал, когда в кафе войдет рукопись, обмахиваясь сама собой от жары, извинится за опоздание и усядется за столик. Этот курьез на самом деле влечет за собой серьезные последствия — ведь дальше в одной из глав упоминается, что рукопись ушла от Тайлера, и никто не понимает, как трактовать эту фразу — или что кто-то в очередной раз украл рукопись, или что рукопись пожелала выбрать себе другого владельца.
Немалую проблему составляет тот момент, что слово… можно перевести и как «представляю интересы кого-то» и как «являюсь кем-то», поэтому до конца неясно, признается ли Фейн, что на самом деле работает на Тайлера, или Фейн на самом деле и есть Тайлер. Поэтому Фейну на полном серьезе отказывали в существовании, говорили, что он не может появляться в сюжете после признания. Особенно в этой версии усердствовал Эванс, видимо, мстил за свое не то убийство, не то непонятно что.
С Тайлером связана и еще одна проблема — фраза …, первую часть которой можно перевести и как усы, и как крылья, — его усы отличались особой пышностью. Тайлер же уверяет, что речь идет о крыльях, а значит, он может летать. Странно, что Фейн изо всех сил доказывает, что в предложении упоминаются усы — ведь если бы там говорилось про крылья, то Фейн, будучи Тайлером, мог бы летать. Впрочем, крылья уже сыграли с Тайлером злую шутку — мы имеем в виду фразу из двадцать седьмой главы «в половине седьмого Тайлер вылетел в Ла-Сиеста». Разумеется, Тайлеру пришлось махать крыльями от Санта-де-Пальма до Ла-Сиеста, а учитывая немалое расстояние над океаном и упоминание «тяжеловесного багажа» можно догадаться, что Тайлер не долетел до места назначения, и его истлевшие кости покоятся где-то на дне океанических глубин.
Есть версия, что рукопись попросту играет со своими охотниками, стравливает их между собой, вводит в заблуждение — ведь без этого не было бы самой истории, а значит, самой рукописи. Впрочем, эта версия, как и все остальные, остается лишь версией, — и есть опасение, что рукопись никогда не раскроет всех своих тайн…
Вкустрицы под дождем
Как всегда по утрам подхожу к зеркалу, чтобы побриться — хотя что может быть нелепее, чем подходить к зеркалу, чтобы побриться, когда у меня нет лица. В который раз по привычке смотрю на расплывчатую пустоту в зеркале, пытаюсь увидеть хоть какие-то черты, хотя бы глаза, нос, рот — ничего не вижу, как и всегда.
Сегодня тот самый день, напоминаю я себе, сегодня тот самый день — мне даже не приходится заглядывать в ежедневник, чтобы вспомнить.
Сегодня меня убьют.
Хочется надеть что-нибудь парадное, все-таки не каждый день меня убивают — выискиваю парадный костюм, тут бы и правда не мешало бы побриться, интересно только, как это сделать, когда нет лица. Пощелкиваю пальцами, подманиваю к себе телефон, он нехотя-нехотя перебирается по жердочкам…
— Алло… да… я хотел бы арендовать домик в Дримвилле… да, на один день… думаю, в два этажа подойдет… с манс… гхм… — смотрю на погоду за окном, вроде бы тепло, — да, пожалуй с мансардой. Большое спасибо, да, да…
Кажется, по ту сторону телефона на меня смотрят как на психа, ну еще бы, сегодня меня должны убить, а я заказываю домик в маленькой деревушке, где каменные дома кутаются в плющ и жмутся друг к другу вдоль извилистых дорог… впрочем, могут смотреть, как хотят, ведь нигде не оговорено, что я делал в это утро, поэтому я вправе заниматься чем хочу…
— Алло… Вкустрицы под дождем? Я хотел бы заказать продуктов на неделю… нет, вы не ослышались… да, на неделю… жаркое, пожалуйста… седло барашка… рагу, да… сливовый пудинг, да… крамбл… чай, чай, да, обязательно… стамппот… раребит… что значит, не знаете? Ну, ничего страшного… да… большое спасибо… Дримвилль, улица Осенняя дом десять…
Я понимаю, что они обо мне думают, он еще не знает, что его убьют, он еще строит какие-то нелепые планы.
Я не должен знать, что меня убьют.
Отпускаю телефон, бросаю ему горсть зерна, смотрю, как телефон жадно клюет, пожалуй, раскормил я его, это плохо. Ловлю себя на том, что делаю все по привычке, на автомате, что у меня уже не трясутся руки, как в первый раз, когда еще не знал, чем все это обернется.
В половине одиннадцатого спускаюсь в обеденный зал Винтер-холла, приобнимаю Линн, спрашиваю, что она хочет надеть на нашу свадьбу. Я уже знаю, что ответит Линн, что скорее наденет погребальный саван, чем свадебное платье, я уже знаю, что Линн резко оттолкнет мои руки, и в это время войдет Артур. Я недолюбливаю Артура, потому что у него есть лицо, а вот мы с Линн такой чести не удостоились…
Смотрю на часы, до моей смерти остается двадцать минут. Я даже не слышу, что говорит Артур, до того момента, как он указывает на меня…
…напрягаюсь, как спортсмен перед стартом…
— …это вы сделали, вы…
Срываюсь с места, со звоном и грохотом распахиваю дверь, или, кажется, это называется французским окном, бегу в заросли чего-то там, мокрые от дождя, слышу топот ног за спиной, хлопки выстрелов, номер десять, где этот дом номер десять, почему за девятым сразу одиннадцатый, это что, это специально, что ли, а нет, черт, это же нечетная сторона, а с другой стороны… двадцать второй, чер-р-рт… и сразу же десятый, вот так, ну и городок…
В изнеможении останавливаюсь у калитки, за которой почти сразу начинается крыльцо. Артур и остальные оторопело смотрят на меня, почему я не бегу, почему я не лежу мертвый, — стреляют, раз, другой, третий, пуль нет, перестрелка кончилась на предыдущей странице, они и не заметили.
— Но… — Артур ищет слова, не находит, — но как…
— Очень просто… — тихонько усмехаюсь, — вспомните сами… Артур выстрелил, и стремительный бег сменился тишиной дождливого утра… Все кончено, сказал Артур, опуская оружие…
— Ну да…
— Ну, так скажите, уважаемый, где здесь хоть слово о том, что я умер?
— Э-э-э…
— …а ведь ни слова… Так что не обессудьте, уважаемый… приятного вам дня…
Откланиваюсь, ухожу за калитку, в дом, а ведь правда уютный домик, холодновато немножко, но это сейчас, пока не кончился дождь и не показалось солнце, а ближе к вечеру будет просто отлично, особенно в мансарде, где я уже обустроил спальню, а дальше время замкнется само на себя, потому что дальше автор ничего не написал…
Отсюда я вижу Линн и Артура, я не слышу, что он говорит, я знаю — теперь между нами нет преград — а Линн должна слегка покраснеть, вот она краснеет, почему у меня все буквально переворачивается внутри, когда она краснеет. Отступает на шаг, толкает калитку, идет по дорожке к моему (нашему) дому, кивает Артуру, ну вы же сами понимаете, там только написано, что вы сказали, что ничего не помешает нам быть вместе, а я покраснела, и все, понимаете, все, так что я могу идти, всего хорошего, приятного вам дня…

Правда о треножнике
…откуда я знаю, что это правда…
Оторопело смотрю на экран, на фотографии боевых марсианских треножников, на охваченный пламенем город, смотрю, как будто вижу все это первый раз в жизни, спрашиваю себя:
— Откуда я знаю, что это правда?
Никто не отвечает, потому что я спросил только самого себя — осторожно показываю экран моему соседу в скоростном поезде, несущемся над городом, спрашиваю:
— Это правда?
Сосед оказывается соседкой, миловидной девушкой, оторопело смотрит на меня, как психа, так же оторопело кивает.
— А… а откуда вы знаете, что это правда?
— Мужчина, я замужем.
— Да нет, вы… откуда вы знаете, что это правда?
Понимаю, что ей нечего ответить, что им всем нечего ответить, что она отсаживается от меня не потому, что замужем, и не почему-то еще, а потому, что она не знает, откуда она знает, что…
…черт понес меня сюда, черт, черт, черт, и никто больше. Пробираюсь через лес, который даже язык не поворачивается назвать лесом, — он даже не непролазный, он сплошной, неразрывный — понимаю, что нет там никакого хранилища, и не было никогда, и меня обманули, вернее, я сам себя обманул, поверил невесть во что…
…и даже не верю себе, когда вижу стену хранилища, этого не может быть, так не бывает, это мираж, иллюзия, обман, — трогаю влажную стену, поросшую мхом, брезгливо отдергиваю руку. Поднимаюсь по полуразрушенным ступеням, готовым обвалиться под моими ногами, оглядываю то, что когда-то было книгами — через корешки пробивается зеленая поросль, тянется к тусклому солнцу.
Ищу, сам не знаю, что, наконец, нащупываю том, который, как кажется, может помочь мне, открываю, листаю, — том больно кусает меня за палец, вырывается, вспархивает куда-то под своды хранилища, где его не поймать — но я все-таки успеваю заметить боевые треножники и пылающий город.
Значит, это правда, говорю я себе.
Значит…
Настороженно смотрю на книгу, а точно ли ы говоришь мне правду, а не рассказываешь ли ты мне дивную сказку далеких времен…
Перепуганные, переполошенные книги бросаются на меня всем скопом, клюют, хлопают страницами, отбиваюсь от бесчисленных стай, выскакиваю на лестницу, которая проваливается-таки под моими ногами, лечу в какие-то бездны, поросшие непролазным лесом…
— …две тысячи, — говорит проводник.
Вздрагиваю. Понимаю, что он вытянет из меня все до копейки, и даже больше, что он может делать все, что ему вздумается, и я отдам ему все, все, просто чтобы выбраться из этой бескрайней пустыни. Уже понимаю, что я здесь ничего не найду, что здесь ничего нет, только я и проводник, и неизвестно, кто из нас вернется домой…
— …здесь, — кивает проводник.
Даже не понимаю сразу, что — здесь, даже не сразу замечаю обломок проржавленного треножника, чуть припорошенный песком…
Черт…
Это правда, говорю я себе.
Это правда…
Стою, ошарашенный настолько, что когда проводник говорит —
— Три тысячи…
…покорно вкладываю монеты в смуглую руку…
…дописываю последнюю страницу, смотрю на чистый лист, понимаю, что это тоже придется сделать мне самому — неумело вырисовываю треножник, вроде похоже получилось…
НАЙТИ…
ФОТО…
БОЕВОЙ ТРЕНОЖНИК…
Поисковик услужливо ищет фото, не менее услужливо вставляет в статью, понимаю, что работа сделана…
— …зачем?
Кажется, мне не следовало входить в эту комнату, да это вечно моя проблема, в гостях лезу, куда не просят, осталось только найти в комнате труп или что похуже, хотя что может быть похуже…
Смотрю на то, что я увидел в комнате, смотрю на хозяина в дверях, выжимаю из себя одну-единственную фразу:
— Зачем?
— А, для туристов, — кивает мой новоявленный знакомый. Как-то быстро у меня все со знакомствами, утром перекинулись парой слов, а вечером уже сижу у него в гостях, греюсь у ароматного кофе, нахваливаю вкус отменного камина, разлитого по бокалам, беру себе еще кусочек плюшевого кресла, запеченного с гардинами, плотнее кутаюсь в уют.
И черт меня дернул посмотреть в комнату в подвале…
— Зачем?
— А, для туристов, — хозяин показывает на проржавленный обломок треножника, показывает с легкой гордостью, — видите… как настоящий… По фотографиям делал…
Смотрю на обломок, воспоминания накатывают со всех сторон, безжизненная пустыня, смуглая рука проводника, две тысячи, три тысячи, н-да-а, неплохо же ты на тысячах разжился…
— Вы же… вы же никому не скажете?
Я не знаю, что он читает на моем лице, я не успеваю сказать — никому, никому — он бросается на меня, вгрызается в мою память, сильнее, сильнее, откусывает от неё кусок, с болью, с кровью…
…откуда я знаю, что это правда…
Оторопело смотрю на экран, на фотографии боевых марсианских треножников, на охваченный пламенем город, смотрю, как будто вижу все это первый раз в жизни, спрашиваю себя:
Откуда я знаю…
Сто сорок седьмое января
А скоро, а скоро, спрашивают дети.
Не говорят, что скоро, но я и так уже знаю.
А скоро ли утро.
А скоро ли весна.
Снова обнимаю детей, всех пятерых, рассказываю, что пройдет ночь, и наступит день, что пройдет зима, и наступит весна.
А скоро, а скоро, спрашивают дети.
Скоро, киваю я.
Вместе листаем календарь, декабрь, январь, февраль. Говорю, что сегодня сто сорок седьмое января. Ловко соскальзываю с темы, сколько в январе дней.
Вместе смотрим на часы, считаем, час, два, три, десять — ловко уворачиваючсь от вопросов, сколько в ночи часов.
Рассказываю про весну, что вот снег растает, и пробьется зеленая травка, все выше, выше, а потом зацветет, рассказываю про день, что солнце встанет, и будет светло.
Смотрю на колючую морозную ночь снаружи убежища.
Смотрю на невидимый в темноте черный шар в небе, который когда-то был солнцем.
Смотрю на датчик топлива, который показывает ноль. Стараюсь не чувствовать, как холодает.
Обнимаю детей, всех пятерых, так и не знаю, как их зовут. Спать, говорю, спать, укрываю одеялами, поправляю подушки, даю каждому по чашке, а это чай такой, чтобы заснуть, долго сам не решаюсь выпить чашку, наконец, осушаю до дна, — когда дыхания детей уже не слышно…
Грань
…меня в свою компанию они не брали, а если и брали, то так, чуть-чуть, самую малость, привет-привет-пока-пока. Все потому что если бежать к западу, то с ними ничего не случалось, ну может, у кого-то пара синяков на коленках — а у меня сразу открывалась здоровенная рана от уха до уха, я падал ничком, и уже не помнил, как меня уволакивали в безопасное место, в городок. И даже нет, меня не брали в компанию даже не из-за этого, — из-за этого, скорее, наоборот, сочувствовали, соболезновали всячески, — а вот того, что я могу ходить на южную сторону, мне простить не могли. Ну, еще бы, все, кто бежал к южной стороне, останавливались, не добегая до околицы, когда кожа начинала покрываться кровавыми волдырями а у кого-то уже и отслаиваться клочьями. Со мной же все было в порядке, я был целехонек, как будто то неведомое оберегало меня от того неведомого, что было на юге. На меня уже косо смотрели и поговаривали, что я, должно быть, не совсем человек, если вообще совсем не человек, потому что где это видано, чтобы человек пошел на юг и не сгорел дотла.
Впрочем, все это было еще ничего, — а вот если бы узнали, что я по ночам в предрассветные часы тайком ото всех хожу к востоку, вот тут бы меня точно выгнали из города, не меньше. Потому что где это видано, ходить к востоку, ну вы сами-то подумайте, кто ходит к востоку… да-да, то-то и оно, кто ходит к востоку, у того и отрастают крылья, большие, сильные, поднимающие в небеса. Так что если бы кто-нибудь узнал о моих похождениях на восток, то из городка меня бы вышвырнули в два счета.
Впрочем, крылья меня не особенно-то и радовали — все равно лететь на них было некуда. Больше всего я мечтал найти какую-нибудь неприметную тропинку, по которой можно было пройти, не падая с перерезанным горлом, не покрываясь гнойными язвами, не захлебываясь кровавым кашлем, не проваливаясь в реальность, где ждет неминуемая смерть — пройти по какой-нибудь незаметной стежке, увидеть, что там дальше, за пределами нашего городка…
Хотите закрыть книгу?
Сегодня праздновали день смерти… что значит, чьей? Да ничьей, просто — день смерти. Чествовали тех, кто был мертвым дольше всех, нашли даже таких долгомертвецов, которые пробыли в небытие аж несколько столетий подряд.
Я во всем в этом никогда не участвовал, мне это было мерзко — только это строго-строго между нами, что мне это мерзко, все эти дни смерти, праздники небытия. Нет, так-то я все понимаю, на планете нет места, электричества уже на всех не хватает, вот и выкручиваются как могут, отключают на месяц, на два, на год, на сотни лет, кто пробудет в небытие тысячу лет, тому обещали даже какую-то премию, пока не знаем, какую, но не топливо, вот это точно совершенно, что не топливо. И все равно, мерзко все это, и когда я вижу такие празднества, то демонстративно прохожу мимо…
…А?
Да нет, ничего я с этим не собираюсь делать.
А что мне прикажете с этим делать? Отобрать электричество у тех, кто набрал его себе на миллионы лет вперед и передать тем, кто уже те самые миллионы лет сидит в небытие? И как вы это себе представляете? Ворваться в хранилище, чтобы меня убили? Или строчить в каждую сеть, опомнитесь, люди, что вы делаете, там в небытие люди, люди, такие же, как вы — чтобы меня опять же убили?
Так что извините, не собираюсь я тут кулаками махать, я уж так… думаю потихоньку всякое, уж думать-то не запретили еще… Ну что значит, вы пришли на меня смотреть, как я тут сражаюсь и всех побеждаю, не на того вы напали, понимаете, не на того. Так что не обессудьте… давайте просто… я вам о своем мире расскажу, вы мне о своем расскажете, что да как, вместе поудивляемся, вместе повозмущаемся, да как такое возможно, совсем с ума посходили, эти там…
…А?
Да нет, вы не поняли, можете даже не угрожать, что захлопнете книгу, вы её не захлопнете.
Нет, это не вы про меня читаете. Это я про вас читаю, и что-то мне не нравится, что вы ничего не делаете… нет, то есть, я-то понимаю, что сложно все это, я-то вас и не гоню сию минуту в одиночку менять мир… но вот только если кто-нибудь еще за вашу книгу возьмется, он уже так просто не успокоится, что с вами ничего не происходит, как бы вашей книге не закрыться навеки, а закрытая книга отправляется в небытие…
Не верите?
Хотите меня закрыть?
Ну смотрите, смотрите, закрывайте книгу, и посмотрим, кто из нас исчезнет навеки…
Зима-сирота
— Куда вы дели зиму? — спрашиваю осень таким тоном, что уже не сомневаюсь — она во всем сознается.
— А я тут вообще при чем? — вскидывается осень, еще пытается что-то возразить.
— А кто, по-вашему? Весна, что ли? Да не скажите, весна только в марте появилась, как и положено, а вы тянулись и тянулись с сентября по март, черным бесснежием окутывали землю! Где… где зима?
— Сейчас… сейчас я вам все объясню… — осень поднимается по изогнутой лестнице, распахивает неприметную дверцу чердака, я вижу зиму, связанную по рукам и ногам, с кляпом во рту, — бросаюсь к пострадавшей, развязываю, даю хлебнуть горячего какао, то, что надо зимой, а вот еще, бокал шампанского в новогоднюю ночь… зима оживает, искрится не то шампанским, не то снегом, понимаю, как я истосковался по снегу…
— Ну а теперь будьте любезны объясниться, уважаемая осень, чего ради вы пытались захватить власть над годом, если можно так выразиться… если бы весна вам не помешала, уж не знаю, что было бы…
— Неправда! Неправда! — весна распахивает дверь, вбегает, пахнущая свежими ветрами, проталинами, апрельскими сумерками, первыми подснежниками, первыми грозами, — все не так! Все не так!
— Что… что не так? — оторопело смотрю на весну, ну что еще такое…
— Неправда… Осень не виновата… вернее, виновата, но… вернее, не виновата… сейчас, сейчас… — весна птичьей стаей делает круг над комнатой, опускается в кресло, — сейчас я вам все объясню… Вы понимаете… осень сделала это ради меня…
— Ради вас? Но… но зачем?
— Вы понимаете… — весна встряхивает головой, белые лепестки летят на ковер, уже усеянный пестрыми листьями осени, — осень… дело в том, что осень… мы с осенью… осень любит меня, вот что.
— Но… осень же никогда вас не видела… вернее, не видела до сегодняшнего момента…
— Не видела, но мы немало слышали друг о друге… мне рассказывала зима… и лето… лето говорило мне про осень, расцвеченную всеми красками, лето обмануло меня! — весна заливается слезами, — обмануло, обмануло!
— Да что такое… что вы… почему… обмануло…
— Да вы посмотрите на эту осень! В ней и близко нет ничего такого… ничего пестрого, разноцветного, только голая черная земля… а осень так умоляла о встрече…
— Да вы сами-то хороши, почтенная весна, лето обещало мне, что я увижу изобилие белых цветов, заросли сирени, аромат яблонь… а это что? Все те же голые ветви…
— На себя посмотри! Чего заслуживаешь, то и получила в самом-то деле!
— Я уже понял, что их не примирить, я уже понял, что любовь безнадежно рассыпалась на кусочки, так и не успев вспыхнуть. Здесь нужно сказать — вы арестованы — здесь язык не поворачивается сказать — вы арестованы, я умоляюще смотрю на зиму, которая уже отогрелась у очага и даже начала потихоньку подтаивать…
— Госпожа зима… у вас есть… какие-то претензии к этой… гхм… парочке?
— Да… пожалуй, что нет…
— Вы уверены? Вас все-таки держали взаперти…
— Ну, знаете… ради встречи двух влюбленных сердец…
— Боюсь, у них ничего не сложится…
— Ну, это вы так боитесь, а я почему-то верю, что у них получится…
Говорю, сам не верю в то, что говорю, какое там получится, две черные облетевшие пустоши смотрят друг на друга, каждая ждет от другой цветущих садов или пестрого разнолистья…
— …и вы поверили? — лето с презрением смотрит на меня, — и вы им поверили?
— А… простите… а что не так?
— А все, все не так, глупый, глупый вы человек! Выдумали тоже… любовь у них, страсть… разыграли спектакль…
Понимаю, что проиграл, и что мне ничего не остается кроме как спросить:
— А что… что было на самом деле?
— Вот с этого и надо было начинать… вы бы хоть спросили у зимы, зачем она умоляла осень связать её по рукам и ногам, отвести в башню! Да вы хоть понимаете, что время года невозможно связать по рукам и ногам, где вы вообще у времени года руки-ноги видели? Вот тог-то же…
— Но… но зачем тогда…
— Вот это нам и предстоит выяснить…
Смотрю на лето, понимаю, что моя роль детектива кончилась раз и навсегда, так толком и не успев начаться, и лето берет все в свои руки, если у лета вообще есть какие-то руки, да вы о чем вообще…
— Пойдемте… — лето хватает меня за руки, мне не по себе от этих теплых рук, за этими теплыми руками хочется идти в бесконечность… — пойдемте… поговорим с зимой, спросим у зимы, что она себе задумала…
Зима встретила нас холодком, обещавшим ближе к ночи перейти в крепкий морозец, уютным камином, чашечками чего-то ванильно-пряного, шоколадно-зефирного, что бывает только зимой…
— Уважаемая зима… — начинаю сразу, без обиняков, — где вы были… когда осень якобы связала вас?
— Что значит, якобы, что значит, якобы, да вы её не знаете, эту осень… коварное создание, она…
— Хватит, хватит, мы раскусили вас… что вы делали все это время… после того, как вымолили у осени эти три месяца, когда она подменит вас?
— Как вам сказать…
— …вы занимались какими-то радиоволнами, — вставляет лето, — зачем?
— Почему вы направляли их в небо… в космос?
— Понимаете, я… сейчас, сейчас… давайте устроимся у камина, поговорим…
Устраиваюсь у камина, думаю, убьет она меня или нет, или скажет правду, или это ловкий стратегический ход, чтобы ничего не рассказывать, а просто расправиться со мной…
— Понимаете… — зима откашливается, видимо, простужена, — я ищу зиму…
— Простите… но вот же вы.
— Это да, да, — зима нетерпеливо кивает, — но я ищу другую зиму…
— В смысле… другого года?
— Нет… другую зиму… зиму там… — показывает в ощеренное звездами небо… — там…
Начинаю о чем-то догадываться, но недостаточно быстро, перебираю записи на столе, письма, письма, письма, если это можно назвать письмами — на неведомых языках…
— Это…
— …зимы.
— Простите?
— Зимы. Зимы, зимы и зимы… Вот, взгляните… зима Урана… зима Мафусаила…
— Это, простите…
— В созвездии Скорпиона в компании двух давно умерших звезд… пишет, как ежевечернее садится ужинать с погасшими звездами в свете их мертвого сияния. Или вот, зима-сирота на планете-сироте, у неё нет звезды, понимаете… она скитается в пустоте космоса, спрашивает меня, что такое лето…
— Гхм… — меня передергивает — а если пригласить её сюда? Ну, например… пока в гости?
— Боюсь, я это уже сделала…
Мне не по себе, меня неприятно передергивает, еще не хватало, чтобы все зимы, зимы и зимы разум ринулись к нам, хорошо хоть зимы, а не лета, а то бы вообще пришлось несладко, если бы раскаленные звезды ринулись к нам…
И все-таки мне не по себе, что все зимы придут сюда, и все-таки мне так и кажется, что с этих зим случится что-то… что-то… еще не знаю, что, но явно что-то недоброе…
— …а зима-сирота очень благодарна нам… — начинает с порога зима, наша настоящая зима, — погрелась у нашего солнца… наконец-то узнала, что такое настоящее лето…
— Замечательно, просто замечательно… а теперь будьте добры объясните, что это за испарения поднимаются от вашей сиротливой зимы и движутся в нашу сторону.
— Ну… что-то тает…
— Так я вижу, что что-то тает, а что именно?
— Ну что вы у меня спрашиваете, я же всего-навсего зима…
— Но я не знаю, кого мне еще спрашивать… и сколько нам вообще осталось…
Смотрю на то мерцающее, что поднимается от бездомной планеты, думаю, что будет с нами дальше…

Тюльпальма
…а я вам говорю, что вы уйдете, сию минуту уйдете, не унимается тюльпальма, сию минуту кончайте свои выходки, и уходите, а то я полицию вызову. Я не кончаю свои выходки и не ухожу, я стою, прикованный к стволу дерева, я еще пытаюсь что-то доказать, вы хоть понимаете, что это редчайшие эндемические виды, вы хоть понимаете, что эта тюльпальма росла, когда нас всех еще на свете не было, тюльпальма еще наполеоновские войны помнит, даром, что никогда их не видела, и какую-нибудь Атлантиду, даром, что её не существовало никогда. Ну и что, говорит тюльпальма, нефть еще древнее, и что, кого-то это смущает, когда её качают баррель за баррелем? Ну, то нефть, говорю я, а то уникальная тюльпальма, живая, пережившая века и века, таких сейчас не осталось, их вырубили еще когда, еще при каком-нибудь колумбе, или кто там первый высадился на эту землю, рубил многовековые леса, вывозил охапки стволов… так что даже не думайте трогать последнее дерево, слышите вы, ну и что, что мебель из него на века, даже не вздумайте, только через мой труп, поняли, и даже не просите, чтобы я снял наручники, даже не просите, чтобы я отцепился от дерева, не дождетесь. Да хоть все полиции на свете вызывайте, не дождетесь. Это моя земля, не унимается тюльпальма, и дерево мое, и все мое, а вы вообще не имеете никакого права здесь находиться, слышите вы, тоже мне защитник природы выискался, если вы мне выгодную сделку испортите, я вообще не знаю, что я с вами сделаю, вы давно в тюрьме не сидели, что ли? А я не уйду, говорю я, у меня кончится еда и вода, а я не уйду, буду собирать тяжелые капли дождя, упавшие с листьев, буду подбирать тяжелые сочные плоды тюльпальмы, и черта с два вы мне что-то сделаете, черта с два. Понимаю, что с моей стороны это блеф, не более чем блеф, что сюда уже идет полиция, чтобы отцепить меня от дерева, и все, дальше будет визг пилы, треск ствола, возвещающий смерть.
Вы поймите, поймите, — иду на попятную, — вы хоть понимаете, что древнее дерево может рассказать немало удивительных вещей, вы хоть понимаете, что за это можно брать немалые деньги? Кому они сейчас нужны, эти россказни, людям подавай древесину, уникальную древесину…
Еще кричу что-то, когда меня отцепляют от ствола дерева, скручивают руки за спиной, еще вырываюсь, да вы не понимаете, да вы же сами себя губите — тюльпальма огрызается, да ну вас к черту, надоели ваши бредни, что все в мире единое целое, все взаимосвязано, все… Меня уволакивают, я еще успеваю увидеть, как вздрагивает тюльпальма под ударами топора, еще обсуждая что-то с покупателями, да, две тысячи за кубометр древесины, нет, две, никаких полутора, вы же сами видите, первоклассного каче…
Как я стал Картером
Умирая, он дал мне имя — это было тем более странно, что раньше никто не давал мне никаких имен, я даже не знал, что вообще существуют какие-то имена. Кроме того, раньше никто не умирал, в этом он тоже был первым — упал с небес пылающей звездой у моего подножья, и умирая, дал мне свое имя.
Так я стал Картером. Другие скалы поглядывали на меня косо, если не сказать хуже, ну еще бы, это еще что такое — имя, где это видано — имя, ишь, чего выдумал — имя, ни у кого раньше не было никакого имени, а тут имя, так мало того, что имя, так еще и — Картер. Нет бы… ну хотя бы… ну… никто не знал других имен, других имен попросту не было, но все сходились во мнении, что у меня могло бы быть какое-нибудь другое, более подходящее имя, чем Картер, даром, что никаких имен больше нет.
Я-то понимал, что они мне просто-напросто завидуют, ну еще бы — ни у кого из них не было имени, даже самого крохотного завалящего имечка, даже кусочка имени — а у меня было целое имя, да не какое-нибудь, а Картер. Особенно завидовал… гхм… я даже не могу его назвать, потому что у него не было имени.
— Я так понимаю, это уже четвертый случай?
— К сожалению, уже шестой. Еще две экспедиции в тридцать восьмом.
— С ума сойти можно, что их вообще туда тянет…
— Да вот то-то и оно, что ничего, никто из них туда даже и не собирался, а вот нате вам…
— Ну и с какого боку предлагаете раскрывать это дело?
— Да ни с какого, просто запретить полеты в этом регионе, и дело с концом…
— Оживленная трасса, так просто не запретишь…
— Ну а вы что предлагаете, чтобы дальше люди гибли?
— Ничего я пока не предлагаю… разбираться надо…
— Флетчер!
Мне показалось, я ослышался — но нет, никаких сомнений быть не могло, его окликали по имени. Его — того, у которого раньше не было даже намека на имя, а теперь целое имя — Флетчер.
— Как? — спросил я, — откуда?
Флетчер только улыбнулся, многозначительно и загадочно, насколько скалы вообще умеют улыбаться — а вот так, а вот нечего тебе одному жить с именем, ишь какой, имя себе устроил, ты, значит, с именем, а мы без? Вот я теперь Флетчер, все поняли, да?
— …знакомьтесь, Тейлор. И Уокер.
Когда Флетчер сказал это — Тейлор и Уокер — мне стало окончательно не по себе. Нет, не то, что я кому-то завидовал, да кому я вообще мог завидовать, у меня ведь тоже было имя, да не какое-нибудь, а Картер, — и не то, чтобы я считал, что имя может принадлежать только мне, и никому больше, — но что-то в этом было странное, неправильное что-то, что они все один за другим становились Флетчерами, Тейлорами, Уокерами…
Я присмотрелся к новоявленным Тейлору и Уокеру и заметил то, чего не замечал раньше — два истлевших тела у их подножий, два тела, упавших с высоких небес и сгоревших дотла.
— Как… как вы это сделали? — спросил я, даже не ожидая, что мне ответят.
— Так же, как и ты.
— Но я… я ничего не делал, он сам…
— Так и они… сами… — многозначительно усмехнулся Флетчер, и мне стало не по себе от этой усмешки.
…нет, он достойный холм, ну и что, что у него имени нет, сейчас все еще много кто без имени, имя вообще вещь редкая, сейчас все труднее хорошее имя достать, да что хорошее, просто какое-нибудь завалящее, — падают и сгорают все меньше и меньше, как будто назло. Так что нечего от него нос воротить, он ничуть не хуже других, а то может и лучше, вот имя себе получит, вообще всех вас за пояс заткнет…
— …вы… вы с ума сошли, или как?
— Боюсь, это единственный шанс узнать правду…
— …и погибнуть?
— Я уверен, что этого не случится…
— …Ну, вот видите, а вы переживали, вот и у вас имя появилось…
— Вы… вы понимаете…
— Да что такое, на вас лица нет, что случилось-то? Как вас теперь… Дэвис? Отлично звучит…
— Вы не понимаете, тут такое произошло…
— А что?
— А то… он дал мне имя…
— Ну, вот и прекрасно.
— Он упал с небес, увидел меня, дал мне имя, холм Дэвиса…
— Ну, да, так оно и бывает.
— Но он не умер, понимаете, не умер!
Замираем, как громом пораженные, как будто скалы могут замереть еще больше.
— Вы… вы сказали…
— …он не умер.
Не понимаем, а как, а почему, а неужели, а что, а так можно было, дать имя и…
Теряемся, смущаемся, боимся смотреть друг другу в глаза, понимаем, что сделали что-то не то, что неправильно это, и мы не вправе вот так использовать имена, которые забрали… вот так…
— …надо бы вернуть, — говорит кто-то, и я даже не сразу понимаю, что это сказал Флетчер.
— Надо бы, — соглашается Тейлор.
— Или лучше… — Дэвис задумывается, не договаривает, но мы понимаем все…
— …как… как вы это объясните? Они же… еще вчера… Еще вчера здесь были обгоревшие кости, честное слово!
— А они… эти люди… что-нибудь помнят?
— Ровным счетом ничего…
— Боюсь, нам еще много придется объяснить… если здесь вообще что-то возможно объяснить…
А-Н
Электричка А-Н всегда боялась людей, они казались ей каким-то жуткими, выбегающими на пути на переходе, и ей чудилось, что вот-вот сейчас случится что-нибудь непоправимое, человек не успеет отскочить, и придется сбить бегущего, или сойти с рельсов и врезаться во что-нибудь там, по ту сторону перрона — А-Н учили всему этому, но она надеялась, что ей никогда в жизни (если жизнь электрички можно назвать жизнью) не придется сделать это.
В. вошел в вагон и с привычным тактом по одному взгляду на электричку определил её принадлежность к последним моделям. Когда он обернулся, она тоже повернула видеокамеры.
Несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо: бежал и светофор необыкновенного цвета. Очевидно, случилось что-то необыкновенное.
— Что… где… сошел с рельсов!
В. пошел узнать подробности несчастья. У поезда сбилась программа, он не увидел поворота, и упал с моста.
— Ах, какой ужас… А-Н, если бы вы видели, — говорил В.
Он раскрыл в купе нетбук и углубился в чертежи крылатых машин, которые могли достигнуть самых далеких звезд.
— Зачем вы едете? Зачем вы едете? — спросила А-Н.
— Вы знаете. Я еду, чтобы разрабатывать космические лайнеры. Я не могу иначе.
— А вы можете сделать лайнер на основе, скажем… электрички?
— Боюсь, при мизерном финансировании мне не остается ничего больше…
Разработчик электричек не видел ничего особенного и неприличного в том, что его электричка оживленно болтает с пассажиром. Но он заметил, что контролю за нейросетями это показалось чем-то особенным и неприличным, и он подошел…
— …мы не можем… мы не можем вот так тайно продолжать разработки…
— Что же делать по-вашему? Уезжать? Электрички не могут уехать туда, где нет рельсов, ну и что, что я самая быстрая в мире…
А-Н проверила почту, нет ли сообщений от В:
«Очень жаль, что мне некогда, наконец-то выделили полноценное финансирование…»
Мимо по переходу проходил человек — А-Н вспомнила о сошедшем с рельсов поезде, и поняла, что делать дальше. Туда — говорила она себе.
Она хотела на полной скорости направиться на проходящего, но помешал ограничитель скорости, который он снимала, и она бросилась на следующего человека, точно зная, что система заставит её отклониться от курса, соскочить с рельсов с моста — где я, что я делаю, зачем — но в то же время неведомая сила сбросила её в бездну, заставила раскрыть сопла, подняться над бездной, выше, выше, перетрансформироваться на старт, и свет затрещал ярче, чем когда бы то ни было, осветил то, что прежде было во мраке, и все погасло…
Где восходит солнце
Вскидываю голову.
Спрашиваю.
Резко.
В лоб:
— Что вы сделали после того, как убили Эльзу?
Бледнеет. Тонкие пальцы нервно перебирают воздух, мнут его, рвут, комкают, пытаются расправить, не могут.
— Что вы сделали?
— Я… не помню…
— Вспоминайте.
— Не… не помню…
— Вы спрятали тело… не так ли?
— Верно… совершенно верно…
— В подвале?
— Д-да…
— Замуровали в стену?
— Верно… совершенно верно…
— Отлично, я так и думал, что вы во всем признаетесь…
Щелкает дверной замок, возвращается Эльза, маленькая, юркая, вся как будто сияющая, сбрасывает пальто на кресло в прихожей — странный поступок, когда есть вешалка, должно быть, осталась привычка из родительского дома, где была горничная, подавала и принимала пальто. Эльза оглядывается, не понимает, а где Арчи, время-то уже половина одиннадцатого, где его черти носят…
Смотрю на Эльзу, не верю, не понимаю, как Эльза, почему Эльза, её же убитой считали, пропавшей без вести, она же…
— Да какое без вести, я же домой ездила! — Эльза так говорит это «домой», что становится понятно, она считает своим домом шикарное поместье родителей, а не особнячок мужа.
— Вот как… А Арчи считал вас пропавшей без вести…
Эльза фыркает, мечутся на лице пестрые веснушки:
— Да я ему миллион раз сказала, домой я еду, домой! Да что такое, в одно ухо влетает, в другое вылетает…
— Могу я воспользоваться вашим телефоном?
— Да, разумеется…
Подманиваю к себе телефон, тц-тц-тц-на-на-на, телефон нехотя подбирается ко мне, хлопает крыльями, замирает в двух шагах от меня.
— Алло? Да. Да, это я. Отпустите Арчи, он ни в чем не виноват. Нет, никто не убивал. Она вернулась, живая-здоровая, все хорошо…
Оборачиваюсь, смотрю на то место, где только что стояла Эльза, почему она буквально растворяется в воздухе, что там щелкнуло в подвале, почему я бегу туда, вижу свежую кирпичную кладку, кирку, почему я пытаюсь вскрыть ряды кирпичей, почему они с грохотом рушатся на меня, увлекая за собой полуистлевшее тело из ниши…
— …ну, знаете… если бы не видеокамеры в вашей голове, в жизни бы не поверил… — шеф смотрит на меня подозрительно, видимо, все еще сомневается, а так ли я не виноват, а может, все-таки это я что-то подправил с камерой…
— Да я сам… глазам своим не верил…
— И все-таки как это получилось вообще?
— Ума не приложу… Похоже, мы столкнулись с чем-то качественно новым… неизведанным… Кстати, а где Арчибальд?
— Вы не поверите, его арестовали сегодня утром.
— Но… он же не убивал Эльзу, я видел её живой!
— Нет, там уже не в Эльзе дело…
— А что такое?
— Вы представляете… он был там, где восходит солнце…
Задумываюсь, а что такого, где восходит солнце, ну да все мы туда бегали, туда, где встает солнце, встречали солнце, осторожно протягивали к нему руки, боялись обжечься, а кто-то и обжигался, потом родители обещали уши поотрывать…
— Ну, мы все там ходили… бывало… его-то за что…
— Ну знаете… человек вот так ни с того ни с сего околачивается там, где восходит солнце… как бы он чего не задумал…
— Чего… задумал?
— Ну, знаете… так и солнце погасить недолго…
— …видите ли… — он долго мнется, смотрит то на меня, то куда-то в пустоту, как будто видит что-то невидимое, а то и вообще несуществующее, — видите ли…
Жду, что он скажет, он ничего не говорит, так и хочется спросить у него, а вы точно психолог, или кто вы вообще…
— Видите ли… Арчибальд этот… такой человек… очень редкий тип людей…
Снова пауза, которая кажется бесконечной.
— …если начать его в чем-то обвинять, он и правда поверит в то, что он это сделал… вот как с убийством жены…
Он замолкает, снова смотрит на что-то невидимое — понимаю, что это еще не все, что будет сказано многое, очень многое…
— …и начинает верить в это так сильно, что все эти вещи действительно начинают сбываться…
Меня передергивает, кажется, я ослышался, это просто не может быть правдой, не может, не может, а как иначе объяснить происходящее…
— Вот черт…
— Вы… откуда вам это известно?
— Пару раз я уже сталкивался с ним еще в его детстве, родители подозревали, что он не то украл, не то разбил какую-то вазу, потом вазу нашли… и видели бы вы лица родителей, когда ваза сама по себе разлетелась на тысячу осколков и исчезла… потому что он признался и так, и так, что украл вазу, и что разбил её…
Холодеет спина, понимаю, что дело нешуточное, бормочу привычное — могу я воспользоваться вашим телефоном…
— Пожалуйста.
Подзываю телефон к себе, тц-тц-тц-на-на-на, телефон подбирается ко мне нехотя-нехотя, кусает, больно, сильно, вот чер-р-рт…
Все-таки снимаю трубку, набираю номер:
— Да, это я… да… немедленно отпустите Арчибальда… немедленно… он ни в чем…
— …но он сознался.
— В чем… сознался?
— Что хотел погасить солнце… более того, даже сказал, что уже погасил солнце…
Выпускаю телефон, бросаюсь прочь на улицу скорее к зданию полиции, еще надеюсь успеть…

Пора свадеб
…а дальше пора свадеб начинается, ну, пора свадеб — это святое, невесты женихов выбирают, присматриваются, приглядываются, ну еще бы, это же один раз, и на всю жизнь. Те, которые выбрали уже, подсказывают, нашептывают, как выбирать, что искать, на что смотреть, кому дать шанс, а на кого даже и не оглядываться. Ну, еще бы, это же на всю жизнь, покидать родную землю, родное солнце, бестелесной мыслью лететь через звезды, опускаться на чужие земли, искать голову, в которой можно загнездиться, проклюнуться, прорасти строками, «укрывает белые врата снег, что не растает никогда…» Вот и смотрят невесты, вот и ищут достойных женихов, которые голову эту обеспечить смогут, а то и не одну, и не две, а то и миллионы и миллионы…
Нет, это понятно, что всем хочется все и сразу, чтобы вотпрямщас, чтобы опустилась невеста на чужую незнакомую землю под чужим незнакомым солнцем, огляделась — а там уже и готово все, и города построены, и люди по городам ходят, и какой-нибудь беспокойный ум ищет мысль — такую, какая просто так сама по себе не появится на юной земле, такую, которая может только спуститься извне, из миров настолько древних, что только они и могут породить такие мысли. Это-то все понятно, что каждой мысли хочется так, опуститься на готовенькое, вытянуться строками на бумаге или там на чем…
Только что не бывает все и сразу — это-то тоже понятно, это таких женихов один на миллион, если не на миллиард, у которых все готовенькое в наследство осталось или еще как, даже не хочется говорить, как именно. А то бывает такое, видят невесты — завидный жених, при земле, и все-то на земле есть — а потом бац, заглянут в какую-нибудь комнату, в которую заглядывать не велено, и что думаете, а там труп предыдущего хозяина, которого завидный жених-то и укокошил, чтобы землей завладеть. Ну тут понятно, что и сама невеста туда же отправится, а нечего заглядывать куда не попадя…
А так-то чаще женишки послабее встречаются, ну как послабее — земля есть, ну как без земли-то, только на земле еще и нет ничего толком, так, трава-мурава, и лазают по деревьям какие-нибудь, которые не то что мысль поймать — даже простое два плюс два сложить не могут. Ну да ничего, умные-то мысли, они умные, они понимают, что все и сразу не бывает, — бродят, неприкаянные, по пустошам, ждут, когда пастухи в соломенных хижинах построят каменные города, сложат из веток и шкур первые неумелые крылья, запустят первую же и неумелую же паровую машину, пустят по рельсам что-то пыхтяще-тарахтящее, посмотрят на звезды — не так, мечтательно, а по-настоящему, как следует, высчитывая первую космическую скорость… Вот там-то и мысль проклюнется, осторожно коснется умов — мысль из других миров, слишком древняя, чтобы родиться на этой земле.
Но тут, конечно, не всякий жених из необжитых степей сделает города и крылатые колесницы, тут невестам смотреть надо — кто и правда денно и нощно трудится, обтесывает камень, обжигает черепицу для крыш — а кто так, только языком трепать умеет, рассказывать, как тут будет у него через века и века. Конечно, и такое бывает, что вроде трудится жених в поте лица, а ничего у него не складывается, хоть ты тресни. С таким тоже каши не сваришь, куда деваться…
Только не про это сейчас.
Не про это.
А вот про что…
А мысль-то, мысль-то что учудила, слышали? Какая мысль? Да обыкновенная, ну то есть, не бывает их обыкновенных, ну вы её все знаете, эта… а какая эта, мы вам не скажем, потому что эту мысль еще не подумал никто. Ну, так вот, видали, что она учудила-то? Нет, это ж надо ж было, к ней кто только не сватался, а она кого выбрала? Кого выбрала, спрашивается? Вот это ж надо ж было удумать-то, а? к ней же кто только не сватался, там же мысль, это всем мыслям мысль, а тут нате вам, выбрала себе тоже…
Он же…
Этот же…
У него же нет ничего, ну как ничего, ну то есть земля есть, но то земля, а на земле-то вообще мертвая пустыня, окруженная первозданным океаном, подернутая туманами, сквозь которые еле-еле пробивается безымянное солнце…
Ну, другой бы жених стал бы обещать с три короба, что вот скоро-скоро, вот сейчас-сейчас, подожди еще немного, и по улицам городов зашагают прохожие… А этот — ни словечка, ни полсловечка, только молча перебирает что-то в волнах первобытного океана, что когда-нибудь заплещется первозданной жизнью и выберется на сушу, а может, нет, кто его знает, может, будут глубоко на дне океана темнеть исполинские мегаполисы, чуть подсвеченные фосфоресцирующим сиянием…
Так что черт его пойми, жениха этого, то ли и правда можно свадьбу сыграть, покинуть родные края, подождать какие-то миллиарды лет — то ли нечего даже и думать, как так, что за жених такой, ни кола, ни двора. Да и все как один мысли говорят — ты не торопись, ты подумай, ты подожди, ты посмотри, век, два, тысячу тысяч лет, а там и решай, говорить да или нет.
Какое там!
Куда там!
Ну так-то оно и бывает по молодости, когда кровь кипит, то есть, нет еще никакой крови, но уже кипит, и не слушает беспокойная идея опытные старые мысли, и говорит — да, и покидает родные края — навеки, навеки, никогда больше их не увидит, и опускается на необжитую землю, обнимает своего благоверного — крепко-крепко, только она и он, больше никого в целом свете, а остальное приложится, непременно-непременно…
Годы идут…
Века идут…
Тысячи лет…
Миллиарды…
…вот уже меркнет так и оставшееся безымянным солнце, вот уже тает туман — а каменистые пустоши все так же безжизненны и пусты…
А что такое?
А почему?
И вот уже — шепотки, шепотки, слухи, слухи, слухи, перешептываются, першушукиваются, а жених-то, жених, слышали, слышали, наобещал с три короба, а теперь-то что, теперь-то что, мы вас спрашиваем… вот так вот юные мысли неопытные и обманывают, уводят из родного дома в бесконечные дали…
Тут уже и жених пытается возразить что-то, да ты погоди, да не все сразу, ну ты же понимаешь, подождать надо, год, два, миллионы лет, все же не сразу…
И невеста задумывается, ну что еще делать мысли, кроме как не задумываться, и уже вот-вот готова остаться — на века, на века, когда тут кто-то возьми да ляпни…
А жених-то…
Жених-то…
Видели?
Видели?
Неужели раньше не замечали?
Да нет, то есть, жених-то еще ничего, а вот земля-то его, земля… то-то он её по дешевке не глядя на распродаже какой-то схватил… земля-то, земля…
Нет, ну вы это видели?
Вы это видели, чтобы в аммиачной атмосфере жизнь была? Вы на другие земли-то посмотрите, везде сплошь кислород да азот, а тут нате вам…
Так что женишок хорош оказался, да и невеста не лучше, повелась не пойми на кого. спохватилась, да поздно уже, назад-то не вернуться, так-то можно хлопнуть дверью и уйти, только куда уйти-то? Мысль-то, она сама по себе не живет, её думать кто-то должен… Хлопнула дверью, ушла, а куда — неведомо…
Думали, жених (тот еще женишок) искать её кинется, ну или хотя бы ждать будет, — да какое там, из него слова не выжмешь, снова и снова перебирает что-то там в мертвом океане, как будто можно там что-то перебрать…
Так что вот оно как бывает. Так что вы, мысли, смотрите хорошенько, кого выбираете, а то вот так вот пойдете не пойми за кого, а потом расхлебывать, как будто тут еще можно что-то расхлебать…
Так вот, пора свадеб начинается, святое дело, когда мысли себе земли выбирают, женихи один пуще другого стараются, земли свои прихорашивают…
А жених-то этот…
Слышали?
Слышали?
Нет, вы слышали?
Да что такое, все слышали, а вы не слышали, вот те на…
Жених-то… на земле-то на его необжитой… давно уже и жизнь проклюнулась, и города выросли, загляденье, и прохожие по улицам ходят, задумываются, ждут мыслей… мыслей, которых нет…
Вот говорят — не может жить мир без мыслей — а вот живет.
Вот говорят — не может жить мысль без мира — а вот живет…
Тут хочется какой-то финал хороший, ну, не хороший, но хотя бы надежду какую-то дать, — что жених теперь посылает крылатые корабли везде и всюду, до самых звезд, шлет странников на необжитые планеты, на одной из которых может быть затаилась его благоверная, — чтобы звездный странник поймал драгоценную мысль…
Только что-то женишок не торопится, все так же выстраивает свои города, и дверь держит на замке, даже колокольчика нет, наверное, чтобы ушедшей мысли позвонить было не во что…

Ча Родей
— …я предлагаю вам…
Смотрю на него, вот так, ни здрассьте, ни до свидания, вламывается, распахивает свой чемоданчик, или что у него там, вытаскивает бесконечные горы товаров, только сегодня только для вас подошвы для шляп и шнурки для галстуков со скидкой триста процентов, хотя нет, пожалуй, с такой скидкой я бы купил, так ведь не предложит же такое…
Уже хочу сказать резко и в то же время вежливо, что шли бы вы отсюда подальше, или ответить что-нибудь эдакое, вот черт, сколько раз подбирал остроумные фразы, сейчас как назло все из головы вылетело, эй, господин торговец, а у вас нет в запасе парочки остроумных фраз, я бы купил, чтобы…
…а-а-а-а-а-а-а-а!
Эт-то еще что такое, вытаскивает, кладет мне на стол, а-а-а-а, убери-убери-убери, пока она меня не схватила… нет, не схватит, отрубленные руки вроде бы людей не хватают, хотя кто их знает вообще…
— …только сегодня для вас уникальное предложение, рука Ча Родея за полцены, одной такой руки хватит, чтобы уберечь целый город от смерти и разрушения…
…Меня разбирает смех — кажется, этот торгачишка еще не понимает, что меня так насмешило, что прямо до колик, до истерики, да будет тут истерика, когда городу осталось жить всего-ничего…
— Что… что-вы-на-ме-ня-так-смот-ри-те? О-ох, друг мой, я бы сейчас с руками оторвал бы у вас эту руку, простите за невольный каламбур, если бы не одно маленькое но… Вы уже третий человек, который приносит сюда руку Ча Родея! Я, конечно, во многое готов поверить, но даже не представляю себе, чтобы у Ча Родея оказалось три руки!
Черт, как назло никого нет рядом, ну почему всегда так, когда найдешь по настоящему достойный ответ, когда переживаешь триумф — обязательно никого нет рядом, некому восхищенно смотреть, как я уделываю этого торговишку, ага, сник, собрал свои сокровища, сгреб рукой, почему-то кажется, что отрубленная рука тоже сгребает саму себя, но это показалось, конечно же, показалось — торгачишка выметается за дверь. С сожалением смотрю на уже купленные две руки, это ж надо было так опростоволоситься…
Ненавижу себя, что потратил деньги из городского бюджета непонятно на что, ненавижу себя, что не могу спасти Тригородье, и не говорите мне, что никто не может, какое мне дело до никого, мне есть дело до себя и до Тригородья, а не до никого…
— Ну что? — насмешливо смотрю на торговца, — четвертую руку принесли?
— Принес, — невозмутимо выкладывает на стол третью и четвертую руку, меня передергивает: я, конечно, со всякой наглостью сталкивался на своем веку, но это уже запредельное что-то.
— А таблетки от наглости вам не надо? — фыркаю, — могу предложить с двадцатипроцентной скидкой, только сегодня, только для вас…
— Вот я так и знал, что вы смеяться будете…
Хочу парировать, а что мне теперь, плакать, что ли, — тут же понимаю, что мне и правда в самую пору плакать от собственного бессилия, что я смотрю, как гибнут города, и ни черта не могу сделать…
— Взгляните…
Все так и переворачивается внутри, что ты мне суешь, что еще за картина, не собираюсь я у тебя никакую картину покупать, даже не предлагай…
— …да я вам её бесплатно отдам, — тут же парирует торговишка, — вы вот… взгляните…
Смотрю на гравюру или что у него там, что за бред, человек с четырьмя руками на улице старинного города, смотрит так, как будто видит меня сквозь гравюру, знает, что я здесь…
— Это…
— Ча Родей собственной персоной… вы понимаете, я наткнулся на это совершенно случайно… и не мог не показать вам…
Не выдерживаю:
— Сколько… сколько вы за неё хотите?
— Да я вам эту гравюру бесплатно…
— …нет… за руку?
Он называет сумму, присвистываю, думаю, а не поторговаться ли, тут же спохватываюсь, что торговаться уже поздно, надо действовать…
— Вот что… Отнесете эту руку в Первоград, оставите в ратуше… Триградом я сам займусь…
Смотрю в окно на то, что осталось от Двуграда, а ведь он верно как будто перестал разрушаться после того, как здесь появились эти окаянные руки…
…уже готовлюсь оставить руку под стеклом витрины, уже готовлюсь сказать себе, что теперь город буде спасен — когда замечаю что-то на стене, почему не видел раньше, наверное, недавно появились, гравюры, гравюры, гравюры, узнаю знакомый стиль, узнаю знакомые штрихи, что-то мне это уже не нравится…
— Откуда? — спрашиваю как можно спокойнее.
— Торговец…
Киваю, так я и думал…
— Это он вам продал?
— Нет… не продал… это он сам рисует.
Мир переворачивается у меня перед глазами:
— Ч-что вы сказали?
— Сам… рисует… талантище парень, мы у него который раз уже заказываем…
Страшная догадка так и подбрасывает меня на месте, вот ведь черт, это же надо было так опростоволоситься… В отчаянии хватаю злополучную руку, высохшую, почерневшую, бросаю в пламя очага, пропади оно все пропадом, пропади, пропади, пропади…
То, что осталось от города, окружает меня — теснее, теснее, жмется под мою защиту, как будто я могу защитить город от того, неумолимо подступающего со всех сторон. В отчаянии перебираю книги, книги, книги, как будто они могут дать мне пусть даже не ответ на все вопросы, но хотя бы какую-нибудь подсказку — нет, ничего, ничего, никто еще не сталкивался с такой напастью, как мы. Открываю наугад уже сам не знаю, что, читаю, что-то знакомое, Ча Родей, так это не выдумка, что ли, это правда, что ли, да ну вас совсем, это не может быть правдой, вот и фотография его, ага, все-таки две руки, и нечего мне тут мозги пудрить…
…помимо всех прочих возможностей у Ча Родея была уникальная способность — искривлять время и одновременно находиться в нескольких местах сразу, что позволяло ему…
Ёкает сердце.
В нескольких местах сразу…
Руки… одна, две, три, четыре, миллион…
Руки, пылающие в пламени очага…
Понимаю, что все случилось, окончательно, безвозвратно, неумолимо, обнимаю то, что осталось от города, понимаю — не сберегу…

Как стать признанным гением
— Вы. Гений, — говорит он.
Вздрагиваю. Нет, я-то, конечно, знаю, что я гений, но другие-то об этом не знают, чтобы вот так откровенно… Или это он всем говорит, чтобы… чтобы не знаю что, такими словами только огорошить можно.
— Вас. Не. Признают, — добавляет он. Говорит, тщательно чеканя каждое слово, видно, слова для него слишком непривычны, вот он и старается отчеканить каждое слово до блеска, чтобы видно было из соседней галактики.
Киваю. Уж с этим-то я смело могу согласиться, не то что с первой фразой.
— Вы. Непризнанный. Гений.
Снова киваю. Кажется, он понимает, все понимает, он, кто он, эфирный, бестелесный, невесомый, чуть-чуть трепещущий на ветру на вершине своей башне, которая неведомо как держится на пустоте посреди пустыни. А может, все это только иллюзия для таких вот гостей, как я, а на самом деле он совсем и совсем не такой…
— Вы. Пишете…
Киваю. Вспоминаю исполинские свитки, которые никто кроме меня даже не разворачивал, свитки, свисающие с деревьев, которые я бережно взращивал год за годом…
— Они. Не. Читают.
Мне ничего не остается кроме как снова кивнуть. Спохватываюсь, а понимает ли он кивок, или для него это наоборот знак отрицания, или для него это вообще ничего не значит. Кстати, видит ли он меня, или говорит в пустоту, сам себе…
— Вижу. Понимаю. — Кивок… — Они не такие, как вы.
Киваю. Не такие. Пускающие корни в землю, расправляющие легкие паруса, на которых они летят по бескрайним равнинам, когда вынимают из земли корни. Они вообще не понимают, что значит быть тенью, скользить по стенам заброшенных замков в свете какой-нибудь из трех лун, а иногда и всех трех.
— Вы. Хотите…
Пауза. Он ждет. Договариваю за него:
— Быть признанным.
— Это. Возможно. Прямо. Сегодня. Прямо. Сейчас.
Настораживаюсь. Не нравятся мне эти разводилы, которые вотпрямщас…
— Это знают все. Давно. Все. Вам. Только… придется…
Настораживаюсь еще больше, понимаю, что если он скажет мне понять и познать тех, корнисто-парусных, проникнуть в их мысли, начать думать, как они, стать ими — я исчезну прежде чем он начнет свою тираду.
— …огнем. Владеете?
Понимаю, что уже устал кивать, но что я еще могу сделать…
— Лесной. Пожар.
Меня передергивает, это еще зачем…
— Пожар. Горят. Корни. Горят. Паруса.
Мне становится не по себе, это еще зачем…
— …остаются. Стены. Остаются. Камни. Остаются. Тени. Ваш. Мир. Мир. Теней. Тени. Разворачивают. Свитки. Свитки. Свитки…
Понимаю, к чему он клонит, — мне становится не по себе от того, как все, оказывается, просто, проще некуда…
— …вы. Гений, — начинает он.
Начинаю понимать, что это какая-то особая форма приветствия, он говорит так всем. Мне даже становится не по себе, какой-то укол ревности, и правда, сколько их, таких, как я…
— Вас. Не. Признают.
Киваю, что мне еще остается.
— Почему… Почему?
— Ну… как вам сказать…
— Лесной. Пожар?
— Нет… еще нет.
— А когда?
— Не знаю… право же, не знаю… я думаю… успеется… все успеется.
— Поторопитесь.
— Да, да, конечно же…
— Почему… почему нет?
Этого он уже не спрашивает, этого уже никто не спрашивает, я смотрю на бесконечный список гениев, которым рукоплещет мир, каждому свой. Спрашиваю, почему среди них нет меня, спрашиваю ни у кого, даже не у себя самого.
Снова перевожу взгляд на бескрайние равнины, над которыми парят корни на парусах, паруса на корнях.
Вспоминаю про огонь в очаге, почему я не хочу про него вспоминать, почему, почему…
Смотрю на бескрайние равнины, на деревья, увешанные свитками, мне показалось, или я вижу корни под парусом, парус с корнями, который осторожно отогнул лист…
Теория Книги
Я не ожидал увидеть её здесь — то есть, нет, её-то я увидеть как раз ожидал, ещё бесконечно издалека в темноте ночи я почувствовал запах непорочной девушки, — но я никак не ожидал, что она окажется прикована к стене в комнате высокой башни, а длина цепи позволяет ей обойти комнату, но не более того. Она даже не испугалась, увидев меня, хотя прекрасно поняла, кто я такой — слухи обо мне ходили по всему городку, люди вечерами запирали ставни и вешали обереги, стараясь спасти своих дочерей.
— Вы… — начал я неуверенно, и сам испугался своего голоса: мне еще не доводилось говорить со своими жертвами.
— Вы можете вытащить меня отсюда? — она бросилась ко мне, сжала мои плечи, от неожиданности я понял, что больше не могу владеть собой и вонзил клыки в её пульсирующее горло, вытягивая жизнь по каплям. Сам не знаю, как я нашел в себе силы отпустить её, ещё живую, что было совершенно не в моих правилах.
— Боюсь… у меня нет при себе ни напильника… ничего такого…
— Вы можете сообщить в полицию?
Эта просьба вызвала у меня невольную усмешку — хорошо же будет, если в полицию придет тот, кого считают умершим, да вдобавок тот, кого разыскивает весь город, чтобы вбить мне, наконец, в сердце осиновый кол.
— Гхм… я постараюсь что-нибудь сделать…
— Постарайтесь обязательно… а теперь поторопитесь, скоро рассвет… вам ведь нужно вернуться на кладбище?
— Ну да… в фамильный склеп…
Время поджимало, но я все-таки спросил то, что нужно было спросить с самого начала:
— Как вас зовут?
— А я думала, вы знаете Бекки Трис… — она чуть смутилась.
Её имя показалось мне очень и очень знакомым, но я никак не мог вспомнить, где именно его слышал. И только когда я оставил попытки что-то припоминать и уже собрался вылететь в раскрытое окно, озарение пришло само собой.
— Бекки Трис, конечно же! Ваша могила… ваша надгробная плита рядом с моей…
— Ну вот, — она вздрогнула, я прямо-таки почувствовал, как холодок пробежал по её телу, — меня, оказывается, похоронили… отец хочет, чтобы меня считали мертвой…
— Ваш отец… Тэд Трис, не так ли? Я тоже что-то про него слышал…
— Теория Книги вам ни о чем не говорит?
— Гхм… что-то припоминаю, но не могу припомнить, что именно.
Я чувствовал, что готов стоять здесь целую вечность и даже несколько вечностей подряд — но рассвет приближался неумолимо, поэтому мне не оставалось ничего кроме как покинуть высокую башню и заторопиться в сторону кладбища…
…я все еще опасался выходить в ненастоящие ночи — не в те ночи, когда наша земля отворачивала наш городок от солнца, а в те ночи, когда какая-нибудь из лун закрывает солнце. В нашем городке упорно называли остальные шесть земель лунами, — в отместку за то, что они называли нашу землю седьмой, самой последней, еще и оправдывались, что семь — счастливое число…
— …напомним, ежегодная премия вручается тому, кто сможет объяснить феномен астероидов — почему наши семь ничтожно малых планет находятся на постоянном расстоянии друг от друга, как им удается удерживать атмосферу. Ежегодную премию в этом году по-прежнему никто не получил — хотя общественность требует дать приз зрительских симпатий Тэду Трису, который на полном серьезе уверял, что уникальную планетарную систему можно объяснить только одним способом — если весь наш мир не существует на самом деле, а является вымышленным миром какой-то книги…
В ночь, когда Бекки должна была вырваться на свободу, расправить черные крылья и сжечь дотла весь город, в домах не зажигали огней — на всякий случай, а мало ли. Девушка (мы привыкли называть это чудовище девушкой даже когда узнали, что она чудовище) потребовала на полном серьезе запереть её в башне и приковать кандалами — опять же на всякий случай. Старый Трис протестовал, но его дочь была непреклонна, она не хотела, чтобы с городком случилось несчастье.
Тщательно штудировали книгу, вернее, те обрывки книги, которые доходили до нас в снах, проверяли, какие дома охватит пожар, а какие чудом уцелеют. Больше всех волновался бакалейщик, он прямо-таки замучил народ вопросами, сгорит его дом вместе с лавкой на первом этаже, или нет, и сгорит ли он сам. Ему отвечали, что какая в самом деле разница, не сгорит же он по-настоящему, а волнуется так, будто должен и правда поджечь себя и свой дом.
Пережидали опасную ночь, молились не знали, кому, наутро выходили из домов, дружно праздновали спасение…
— …боюсь, у меня плохие новости…
Начинаю осторожно, понимаю, что за этим может последовать взрыв негодования, а ведь последует, за Картером не убудет.
Картер смотрит на меня с вызовом:
— А у вас бывает что-нибудь кроме плохих новостей?
Не выдерживаю, отвечаю тем же тоном:
— Бывает. И еще как. Но сегодня новости далеки от хороших…
— И… и что же?
Начинаю издалека, так проще, начинать издалека:
— Итак, вы просили меня установить, в какой книге мы существуем… является ли наша история дешевым бульварным чтивом, или представляет собой не меньше чем бессмертную классику на века…
— Именно так. И вы, конечно же, ничего не нашли?
Меня передергивает, еле сдерживаюсь, чтобы не дать ему промеж глаз:
— Если бы я ничего не нашел, стал бы я приглашать вас сюда?
— Так что же… надеюсь, у вас хорошие новости? Ах да, вы уже сказали, что плохие… Ну что же… небольшое утешение, что мы по крайней мере в величайшем из романов…
— …к сожалению, нет.
— Ну, если это бульварная книжонка, то у нас с Бетти есть шансы…
— К сожалению, нет.
— Тогда что же…
— …боюсь вас огорошить… но мы находимся в реальности.
— Простите?
— В реальности.
— Это, разумеется, розыгрыш?
— Отнюдь…
— То есть, вы отвергаете теорию Триса…
— Ни в коем случае… Трис был совершенно прав… и все-таки…
— И все-таки что случилось?
— Вот именно, случилось… когда мы стали поступать наперекор законам книги… мы её разрушили… она перестала быть книгой…
— …а, господин Картер… что-то вы зачастили… ну неудивительно, все понимаю, у вас с Бекки…
— Да, я по поводу Бекки.. я… гхм…
— Говорите, говорите, Картер… понимаю, это волнительно, я сам когда делал предложение Элен…
— Да нет, вы поймите… Бекки не сожгла город, и…
— …ничего себе… и вы хотите сказать… что теперь наша книга стала реальной… и это значит…
— Это значит только одно, уважаемый Трис… я скажу только одно — планетоиды в потоке не могут лететь вечно, не падая друг на друга, и не теряя атмосферу… и когда это случится, это лишь вопрос времени… и боюсь, у нас есть только один способ спасти мир…
— И какой же?
— Бекки должна сжечь город… и чем быстрее, тем лучше.
— Вы же сами понимаете, что об этом не может быть и речи.
— Вы хотите, чтобы погиб весь мир?
— Послушайте, Картер… честное слово, должен быть какой-то другой выход…
— И какой же?
— Ну… я не знаю… например…
— То-то и оно, что никакого другого варианта нет… только один…
— …но мог ли знать Картер, стремясь освободить девушку, что Бекки в тысячи раз опаснее самого Картера, и недаром отец объявил её мертвой и приковал в башне…
— …Бекки, Бекки, ну вы же сами понимаете, если вы не сделаете этого, мир не выживет…
Сегодня я пришел ненастоящей ночью, потому что шестая земля закрыла своей тенью нашу землю, а значит, можно прятаться в тени, затаиться от беспощадного солнца.
Бекки не отвечает, как будто вообще не видит меня, — она все еще в кандалах, хотя могла бы снять их в любой момент.
— Вы что… не понимаете… наш город уже окружают…
— Кто… окружает?
— Да все, все, как вы не понимаете, никто не хочет, чтобы мир погиб…
Бекки опускает голову, я понимаю, что она не сделает того, что должна сделать — ни за что на свете…
— …почему… почему ничего не происходит? — предводитель восстания (я узнаю булочника) оторопело смотрит на исполинские луны, все так же парящие в небе. Я тоже оторопело смотрю на луны, мы все оторопело смотрим на луны, одна из которых закрывает солнце, а остальные тускло подсвечиваю ночь полумесяцами.
Чувствую, что разгадка близка, что вот-вот, сейчас-сейчас, только бы ухватить её за самый кончик, а вот…
— …ну, конечно же!
— Что такое?
— Когда Бекки отказалась жечь город… Когда вы пошли войной на город… вы создали новую историю на месте реальности… Так что мы продолжаем жить…
Не договариваю — из-за шестой земли показывается краешек солнца, еще успеваю почувствовать, как нестерпимый огонь испепеляет меня на месте…
Землепорт
…нам повезло, или, наоборот, не повезло жить в портовом городе — дело в том, что наш славный городок расположился на возвышенности, где космос опускался к самой земле, изгибался почти спиральной дугой и касался каменистой пустоши. Именно там, в изгибе космоса и появился наш городок со всеми его улицами, домами, башенками, фонарями и проспектами. История городка до сих пор не знала точно, то ли город построили уже в те времена, когда прокладывали космические пути, то ли поселение бесконечно давно возвели пастухи, привлеченные хорошими местами для пастбищ. Так или иначе, мы еще детьми бегали смотреть, как на землю плавно опускаются космические корабли, придерживаясь русла космоса, а потом так же плавно поднимаются в небо. Разумеется, мы и сами любили искупаться в космосе, даже устраивали нешуточные состязания, кто заплывет как можно дальше, — это-то и обернулось однажды непоправимой бедой, когда мы с Марком поспорили, что тот, кто заплывет дальше всех, будет ухаживать за Ритой — но Рита оказалась проворнее нас обоих, она поднялась по руслу космоса так высоко, как мы и не могли себе представить. На нашу беду мы слишком поздно спохватились, что Рита плывет, уже не по своей воле, а подхваченная волнами, — и не успел я и ахнуть, как светлые волосы Риты мелькнули в последний раз и исчезли где-то в черной пустоте. Может, это трагическое событие и определило мой дальнейший жизненный путь — я твердо решил стать матросом на космическом корабле, да не на таком, который поднимается в небо до луны, а на огромном, под бесчисленными парусами, который плывет по космосу до самых далеких звезд. Я спрашивал у ученых мужей, есть ли у человека шансы выжить в бесконечных просторах вселенной — и когда кто-нибудь уклончиво отвечал мне, что да, в общем-то, если зацепится за какой-нибудь астероид, — мое сердце радостно прыгало в груди…
..любопытно… — он свернул мою рукопись, — очень оригинально вы придумали — жизнь на земле… впрочем, больше ничего такого нового вы и не написали, потеря любимой женщины, потом он будет искать её всю книгу… Но вы пишите, пишите, только тему какую-нибудь другую возьмите… талант у вас определенно есть…
Он еще раз посмотрел на безжизненную землю, которая лежала у подножия нашего городка, где космос опускался к самой земле, и бесчисленные вереницы землеходов то возвращались в порт, убирая колеса и поднимаясь в пустоту, то отправлялись в путь, выпуская колеса или причудливые ходули. Несмотря на его критику, я твердо решил довести рукопись до конца…
Отчет об отчете
Сообщаю вам…
(зачёркнуто)
Довожу до вашего сведения, что…
(зачеркнуто)
Вынужден сообщить…
(зачеркнуто)
Вечером…
(зачеркнуто)
В 23:30 по местному времени был получен сигнал бедствия…
(зачеркнуто)
Сигнал о помощи…
..из района северо-северо-востока.
(зачёркнуто)
Из района…
(примечание — вспомнить название района)
Силой двенадцать с половиной баллов
(сверху над строкой приставлено — сигнал)
На место происшествия…
(зачеркнуто)
…в место расположения сигнала
(зачеркнуто)
Туда…
(зачёркнуто)
Был направлен отряд в составе меня…
И…
…и все.
(примечание — все, все зачеркнуто, все по новой, все сначала)
На месте происшествия…
(зачёркнуто)
На месте сигнала оказалась…
(зачеркнуто)
Была обнаружена
(зачеркнуто)
Была найдена девочка лет пяти, плакала навзрыд
(зачеркнуто)
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.