
Бесплатный фрагмент - Орфей неприкаянный
…Все, что потерял я, отлюбил, что не свершилось
Вырастет подстрочником зелёным на золе…
Ю. Шевчук.
Предуведомление
Данный текст является художественным произведением. Все совпадения имён, прозвищ, места действия т. д и т. п. прошу считать случайным стечением обстоятельств.
Ничего из нижеизложенного никогда не происходило, не происходит, и происходить не намерено.
1А. …за спинами стариков и детей…
Только мы никогда не сойдёмся в цене
С их торгашеской сутью безродной…
И. Сивак.
— Димыч, ты помнишь вкус хлеба? Простого деревенского хлеба? — с трудом оторвавшись от телевизора, где крутили съёмку побоища, произошедшего в Одессе неделю назад, хотел я спросить сидящего рядом товарища. Но слова застряли в горле, не шли. Жуткие стоп–кадры: горящий Дом Профсоюзов, расплывчатые фигурки людей, выпрыгивающих из окон прямиком в вечность; густой дым, устремляющийся в небо вместе с душами преданных и убитых пророссийских активистов; ухмыляющиеся морды палачей; малолетки, разливающие бензин по бутылкам; сотник Мыкола, стреляющий из пистолета по цепляющимся за карнизы кукольным силуэтам; бордовые лужицы на асфальте; размазанные в предсмертной надежде глотнуть чистого воздуха следы ладоней на закопчённой стене коридора; белобрысый Гончаренко, переворачивающий обугленные трупы, снимающий их на мобильник и радостно скалящийся… Тот Гончаренко, что спустя год будет задержан правоохранителями на нацистском шабаше в Москве, а затем с извинениями и уверениями в нижайшем почтении, отпущен. Чтобы и дальше мог убивать.
Холёный, лоснящийся депутат, приглашённый в студию, вдохновенно и пафосно бросал в зал лозунги, эмоционально тряся кулаками. «Они понесут кару… мы не допустим эскалации насилия… наша могучая возрождённая армия по приказу, как один встанет за спинами стариков и детей…». Зрители, управляемые ведущим, аплодировали. Женщина с платочком, которым она чуть ранее промокала ресницы, кричала: «Позор убийцам!» Народный избранник вытер блестевшую от пота лысину и уселся в кресло. Май, жара, софиты. Известный журналист, причёсанный на пробор, сверкнул отрепетированной улыбкой, и, засветив перед камерой швейцарские наручные часы, передал микрофон очкастому политологу, специалисту по российско–украинским отношениям. Эксперт поправил галстук за 100 баксов и, нацепив на лицо маску серьёзности, гнусаво обрадовал:
— Уверяю вас, Президент обладает самой полной, на сегодняшний день, информацией. Исходя из этого, я с абсолютной ответственностью заявляю: нестабильности на границе мы не потерпим… поддерживаются конструктивные контакты с нашими киевскими партнёрами и коллегами по НАТО, имеются их твёрдые гарантии…

Я отвернулся и про себя выругался. Дёрнул одеревеневшими пальцами верхнюю пуговицу рубашки, и она неожиданно отскочила, прыгнула на пол, покатилась к выходу. Проводив её взглядом, я сделал вид, будто ничего не заметил. Мой приятель хмыкнул, но промолчал. Душно. Скучавшая за стойкой длинноногая девица, демонстрируя глубокое профессиональное декольте, в бархатном полумраке тоскливо потягивала мохито через соломинку. Ловить ей тут пока было нечего. 14:00 — не лучшее время для охоты на одиноких зажиточных мужчин. На экран любительница коктейлей не смотрела, изредка вороша короткую причёску и стряхивая невидимую пыль с мини–юбки. Я не мог определить издалека, парик это или нет, да и возраст девчонки оставался загадкой, но кроваво–красная помада, вкупе с медийной кровью, производила неприятное впечатление. На нас с Димкой, старых и хмурых седых бобров, путана не обращала ни малейшего внимания. Как и на расположившуюся за третьим столиком пару, парня и девушку, негромко смеявшихся и о чём–то споривших. Высокий молодой человек, со светлой чёлкой, а–ля Гитлер, показавшийся мне смутно знакомым, повесив модный пиджачок на спинку стула, вытащил пачку «Marlboro», бросил её на скатёрку около пепелки, щёлкнул зажигалкой. Парочка закурила. Деваха в белой футболке, с практически незаметной грудью, порылась в заднем кармане джинсов, вытянула небольшой плоский белый пакетик и протянула собеседнику. Тот, мазнув рыжими глазами по сторонам, кивнул, взял порошок и спрятал его в пиджак. Определённо, я где–то видел его. Но где? Точно не в Губернске. В Тачанске? У нас? Подавшись друг к другу, они продолжили недоступный посторонним ушам разговор.
Видимо, включённый телеприёмник начал раздражать длинного, поэтому он гибко поднялся, приблизился к бару и что–то приказал бармену, указал сигаретой в плазменную панель. Юноша на кассе моргнул, поднял пульт, и по залу разнеслась дёргающаяся, визгливо–кричащая песня на английском языке, исполняемая подпрыгивающим в клетке полуголым татуированным существом неопределённой половой принадлежности.
Я вернулся мыслями к только что увиденному. «Да, эти помогут, эти не допустят, эти не упустят на чём ещё можно нажиться, набить мошну. Тварюги! Ваши киевские партнёры людей живьём жгут, а вы с ними ручкаетесь и лобызаетесь. Чем же вы их–то лучше? Но одно, ты, морда, не соврал, вы всегда прятались и продолжите прятаться за спинами стариков и детей. Деточки–то небось в Лондоне да Париже развлекаются. А ты тут, бедолага, патриотствуешь…»
Со дня жестокой расправы с антифашистами в славном курортном городе–герое прошло более недели, а имеющий всю полноту информации президент, точно воды в рот набрал. Над миром нависло Грозное Русское Мычание. Буржуазные пропагандисты изо всех сил тужились, проявляя холопское нутро и изливая в сеть, на тв, потоки помоев под лозунгом: «никто никому ничего не обещал…. Сами–сами–сами… наши мальчики не должны умирать за хатаскрайников».

Я сперва не верил, уподобляясь многим тысячам наивных, что дело, начавшееся с грозного молчания, закончится подлым предательством. Кое–кто, посмеиваясь и стирая щёки в ужимках, вещал про Хитрый План, но зверь насладился вкусом крови и остановить его лживыми завываниями не могли даже исключительно упоротые охранители вроде Ромы Подносикова и Серёжи Колбасникова.
А в первой половине лета я уже не питал вообще никаких иллюзий по данному поводу. Авиаудар по Луганску 2 июня являлся одновременно и ударом по престижу России. То же и с нападением на Российское посольство в Киеве 15-го числа. Перечисленные, и некоторые другие резонансные акции зависли без внятного ответа со стороны вельможных кремлёвцев. Хотя, нет, не совсем без ответа. Несколько позднее представитель МИД РФ сплясала «Калинку», и опубликовала очередной стотысячепятисотый разоблачительно–разгромный пост на своей страничке в «Фэйсбуке».
Мы сидели в одном из далеко не дешёвых ресторанов Губернска, куда Лазаревич привёз меня, выписанного из больницы. Заштопанный после ножевого ранения, утомлённый примитивным казённым бытом, я рвался домой. Димыч заехал за мной сам. Мы списались с ним накануне, и он обрадовал известием, что мою пьесу, по слухам (увы, они оказались слухами), берут к постановке в каком–то микроскопическом алтайском городишке. А я посетовал, что завтра освобождаюсь, да добираться до Тачанска без денег проблематично. Лазаревич сказал: «Фуфло вопрос!», и уточнил, во сколько выписка.
Выпнули меня к 12:00, вручив выписной эпикриз и направление на дополнительное обследование.
Я не решился беспокоить жену и просить её приехать за мной из Тачанска. Дочь болела, и кто–то должен был находиться с ребёнком. Простуды в детском возрасте — обычное дело, хотя и случаются, по обыкновению, весьма не вовремя, вот как теперь, в конце учебного года.
Забросив мои пожитки на заднее сиденье великолепно–хищного «Джипа Чероки», Димка кивнул на место рядом с водителем, мол, садись. Придерживая, по привычке, саднящий левый бок, я осторожно расположился справа, кашлянул и захлопнул дверцу.
— Убавить? — он потянулся к панели мурлыкающего радио.
— Приглуши малость.
— Ну, раненый, где твоя пристань? — показывая все тридцать три зуба, бодро спросил мой однокашник.
— На вокзале, — я блаженно зажмурился и откинулся на спинку, задрав вверх небритый подбородок. — Где ещё–то?
— На вокзале? Хрен те! Однокурсник называется. Двадцать лет не видались, а он: на вокзале, на вокзале! Так, слухай сюды, Василич. Сейчас же завалимся в ресторан и устроим натуральный ЖБО. Ты понял, усач?
— ЖБО? Что — то новенькое!
— Девиз моей фирмы: Жри, Болтай, Отдыхай! Серость!
— «Болтай»? Остроумно! Чем?
— А что подвешено лучше, тем и болтай. Хошь — языком, а не хошь — … другой… хе–хе–хе… частью тела.
— Да чёт ничем не тянет …болтать. Умаялся. Да и дома потеряют. Ждать, ведь, станут. Знают, выписываюсь нынче… — вяло отреагировал я, морщась от солнца, бьющего в глаза. — Аппетита нема. Завтрак недавно ж…
— Я те дам щас в лобешник, дома его потеряют, — пробурчал Димыч, поправив георгиевскую ленточку у зеркала и опуская солнцезащитный козырёк. — Закатимся к феминам, а утром уедешь. Я плачу! Девочки — высший класс! Массажик, тайский, кстати, а не хухры–мухры, расслабон гарантирую! Ишь, позавтракал он! Выпендривается. И чем это, интересно? Жидкой пюрешкой с котлетой из капусты? Ха–ха!
— Ага. Откуда ты знаешь–то? Ну, давай по массажисткам! И по новой лечиться. Да? Соображаешь вообще–то? У меня кровопотеря охрененная, я сплю на ходу, а ты о «мочалках»…
— Да шучу, шучу! Чё, испугался? — расхохотался Димыч, начавший у меня в эту минуту ассоциироваться с шумным игривым гризли, не осознающим собственной, силы и поэтому сметающим, балуясь, любые препятствия на своём пути. — Но без банкета не отпущу! Усёк, жук в лабиринте? Столько времени не виделись!
— Валяй! — смирившись, согласился я. — Банкет, так банкет. Действительно, вдруг снова четверть века не свидимся.
— То–то же! Сразу бы без разговоров! Погнали! Свожу в один закуток! В «Гнезде перепёлки» обалденные блинчики дают! Без принуждения в рот прыгают, словно галушки! А борщец! Клянусь, ты похожего борща в жизни не ел. У них не борщ, а подлинный нектар! Пища богов! Читал Уэллса? Во! Мигом оживёшь. Вино буш? Я–то за рулём…
— Нет. Семь лет в завязке.
Жутко хотелось закурить и дерябнуть стакан хорошего винца. Привычки молодости удивительно живучи, м–да.
— Ну, слушай, я безумно рад тебя видеть! Помнишь вот это: «Так вы пихаете или не пихаете?» А другое: «Первый русскый карабл «Ороль…»?»
— Помню, Димыч. Особенно «Орола».
Лазаревич тронул пальцем радио и из динамика приглушённо зазвучало: «Себе такую дорогу ребята выбрали сами…»
Да. Дорога… Пока она привела меня только в отделение хирургии областной клинику города Губернска, в коей я месяц с кисточкой провалялся с продырявленным Игнатом лёгким.
Приёмник на секунду умолк, затем ласково, проникновенно заиграло фортепиано.
«Ты с высоты
Даришь мне всю свою любовь.
И даже я, для тебя
Пронесу всю свою любовь…»
«Они называют это джазом. Бедная Элла!»
«Скорую» для меня тогда вызвала женщина с собачкой, утащившая перепугавшегося шпица на руках обратно в квартиру. Странно, но к моменту приезда врачебной бригады, я оказался более жив, нежели мёртв, хотя и крови потерял прилично, и пульс почти не прослушивался. Это обстоятельство, да ещё занесённая в рану грязь, и обусловили тяжесть выздоровления. Едва я немного очухался и пришёл в сознание, меня сплавили в Губернск, ибо в родном Тачанске медицинское обслуживание зареформировали до крайней степени, и светила почёсывали затылки и размышляли, сразу меня похоронить или предоставить шанс помучиться. Нестандартное проникающее ранение поставило их в тупик.
Следователю, или дознавателю, не сохранилось в памяти, кем он представился, я давал показания лишь однажды, перед самой отправкой в Губернск, и разговор у нас продолжался приблизительно пятнадцать — двадцать минут. В основном, он свёлся к вопросам капитана, узнал ли я нападавшего, имеются ли злобные недруги, и кого бы я мог заподозрить в организации нападения.
— Нет, ударившего меня ножом, я не знаю. Впервые столкнулся. Врагов стараюсь не наживать. Тем паче, способных на подобное. Нет, описать не в состоянии. Слишком неожиданно события разворачивались. Он ткнул и убежал. Может, пьяный, бомж, наркоман на дозу денег искал.
— Вот–вот, деньги, ценности Вы носили с собой?
— Ценности? Нет. Откуда? Разве, телефон. Мне его вернут?
— Нет, к сожалению. Он будет фигурировать в деле, как улика. Да и нельзя с него теперь звонить. Если б не сотовый, не беседовали бы мы с Вами сейчас. Лезвие по нему скользнуло и вниз отклонилось. А иначе, исходя из траектории, прямо в сердце вошло бы. Но экран изуродован. Потому… сомнительно… Говорите, обрисовать преступника не получится?
— Нет, навряд ли. Не разглядел толком. Тёмное расплывчатое пятно вместо лица.
— Одежда, рост, отличительные приметы?
— Пожалуй, ниже меня, одет в какое–то тряпьё. Приметы? Не до отличительных примет, ежели в тебя ножиком тыкают.
— В тряпьё?
— Да. Балахон с капюшоном.
— Вероятно, Вы правы. Наркоман или бомж. А что за девушка вас сопровождала? В объяснительной фельдшера «Скорой помощи» упоминается неизвестная, невысокая в сером пальто, сидевшая рядом с Вами в сугробе, и державшая Вас за руку при погрузке в автомобиль. Сказала Фомину, санитару со станции, якобы она — ваша родственница. А потом исчезла.
— Представления не имею. Предполагаю, прохожая.
— Прохожая? Вы уверены?
— Абсолютно. Я, видите ли, несколько не в форме находился, чтоб у неё паспорт испрашивать. Да и была ли девочка?
— Была. В том–то и дело, что была. Следы на снегу подтверждают слова Фомина.
— Мало ли, кто у подъезда шатается.
— Не мало. Но многие ли из шатающихся у подъезда станут на прощание целовать потерпевшего?
Я отвернулся, и устало уставился в стену.
— Позовите медсестру, пожалуйста. Бок разболелся что–то.
— Ясно. Я Вас прекрасно понял. Ещё одно. Документы надо подписать. Укажите: «С моих слов записано верно». Дата, роспись. Отлично. Лечитесь, Сергей Васильевич, выздоравливайте, мы с вами свяжемся, навестим.
— Найдёте?
— Преступника?
Капитан замялся, отвёл глаза.
— Врать не возьмусь. Будем работать. Свидетели, практически, отсутствуют. Сплошные нестыковки… До свидания. Медсестру я пришлю Вам.
Пока я лежал в Губернске, по поводу инцидента меня никто не навещал.
Валяясь под капельницами, я неоднократно прикидывал, что стряслось с Линой, куда она пропала и появится ли снова. Вспоминался её намёк, будто она может всё исправить, но в этом случае мы более не встретимся. Верить в подобный расклад не хотелось, но за месяц пребывания в больнице она не приснилась мне ни единожды. А я так представлял, как она впорхнёт в комнатку и спросит про погоду! Не впорхнула. Не спросила.
В палате нас прописалось четверо. Двое отходили от операции, третий, на стройке наткнулся на штырь и распорол себе бочину. В общем–то, нормальные мужики. Гене, тому, которого с железяки сняли, друзья приволокли миниатюрный телевизор, и по вечерам мы смотрели сериалы, новости. Я не особо до тех дней интересовался происходящим на Украине, отслеживал события в фоновом режиме, считал, что волна скоро уляжется. Однако, вопреки моим прогнозам, с каждым днём ситуация накалялась. Вот полыхнула Одесская Хатынь, а в районе Краматорска нацисты расстреляли молоденькую медичку Юлю Изотову, и отметились праздничным побоищем в Мариуполе.
Худенькому тридцатилетнему Гоше Барыгину, с синими от татуировок с драконами предплечьями, трудившемуся парикмахером собачьих стрижек, удаляли аппендикс. Глядя ТВ, Гоша горячился и громко требовал прекратить вмешиваться в дела суверенного соседнего государства. С ним долго и до хрипоты спорил другой аппендицитник — Бруно Гаспарович, пожилой, сутулый, сухопарый бухгалтер из крупной оптовой фирмы. Этот, патологический интеллигент, прежде чем начать спор, поправлял очки и произносил что–то вроде: «Гошенька, мальчик, вы покамест потрясающе молоды…» Гошенька не обращал на доводы Гаспаровича ни малейшего внимания, ссылался на ролики какого–то Наврального, приводил в пример «цивилизованный Запад», и в беседе «тыкал» пожилому человеку. К Гоше через день прилетала симпатичная конопатая девчонка, напоминавшая юную Марианну Полтеву, снабжавшая парикмахера шоколадом, фруктами и сигаретами. Пряча принесённый хабар в тумбочку, Гоша бросал ей зажигалку, девушка говорила: «Оп–па», ловила её на лету, и они направлялись в курилку. Возвращался он один.
Геннадий отмалчивался или вздыхал: «Да ну вас в *опу, спорщики херовы, без нас всё решат, переключите на «Шоу рус!» Выздоровление у Гены продвигалось ни шатко, ни валко, разрез гноился, на перевязках он шипел от боли. Жены он не заимел, навещала его мама, притаскивавшая груды пирожков, беляшей, коробок с соком. Генке стряпню было нельзя, оттого–то пирожками и наслаждались мы.
После переливаний крови я чувствовал себя относительно сносно, только частенько задыхался, но и мне процедуры обработки раны удовольствие доставляли сомнительное, особенно поначалу, когда выяснилось, что в Тачанске прописали неверный курс терапии, из–за чего позднее пришлось несколько раз откачивать кровь из левого лёгкого и чистить поражённые ткани.
Первым богоугодное заведение покинул Гоша, упорхнув наводить красоту четвероногим, а за ним в свою бухгалтерию, придерживая правый бок, отправился и Бруно Гаспарович. Их койки заняли пенсионер язвенник Гаврилыч, обожавший футбол, а в перерывах между матчами предпочитавший спать, и почечник, мелкий торгаш Вепревчук, достававший присутствующих продолжительными инструктажами по мобиле оставшихся на должностях сотрудников его конторы. Закупка макарон, крупы, поставщики, безнал, контрагенты, премии, штрафы, — в конце дня у меня опухала голова. Как–то на обходе, Вепревчук, вальяжно почёсывая волосатое пузо, спросил у врача:
— А почему, собстно, меня определили непонятно с кем в одну палату? Почему не в урологию?
— У нас клиника не резиновая. В урологии пока мест нет. Освободятся — переведём.
— Вечно у вас ничего нет. Небось, сунул бы в конверте, мгновенно бы нашлось…
Приходившей к нему толстой супруге, никогда ни с кем не здоровавшейся, извлекавшей из сумки творожки, настрого запрещённую полукопчёную колбасу и ещё что–то завёрнутое в непрозрачный пакет, Вепревчук жаловался:
— Даже в больнице спокойно не полежишь. Аля, ты думаешь, здесь лечат? Таки нет, меня в подобном клоповнике окончательно искалечат. Уколы непонятные ставят, капельницы зачем–то. Я им: камень в почке, а они таблетки приносят. Выйду, сразу жалобу накатаю в областное министерство. Пускай проверят, чем они тут занимаются и отчего в урологии место не отыскали.
Аля Вепревчук, устремляя надменные взгляды на меня и Гаврилыча, вытаскивала благоверного в коридор, и булькающе сипела нечто нечленораздельное. В ответ он тоже переходил на сдавленные хрипы, среди коих я различал: «А мне бояться нечего!» и прочее в том же духе.
Супруга навестила меня дважды. Привезла кое–что из одежды, планшет. Кормили в больничке средне. Дополнительными килограммами не обзаведёшься, но и от недожора не опухнешь. Поэтому в поставках продуктов с воли я не нуждался. А вот лэптоп оказался именно тем, чего не хватало. И телефон, пусть и неудобный, и компьютер, пусть и тормозной. К вящему моему изумлению, в комнате ловилась незащищённая беспроводная сеть, и я стал потихоньку просматривать хронику украинских событий, да комментарии друзей по поводу майдана и обрушившейся на страну гражданской войны.
Большая часть твёрдо верила, будто спустя полгода, максимум месяцев восемь, «незалежной» придёт «каюк», ибо промышленность остановится, а население замёрзнет и перемрёт с голоду и холоду, а Стрелков с пацанами триумфально войдёт во Львов. Скептики робко указывали на помощь «жёвто–блакитным» «коллективного Запада». И лишь очень немногие, считавшиеся маргиналами, заявляли, что нынешнее правительство РФ проспало обострение ситуации и теперь, опасаясь санкций за Крым, само же и вскормит фашистскую хунту, нацеленную на уничтожение и расчленение России.
Не явился для меня откровением пост Борюсика Филлиповича. На своей странице он выдал примерно следующее: «Всем френдам! Вы в курсе, какая трагедия происходит в соседнем государстве. Путинские наймиты бояться допустить вхождение независимой Украины в Великую Свободную Европу. Они ощетинились ракетами, напичкали границы танками, и гонят сепаратистам–террористам оружие, наркотики и наёмников–зэков. Элита украинской нации, такие люди, как Филатов, Геращенко, Яценюк, мужественные ребята Яроша, противостоя гэбэшному нашествию оккупантов, ждут нашей поддержки. В настоящее время кремлёвская клика втаптывает в грязь ростки демократии. Протянем руку солидарности Революции Достоинства. Укажем „вате“ её место! Соберём средства! Яндекс–кошелёк… Лайк, репост!»
По поводу массового убийства в Одессе он разразился очередной блевотиной: «…мы прекрасно понимаем: это дело кровавой НКВД–КГБ–ФСБ, испокон веков истреблявших лучших людей мира, в частности, и моих предков тоже. Провокация, выразившаяся в том, что скрывшиеся в здании Дома Профсоюзов подожгли сами себя, стремясь продемонстрировать появление в Украине мифического „нацистского“ режима, провалилась. Весь мир сознаёт, чьё это преступление, а мы с вами должны вести разъяснительную работу на англоязычных сайтах. Люди с разговорным английским — стучитесь в личку. За нашу и вашу свободу! Яндекс–кошелёк… Лайк. Репост». Репостнули 548 человек.
Замирая от брезгливости, я пролистывал статью за статьёй его журнала, пытаясь обнаружить на них хотя бы какие–то песчинки того Филлиповича, с которым я общался раньше. Их не было. Непрерывно натыкался на новые, модные среди креативного класса, словечки: «ватники», «колорады», «москали», «беспощадная гэбня», «кацапские рабы». Каждая заметка сочилась ненавистью к тому, что представляло ценность для меня и представителей моего круга.
— У нас тут на метро быстрее доберёшься! — в сердцах воскликнул Лазаревич, треснув по рулю, стоило нам опять встать в глухой пробке. — Проехать полтора километра всего. И ведь не час пик покуда.
«Группа крови, на рукаве, мой порядковый номер, на рукаве», заблажил Димкин «сотик».
— Внимательно! Да! Да, в городе. Нет, Вов, в течение часа, ну, никак! Дельце одно есть. Сколько? Ну, два — три. Я сказал, не выйдет, не успеваю! Подождёт твой сахар, не растает! Всё, как только, так сразу! Бывай!
Положив трубку в карман кожаного пиджака, он объяснил:
— Забот полно. Без шефа ничего решить не могут. Я предупреждал, а толку? Звонят!
«Лина, где ты сейчас?»
Димыч потыкал в радио, сменил канал на новостной.
— Ты не поделился, кто тебя на шашлык–машлык возжаждал пустить. Тайна сие грандиозная? Или жалко?
— Или жалко… Да и шашлык–то из меня… Рёбрышки уж скорее… Подкоптить разве…
— Ишь! Жалко ему! Жалко у пчёлки! В попке! Полиционерам–то чего соврал? Приходили хоть?
— Навещал горемыка. Капитан. Разочаровал я его, заявил, будто знать не знаю, ведать не ведаю…

— И мне не скажешь?
— Прости, Дим. Не скажу. Да и зачем? Это мои проблемы…
— А если повторить попытается?
— Маловероятно. Наказать хотел. Наказал.
— За что так жёстко–то?
— За правду…
— Правду не любит?
— У него она своя. Видишь ли, их правда вступила в противоречие с моей. Только и делов.
— Даже — «их»?
Я не ответил, пожал плечами, вздохнул.
Мы помолчали. Я разглядывал нарядные магазинчики, красочные рекламные растяжки, дорогие автомобили. Названное поразительным образом уживалось с обшарпанными серыми стенами домов, ямами на дороге, толпами на остановках.
— О, вот хороший канал! — довольно заверил Лазаревич, когда сигнал приёма стал уверенным, без треска и шипения.
— «… наши корреспонденты передают, что Верховный совет самопровозглашённой ДНР, назначил Игоря Стрелкова главой комитета безопасности и министром обороны, непризнанной республики»
— Опа! — обрадовался Дмитрий. — Ну, сейчас Игорь Иваныч им покажет!
— Думаешь?
— Не думаешь, а знаешь!
— Оптимист эпохи пессимизма…
— А что не устраивает? — вопросил Димыч, выруливая на стоянку ресторана «Гнездо перепёлки». — Каждый сам куёт себе судьбу, и любой опыт учит нас чему–то. Просто мы не всегда понимаем, чему. Дверь захлопни сильнее. Пошагали. Щас получим опыт поглощения настоящего борщеца, не дешёвых китайских подделок, ха–ха–ха.
— Часто бываешь в «гнёздышке»?
— Не то, чтобы часто, иногда забегаю, — усмехнулся он.
«They drank up the wine and they got to talking
They now had more important things to say
And when the car broke down they started walking
Where were they going without ever knowing the way?»
Поднявшись по ступенькам, мы миновали отделанные под старину створки и, оставив позади неработающий в это время года, гардероб, и скучающего охранника, вошли в интимный сумрак зала. Высокие сводчатые стёкла прикрывались бархатными малиновыми портьерами.
Один столик был занят парочкой, остальные свободны. Негромко вещал телевизор, информируя о состоявшейся накануне закрытой беседе президента с премьером.
Едва мы расположились неподалёку от окна, рядом возникла симпатичненькая стройная официантка. Белоснежная рубашка, чёрный жилетик, зелёный галстук–бабочка, длинная тёмная юбка. На руках светлые перчатки, на сгибе — чистейшая салфетка.
— Добро пожаловать, господа. Рада приветствовать вас в «Гнезде перепёлки»! Вы уже ознакомились с нашим предложением? Если вы не определились с выбором, могу порекомендовать фирменное блюдо…
— Нам три корочки хлеба… — пробасил Димка и, видя вытянувшееся лицо девушки, щёлкнул пальцами, засмеялся. А отсмеявшись, расплываясь в улыбке, продолжил:
— Ир, я чувствовал, что сегодня твоя смена.
Затем бросил мне:
— Полистай меню. Твой заказ, мои бабосы, кароч, не стесняйся. А я пока со старой подружкой пообщаюсь.
— Димка! — ахнула служительница, но тут же вернула самообладание, привстала на цыпочки, снова опустилась на всю ступню.
— Ага, я — Димка. Чего не звонишь–то? Лучше нашла?
— Это ты, похоже, лучше нашёл! Столько месяцев ни слуха, ни духа.
Ирина нервно сжимала и разжимала кулачки.
— Ир, давай не будем ругаться при посторонних, а то ты мне другана испортишь.
— Ещё чего! Ругаться! Я с клиентами, к вашему сведению, не ругаюсь!
— С клиентами, выходит.
— С клиентами.
— Ирин, ну ты хоть вспоминала? Ну, изредка, а?
— Он спрашивает! Вспоминала! Жену твою — великомученицу.
— Ох, ты ж! Сюрприз, сюрприз! Ну, Васильич, выбрал?
— Слушай, Димыч, я в таких яствах не секу. Может, на усмотрение заведения? Вот, что означает капрезе? А это — каре ягнёнка? Моэлье какое–то…
— Ладно. Ирин, записывай.
«Лина, не молчи, пожалуйста!»
Приятель повернулся ко мне и принялся допытываться:
— Первое навернём? Борщ «Московский». Мне и Серёге. Тэ–э–экс… Блинчики с мясом…
— С сёмгой… Не против? — спросил я.
— Записала? Значится, идём дальше. Фаршированную куриную грудку для меня. Серёг, берёшь?
— Я б кролика по–домашнему отведал.
— Ого, губа не дура! Будет тебе кролик! Угу… На гарнир — картоху с лучком и грибками и…
— Мне тоже!
— Отлично. Правильный выбор, Максимыч! Салатики. Пиши: две «Жемчужины».
— Всё? — Ирина захлопнула блокнот.
— Всё? Нет, конечно! — взвился Димыч. — А выпить?
— Чайку малость, — успокоил его я.
— Чай, так чай. Ирин, «Ассам» и «Фруктовый микс».
— Хорошо, мальчики. Только кролика и грудку минут двадцать обождать придётся. Устроит?
— Устроит. Тащи остальное пока.
— Не разоришься? — поинтересовался я у приятеля.
— А! — отмахнулся Лазаревич. — Не каждый день гуляю!
— Откуда баблишко? — засмеялся я.
— Друзья, слышишь, рубят, а я — вывожу! — Димон кивнул на вновь ожившую мобилу.
— Маш? — вытаращенные от удивления глаза. — Да, привет. Не получится, дела. И вечером не могу. Совещание. Когда? Давай, я прикину и наберу через полчасика… Да подожди! Слушай, ну без истерик, я не один. Чёрт!
Дмитрий положил трубку на стол и начал копаться в настройках аппарата.
— Блокировал вроде её номер, отчего же лоханулся–то так? Чего она с Мишкиного–то звонит?
— Подруга Иришкина? — не сдержался я от подначки.
— Ну, дык! В определённом смысле. Боевая.
— Кучеряво живёшь. На работу силы остаются?
— Силов у меня навалом! — он продемонстрировал руку, напоминающую медвежью лапу. — Да надоели эти тараторки, бабловыжималки… Иринка тока нормальная… Фигня, разберусь.
Вскоре перед нами появилась первая часть заказа и мы, удовлетворённо урча, набросились на борщ.
— Изголодался, поди, в больничке–то? — довольно глядя на мои манипуляции с ложкой, спросил Лазаревич.
— Есть маненько, — ответствовал я, пытаясь постичь, как это люди умудряются готовить такие вкусности. — А не в курсе, хлеба чёрного нет? В клинике всё белый больше, да серый.
— Да я без мучного ем, сам–то. Ну, сейчас уточним. Ирина, подойди, пожалуйста.
Ирина приблизилась, делая пометки в книжечке.
— Ириш, товарищ хлебом чёрным интересуется. Держите?
— Чёрным хлебом? — изумлённо переспросила девушка. — Извините, чёрный в нашем меню отсутствует. Не пользуется спросом. Возьмите французские булочки или «а–ла Паризен». Или белый. Из канадского зерна высшего сорта.
— Спасибо, Ирина, — покачал я головой, — мне бы обычного, «Крестьянского».
Официантка пожала плечами и отошла к бару.
— Как идёт! Как идёт! — восхитился Димыч, оторвавшись от блинчика с икрой. — Эх! Ты представляешь… Что там, у Пушкина, про женские ножки?
— Насколько помню, примерно, так:
«Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки; только вряд
Найдёте вы в России целой
Три пары стройных женских ног.
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки… Грустный, охладелый,
Я всё их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне».
— Бедный Сан Сергеич! Его бы к нам! Всего две ножки и видал! Ох, он бы тут, разгулялся…
— Да, тяжёлое время выпало, но это он скромничал. Одна Анна Петровна Керн, писал, чего стоила. Ты кстати, читал об их последнем свидании? Она жизнь заканчивала в бедности, в разорении. И процессия с её гробом на выезде из Москвы вынужденно встала на обочине, чтоб пропустить ввозимый в столицу памятник Александру Сергеевичу.
— Господь — первоклассный режиссёр.
Снова звякнул сотовый. Лазаревич взял трубку, глянул, кто звонит и сбросил входящий.
Как раз в этот момент на экране тв и замелькали кадры с горящим Домом Профсоюзов.
— Смотрел? — ткнул я вилкой в сторону телевизора, поглаживая то место, где раньше крепилась пуговичка
— Конечно. Сам не свой ходил. Снилось всякое… Хотя сентиментальностью не страдаю…
— Что думаешь? Обо всём этом…
— Доскутся они. Ополченцы раскидают их по фонарям, не дожидаясь Гааги.
— Сложновато, однако, против регулярной–то армии.
— Наши подсобят.
— Ты веришь в детские сказки?
— Если хоть в какие–то сказки не верить, совсем тоскливо жить получится.
Я отхлебнул чай. Сахара не положили, и сие лишь увеличило мои симпатии к данному заведению.
«Лина, отзовись!»
— Помнишь Филлиповича, Дим?
— М–м–м, — задумался друг. — Борьку?
— Его самого. У меня жуткое желание при встрече плюнуть ему в морду и сказать: «Это тебе за Юлю Изотову».
— Кто такая? И почему обязательно плюнуть?
— Медсестра из Краматорска. Красивая девчонка была. Вон, на твою Ирину чем–то походила.
— Была?
— Расстреляли нацики. 21 год ей шёл. Ни малейшего шанса. В спину.
— А Борька при чём здесь.
— А Филиппович прокукарекал в блоге, будто их бригаду обколотые российские наёмники убили, переодетые в украинскую форму.
— Мразь. Конченная. Я не зря брезговал с ним якшаться. За подобное не плевать надо, а до кровавой юшки… Он где обитает–то нынче?
— В Северной Пальмире устроился.
— Охохо! Ишь ты! Другой край географии! Отсюда вывод: дуэль ваша — маловероятна.
— Земля, Димыч, она круглая. Бумеранг недостаточно бросить, его, вдобавок, надо уметь поймать.
— Тут ты прав.
— Ещё Игорь Сивак уже больше недели на сообщения не отзывается… Он там, в Одессе, в Сопротивлении… Надеюсь, прорвётся… Жаль будет невероятно, если…
— Друг?
— Нет. Это ты загнул. Знакомый. Он — поэт, музыкант. Не слишком давно диск выпустил. «Нехолодная война». Не слышал?
— Не довелось. Мимо прошло. Лишнего времени меньше и меньше с каждым годом…
— На вокзал поедем, я включу на планшетнике. Оценишь. На некоторые песни я ему видеоролики делал.
Лазаревич перекатывал из руки в руку бокал с «Фруктовым миксом»:
— Чёт невесело стало…
Вдруг на экране, взамен поющих трусо́в, в новостном выпуске появились кадры из обороняющегося Славянска.
«На короткой пресс–конференции, устроенной после окончания обстрела со стороны украинских войск, Игорь Стрелков обратил внимание журналистов на…»
— Э, халдей, выруби этих сепаров! MTV давай! — крикнул вьюнош, ранее подходивший к бармену с требованием переключить канал.
Димон напрягся.
— Обожди переключать, — лаконично и внушительно бросил он стоящему за стойкой молодому человеку, и продолжил, обращаясь уже к субъекту, недовольно крутящему носом:
— Уважаемый посетитель сего богоспасаемого от налоговой и Роспотребнадзора, пункта общественного питания! Вас не устраивает обслуживание в данном заведении? Что ж, вы всегда вправе с чистой совестью избавить нас от своего присутствия. Будем чрезвычайно благодарны. А коли не спешите выходить на улочку и вялиться на солнышке, а желаете и впредь находиться в тенёчке, так лучше не отсвечивать и помалкивать. И не раздражать остальных!
Белобрысенький обеспокоенно оглянулся на медвежью фигуру моего собеседника, заёрзал на месте. Послышалось: «Ватник… колорад… мало жгли… я б их…!» и что–то неразборчивое.
— Не внял, значит, гласу разума, — поднялся Дмитрий.
— Ты серьёзно? Стоит ли шум поднимать? — спросил я.
— Серьёзно. Очень серьёзно. Не волнуйся, всё тихо пройдёт.
— Помочь? — я отложил салфетку.
— Хо–хо! Сиди, смотри и наслаждайся, подранок! В бой идут старики!
Неторопливо, вразвалку, Димыч подошёл к парню и едва тот попытался вскочить, положил ладонь ему на затылок, вдавив поскакунчика обратно в стул.
— Слушай, бандера, и мотай на ус. Здесь тебе не там. У себя в «Жан Жаке» кукарекай. Я, как потомственный колорад и заслуженный ватник мигом тебе фалафель на смузи натяну.
Говорил Лазаревич негромко, но весомо и доходчиво. К нему было рванулась Ирина, но он жестом остановил её, и она застыла посреди зала, не зная, что предпринять дальше.
— Усёк? — Дмитрий сдавил плечо побледневшего любителя MTV, и показал кулак привставшей девчонке: — Молчи, крыса. Думаешь, полиция не заинтересуется маленьким беленьким пакетиком?
Девица обалдело уставилась на него и плюхнулась обратно на стул, позабыв закрыть рот.
Потом Лазаревич взял, лежащую у тарелки, тускло поблёскивавшую ложку, согнул её пополам и сунул в карман рубашки «щеневмерлика»:
— Дарю на память о ватничках! Привет Бандере!
И взъерошив совершенно опешившему хипстеру причёску, возвратился к нашему столику, отчеканив:
— Ирин, эту ложку мне в счёт тоже поставь.
— Ну, ты зверь! — восхитился я. — Не впервой инвентарь — то гнуть?
— Не впервой, — широко улыбаясь, хмыкнул он. — Пробовал ещё вилки, но они, заразы, ломаются. Точно бабы, чесслово!
Между тем, пострадавшая парочка подозвала официантку, расплатилась, и, стараясь не смотреть в нашу сторону, покинула «Гнездо перепёлки».
— О! Давно бы так! — потёр лапищи Дмитрий, — А то сидят тут атмосферу портят. Итак–с, ты в норме? Наелся?
— Фу, до отвала, — я откинулся назад, изображая, насколько сыт. — Блин! У меня стойкое ощущение, что я знаю этого крысёныша с чёлкой. Но никак не могу вспомнить, где видел. Журналист какой–то, кажись…
— Преувеличиваешь! Откуда? Морда непримечательная, среднестатистическая. Перепутал, считаю. Однако, я тож не вмещу и лягушачьей лапки! Погнали что ль? В пробках опять торчать придётся.
— Да, пора бы выбираться…
— Ириш, голубушка, принеси–ка цифирь.
Подавая Димону листок, девушка, покусывала губы, перекладывала из руки в руку карандаш.
— Ир, я позвоню…
— Не надо, Дим, не стоит…
— Серёг, ты сумму проверь, я потолкую с барышней.
Они отошли к окну, и содержание их дальнейшей беседы осталось для меня тайной.
— Верно, без ошибок, — молвил я, когда хмурый Дмитрий, вернувшись, стал рыться в портмоне.
— Хватит? — спросил он и бросил на блюдце красненькую бумажку.
— Самое то.
— Сувенир «бандере» внесли в перечень?
— Внесли.
— Сдачу оставь себе, — буркнул Димыч красавице, ткнув в деньги. — «Рафаэлло» купи. Или ка–ра–мель–ку… Пошли, Максимыч.
Ирина собралась было ответить, но мы уже покидали пригревший нас перепелиный приют.
Обходя сзади «Джип», я заметил кое — что интересненькое.
— Димыч, — окликнул я товарища, — глянь. Полагаю, понравится. Щенячий восторг гарантирую.
И указал на заднюю дверцу. Её пересекала коряво нацарапанная чем–то острым надпись: «вата».
— Мать моя! Ах, он козлище! Зря я ему узелок–то в одёжку засунул, в следующий раз в другое место впечатаю. Походит пускай недельку в раскоряку. Поработает на проктолога, глядишь, думать научится. Выцеплю паскудину, вниз котелком в канализацию запихаю! Попадётся он мне на узкой тропке!
Поохав и поругавшись ещё чуток, он махнул:
— Ладно, толку–то теперь причитать. Садись.
Пристегнувшись ремнём, я задал мучивший меня вопрос:
— Где слов чудных набрался? Фалафель, смузи? Сказка!
— Хрен зна! — пожал плечами Лазаревич. — Слышал, читал, думал! Звучит смачно, вот и взял на вооружение.
Он зыркнул на часы.
До вокзала мы бы скорее добрались пешком, нежели на «Джипе», еле ползущем по трассе. Опустив стекло, я, слушая радио, рассеянно наблюдал за обычным днём областной столицы. Троллейбусы, трамваи, велосипеды, мотоциклы. По тротуарам из модной плитки неторопливо и важно прогуливаются мамаши с колясками. Школьники деловито возвращаются с занятий, лупцуя друг друга ранцами, а, может быть, наоборот, торопятся на вторую смену. Суета, рутина. Люди настолько привыкли к ней, что не видят окружающих, не обращают внимания на происходящее. Они поглощены собой. Их ждут школы и институты, распродажи в магазинах и поликлиники. Мчатся недели, месяцы. Весна сменяет зиму, за весной спешит краткосрочное лето. И без остановки, по кругу. Через край перехлёстывают неосознанность и машинальность. Зачем думать о грядущем, если есть настоящее… Голова отныне — инструмент поглощения пищи. «Об этом я подумаю, когда придёт завтра». Никогда не любил «Унесённых ветром».
«Сестра и брат… Взаимной верой
Мы были сильными вдвойне.
Мы шли к любви и милосердию
В немилосердной той войне»
«А ведь в последний раз я гулял по этому проспекту невообразимо давно. С Линой. Отвозил её на учёбу. Это сколько ж лет–то минуло? Четырнадцать? Настю тогда дома не застали и начали обходить родственников в поисках хозяйки квартиры. Подсчитывал позднее по карте намотанные километры. Около восьми. Лина пятку стёрла, хромала. А я в урне рылся. Выкинул, не глядя мусор из кармана, а вместе с ним и билеты на обратный путь. И нашёл! Фантастика! Чудны дела твои…»
Из задумчивости меня вывел Лазаревич. Он успел прослушать несколько песен из «Нехолодной войны» и находился снова в отличном расположении духа.
— Не намерен в Губернск перебраться? Здесь возможности покруче, зарплаты повыше.
Я вздохнул:
— В прошлом горел такой идеей… А потом… перегорел. Не выношу я города, особенно миллионники. Чем дальше, тем сильнее. Мне б домик в деревне, на берегу речки… Смотрел «Брата»? «Город забирает силу…» Да и жить–то осталось с гулькин хер. Хочется многое написать. За все годы, проведённые бессмысленно, впустую. Авось песчинка сдвинется в нашем не самом лучшем мире.
— Откуда в тебе это занудство? — покосился Дмитрий. — Есть у меня по поводу затронутой тобою темы чуток соображений. Высказать, правда, их, особо некому. Не бабам же, верно?
— Смотря каким…
— Да любым. Выслушать–то выслушают. Однако не поймут ни бельмеса, и вдобавок, услышанное извратят, перевернут, опошлят по причине присущего им скудоумия… Короче, мало не покажется. Наши сверстники, согласись, — яркий пример жизни не на полную катушку. Мы хотели горы свернуть, да и могли бы это сделать, уверяю, да лень и страх нам мешали. А бороться мы не умели, не научились, и ангелы явные рядом не тусили. Потеряли дорогу и не нашли других.
— Лень? Страх? Неа… Не в них дело. Современная эпоха — эпоха античеловечности. А нас с тобою воспитывали под иное. Свобода, равенство, братство. Солидарность! А выживать пришлось чужаком в стае. Человек человеку оказался волком. «Мы — дети полдорог, нам имя — полдорожье… Не мы повинны в том, что половинны…
«Родилось рано наше поколенье —
Чужда чужбина нам и скучен дом.
Расформированное поколенье,
Мы в одиночку к истине бредём»
— О, «Юнона» … уважаю… Но сейчас в тренде перекладывать своё раздолбайство на общество, на его несправедливое устройство, — скептически отозвался Дмитрий. — Но кое в чём ты прав: дней в запасе — кот наплакал. Я иногда пытаюсь представить, что мог бы сделать иначе. Интересная картинка вырисовывается. Перебираю варианты, а в голову приходит только одно: надо общаться больше с близкими и друзьями. Уходят люди, а остаётся пустота. Даже не от отсутствия тех, с кем рос, а от того, что ты что–то не исправил, не выручил их, хотя мог, не поддержал в трудную минуту. А теперь и не скажешь… И ощущаешь на себе часть вины в их уходе… И тащишь её. Остальное — мелочи, они рассыплются в прах по прошествии лет.
«Группа крови — на рукаве…». Сотовый жужжит, ползя по панели…
— Внимательно. Степан Сергеевич? Да, я в курсе. Сахар, да. Через часик, примерно. Пробки везде… Ясно… Документы оформлю в наилучшем формате. Всего…
Прибыли. Финишная прямая.
— Всё, базар — вокзал! Конечная остановка. Возьми флешку, скинешь мне на неё песни Игоря. Заеду с оказией в Тачанск, заберу. Дюже зацепили. Сиди тут. Я мигом билет возьму. Тебе докуда? До Кировки?
— Лучше до Кировки, само собой, — кладу флеху в левый карман брюк, к платку.
— Десять минут!
Димыч убегает, сунув в куртку мобилу и ключи от машины. Расслабляюсь, жду. Наслаждаюсь видом из окна. Автовокзал, по меткому определению моего товарища, безо всяких преувеличений, напоминает базар. Ларьки, будочки, павильончики, стенды, битком набитые мусорки, пыль, клочья бумажек на дорожках, окурки на вытоптанных газонах. «Шаурма», «Беляшик», «Мороженый Джим» (киоск мороженого), аптека «Бодрость», «Пластилиновый Кеша» (детские игрушки), столик с разложенными солнцезащитными очками, прилавок с таёжными сувенирами, «Хот Дог». Лица, лица. Молодые и старые, усталые и бодрые. Спешат, торопятся, на бегу кусают мороженки, двумя пальчиками придерживают жирные пирожки. Мужчины, женщины, дети. Волокут баулы, тележки, катят вместительные сумки на колёсиках.
«Взгляды, жесты, очертанья, ароматы, звуки, краски.
Словно кадры, недоснятого кино.
Обещанья и молчанье, трепет самой первой ласки.
Всё осталось там, где нет меня давно»
— Объявляется посадка на маршрут №731, Губернск–Тараканово, отправление с десятой посадочной площадки…
Стоп! Время словно замерло. Живой ранее поток, застыл. Знакомая лёгкая кофточка, туфельки на платформе, милый профиль, копна волос… Лина? Лина! Как тут открывается? Проклятье! Я знал, она…
Распахиваю дверь, ору изо всех сил:
— Лина! Лина, я здесь, здесь.
Закашлялся.
Девушка не оборачивается, продолжает движение в сторону касс.
Выскакиваю из авто, бегу за Линой. Уворачиваюсь от рюкзаков, колясок, локтей, стараюсь не потерять её из вида. Наконец, запыхавшись с непривычки, догоняю, придерживаю за предплечье, разворачиваю:
— Лина, люби…
И давлюсь словами.
Это не Лина! Похожа, но, увы, не она. Стыдно, старик, стыдно. Будто пацан, ей богу!
— Ай! Мужчина! Вы что себе позволяете? Немедленно уберите от меня свои пальцы.
Незнакомка напугана, потирает плечо.
— Кто вы такой? Хам!
Прижимаю ладонь к груди, склоняю голову, произношу с раскаянием и отчаянием:
— Простите! Я, кажется, обознался! Честно, не специально! Мне почудилось… Я вовсе не хотел Вас испугать.
Смотрит оценивающе. Взгляд её неуловимо меняется, делается мягче. Вылитая Лина. Только… Другая…
— «Почудилось!» Запомните, — поучительно говорит она, — сейчас подобным образом не знакомятся.
Краснею. Неужели краснею? Достаю из кармана брюк носовой платок, мну его, точно собираясь вытереть пот со лба.
— Извините…
— Да! Имя — не повод хватать на вокзалах приличных женщин! Пусть и зовут меня…
Разворачиваюсь и, не оглядываясь, несусь обратно к машине. Наполеон при Березине. Фу, противно.
Барышня неразборчиво кричит мне вслед. Текста не понимаю, но догадываюсь. Она по–своему права, все мужики — немного козлы. Особенно, если не могут ничего прояснить, а лишь блеют беспомощно.
— Васильич, прах тебя побери! Ты где шатаешься? Ты ж «тачку» незапертую оставил! Сбрендил? На, держи путёвку в прежнюю жизнь! Автобус через восемь минут. Стрелой на перрон! Куда? Сумку, сумку возьми!
Действительно, я припустил было с билетом на контроль, совершенно позабыв про вещи на заднем сиденье джипа.
— Димыч! Спасиб за всё! Я тебе деньги на мобильник закину! Или проще на карту перевести?
— Я те закину! Я сказал: забыли! В Тачанске ты меня в ресторан ведёшь. И весь вопрос! В расчёте! Ну, обниматься не станем, не бабы, чай. Давай пять!
Он жмёт мою протянутую руку, я морщусь. Мощи он своей не осознаёт! Бегемотище африканский!
— Ни пуха!
— К чёрту. Гляди, с сахаром не продешеви!
Он смеётся, грозит мне кулаком.
— Объявляется посадка на маршрутное такси, следующее рейсом №77 до Нижнего Тачанска. Пятая посадочная площадка.
Поглаживая левый бок, продираюсь к перрону и нахожу пятую площадку. Народ в очереди дожидается контролёра. Пристраиваюсь в хвост за торопливо докуривающим дядькой с пакетом собачьего корма и кошачьим лотком.
Начинается посадка. Позади не занимают, все давно здесь.
— Мужчина! Я что, искать вас обязана? — неожиданно раздаётся за спиной, и я медленно оборачиваюсь.
Предо мной с недовольным видом, постукивая носком туфельки об асфальт, стоит давешняя девица, ошибочно принятая за Лину.
— Вот! Это ваше! — она протягивает мне что–то упакованное в бумажку. — Флешка! Вы её выронили! Я звала вас, да вы стрекача задали. Пятки сверкали!
Беру флеху, сжимаю так, что костяшки белеют.
— Спасибо! Я…
— Гражданин! Ваш билетик! Вы до Тачанска? — обрывают меня строгим тоном.
— Да, обязательно. Вот, — отвлекаюсь я, отдаю проездной нервной тётке с бейджем на форменной тужурке: «Величавая Илона Францевна».
А когда вновь поворачиваюсь к незнакомке, её уже и след простыл.
— Эй! Чё спишь? — разоряется водитель, — Тебя ждём!
Поднявшись в салон, ищу место и устраиваюсь в мягком кресле, думая абсолютно о другом. В голове хаос. Рядом, у окна расположилась бабуся, суетливо теребящая бусы под жемчуг.
«Ездить, что ль, боится?».
Едва транспорт трогается и выруливает на городскую улицу, я вспоминаю про карту памяти, лежащую в кармане, но вытаскиваю не её, а то, во что она была завёрнута. Листочек из блокнотика. Пронумерован. Страница 12. В линию. Синие спешащие ко мне буковки: «Алина Юргина».
И номер телефона.

1Б. «Стой, жених! Ни шагу с места…!»
«Горько!», — орал бесстыжий рыжий кот.
С. Трофимов.
Даже самая счастливая парочка не способна безошибочно предсказать, как именно пройдёт их свадьба. Милым не возбраняется взахлёб строить планы и писать сценарии, детально продумывая каждый вздох, реплику, заранее прокручивая в воображении экспромты, подчёркивая красным предложение: «Гости кричат «Горько!» и рисуя после него ряд восклицательных. Но и идеальный регламент не устоит, если в события вмешивается непредсказуемый фактор. Ну, а коли подобных факторов имеется более одного, то с приличной долей вероятности молодых можно предупредить, чтобы они готовились к чему угодно и надеялись на чудо.
У нас с Линой вводных катастрофы существовало предостаточно. Но их ни в ком случае не следовало бы называть непредвиденными. Тяжесть переменных обсуждалась нами накануне, и я приложил минимум усилий к предотвращению надвигающихся неприятностей, рассчитывая на «авось», и гася тревогу повторяемым, словно заклинание, — «небось».
Однако магия не включилась, ни первое, ни второе не сработало. И фрегат нашей с Линой семейной жизни получил мощнейшую пробоину ниже ватерлинии, залатать, которую, полностью, мы оказались не в состоянии. Тем более, что всегда находились желающие расширить её, имеющие для того определённые средства.
Проснулся я около семи. Спал тревожно, без конца ворочался в духоте июльской ночи, а сжёванная с вечера таблетка снотворного осталась малодейственной, путала мысли, но не усыпляла. Позёвывая от нервозности и скудного сна, я приготовил яичницу, заварил покрепче чёрный чай и, барабаня ложечкой по столешнице, уселся на кухне в ожидании подъёма гостей. Спустя полчаса они тоже были на ногах, но составить мне компанию за трапезой не пожелали, дождавшись, пока я позавтракаю и отправлюсь на балкон покурить.
Разговаривали мы мало, перекидываясь односложными фразами, ибо я по маковку погрузился в предвкушение предстоящего вскорости действа.
— Ты бы хоть, Серёжа, поговорил с нами, а то молчишь, злишься чего–то, — наконец не выдержала мама. — Мы, ведь, ещё ничего плохого–то не совершили, не преступники.
«День длинный, а дурное дело — нехитрое» — хихикнул я про себя.
— Есть у меня теперь время в душеспасительные беседы с вами вступать! Через сорок минут машина подойдёт. Собирались бы, лучше, — отбрехивался я, раскладывая на рабочем столе, покрывало, включая утюг и, бросая марлю в миску с водой. Гладить костюм я не доверял никому, оставляя эту обязанность исключительно своей прерогативой. Хочешь сделать хорошо — сделай сам.
Бабушка ходила по квартире с красными глазами и хлюпала носом.
Владлен с женой отсиживались в гостиной, тихонько переговариваясь о личных проблемах, о «Графе» и возврате ему долга.
Картина больше напоминала подготовку к погребению усопшего, нежели утро дня праздника.
Выбрав гармонирующий с костюмчиком галстук, я вертелся у зеркала, когда домофон пропиликал, извещая о новоприбывших.
Я, с зашедшимся в беге сердцем, снял трубку.
— Сергей? — послышался голос Инессы Васильевны, — Мы внизу, лифт вызывать не станем. Тут постоим.
— Ясненько! Сейчас спустимся.
Я пристроил трубу на стену и шуганул остальных:
— Карета подана, быстро вниз! Омнибус опоздавших не подбирает.
— Все, наверное, не уместимся. Кто на маршрутке поедет? — встревоженно спросила матушка.
— Решим, кто и где поедет, не беспокойся, — утешил я её.
«Лимузин» «Шестёрка» Колчиных цвета свежескошенной травы ожидала у ограды, а Анатолий Сергеевич в летней рубашке нетерпеливо прохаживался вокруг неё. Автомобиль не успели украсить лентами и шарами, но после вчерашней помывки он блестел, поигрывая, точно новенький, в пинг–понг с солнцем.
«Зелёный фургон из детства в зрелость. Красавчик!»
— Свистелки–перделки позже прилепим, пока вы выкупом занимаетесь, — заверил хозяин «кабриолета».
Сидений в «телеге», как и предсказывалось, на всех не хватило. Инесса Васильевна и бабушка направились на маршрутку, а я, мамаша и Владлен с супругой загрузились в авто.
Колчин, невысокий, полноватый мужчина сорока с лишним лет, стремительно теряющий шевелюру, с быстрыми карими глазами и куцей щёточкой усов, красноречием никогда не блистал. Вот и сейчас он не горел желанием разводить антимонии, отдавшись процессу управления железным конём.
Дабы хоть как–то завести беседу, я прошёлся по удачной погоде и поинтересовался, где их дочери.
— Леонку с Карей мы у Линки оставили, — лаконично, простецки, почти по–родственному, пояснил он, усиленно демонстрируя нежелание попусту сотрясать небеса.
Я смирился, и до конца пути более не проронил ни слова.
Тачанск не отличался повышенным автомобильным трафиком и километровыми пробками. Вдобавок стояла суббота, и в это относительно раннее утро машин на улицах было не много. Свежие, выспавшиеся, обдуваемые лёгким прохладным ветерком переулочки, проносились за окном. Редкие прохожие спешили по своим делам. Никто их них не знал о моей женитьбе, никого не волновало, что сегодня я и Лина станем, наконец–то, вопреки обстоятельствам, супругами, открыв новый этап в жизни.
К дому Юриных примчались за двадцать минут.
Подъезд был приветливо распахнут, а у входа даже висел свадебный плакат, гласивший: «Стой, жених, ни шагу с места, здесь живёт твоя невеста!» Он являлся творением художественного таланта Лины. Похоже, и вывешивала–то сие произведение искусства она сама. Ни Ложкиных, ни Свистюшкиных поблизости не наблюдалось.
Покинув машину, я, ничтоже сумняшеся, прошествовал к ступенькам и, одолев их, взбежал на пятый этаж, к квартире Юриных. Жать на кнопку звонка не потребовалось, дверь оказалась приоткрытой. Чем я и воспользовался, проникнув внутрь.
«Охрана молодой, видать, с ночи наклюкавшись „Контушовки“, дремлет в пыльной подсобке».
Лина перед трельяжем примеряла шляпку, пристраивая её так и этак, то набекрень, то опуская вуаль на личико, а заметившая меня Нина Васильевна замахала руками и принялась кричать:
— Куда, Сергей? Куда? Нельзя! Рано ещё!
Обернувшаяся на её крики Лина, бросилась ко мне. Мы обнялись, стали шептаться. Леона расположилась на диване, лизала мороженое и с любопытством за нами наблюдала. Расфуфыренная Карина, в коротком синем платьице, крутила, подбрасывая к потолку, головной убор, который ей доверила Лина.
«И в воздух чепчики бросали…»
Практически всё пространство гостиной занимал длинный раскладной стол, притащенный от соседей. На голубоватой скатерти уже расставили пустые, жадные бокалы, тарелки с голодно поблёскивающими приборами, пузатые бутылки с шампанским, вином и водкой, коробки с соком, минералку, дымчатые стопки, хрупкие вигвамы салфеток. Для выхода на балкон между креслами и стульями сохранили узкий проходик.
Свадебный наряд на Лине я уже видывал, но внезапно избранница показалась мне сущим идеалом. В белых миниатюрных туфельках она, порхая от меня к маме и обратно, лучилась счастьем, улыбка не сходила с её личика. В то же время, девушка тревожилась, видимо, не меньше моего, а то и больше. Хваталась то за часики, то, оставив их, за цепочку.
— Как твой ядовитый зуб? — спросил я, помня, что накануне боль у неё обострилась.
— Наточила Чуточку лучше, — поморщилась Лина.
Котлова находилась на балконе и примеривалась к съёмке.
— О, наконец–то, и свидетели подъехали, — громко произнесла она, появляясь в гостиной. — Ну–ка, жених, давай–ка, с вещами на выход, и руки за спину. Я снимать стану, а ты уж не ударь в грязь лицом. Да и остальным тоже. Ничего не забыл? Цветы не потерял?
— Не забыл, — похлопал я себя по карманам пиджака, наполненным мелкими трескучими монетками. — Букет внизу пока.
Сбежав на первый этаж, я поздоровался с Ложкиными и Свистюшкиными, чьей машине предстояло стать второй в автопарке нашего брачного кортежа.
— Готов, герой дня? — улыбнулся Веня.
— Всегда готов! — решительно ответил я.
Веня тут же перехватил руководство процессом. Он, Свистюшкина и Филатова встали на крыльце подъезда, раскрыли папочку с текстом сценария и принялись его обсуждать, тыча пальцами в строчки.
Тётя Люба Котлова прицеливалась, а Инесса Васильевна и вся моя родня ожидали начала клоунады.
— Внимание! Запускаем Серёгу! Камера! Мотор! — крикнул Вениамин, отходя в сторону, и Котлова указала, где мне полагалось протиснуться на сцену.
Слово взяла Филатова, выглядевшая не лучшим образом из–за обильно подведённых глаз и чрезмерно нарумяненной мордашки. Свистюшкина оделась неброско, скромненько, но со вкусом, в длинное серебристое обтягивающее платье с боковым разрезом до бедра.
Филатова: Ох, вы гости, господа! Вы откуда и куда? Есть у нас одна девица. За дверьми она таится. Чтоб её заполучить, нас должны вы подкупить.
Свистюшкина: Здравствуй, молодец, прекрасный! Что ты тих, как день ненастный? Где ты был и что нашёл?
Я: За невестой я пришёл!
«Не зря репетировали! Ох, не зря!»
Филатова: Посмотри невест у нас. Тебе будут в самый раз! Вот — красива! Вот — бела! Вот — румяна! Вот — скромна! Выбирай! Какая?
Я: Мне нужна другая!
Свистюшкина: А другая у нас — дорогая. Чтоб её забрать нужно испытание пройти и выкуп заплатить.
Филатова: У нас есть листочек с загадкой несложной. Найдёшь ли ты губки своей наречённой?
Сзади засмеялись.
«Ну–ка, ну–ка! Что за фигня? Не прописывали же номер!»
Передо мной расстелили внушительных размеров кусок ватмана, усеянный следами помадных поцелуев. Из десятка требовалось выбрать одни губки. Линины. Я склонился над бумагой, и многозначительно промычав «Угу, тэээк! Ага…», задумался, теребя ус.
Котлова: Ну, примерься усищами–то!
Все снова расхохотались. А я тянул кота за хвост, да почёсывал тыковку. Ибо к подобному повороту оказался совершенно не готов. Не предупредили заранее, злыдни!
Решившись, наугад показываю в крайний справа отпечаток.
Свистюшкина (изумлённо): Нет! Неправильно.
Котлова: О–о–о! Он не померился, он ошибся! Давай, примерь, примерь!
Свистюшкина: Пять рублей плати, штрафа! Каждая ошибка пять рублей!
Гогот позади не прекращался.
Делаю второй заход и на этот раз указываю верно.
Свистюшкина (с облегчением): Правильно!
Путь открыт, и народ вслед за мной устремляется в подъезд. Алика Мингазовича я не разглядел.
Обшарпанные стены, отбитая штукатурка, висящая зелёная краска, под ногами что-то хрустит.
Свистюшкина (держа вместительную тарелку с, хм! голубой каёмкой): Положи сюда столько денежек, сколько с женой проживёшь лет!
Передав кому–то из родни букет, я залез в карман и на блюдце забрякали кругляшики. Горсть, вторая.
«Пожалуй, достаточно. Вечно не живут…»
Филатова (с улыбкой): Долго будете жить! А теперь наполни нам бокалы. В одном, чтоб сверкало, в другом, чтоб звенело, а в третьем, чтоб бурная пена шипела.
Для меня это не сюрприз, всё предварительно обговаривали с Ложкиным.
Щёлкнув пальцами, потребовал:
— Гарсон, стаканы́!
Ведущие, замешкавшись, не смогли сразу найти нужное, и сзади кто–то поторопил:
— Ну, куда стопари–то задевали?
Наконец, Свистюшкина, изящно изогнувшись, подняла их с пола, из угла.
Я: Что там? В одном, чтоб звенело?
Свистюшкина: Да.
Колчина И. В.: Что ж вы стаканчики такие маленькие взяли?
И тут прошло на отличненько, без сучка и задоринки, поэтому вскоре двинулись на следующий этаж. Впереди деловито шествовали Свистюшкина с красной папкой и Филатова с блюдом монет.
Свистюшкина: Коль споёшь, то дальше пойдёшь.
Я (растерянно): А чего спеть–то? Так недоговаривались.
Свистюшкина (посмеиваясь): Пой, пой!
С укоризной оглядываюсь на Веню.
Ложкин (разводя руками): Я здесь ни при чём.
Голос из массовки: Арию влюблённого!
Приоткрылась дверь и на площадку из–за общего хохота выглянула встревоженная голова соседа. Беспокойство его, впрочем, мгновенно улетучилось без следа после того, как ему поднесли кубок шампанского. Перекрестившись зачем–то, он ухнул игристое в себя, и вернул посуду Колчиной:
— Ну, ребята, счастья, согласия! Алла я в бар! Аллилуйя!
А я, затянул, одолевая ступеньки:
«Ты нужна мне — что ещё?
Ты нужна мне — это все, что мне отпущено знать;
Утро не разбудит меня, ночь не прикажет мне спать;
И разве я поверю в то, что это кончится вместе с сердцем?
Ты нужна мне — дождь пересохшей земле;
Ты нужна мне — утро накануне чудес.
Это вырезано в наших ладонях, это сказано в звёздах небес;
Как это полагается с нами — без имени и без оправданья…»
И ещё одна площадка осталась позади, только чей–то голос разочарованно протянул:
— Ну–у–у, что за тоску развёл? Веселей выступай! Задорней! Забористей.
А мне, упёршемуся в наглядную агитацию «Это ж надо так влюбиться, что придумали жениться!», снова преградили дорогу.
Филатова: Есть вода солёная, горькая и сладкая. Угадай, какая судьба ждёт тебя.
Я уже заметил стоящие на подоконнике лестничной клетки три наполненных бокала. Поколебавшись, я выбрал крайний справа.
Свистюшкина (экспрессивно): Э, э! Ты зачем взял? Угадай вначале, а потом пей.
Я собрался было вернуть чашу на место, но резко передумал и заявил:
— А я уже отгадал!
Котлова: Бегом, бегом, выпивай скорей!
Свистюшкина: Что ты отгадал?
Я: Сладкая!
Попробовав содержимое, довольно хмыкнул и допил остатки и осчастливил присутствующих афоризмом:
— Халявную Медовую жизнь пьют до дна!
Из массовки: Лишь бы не бедовую!
«Пророк фигов, оглоблей тебя по дышлу!»
Котлова: Следующий пробуй!
Я: Лопну же! Мне к невесте, а я напьюсь у вас, куда побегу? А?
Подъезд вновь сотрясся от группового хохота.
Шутник из массовки: Такими темпами туда очередь выстроится.
Второй шутник: Жениха без очереди!
Свистюшкина: А теперь вопрос другой. Ты, жених наш дорогой, быстро голову ломай, эти числа разбирай. Ну–ка, что означает каждое из них?
Передо мною разложили карточки с нарисованными на них цифрами. 29, 78, 99, 12, 4, 9. Орешек расколол за две минуты, ни единожды не сбившись. Ребусы, связанные с Линочкой я знал назубок.
Свистюшкина: Ой, молодец!
Филатова (указывая на вырезанные из бумаги следы ног): Отыщи ножку твоей любимой.
Засучив рукава и присев, я принялся измерять пальцами фигурки и поднял первый:
— Вот этот!
Свистюшкина: Сергей, ты переверни и прочитай!
Я (переворачивая): Лина!
Ложкин: Хорошо подготовился!
Котлова: Класс!
И чудо свершилось, мы оказались у дверей квартиры Лины. Но что это? На стенке укреплена картонная замочная скважина. Однако, очень странная. Силуэт ключа поразительно напоминал фигуру бутылки.
Свистюшкина: Что ты видишь пред собой? Тут висит засов большой. Если ключик подберёшь, то замочек отопрёшь!
Я: Да, своеобразный замочек. Вень, где там у нас отмычки?
Ложкин, замучившийся таскать сумку со стеклом, охотно передал его мне, и я нашарил то, что, по моему представлению, больше соответствовало роли ключика.
Котлова: Шикарный ключ!
Я: О! Сразу подошёл!
Ложкин: Подходит!
А за дверью, в коридоре, честную компанию с нетерпением поджидали. Волнующаяся завитая и накрашенная Наталья Васильевна, Ядвига Львовна.
Свистюшкина: Ну и вот твоя невеста. Забирай!
Я (заглядывая с интересом за её плечо): Где моя невеста?
И разглядев, что ко мне подталкивают Карину под вуалью свадебной шляпки, отвечаю:
— Это не моя невеста! Это чья–то чужая невеста.
Карина, сыграв сценку, упорхнула в спальню, где пряталась Лина.
Свистюшкина: Больно уж ты придирчивый, да разборчивый. А чтоб мы знали её имя, выложи его рубликами.
Пока я выкладывал имя, Котлова комментировала:
— Не жадный простофиля Серёга! Большими буквами всё делает!
Ложкин: Не влезет, места мало.
Котлова: Перенос напишет. Грамотный. О, крупнее валюта пошла.
Я: Готово.
Котлова: Сейчас проверим, прочитаем: Лина. Правильно!
Свистюшкина: В светлицу девичью стремясь, скажи пред всем народом…
Я: Лина, я люблю тебя!
Котлова: Ой, тихо, ой, тихо. Ну–ка громче!
Свистюшкина: Конечно, громче!
Я, набрав в лёгкие воздуха, ору: Лина, я люблю тебя!!!
Свистюшкина: А где невеста–то пропала? Линка, выходи быстро!
Лина, смущённо улыбаясь, пряча за вуалькой направленный в пол взгляд, появилась из соседней комнаты и приблизилась к нам.
Свистюшкина: Ты посмотри, какая красивая! За невестино платье нарядное, дай, молодой, нам, вино виноградное.
Я: Держите вино виноградное.
Свистюшкина: За невестины туфли–лодочки, дай, жених, нам, бутылочку водочки.
Я (извлекая бутылку водки): Водочку.
Свистюшкина: За невестины глазки — килограмм «Маски».
Я (роясь в пакете): А безмен у вас есть?
Наталья Васильевна: Верим, верим.
Я: А вдруг на двести граммов обвешаю?
Свистюшкина: Чтобы жизнь казалась сладкой, угости, женишок, шоколадкой! За невестины губки бантиком, сверни 50 рублей фантиком!
И тут я заметил скромно стоящего у пианино Алика Мингазовича, видимо, успевшего просочиться на праздник, покуда мы устраивали аттракционы. Алик Мингазович скучал и нетерпеливо подёргивал себя за усики.
Филатова: Овечке волк сказал: «Овца, у вас прекрасный цвет лица!» Ах, если хвалит волк овечку, не верь ни одному словечку.
Алик Мингазович зевнул и глянул в окно.
Филатова: Как ты станешь называть свою жёнушку? Ступая к Лине, говори по слову.
Папа Алик отвернулся, а Ядвига Львовна уставилась в потолок.
Я: Кхм. Ну, вы, блин, отчебучиваете! За каждый шаг слово?
Свистюшкина: Да.
Ложкин: Шагай малютками!
Я: Ну да! Прыжками! Вообще, прыжками! Линочка! Линусенька! Линусечка! Милая! Любимая! Ненаглядная! Малявочка! Деточка.
Котлова: Лялечка.
Я: Лялечка!
Комнатка не настолько большая оказалась, особо не разбежишься и, выговорившись, я очутился рядом с Линой, сжал её руку. Прозвища я произносил голосом нашкодившего крокодила кота, и слушатели покатывались со смеху. Отец Лины, не отрываясь пялился в кухонное окошко. Лина истерично хохотала, закрыв личико шляпкой, а я, забрав головной убор, прижался губами к губам Лины.
Гости одобрительно зашумели и кто–то сказал:
— Правильно, неча тут отлынивать!
Вскрикнувшая испуганно Свистюшкина, своевременно спохватилась:
— А цветы? Цветы ведь должен подарить!
Котлова: Да обождите, подарит. Видишь, дорвался. Никогда в жизни не целовались!
Под хихиканье девчонок мне переслали сзади букет и, прервав поцелуй, я вручил его Лине, а она пальчиком стёрла с моего носа след от помады.

К нашему возвращению к машине, технику успели украсить приличествующим поводу образом и, сделав у подъезда несколько кадров на фотоаппарат Колчиных, наша тёплая компания отправилась на регистрацию брака. Снова часть приглашённых добиралась до пункта назначения пешком, благо идти там было недалеко, ну, а нас с Линой, как и положено, доставили в персональных авто. Однако, в разных. Меня везли Колчины, а Лину — Свистюшкины.
В холле Дворца Бракосочетаний меня молниеносно взяла в оборот церемониймейстер, напомнив, что кольца необходимо передать ей сейчас же. Еле совладав с пакетиком, беспощадно изорвав его, я, дико волнуясь, звякнул, наконец, колечками о блюдце.
Бабушка непрерывно плакала, Филатова тоже ходила с красными глазами. Алик Мингазович держался в отдалении. Лина невероятно тушевалась и вела себя скованно, неизменно отрицательно реагируя на многочисленные призывы Котловой повертеться на камеру. Очутившись на красной ковровой дорожке, уводящей вверх по лестнице, в недра святилища, Лина левой рукой вцепилась мне в локоть, правой придерживая букет. Я ласково поглаживал её пальчики, а сам отстранённо припоминал очерёдность действий, которые потребуется вот–вот совершить.
Едва послышались усиленные динамиками первые бравурные звуки скрипок из «Имперского Свадебного марша» Феликса Мендельсона, как церемониймейстер, кивнула и сказала:
— Следуйте за мной.
Лина, задевая моё плечо краем широкополой шляпки, задрожав до боли впилась мне в предплечье, и я шепнул, наклонившись к ней:
— Лин, всё хорошо! Успокойся, держись за меня.
Гости, приглашённые в зал раньше, уже разместились на мягких креслицах с вишнёвой обивкой, расставленных по периметру большого просторного помещения с незамысловатыми репродукциями натюрмортов и абстрактной живописи. Дневной свет, проникая внутрь сквозь стёкла витражей, приобретал оранжево–огненную окраску, поэтому комната словно купалась в лучах заката.
Сделав от входных дверей, положенные по инструкции, пять шагов, я притормозил, а Лина, забыв про условия, по инерции чуть было не протащила меня дальше. Мы остановились аккурат под круглой люстрой, имитирующей средневековый светильник со свечами. Апельсиновые плафоны, висящие на стенах, подчёркивали радостную, солнечную атмосферу всего действа, в то же время, создавая особенный, домашний уют, ибо стулья для родных располагались в розоватой полутени. В углу, на случай исполнения живой музыки, служители приютили пианино. Поблёскивая чернотой, оно органично вписывалось в интерьер, добавляя ему шарм академичного нуара.
Слева от меня, чуточку позади, напряжённо замерла Свистюшкина. Возле Лины –Ложкин. Котлова, нарезая круги, снимала нас то с одной точки, то с другой. Неподалёку суетился оператор официальной съёмки. Я чувствовал себя в тот момент актёром бюджетного сериала, продолжавшим, несмотря на понимание несерьёзности происходящего на площадке, старательно проживать выпавшую ему роль, в надежде добросовестной игрой смягчить огрехи режиссёра.
Композиция стихла и ведущая, находящаяся на помосте, у окон, обратилась к нам:
— Дорогие Сергей и Лина! Сегодня в вашей жизни самое яркое и замечательное событие. Незримыми узами вы соедините свои судьбы. Друг перед другом, перед людьми и законом вы станете мужем и женой. Согласно ритуалу торжественной регистрации, я прошу вас ответить, является ли ваше желание стать супругами взаимным и добровольным? Прошу невесту.
— Да! — Лина вздёрнула носик. От волнения голос её сорвался, а головной убор движения немного съехал на бок.
— Жених…
— Да!
— Я предлагаю вам подняться на подиум и скрепить зарождающийся семейный союз подписями.
Мы с Линой, оставив свидетелей на прежнем месте, величаво прошествовали к столику, стоящему на небольшом возвышении и расписались в журнале учёта ручкой, похожей на гусиное перо пушкинской эпохи. Фарфоровая фигурка худенького усатого кавалера во фраке и дамы с зонтиком, служила своеобразным пресс–папье, надёжно хранящим заполненные бланки свидетельств.
— В соответствии с «Законом Российской Федерации о Браке и семье», ваш брак зарегистрирован. С данной минуты я объявляю вас мужем и женой. И по вашему взаимному желанию вам сохранены добрачные фамилии. Примите «Свидетельство», как памятный документ рождения вашей семьи.
Гости захлопали, а я взял поданную мне бумагу и, не ведая, куда её деть, начал обмахиваться.
Мы вернулись в центр зала и приблизились к треножнику с блюдечком, на поверхности коего лежали наши колечки.
— А теперь, пожалуйста, обменяйтесь кольцами.
Обмениваемся. Лина нервно хихикает.
— Подарите друг другу первый в новой жизни поцелуй.
Лина привстала на цыпочки, а я слегка наклонился и сдвинул на затылок её шляпку. Чтоб не мешала.
— Счастливому мужу предоставляется возможность пригласить милую очаровательную жену на первый супружеский танец.
Никогда не слыл мастаком в плясках, да и Лина, напоминавшая мне в те секунды, в своей шапочке, гриб, собственно, тоже. Но, под задорную оптимистичную мелодию, я полагаю, мы справились достаточно убедительно. Хотя постороннему наше топтание, наверное, показалось бы смешным, ибо Лина постоянно приподнималась на носочках, пытаясь выглядеть повыше. А я, будучи неуклюжим, силился не наступить ненароком на ногу моей маленькой жёнушке, поэтому, шоркая по ковру, почти не отрывал подошвы от пола. В итоге, едва не грохнулся, зацепив каблуком край верхней дорожки, постеленной внахлёст нижней.
— Уважаемые супруги, вместе с вами, важность торжественного дня разделяют самые близкие вам люди — ваши родные. В течение многих дней и лет они о вас заботились. Уважаемые родители, я поздравляю вас с появлением замечательной семьи! Благополучия вам, здоровья и долголетия! И пусть ваша мудрость и опыт приходят на помощь молодожёнам. Уважаемые молодые, я предлагаю вам поблагодарить родителей за всё, что они для вас сделали, а сегодня благословляют на безоблачную совместную жизнь.
Грянул вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», и мы попали в родственные объятия. Прошли сквозь строй. Мне протянула ладонь Наталья Васильевна, и я вполне искренне ответил пожатием. Лина обняла мать, и они расцеловались. Алик Мингазович кивнул мне, а я — ему. Лина вообще не обратила на него внимания, сразу отправившись к маме Зое и бабушке Кате. Я не отставал.
До прочих мы добраться не успели. Ведущая продолжила:
— Сергей и Лина, прошу вас выйти на середину. Уважаемые свидетели, вам следует позаботиться о том, чтобы это событие остался в памяти ваших друзей на долгие годы. И да превратятся встречи с ними в хорошую традицию. Вы можете подойти и поприветствовать молодожёнов.
Свистюшкина прильнула к щёчке лучащейся радостью Лины, и заботливо стёрла след своей помады. Ну, и моя не идеально бритая скула ощутила прикосновение её губок. Ложкин в стороне не отсиживался, чмокнув Лину в запястье. Меня Веня снисходительно потрепал по плечу и пожал руку.
К товарищам присоединились и остальные: Филатова, Инесса Васильевна с Анатолием Сергеевичем, Свистюшкина–старшая, Владлен с пассией, Карина и Леона, Ложкина. Они выстраиваются вдоль коврика, а мы напутствуемые их аплодисментами, звоном колоколов из настенных колонок и прощальным словом администратора, спускаемся в студию для фотографирования. Присутствующие устремляются за нами, а последним, сказав: «Всем спасибо», комнату покидает папа Алик.
Лина заметно утомилась, и с видимым усилием старалась получиться на фотографиях лёгкой и беззаботной, что ей удалось замечательно. Затем прозвучало приглашение в просмотровую. Здесь на мягких диванчиках, за сиреневыми шторами, компания могла выпить шампанского и оценить видеозапись церемонии, занявшей восемь минут.
Фото на улице, насколько впоследствии выяснилось, оказались не вполне удачными. День набирал обороты, солнце пекло вовсю, и мы щурились и плавились от его лучей. Лина совершенно раскисла и куксилась. Совершив традиционный небольшой вояж по проспектам и переулкам, мы выбрались к въездной стеле Нижнего Тачанска, неспешно отсняли там десятка полтора кадров и спустя примерно час, вернулись в город.
Заметив наш автомобиль, замерший у росшей во дворе рябины, Наталья Васильевна с отцом Лины и моей мамой поспешили встретить новобрачных у подъезда. Наталья Васильевна держала на рушнике выпечку, а её бывший возвышался мрачно, по–наполеоновски.
Ложкин: Чтобы вступить в семейный путь, навечно, а не как–нибудь, нам нужно здесь вопрос решить, кто будет все дела вершить. Дабы решить вопрос вам этот, прошу сей каравай отведать. Он — пышен, он — красив, он — вкусен, в нём аромат родной земли. И больше кто кусок откусит, тому и быть главой семьи.
Приблизившись к булке, Лина собралась впиться в неё, но тут притянула за пиджак и меня:
— Ком цу мир! Вместе же надо кусать!
— Почему вместе–то? По очереди.
— Вместе!
Ложкин: Нет, не вместе. Зачем вместе–то?
Я ни на чём не настаивал, считая, что меня утроит любой вариант.
Лина, примерившись, отхватила маленький кусочек, сопровождаемая комментариями со стороны зрителей:
Нат. Вас.: Аккуратней, зубы сломаешь!
Ал. Минг.: У неё и так зубов нет.
Ложкин: О–о–о, главой не бывать!
Я прицеливаюсь, хватаю калач и отгрызаю почти четверть.
Котлова: Вот куснул, так куснул.
Ал. Минг: Эх, Лина! Один раз в жизни могла от души тяпнуть, и то…
Лина: У меня зуб мудрости режется!
Ал. Минг., (меланхолично): А к чему женщине мудрость?
Жениху полагается вносить невесту в дом на руках, и я приготовился исполнить данное правило. Несмотря на активные возражения Нат. Вас., окружающие меня поддержали, и шляпка Лины перекочевала к Свистюшкиной.
— Ой, мамочки, я пошла, — единственно и успела взвизгнуть Лина, когда я поднял её и шагнул к ступеням. — Ай!
— Осторожней, осторожней, о двери не стукни! — заголосила Наталья Васильевна, но мы с Линой уже находились внутри. Я бережно поставил любимую супругу на ножки.
Как сказал в начале празднования Ложкин: «Свадьба — дело долгое, поэтому выбирайте соседа или соседку по вкусу. Не скучайте да ухаживайте!» Он и Свистюшкина превратились в ведущих и тянули на себе всё мероприятие. Поздравления сменяли конкурсы, конкурсы чередовались с поздравлениями, пожеланиями и криками «Горько!» Вилки продавали по пять рублей, ложки по десятке. Гости не жадничали. Казалось, ничто не способно омрачить нашу светлую радость.
В середине банкета, Ложкин предоставил слово родителям.
Наталья Васильевна: Сергей должен помнить: Лине ещё четыре года учиться! Он обязан ей помогать, содействовать, она не должна бросить консерваторию, ведь занимается она хорошо. Нельзя её талант зарывать. Ну, и всего–всего вам!
Мама Зоя: Ну, ребята, коли уж вы нашли друг друга, то живите. Мирно и уважительно. … И между вами будут ссоры, … что может случится, это предсказать никак нельзя, но вы делите проблемы пополам. Лина, уступай Сергею, а, ты, Сергей — Лине. Обязательно! А иначе, конечно, хорошего не видать. Поэтому цените счастье и живите складно.
Алик Мингазович: Не снимай, я… себя лучше вживую в зеркале увижу.… А главное до меня отметили. Это — уступать. Ну, а на счёт таланта я с Наташей поспорю. Талант, либо есть, либо его нет. Если Сергей поможет ей угробить талант, тогда, его и не имелось. Выходит, это не самое страшное. Наиболее важное, действительно, — подстраиваться… бояться сделать другому больно. Слушать и понимать, заботиться. А коли этого не появится, значит ничего и не существовало. … это обман… вон, фокусник у нас этот… «Поле чудес» в стране дураков… вот и это тоже подобное получится… т.е. — подарок и компенсация… и человек отказывается от подарка, потому что нужно платить за него больше, нежели он стоит…. То есть, я рассчитывал подсказать: … чтоб у вас происходило не понарошку. Видите, проще простого!
Владлен (с рюмкой в кулаке, пошатываясь): Знаешь, у нас уже сыну четыре года, пятый идёт. Чё у нас не бывает? Ужас, чё бывает! Дым столбом и тапки врозь! Живите в мире, согласии, чтоб у вас полная любовь была! И наилучшего вам. Поехали! (залпом выпивает)
Лина (глядя в стол): Ну, что нам ответить родителям… огромное спасибо, что они нас вырастили, воспитали и немеряно сил нам отдали. Очень хотелось бы учиться на чужих ошибках, а не на своих. У них… давно примерно такое же было. Им давали советы, их наставляли. Мы вас… обожаем и хотим, чтобы и ваша жизнь текла замечательно…. И то, что вы с нами, это так должно быть…. И за это вам искреннее спасибо! А бабушкам спасибо, что они вынянчили наших пап и мам. И дедушкам поклон. Они нас, я уверена, слышат. Они незримо с нами. И я вообще хочу родственникам… напомнить: мы — единая упряжка, да, волейбольная команда. Стена.
Я: Трудно соврать сориентироваться… ну, … как и Лина, я вначале выражу признательность Наталье Васильевне, Алику Мингазовичу за то, что они… вложили в этого чудесного ребёнка, в Лину, лучшее, чем она обладает. Само собой, надо упомянуть и тех, кто принимал участие в торжестве, кто помогал, организовывал. Благодарю! Верю, дальше у нас будет превосходно, как и нынче вечером.
Инесса Васильевна: Лину я помню буквально с двух дней. И как–то на наших глазах она и росла. Можно сказать, у меня на руках. И надеюсь только на одно… Вы поженились, и у вас куча времени впереди, …, вы сейчас каждый день, каждую минуту, каждый час, будете вторую половинку познавать. И разные могут быть открытия. И отыщите в себе тихое, незаметное качество — терпение. У вас обоих достаточно великолепных, добрых свойств. И вы… их поддерживайте. И мечты ваши осуществятся!
Бабушка (вытирая мокрые глаза): Сергей, Лина, поздравляю вас. Держитесь вместе, любите …. Лишь бы у вас всё сложилось.
Ложкин: Мы с Сергеем провели детство вместе. Я, как никто знаком с ним, с тёть Зоей. И мне понятно волнение его баб Кати, её слёзы. И, разумеется, я рад, что Сергей обрёл то, что долго искал. Он по праву заслужил удачу. Ну, имея некоторый стаж семейной жизни, желаю тебе: хотя бы, как мы. Станете ещё красивше жить, я буду чрезвычайно доволен. Я сначала строчку процитирую: «Храни вас Бог от житейских невзгод!» И «Пусть невзгоды и потери не стучатся в ваши двери, пусть всегда волнует кровь, чувство светлое — любовь!» Будет это, будет и остальное.
Свистюшкина: Дорогие Сергей и Лина. Поздравляю вас с днём свадьбы! Я зачитаю стихотворение:
Имя светлое Русь Ваш венчает союз,
И дарует Вам званье супругов.
Чтобы всё на двоих, навсегда — не на миг,
Вас любовь избрала друг для друга.
Будет мёд и полынь, будет пекло и стынь,
Будут слезы от счастья и боли.
Будут дети у Вас и печали не раз…
Ведь судьба — не тропа через поле.
Если надо — забудь, если надо — прости,
В жизни гладких дорог не бывает,
И кривые пути, и неверную суть
Сердцем к сердцу любовь побеждает.
Вам совет да любовь, долгих лет, мирных снов,
И тепла, и добра, и достатка.
За здоровье семьи и за счастье любви.
Пусть Вам будет и «горько» и «сладко».
Филатова (скороговоркой): Дорогие Сергей и Лина. Поздравляю вас со свадьбой и желаю вам всего хорошего. Я благодарна судьбе за то, что повстречала Лину. Мы вместе учились с первого класса. Она для меня, — как сестра. И я хочу, чтоб в её жизни было всё замечательно. Выпьем же за нашу красавицу невесту!
Когда гости, отменно закусив, прилично выпили, и им наскучило просиживать задницы, они потребовали: «Даёшь танцы до упада!» Против танцулек я ничего не имел и в качестве медляка врубил Ricky Martin «Casi un Bolero».
«Con tu recuerdo siempre
Como un fantasma que no se va
Pongo tu foto sobre mi piel
Suena en mi corazon
Casi un bolero»
Лина, вставив в волосы цветок, приобняла меня, положила голову мне на грудь, а я гладил её по локонам, наклонившись, шептал на ушко всякие легкомысленные глупости, соответствующие моменту. Ложкин, покачиваясь, извивался в паре со Свистюшкиной, демонстрируя потрясную хореографию, а Филатова тянула на свободное пространство Колчина. Полностью сосредоточившись на Лине, я упустил из внимания переменные в виде мамы Зои, Владлена и его благоверной, незаметно успевших изрядно набраться. Тучи уже собрались, и на горизонте слегка погромыхивало.
Услыхав просьбу гостей вытащить шашлычницу музыку на балкон и добавить звук, дабы они могли отплясывать у подъезда, я почуял, что вечер внезапно перестаёт казаться томным. В перерыве между песнями я расслышал постепенно усиливавшиеся внизу голоса, и доминирующую роль среди них играл бас Владлена.
— Чё ты докопалась? Тебе не нравится? Тебя чё–то не устраивает? Ну, так и… домой! Чё, думашь заплачу? Ага, зарыдаю, …! Навзрыд, …! Пшла …!
— Да! — отвечал резкий визгливый голосок его жены, — не нравится, что ты с ней в наглую секретничаешь, что ты смотришь на неё, как на кошку!
— Мне уж и посмотреть ни на кого нельзя, да? И поговорить запрещается?
— А ты обниматься к ней лезешь! Думаешь, я не видела, да?
Я вырубил музыку и, выйдя на воздух, с высоты пятого этажа разглядел сквозь ветви кустов орущих друг на друга Владлена и его ненаглядную. Там же, на скамейке расположились Наталья Васильевна, Филатова, Алик. Мингазович, Свистюшкина и Ложкины. Неподалёку, у машины стояли Колчины. Матушка пьяным голосом требовала от Владлена, чтобы он заткнулся и успокоился, но он не воспринимал её увещевания, распаляясь больше и больше.
Алик Мингазович предпринял отчаянную попытку разрядить ситуацию, пригласив драчунов за стол, отведать пломбира. И умчался за ним в ближайший киоск. Обернулся папа Алик оперативно, принеся целый пакет мороженок.
Подойдя к брату, я напомнил ему вчерашнее обещание вести себя прилично.
— А чё я–то? — вскипел он. — Чё она меня к каждой песочнице юбке ревнует?
Наконец все расселись, Владлен буркнул даме нечто примиряющее, и налил водки себе, ей и матери. Я неодобрительно следил за подобными манипуляциями, а бабушка, находящаяся рядом, дёргала Владлена за рубашку.
Алик Мингазович выдал присутствующим по плитке эскимо, а Ложкин попытался продолжить ведение праздника. Однако с этого момента всё покатилось в тартарары. Жара сыграла подленькую штучку, многократно усилив воздействие алкоголя у тех, кто не стесняясь, опустошал рюмку за рюмкой. Владлен, сорвав пуговички, засучил рукава, обнажив армейские татуировки, на которые с нескрываемым ужасом и явным неодобрением воззрилась моя новоиспечённая тёща.
В течение часа обстановка лишь продолжала накаляться. Мама Зоя, дойдя до кондиции, уволокла Алика Мингазовича на кухню и, закрыв дверь, принялась что–то ему втолковывать. Наталья Васильевна металась по комнате, а Владлен подмигивал Филатовой, и получал пинки от благоверной.
С кухни вернулся тесть. Лицо его было искажено гримасой злобы и недовольства. Он схватил пиджак и выскочил на лестничную клетку, а мама Зоя, улучив минутку, последовала за ним. Через пять минут она уселась на место, и выпила без перерыва две стопки белой.
— Слышь, Василич! Я, наверное, в Питерку свалю, — обратился ко мне раскрасневшийся от спиртного и духоты, Владлен.
— А чего рано–то? Никто ведь не расходится.
— Да работёнка кой–какая у меня не завершена
— Ну, дело твоё, конечно. Не маленький. Как знаешь!
— Василич, ты… это… на дорогу выдели денег.
— У тебя совсем нет?
— Ни шиллинга! Бабуля обещала дать, да до Кировки надо переться. А тут я сразу на вокзал рвану…. Пока автобусы ходят…
— Сколько?
— Двести, хотя бы, отсчитай…
— Стопроцентно в деревню поедешь?
— А куда ещё–то? Ну, ты сам подумай!
— А супруга?
— Пускай, …, празднует, сидит, греет…. …, настроение напрочь испортила.
Я вышел в спальню, порылся в кармане пиджака, висящего на дверце шкафа, и вынес Владлену две бумажки.
— Вот спасибо! Выручил, по чесноку, выручил! За мной не заржавеет! Верну с процентами! Слово моряка!
— Ладно, о чём разговор! Не чужие.
— Ну, бывай! Всего тебе!
И Владлен, не попрощавшись ни с матерью, ни с бабушкой, ни с любимой, выскочил из квартиры.
Тут начали со стола таскать в мойку грязную посуду, и я принялся помогать, включив погромче «Био–Радио». Однако желающих возобновлять «дискач», не нашлось. Свистюшкина сидела на диванчике и обмахивалась газеткой, Колчин, разморённо, подрёмывал в кресле, Филатова испарилась в неизвестном направлении, Алик Мингазович, сбегавший за сигаретами, сосредоточенно курил на балконе. Лина о чём — то оживлённо и весело стрекотала с Леоной и Кариной.
Неожиданно, перекрывая музыку, послышался вопль:
— Где они? Где Фродо эти сволочи? Шлюха! Шалава! Давалка кривоногая!
Вопила спутница Владлена.
— Что ты, что ты? Какие сволочи? Не кричи! Что стряслось? — успокаивали её.
— Ты, …, давал ему деньги?
Вопрос адресовался мне.
— Да, двухсотку. Он же в Питерку поехал.
— В Питерку?! С… ли в Питерку?! Да он, …, литру бодяги у «таксёров» купил и спрятался с той потаскухой! Я ей всю харю обезьянью расцарапаю! А ему… оторву и на прищепке сушиться повешу!
— Заткни хайло! — закричала мама Зоя. — Здесь их нет! Надо лучше за… смотреть!
Жена брата пробежала на кухню, заглянула в ванную, но любимого супруга в объятиях Филатовой не обнаружила.
Все хором затараторили на повышенных тонах, а Свистюшкина пробралась к нам с Линой и сказала, что наверно Филатова увела Владлена к себе, в соседний дом.
— Да ну, — отмахнулся я, — не может быть!
— Сергей! Ты должен немедленно это прекратить. Ни разу в нашей семье похожих скандалов не случалось! — гневно причитала Наталья Васильевна.
Чувствуя, что от меня требуют, по меньшей мере, остановить землетрясение, я пожал плечами, пробормотал: «А я–то чего могу сделать?», и подошёл к орущим родственничкам.
Они, по–прежнему торча в коридоре, не обратили на меня ни малейшего внимания, а я бесцеремонно развернул мать к себе лицом, и напомнил, что они в гостях, и сцены отвратительные закатывать не следует.
— А кто закатывает? Никто не закатывает!
— Ага. Вы уедете, а я отдуваться останусь? Вы же утром клялись, буквально! Забыли уже?
— Отдуваться? Перед кем? Правильно, …, собралась интеллихенция, фу, ты, ну, ты, пальцы гнуты! А мы, вишь, простая неотёсанная дерёвня! Академиев не кончали!
— Идите на улицу и там выясняйте отношения.
Я подталкивал скандалистов к выходу, и они вскоре оказались на лестнице, где продолжили экспрессивно обвинять друг друга в смертных, и не очень, грехах. Спустя несколько минут галдёж их слышался уже со двора.
При моём появлении, в гостиной воцарилось гробовое молчание. Присутствующие взирали с осуждением и укором, словно бы я прилюдно совершил некий постыдный поступок и теперь горжусь содеянным.
— Серёж, отойдём? — предложила Лина, и мы прошли в спальню. — Я не шучу: безобразие надо прекратить. Прикажи им уже уехать. Свадьба ж завершилась. Ну, потолкуй с Владленом, путь одумаются…
— Приказать? Где он? Кому приказывать?
— Мы незаметно вместе со Светой дойдём до Филатовых, и если он у неё, то ты его выманишь.
Я начинал заводиться.
— Ну–ну, попробуем, давайте! Пошли.
Миновав двор, мы втроём очутились на филатовской площадке.
На наши звонки никто не отвечал. Тогда я стал колотить в дверь ботинком и кричать, что нам известно, где они прячутся, и будет лучше просто открыть, не доводя до серьёзного скандалища и вызова милиции.
Спустя минут семь к моим увещеваниям присоединились и Лина со Светой. Лязгнул засов, в образовавшуюся щёлку выглянула пунцовая Филатова, и изобразила на лице полнейшее незнание и непонимание. Мы почти хором потребовали привезти Владлена, и в итоге он, шатаясь, нарисовался за спиной хозяйки.
— На самолёт автобус занял, да? — сдерживая эмоции, обратился я к нему. — Ты хотя бы чуточку понимаешь, что ты сейчас творишь?
— А чего? Я не парюсь. Мы за ваше здоровье пьём. Безобразия не нарушаем. За жизнь базарим, общаемся…
— Общаетесь? Да твоя жена целый подъезд на уши поставила, истерику устроила, они с матерью драку готовы учинить. Это нормально?
— А я с какого бока тут?
— Что значит, «с какого бока»? Тебя фрау приревновала к Филатовой…
— Пф! Её проблемы…
— Честное слово, по–хорошему прошу. Пойдём с нами. Ну не порти окружающим праздник. Мне же завтра людям в глаза смотреть. Что я скажу? С лучшей стороны вы себя показали, ага? И меня подставили шикарно! И Лину! Молодцы!
— А те чё? Стыдно за братана? Да?
— Да, …! Стыдно, …, за ваш… дебош! Быстро собирайся, мирись с мамой, извинись перед супругой.
— Ага, щаз! В ноги, …, пал и землю есть начал! Потрещу с девушкой часик, а там….
И Владлен, оттолкнув меня, дважды повернул ключ в замочной скважине.
Мы ошалело замерли, Свистюшкина произнесла: «Ну, блин, офигеть вообще!» и направилась к выходу.
Встретивший нас Ложкин покачал неодобрительно головой:
— Вот от тёти Зои я подобного фокуса не ожидал.
— Слушайте, а пойдёмте гулять! — неожиданно подскочила Лина. — Пусть они тут без нас разбираются. Вернёмся, а всё уже и уладилось.
— Правда! — захлопала в ладоши Свистюшкина. — Самый лучший вариант. Жара спала.
Вениамин поддержал сие начинание, и мы всемером отправились к набережной. Прохладный ветерок с пруда успокаивал разгорячённые, взбудораженные мысли, и я старался не думать о произошедшем, наивно полагая, будто грозовая туча сама собой рассосётся к нашему возвращению.
Но Владлен не являлся бы Владленом, закончи он дело миром.
Когда мы, проводив Ложкиных на маршрутку, приблизились к дому, сражение полыхала вовсю. Бабушка, сидя на лавке, лила слёзы, а Владлен воспитывал супругу, норовящую его ударить. Не особо заморачиваясь системой Макаренко, он заехал благоверной кулаком по уху, и она, запнувшись о невысокий деревянный заборчик, вверх тормашками грохнулась в кусты. Прифронтовая полоса огласилась душераздирающими воплями: «Убивают!»
Кто–то из жителей, высунувшись с балкона, проговорил:
— Не, пора в похоронную милицию звонить! Угрохает он её…
Жена брата, выбравшись из зарослей акации, опять отважно бросилась на мужа, но и в этот раз он двинул ей настолько крепко, что она улетела в песочницу, визжа, словно подрезанная.
Зрелище оказалось не для слабонервных. Я затрясся от бешенства и, более не сдерживая ярости, понёсся вверх по лестнице, а Лина побежала за мной.
— Ах так?! Ну, я вам счас… покажу, где раки зимуют! Накушаетесь до отвала! И трави–вали, …, и ширли–мырли огребёте! — кажется, рычал я.
Тёща с бывшим супругом на меня не смотрели, брызгая ядом, издавали злобное шипение.
Сграбастав подарки родственничков в охапку, я рванулся к окну, намереваясь запустить их прямиком в пустые котелки скандалистов. Но Лина, не потерявшая пока хладнокровия полностью, и рассуждавшая здраво, повисла у меня на правой руке, Свистюшкина вцепилась слева, и вдвоём они не позволили мне совершить задуманное.
Метнув посуду обратно на диван, я накинулся на бабушку:
— Матушка–то куда делась?
— Ой, что было, что было! Они без вас форменное бесчинство устроили! Всех крыли матюгами, на три буквы посылали, бутылками швырялись, кричали и дрались. И Зоя тоже не отставала!
— Да ты мне скажи, куда она пропала–то?
Но никто не знал местонахождение мамули.
Я по наитию взбежал на шестой этаж, и пред очами моими предстало эпичное полотно: прямо на бетонном полу, у чужого порога, храпела мамаша. Схватившись за голову в ужасе от увиденного, я припустил в квартиру, выбрал чистый стакан, наполнил его холодной водой и выплеснул жидкость на маманю. Очухавшись, она что–то забормотала, но я, не мешкая, подхватил её подмышки и погнал вниз, честя на чём свет стоит. Дощатую лёгкую дверь подъезда не успели отворить, и мать от моего толчка в спину врезалась в неё, распахнула и вывалилась, скатившись по ступенькам, на улицу.
— Ну, ладно, сынок! За всё отблагодарил… — начала она, но я прервал её жалобы.
— Убирайтесь на хрен! Пошли к чёрту! Здесь вам не деревня, чтоб бузу заводить. Мне теперь, из–за ваших фокусов, до конца жизни сегодняшним днём в морду станут тыкать. Пошли вон, скоты! Вас в нормальное общество выпускать нельзя. Одна цель — нажраться до хрюканья и в душу нагадить!
Лина, наблюдавшая эту сцену сверху, когда я вернулся в комнату, рыдала, уткнувшись в подушку, а Свистюшкина её успокаивала.
Не сдержавшись, я снова принялся орать на старушку:
— Вот! К чему ты их привезла! Мы тебя просили? Давай, забирай эту шоблу к себе!
— Серёжа, зачем ты баб Катю–то обижаешь? Она же не виновата! — сквозь слёзы увещевала меня Лина.
— Не виновата? Они сами приволоклись, да?
— Вот спасибо тебе за заботу, дорогой внучек! Пожалеешь, да поздно будет…
И она вышла, крестясь и матерясь одновременно.
— Лин, вы с Сергеем меня проводите? Сумерки уже, страшно в одиночку добираться.
— Проводим, Свет. Умоюсь сейчас.
И мы отправились провожать Свету, да только, пройдя половину дороги, та очнулась и спохватилась, что забыла ключи на пианино. Пришлось возвращаться. Часы показывали без пяти одиннадцать.
Но повторно сопровождать Свистюшкину не позволили Наталья Васильевна с Аликом Мингазовичем. Они вызвались доставить Светлану до хаты, предоставив нам заниматься приборкой.
Мытье посуды прервала Наталья Васильевна, заглянувшая на обратном пути проверить темп наведения чистоты квартире.
— Ну и закатили вы «Второй концерт для баяна со скрипкой» спектакль! — заявила она мне. — Вот родственнички навязались! Значит, и ты нисколько не лучше! Лина, я, предупреждала тебя! Не пожелала мать с отцом слушать, вот, теперь нахлебаешься, до конца дней хватит! Серёженька у неё, видите ли, исключительный, лучший, любимый! Единственный! Надо же! Да подобных Серёженек на базаре в выходные пучками за рубль продают! Чтоб больше я их в своём доме не видывала! А всё остальное — утром!
После её ухода Лина, не стесняясь, взвыла, и, обняв меня, наивно вопрошала:
— Почему у нас так получается! Самое светлое, самое долгожданное событие в жизни, и то умудрились испоганить! Рок какой–то! Проклятие над нами! За что–о–о?
— Лин, милая, не расстраивайся, утрясётся помаленечку. Не мы первые, не мы последние. Вместе переживём.
— Не утрясётся! — всхлипывала девушка. — Моя мама этого не оставит!
Лишь около трёх утра мы с Линой закончили возиться с чашками, тарелками, с чисткой полов, и, упав на кровать, мгновенно заснули мертвецким сном, успев взяться за руки.
Знали бы мы, что день грядущий нам готовит!
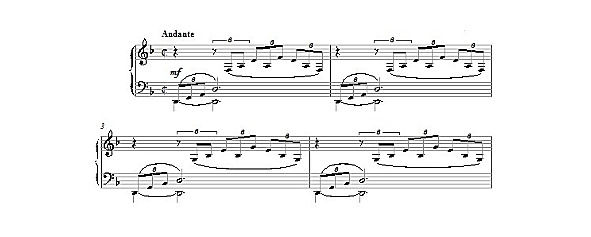
1В. Дорогой Илья Семёнович!
«…всё ли ещё служит
Старый наш учитель или нет»
Г. Полонский.
Драгоценные сэры, пэры и прочие мэры! А также юные, да и не слишком юные, друзья! Если по окончании педагогического института вы вдруг, по недоразумению, или присущей вам с детства блажи, любви к риску и самоистязанию, решили–таки зарабатывать на убогое существование преподаванием, то с моей стороны нелишне напомнить вам о некоторых вещах, характеризующих современный процесс обучения.
Во–первых, поскорее привыкните к мысли, что вы — обыкновенный, и не самый большой, винтик в системе предоставления образовательных услуг. Именно этим словосочетанием в настоящем и обозначают взаимодействие со школьниками. Поэтому с вашим персональным мнением не станут особо считаться ни родители, ни дирекция, ни, что неизбежно выводится из сказанного, подопечные.
Во–вторых, не забывайте правило, взятое на вооружение администрациями большинства учебных заведений: отрицательная оценка у ученика, это плохой показатель труда учителя. Будьте лояльны. Случись, Петя завуалированно, а вероятнее, открыто, пошлёт вас в пешее эротическое путешествие, без опаски нарисуйте ему в дневник «3». А лучше — «4», к вам же меньше претензий. Не беда, что Петенька — дуб дубом, и не в одном вашем предмете. Посылая вас далеко и надолго, он мило и беззлобно «самовыражёвывается». Не верите? Окститесь, уважаемые, мне не даст соврать его «яжемать». Мало того, молчание Петюни в ответ на вашу просьбу рассказать о Куликовской битве или строении атома, решительно доказывает то, что своими дурацкими требованиями вы запугали бедное несчастное дитё, доведя кроху до частичной немоты. Следовательно, начальство обязано провести среди вас разъяснительную работу. И ещё более замечательно, ежели демонстративную порку чиновники управления организуют и руководству сего богоспасаемого учреждения, посмевшему связаться с таким извергом, как вы. Дабы избежать очерченных выше неприятностей, излучайте оптимизм, смело ставьте хорошие отметки за красивые глаза, и почаще улыбайтесь, заверяя окружающих в своём полном согласии со всем происходящим. А не то цак заставят в ноздри вдеть и «ку» придётся исполнять на каждом шагу.
В–третьих, помните: директор и завуч в любой спорной ситуации встанут на колени позицию «яжематери» с её высокоодарённым отпрыском. Им намного проще попросить вас выложить заявление об увольнении по собственному желанию, и принять на освободившееся место более сговорчивого и покладистого сотрудника, чутко улавливающего модные реалии и предписания реформы среднего образования, нежели ежемесячно отбиваться от министерских проверок и отсылать в ведомство тонны никому не интересных, и никем не читаемых отчётов. Впрочем, сейчас количество документов исчисляют не тоннами, а мегабайтами. Разумеется, от сего факта не легче.
В–четвертых, зарубите на носу девиз передовой российской средней школы: «Учащийся всегда прав! Прежде чем усомниться в его правоте, посмотри пункт первый». И действуйте, исходя из указанного девиза.
В–пятых, избавьтесь от вредных иллюзий, будто дети идут в класс постигать новое. Они там делают, что угодно, только не учатся. Вы можете разбиться в лепёшку и трудиться на две ставки, положив болт на личную жизнь, ваши старания ничего не меняют, абсолютно не важны и не нужны в принципе. Вы тратите нервы ради очередной бессмысленной таблички, обречённой пять лет храниться нерассмотренной на пыльном сервере департамента.
В–шестых, попрощайтесь навечно со своим свободным временем. У вас его не останется совершенно. Вы будете заняты шесть дней в неделю. С восьми утра до часу дня. Или с двенадцати до семи. А уцелевший от сна и еды промежуток вы проверяете тетрадки, пишете конспекты, составляете графики, готовитесь к следующему дню, изобретая инновационные методы муштры. Что? Я писал об их ненадобности? Тонко подмечено! Однако, я не утверждал, что с вас их не спросят. Спросят. В хвост и гриву!
В–седьмых, восьмых и всех остальных обретаются сущие мелочи, о коих и заговаривать–то не следовало бы. Но не поленюсь и вскользь упомяну. К примеру, повышение голоса и призывы помолчать, пока излагается материал, равняются ныне моральному издевательству. Если вас, не дай Бог, кто–то из школяров толкнул, пнул, ударил, обматерил, и так далее, то виноваты в инциденте непременно вы. Ибо спровоцировали дитятко на проявление агрессии. Подобное же отхватите и от его папани–мамани.
Разумеется, среди посещающих школу найдутся и те, кому учиться интересно, но подавляющее дебилизированное большинство с чавканьем и довольным плотоядным урчанием переваривает эти единицы, вынуждая уподобляться основной массе. Погоды одиночки никогда не делают.
Отдельная песня — педагогический коллектив. Он, обычно, бабский. Почему? Женщины гораздо быстрее и безболезненнее приспосабливаются к самым неприятным условиям. На первое место они ставят выживание, а не соблюдение при этом древних дурацких максим. Естественно, мужчина тоже способен и махнуть рукой, и закрыть глаза на творящееся вокруг, но его будет глодать совесть, и он подчас отваживается взбрыкнуть. У дамочек с понятием совести проще, — оно, по сути, отсутствует. Наверное, это не хорошо и не плохо. Это факт, являющийся результатом воздействия на объекты внешних обстоятельств. А что же тогда главное в сарафанной компании? Пустячки: быть незаметным, не выделяться и не иметь индивидуального воззрения. Во всём соглашаться с руководством, строить ему глазки и превозносить до небес. Придерживаясь сих нехитрых правил, вы получаете шанс рассчитывать на некоторую прибавку к зарплате и покровительство.
В те далёкие, почти мифические времена, когда я начинал трудиться терпилой учителем, перечисленное выше носило зачаточный характер и проявлялось спорадически. Однако постепенно, год от года, реальных, взвешенных требований, основанных на опыте предыдущих поколений, становилось меньше и меньше. От них отказывались, как от вредных, несоответствующих либеральному этапу развития государства, и ущемляющих права детишек. О правах прочих — стыдливо умалчивалось. Система, исподволь, выхолостив себя до состояния самопожирания, принялась насаждать регионализации и инновации в малейшем чихе, принимая на «ура» любую аляповатую хрень. Лишь бы звучало красиво и непонятно. Не бралось в расчёт, что внедрение сплошь и рядом игровых форм и методов обесценивает суть знания, принижает его важность, не позволяет осмыслить информацию. Да и в долговременной памяти с таким подходом ничего не сохраняется. Ныне труд педагога низведён до уровня ведущего шоу. И чем оно красочнее, тем выше вас ценят.
Где вы, принципиальный и вдохновенный Илья Семёнович Мельников? Сколько недель продержались бы вы в затрапезной МОУСОШ города Пупыринско–Огурцовского? Какое количество проблем доставили бы вы директору и лично себе? Смогли бы вы собрать филиал «Комеди-клаб» в 11 классе? Ах, нет? Ну, извините. «Вы не вникаете в суть актуальной методики преподавания, вы не в силах организовать развлекательный учебный процесс, на уроках скучно. Развеселите их, в конце концов! Спляшите, спойте, Илья Семёнович, вы же отлично, говорят, поёте. Только не ветхого, устаревшего и неактуального Заболоцкого, а кого–нибудь популярненького. Да хоть, Стаса Михайлова. Его, ого–го, кто уважает! Устройте рэп–баттл, наконец, это невероятно популярно у мальчиков и девочек! Что значит, ваше призвание излагать материал, воспитывать? Вам никто и не запрещает нести свет просвещения. Но несите его с огоньком, с юмором, с шуточками! А вы чем занимаетесь? Вы же заставляете несовершеннолетних думать! ДУМАТЬ! Зачем им это? Вы выпали из реальности, Илья Семёнович, и кажется, безнадёжно. Не перестроились. Мыслить нынче совсем не обязательно. Достаточно научиться эмоционально реагировать. От дум — голова болит и пухнет. У слона она большая, пускай он и думает. Из думающего человека не получится квалифицированного потребителя. Думающий индивид попытается жить нравственно, по справедливости, по чести. Вы представляете перспективы ребёнка, решившегося жить порядочно? Вы же изуродуете ему судьбу! Он вас проклинать до самой смерти станет! Жить надо легко. Жить надо, наслаждаясь. Ведь он же этого достоин! И потом, господин Мельников, про воспитание необходимо забыть. Да, увы… Формирование личности — насилие над свободой. Пусть семья лепит из них граждан. А вам я давно хотел предложить вести „Курс молодого потребителя“. Научите старшеклассников правильно оформлять кредиты в банках, ипотеку, объясните, почему не стоит давать деньги в беспроцентный долг друзьям, растолкуйте всю привлекательность продажи своих способностей на рынке труда. Вот что им в жизни пригодится. А не ваш Шмидт или Маресьев».
Тот наивный вьюнош, коим я представляюсь себе теперь, никак не ожидал настолько глубокого погружения в доставшуюся ему роль учителя–предметника. Подписав мою челобитную о приёме на работу, директор, Штрафунова Владлена Семёновна, грузноватая женщина лет пятидесяти, познакомила меня с главой методического объединения преподавателей истории, Грачёвой Натальей Валентиновной. Штрафунова на то время занимала должность года два — три, Грачёва числилась в 15-ой — четыре.
«Пятнашка» среди подобных учебных заведений Тачанска ничем особым не отличалась. Не находясь на спецфинансировании муниципалитета, она обладала их типичными пороками. Призовые места конкурсанты выигрывали не часто, основной состав педколлектива устоялся, и влачил жалкое существование, не видя зарплаты по шесть месяцев. Само собой, костяк его состоял из дамочек возраста глубоко за тридцать, обременённых детьми и мужьями, содержавшими вынужденных иждивенцев.
Нового инвентаря, современных технических средств, в школу не поступало лет двадцать пять. Ремонты, и косметические, и достаточно серьёзные, проводились за счёт поборов с родителей. Мытьё полов техничками ежемесячно оплачивалось также карманов несчастных предков.
Промеж учащихся водилось несколько типов с уголовными наклонностями, перечёркивавших администрации все достижения. Однако поделать с ними начальство ничего не могло. Чувствуя полнейшую безнаказанность, наглецы творили, что вздумается. От выколачивания денег с малышей, до ночных погромов кабинетов. Вызываемые на беседы к директору, завучу, они, слушая угрозы и нотации, снисходительно улыбались и продолжали вытворять то, к чему привыкли. Исключать их никто не брался, а не перевести в следующий класс — означало скомкать показатели, поэтому тунеядцев перетаскивали дальше и дальше, стремясь поскорее доволочить до выпуска. А за ним следовало заявление мамаш обарзевших утырков о зачислении в 10-й, и отказать руководство тоже не решалось. Попытка скинуть альтернативно одарённых товарищей на домашнее обучение, была единственным шансом оградить детские коллективы от их разлагающего влияния. Правда, для сего требовалось отыскать нешуточные причины. И ошмётки, доводящие взрослых людей до предынфарктных состояний, без проблем сворачивали кровь окружающим. Как говорится: «Нету у вас методов против Кости Сапрыкина!»
Нехитрые секреты эти я постиг уже в течение первого же сезона. А последние деньки перед 1 сентября Грачёва запрягла меня в наведение порядка в шкафах с методичками, атласами, картинами и прочим бумажным хламом. Вышеперечисленное хранилось хаотично, и я начал с того, что разложил документацию по периодам, создавая попутно опись имеющегося.
Грачёва, гражданка весьма вальяжная и томная, избегала лишних телодвижений, предпочитая пользоваться чужими наработками. Любимым её времяпрепровождением являлось распитие кофия с многочисленными подружками, из которых она выделяла математичек: Филонову Дарью Михайловну и Крабову Викторию Максимовну.
Собираясь на переменах в лаборантской кабинета физики, они кипятили чайник и, отпивая из чашечек крохотными глотками, делали большие глаза и перемывали косточки сослуживцам, мужьям. Грачёва поправляла короткие светлые волосы, открывала форточку, закуривала и печально повествовала о далеко не радужных отношениях с супругом, совершенно её не ценившим, а вовсю крутившим романы с юными продавщицами его магазинов.
Разведёнка Вика, маленькая, худая стервозная женщина с прокуренным грубым голосом и длинным носом, любительница выпить не только кофейку, а и кое–чего покрепче, сочувственно убеждала Грачёву завести молодого любовника. Филонова загадочно улыбалась и помешивала ложечкой сахарок в кофе. Её семья считались близкой к идеалу, что, однако не помешало ей вскоре попытаться охмурить Костю Герлова, не принявшего её ухаживаний и не оценившего приносимой жертвы со стороны 36-летней особы, имеющей ребёнка.
Общешкольный педагогический совет состоялся 31 августа.
— Уважаемые калеки коллеги, — взяла слово Штрафунова, — я с удовольствием представляю вам нового учителя гуманитарных дисциплин. Максимов Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, встаньте, чтобы Вас все видели. Он будет работать с 5, 6, 10 и 11-ми классами. Сергей Васильевич взялся вести «Историю», «Основы государства и права», «Основы экономики». В общей сложности — 30 учебных часов. Это — немало, но он справится. Диплом у него почти красный.
— Это как? — засмеялся костлявый бородатый физик Жбанов. — В полосочку?
— Лишь одна отметка воспрепятствовала Сергею Васильевичу вытянуть окончание института на «отлично. Но я уверена, у него большое будущее в нашем дружном и высокопрофессиональном коллективе. И, конечно, мы возлагаем на нового сотрудника определённые надежды.
Да, они возлагали на меня надежды, но, едва я начал воплощать их в жизнь, — схватились за головы. Ибо их надежды по ряду позиций заметно расходились с моими. Ожидания администрации не выходили за пределы связки «хорошие результаты учеников — знание предмета», мои во главу угла ставили «привитие детям любви к истории, понимание её», и закономерно проистекавшее из названного, выведение положительных баллов.
К сожалению, нехилая нагрузка не позволяла углубляться в новаторство. Решались исключительно повседневные рутинные задачи. Творчество же предполагает наличие некоего количества времени, и не любит работы в авральном режиме.
5-е и 6-е обучались во II-ю смену, а 10-е и 11-е — в I-ю. Расписание из–за непрофессионализма ответственного лица и нехватки свободных аудиторий компоновалось коряво, и я, уходя утром в школу, возвращался обратно не ранее половины седьмого вечера, таща баул с ученической мазнёй, и еле волоча ноги от усталости. Говорить я не мог, горло после длительного вещания на повышенных тонах, жгло огнём, и оно чудом слегка восстанавливалось к утру. Пристроив дипломат с учебниками в коридоре, я переодевался, заваривал сосиску с бич пакетом (бабушка не напрягала себя приготовлением пищи) и, орудуя ложкой, брался за проверку пятидесяти — шестидесяти тетрадок, на что тратилось около 90 минут. Затем обкладывался книжками и принимался за составлением конспектов. Если на завтра стояли занятия в 1 — 2 параллелях и по одному курсу, то я управлялся сравнительно быстро. Ну, а в трёх — четырёх, то завершал писанину к 00:30. Поднимаясь поутру в шесть, вновь заливал кипятком китайскую лапшу и сарделькой, и в 07:30 выруливал из квартиры. И так — пять дней в неделю. Вторник выделялся для методических изысканий, и я, отсыпаясь, обретал возможность поехать в центр, в учительскую библиотеку. О каком творческом подходе при подобных объёмах можно рассуждать без смеха? Типичный рабочий день выглядел следующим образом: 2 урока по «ИДМ», 2 — по «ИР», 2 — «Права». Иногда варьировалось, т.к. «Право» поставили в план 1 раз в неделю, «Экономику» –1. «Историю» в 10–11 классах по три раза, в 5—6–х по два.
— Разрешите представиться, — с хрипотцой в голосе заговорил я, скрывая трясущиеся от нервного напряжения руки, — меня зовут Максимов Сергей Васильевич, я буду вести у вас «Историю России», «Экономику» и «Право». Сперва предлагаю познакомиться, поэтому сейчас стану называть по журналу фамилии, а вас прошу подниматься при этом. Кстати, где список?
Прохаживаюсь от стола к двери и обратно.
— А у нас ещё нет журнала! — кричит кто–то с места.
— Странно, а когда же появится?
— В следующий понедельник, примерно.
Невыспавшиеся, сонные, зевающие лица. Кому–то с похмелья. У некоторых на партах тощие тетрадки и пеналы. Иные роются в сумках. Девчонки заинтересованно пялятся.
— А талоны на усиленное питание учебники вам выдали?
— Да нафиг они вообще сдались. Я спать хочу!
— Неа, учебников в библиотеке нету. А покупать, — родители не миллионеры.
— Ладно, с книгами порешаем. А теперь давайте–ка приступим к занятию. Для начала попытайтесь припомнить изученное до летних каникул.
— А расскажите про себя! Вы женаты?
— Да мы ничего не изучали! После третьей четверти Михал Петрович уволился.
— А до того?
— А мы всё забыли!
— Значит, постараемся оперативно записать то, что потребуется для освоения нового курса. Тема у нас сегодня — «Начало Великой Отечественной войны». Но перед этим материалом необходимо выяснить, какие именно государства уже оказались захваченными Германией к 1941 году. Кто–нибудь знает?
Реплики:
— Африка!
— Америка!
— Гондурас!
— Беларусь!
— Сибирь!
Стараясь не унывать, шучу:
— Неужели Африка и Сибирь стали странами?
— Ага!
— А если серьёзно?
— Да не знаем мы ничё!
— Тогда открываем тетрадь и переписываем с доски название.
— А я тетрадку посеял по дороге. Пакет, …, порвался.
Хохочут.
— А я ручку дома оставил!
— У кого не в чем или нечем писать, попросите листок и карандаш у соседей.
Минут пять уходит на то, чтобы у всех отыскались бумажки и письменный прибор.
— Итак, территории, завоёванные фашистской Германией к 22.06.1941. Франция, Польша…. Кстати, кто озвучит дату нападения Германии на СССР?
Недоуменное молчание. Переглядываются. Стриженый пацан с дальней парты первого ряда орёт:
— 9 мая.
Симпатичная, внимательная и догадливая девушка, произносит:
— 22 июня 1941 года.
— Умничка! Молодец.
— Вау! Ерохина уже — «умничка»! Быстро! А–а–а!
— А вот Россия сдалась бы, пили б щас пиво немецкое и жили, как в Америке.
— Сомневаюсь. Разве что в виде перегноя, компоста.
— А что такое перегной?
И тэ дэ, и тэ пэ! К звонку я мог смело выжимать рубашку и пиджак. Затем приходили следующие, и повторялась, мало отличающаяся от предыдущей, сценка.
По поводу литературы обращаюсь к директору.
— Да, — подтверждает она, — пособий в школе не хватает. Город не закупает. Но один на троих наскребём, не волнуйтесь.
— А с чем же они домашнее станут выполнять? С одним учебником на троих?
— Это исключительно от вас зависит, Сергей Васильевич. Проявите изворотливость находчивость, смекалку. Вы же институт закончили. Рассмотрите целесообразность выдачи задания на дом.
— По «Экономике» и «Праву» тоже нет?
— Нет. Откуда?! Ранее они не преподавались.
Мысленно проклинаю тот день, когда я ступил под своды сего дурдома.
— Да, кстати. Вам необходимо до субботы представить программы по вашим предметам на утверждение Марии Гедеоновне.
— Где ж я их возьму? Я был уверен, раз вы меня нагружаете этими дисциплинами, то уж расчасовка–то в наличии.
— Найдите где–нибудь. У друзей поспрашивайте. В конце концов, сами составьте. Но в названный срок положите готовенькое на стол Должниковой.
Не отходя от кассы, звоню Пушарову. Он — завуч, вдруг выручит.
— Нет, — бодро рапортует Сашка, — у нас точно не водится. Позвони на факультет, к Маслову, может, там что–то посоветуют.
— Зашибись!
Вылавливаю Грачёву, как руководителя объединения.
Она пучит глаза, отрицательно качает головой, и отворачивается к зеркалу подправить помаду:
— Выкручивайтесь. Вам зарплату платят.
Выцепляю на бегу двух наших предметников, Бодрову и Маломерову. Но им не до моих проблем. И они ничем помочь не в состоянии.
До трёх ночи сижу, составляю проект. Один, другой. В пятницу отношу Должниковой.
— С чем пожаловали, Сергей Васильевич?
— С планами по «Основам экономических знаний» и «Праву».
— Ну, это не ко мне! Вам к Плашкиной. Учебно–методическим процессом она занимается. Но её пока нет. Будет в понедельник. Вы оставьте бумаги у неё на тумбочке. Хотя, постойте. Дайте, взгляну. О, нет! Неправильно. Поначалу должна идти пояснительная записка, а уж потом остальное. Надо переделать. И оформлено не в соответствии со стандартом.
Переделываю за воскресенье, и несу Плашкиной. Вероника Борисовна берёт, листает.
— Вообще–то, Сергей Васильевич, служебные документы полагается печатать. Я абсолютно не ориентируюсь в вашем почерке. Есть у вас печатная машинка или компьютер? Нет? Тогда подойдите к секретарю, она возьмётся.
Спускаюсь в секретарскую. Объясняю ситуацию. Секретарша считает листы и называет цифру. Мнусь, но соглашаюсь, ибо иного выхода нет.
— Гони Деньги сразу.
— Ох, у меня нет с собой такой суммы. Завтра занесу. А когда готово будет?
— Ну, на следующей недельке напомните.
— А пораньше никак?
— Никак. У меня и своих дел навалом.
Из–за двери слышится голос Владлены Семёновны:
— Сергей Васильевич, загляните, пожалуйста, ко мне на минутку.
Заглядываю.
— Вы в пятницу должны были отчитаться по разработкам по «Экономике» и «Праву». Надеюсь, Вы справились?
Обрисовываю картинку.
— Нет, Сергей Васильевич, так не пойдёт. Составляя программы самостоятельно, вы обязаны согласовать их в рабочем порядке с методистом городского Управления. А уж затем представить Плашкиной на подпись. И необходимо в считаные дни провернуть это. Мы совершаем должностное преступление, дозволяя проводить курс без учебной документации, вы же понимаете…
— Что же делать?
— Не знаю. Ускорьтесь. Вы человек с высшим образованием, подумайте.
Начало трудовой деятельности оказалось бодрым.
Разумеется, ни через неделю, ни через две, поурочные таблицы мне не утвердили, и теорию я выдавал по примерному плану. Дети занимались без учебников, на слух, под запись. Хорошо, хоть по «Истории России», по книге на троих всё же выделили.
— Сергей Васильевич, — услыхал я в октябре от Плашкиной, — классные руководители завалили нас жалобами. Почему Вы учащихся оставляете после уроков?
— Да они являются без подготовки, и ни бэ, ни мэ. А тестовые работы? 50% не могут выполнить элементарные, простейшие задания. Вот и приходится…
— Если ученик затрудняется ответить на вопрос, значит, он для него слишком сложен. Нужно упрощать. Пересмотреть подачу материала, обновить форму контроля. Требуется уделять больше времени индивидуальному подходу. Посоветуйтесь с Грачёвой, у неё в закромах профессиональных наработок поройтесь, она не вчера в школу поступила.
Бесспорно, недовольство Марианны Борисовны имели под собой основания. Со второй половины сентября у моего кабинета регулярно стала собираться очередь из тех, кто желал исправить полученные «двойки». Они по одному рассказывали то, за незнание чего и схлопотали плохую оценку.
Постепенно, благодаря чрезмерному рвению и неоправданной принципиальности, я прослыл самодуром, зверем, самодовольным недоговороспособным типом, а у школоты заслужил кликухи «Макся» и «Очкастый». В конце декабря дамочки, взбешённые падением показателей успеваемости, принялись наседать на меня один за другим, убеждая, что подобным образом поступать нельзя. Но уговоры не спасали, и они жаловались Штрафуновой или Должниковой.
По окончании первого моего года, я, вместо того, чтобы, равняясь на передовиков производства, точить лясы с подружками и гонять чаи, весь июнь по четыре часа в день возился с неуспевающими.

Усилился контроль со стороны завучей. Они несколько раз в неделю высиживали на «Истории», не обнаруживая, однако, в методах ведения ни малейшей крамолы.
Наивно было бы предполагать, будто я гнул свою линию чересчур категорично, бездумно и не шёл на компромиссы. У любого самого последнего лодыря и раздолбая всегда имелся шанс исправить «неуд» на «отлично». Беда в том, что, привыкнув получать удовлетворительные отметки на халяву, многие намеревались привычный трюк обстряпать и со мною. А классные наставники всячески поддерживали таких учеников в их стремлениях. Ни о каком единстве коллектива не то, что речи не шло, об этом вообще глупо упоминать.
Ярким подтверждением данного тезиса являлась позиция учителей по поводу более чем полугодовых задержек зарплаты.
Но прежде — говорящая статистика. В описываемый период в Нижнем Тачанске, по данным гестапо МВД, насчитывалось 403000 человек. Реально, конечно, проживало больше, ведь некоторые обитали тут безо всякой регистрации. Из указанных 403 тысяч — 47% составляли мужчины и 53% — женщины. Смертность превышала рождаемость на 200%. Большая часть населения трудилась на крупных градообразующих комбинатах, доведённых реформаторами до плачевного состояния. Долги по заработной плате на заводах оборонного комплекса достигали в среднем от 8 до 12 месяцев. Не выдавались в срок пенсии. Долг города только бюджетникам к лету вырос до 380 млрд. рублей. Открыто поговаривали, что поступающие из центра и области деньги, прокручиваются в коммерческих банках, а мэр, не стесняясь, отдыхал на курортах Швейцарии, Италии, приобрёл домик в Шотландии.
К июлю, когда педагоги обычно уходят в отпуска, проблема обострилась в связи с необходимостью выплат отпускных. К тому времени профсоюз работников образования угрожал администрации общегородской учительской забастовкой и отказом от работы с 1 сентября. Загорелый градоначальник в перерывах между заграничными турами принимал делегации тружеников и, не смущаясь, распинался об отсутствии средств в казне, о невозможности даже частично рассчитаться в ближайшие четыре месяца.
— Бастуйте, сколько влезет, поступления появятся, возможно, не ранее октября–ноября. Вся вина за срыв учебного процесса полностью ляжет на ваши плечи, и мы вынужденно поставим вопрос о профессиональном соответствии ответственных за это лиц. Да, полагаю, ФСБ тоже не станет топтаться с растерянной физиономией, а обсудит с саботажниками их действия.
После подобных бесед число предприятий и школ, желающих перекрыть федеральную трассу, железную дорогу, или просто не приступать 1 сентября к работе, резко снижалось.
Мой товарищ, Фрол Беговых, чей отец пахал на урановых рудниках «оборонку», а мать трудилась на железной дороге, зачастил к нам с просьбами дать взаймы. Питались они тогда, в основном, варёной картошкой и кипячёной водой. На заварку, соль, сахар и хлеб финансов уже не оставалось. Временами выручали халтурки папаши, но в целом будущее им виделось беспросветным. К сожалению, постоянно одалживать им деньги мы тоже не могли, т.к. выходя в отпуск в июле, я ещё не видел ни гроша за январь, не говоря уж об отпускных. С бабушкиной пенсии мы закупали лишь лапшу, сосиски и маргарин. Я влез в долги, отдавал, которые, потом долго и тяжело. Мизерной зарплаты молодого специалиста не хватало и на две недели. Помогали мы Беговых картофелем, рисом, иногда одаривали бутылкой подсолнечного масла. Чаи Беговых гонял у меня за картишками. Ситуация в их семье, состоящей из четырёх человек усугублялась наличием собак. Одна, мелкая рыжая дворняга, пищи требовала мало. А вот вторая, помесь шотландской и немецкой овчарки, напоминавшая размерами небольшого телёнка, без мяска чахла. Заскакивая к ним в гости, я поражался худобе псины. Почёсывая его, я представлял, что провожу рукой по старой гладильной доске, настолько выпирали рёбра у бедного Рэма. Пса, необычайно доброго и ранее могучего, шатало от голода. Он часто просто лежал в углу, и взирал на приходящих с надеждой в умных печальных глазах. Шерсть его клочьями валялась по всем комнатам. Собственно, появился он у них абсолютно случайно. Их давний знакомый, спасаясь от такой жизни в Германию, не имел возможности увезти с собой Рэма, и Беговых, сжалившись, не стали усыплять животное.
Осенью Фрола неожиданно загребли в армию. Это представлялось верхом абсурда, ведь зрение Фрола было ненамного лучше моего, примерно -6 диоптрий.
Его мама, Лилия Феоктистовна, желая проводить сына с шиком, взяла кредит. На его погашение впоследствии она со слезами занимала у многочисленных родственников, очень скоро переставших её пускать дальше порога.
Шоком для Лилии Феоктистовны явилось триумфальное возвращение Фрола с призывного пункта, откуда парня завернули бдительные врачи, попутно матюгнувшись в адрес тачанских коллег–эскулапов, отправивших юношу с миопией служить.
Учитывая серьёзное материальное положение педколлективов, руководство муниципалитета пошло им навстречу, и в качестве жеста примирения предложило выдавать взамен денег продуктовые пакеты из мясных и рыбных консервов, круп, овощей, бакалеи. Согласившиеся, быстро о том пожалели, т.к. в первой же партии выданных товаров обнаружили просроченные продукты. Корнеплоды, по преимуществу, втюхали подгнившие, муку и макароны — лежалые и с жучками, а банки — опасно вздувшимися.
Штрафунова подняла вопрос о взаимозачёте на плановом совещании, но большинством голосов подачку отклонили. Несмотря на отчаянную обстановку, профком демонстрировал бессилие в координации действий учителей. Складывалась парадоксальная картинка: чем безнадёжнее становилось, тем меньше стратегического понимания и солидарности по отношению к соратникам проявляли педагоги. Каждая отдельная школа почему–то считала себя особенной и надеялась на призрачные преференции в случае штрейкбрехерства. Именно в тот период у меня и сложилось твёрдое убеждение, что учительство превратилось в аморфную продажную массу с низкой социальной ответственностью.
Инициируя протестные акции, городской комитет рассчитывал на голосование, но инициативу поддержало не более трети образовательных учреждений. Даже училища зачем–то озвучивали индивидуальные условия, борясь, практически, в одиночку. Общим фронтом на защиту своих интересов преподаватели Тачанска не выступили ни единого раза.
Не наблюдалось согласия и внутри коллективов. Рассуждали весьма мещански:
— А у меня муж нормально получает, нам хватает. В гробу я видала вас вашу забастовку. Пускай нищие бастуют. Мне часы важнее.
И сходных мнений придерживались не единицы. Младшее звено никогда не поддерживало среднее и старшее, между ними непрерывно шли мелочные разборки, свары. Перманентный разброд и потакание персональным эгоистическим интересам проваливали весь замысел. Вместо бессрочной всеобщей стачки принималось, к примеру, постановление о, выпадающей аккурат на обеденный перерыв, непродолжительной приостановке деятельности. Разумеется, ни Управлению образования, ни мэрии, от смехотворного решения было ни жарко, ни холодно.
Зато дамы, пользуясь свалившейся на них свободной минуткой, запирались в лаборантских и попивали чаёк да кофе со сливками.
Тяжелее всех приходилось матерям, в одиночку воспитывающим детей. Они, без преувеличения, балансировали на грани нищеты и вымирания. Некоторые из них вынужденно шли от безысходности на крайнюю меру, — на голодовку.
В школе №15, где я трудился, одиночную голодовку объявила, доведённая до полного отчаяния и беспросветной нищеты Семёнова Лариса Константиновна. По иронии судьбы, Семёнова занимала должность профсоюзного босса, и поначалу старательно сбивала волну возмущений задержками выплат. А вскоре и сама оказалась не в состоянии выделять деньги на обеды младшей дочери–шестикласснице, оплачивать квартиру, отчего под давлением обстоятельств и заняла непримиримую позицию.
Противостояние проходило при дежурном враче, и длилось три дня. Затем щедрая рука городской управы бросила ей подачку в виде месячной зарплаты, и благодарная Семёнова от пролонгирования провокационного демарша отказалась.
Я внимательно присматривался к обстановке в коллективе, наблюдал за коллегами, делал выводы и пришёл к убеждению, что людьми здесь повелевают эгоизм, личные амбиции и корысть. Ради товарища никто и пальцем о палец не ударит, если это не принесёт никакой преференции. Каждый заботится о сохранении и упрочении собственного положения, и цели для этого избираются, подчас, не слишком достойные.
К июню, когда грянула пора экзаменов, у меня произошла стычка с Грачёвой, заявившей директору о своём непосредственном участии в подготовке одиннадцатиклассников, получивших право пройти аттестацию путём защиты рефератов. Якобы целый год с ними мучился не только я, чьими подопечными они считались, но и она, Наталья Валентиновна, хотя мне было доподлинно известно, что Грачёва впервые приобщилась к их наработкам незадолго до конференции. Однако в её отчёте на голубом глазу значилось, будто в течение всего периода она в поте лица натаскивала моих выпускников, обучая их научным принципам индивидуальных исследований. Я не решился выносить мусор из методобъединения, а просто в приватной беседе высказался, мол, прежде чем сочинять рапорт о достижениях за определённый период, неплохо бы, в угоду приличию, вначале ознакомиться с содержанием разработок.
Состроив гримасу, зардевшаяся Грачёва напомнила, что объединением рулит всё–таки она, а, следовательно, и заслуги состоящих в нём, являются и её заслугами тоже.
В общем, итогами одиннадцатых классах, я остался доволен. Выступления с творческими презентациями докладов прошли хорошо. Те, от кого я ожидал многого, не разочаровали. Правда, и филонящие большую часть учебного времени, и внезапно воспылавшие неуёмным стремлением сдать «простой» предмет, также полностью оправдали ожидания. Для них стало неприятным открытием, что отвечать «Экономику» или «Право» не столь уж и легко. Подавляющее число тех, кто учился кое–как, испытание слили.
Однако подобный исход дела не соответствовал их запросам, и после окончания совещания экзаменаторов, они едва не вынесли в окно комиссию, состоящую из меня, Маломеровой, Грачёвой и Русловой, требуя пересмотра оценок. К их претензиям подключилась и Лельникова, их наставница, придав сей безобразной сценке совершенно абсурдный вид. На шум пришла Штрафунова и, выяснив, из–за чего разгорелся сыр — бор, волевым решением распорядилась порвать старый протокол и увеличить всем сдававшим отметки на один балл.
Я отказался подписывать второй экземпляр, а остальные приняли происшествие за нечто естественное, и взяли под козырёк исполнили приказ директора. Меня просто не вписали в новый документ, следовательно, и нужда в моём автографе отпала.
Завизировав бумагу, Руслова во всеуслышание меня припечатала:
— Вы чересчур неопытны, поэтому не можете объективно и справедливо оценивать ответы. Надо сознавать: дети с этими результатами пойдут дальше. Не стоит портить им жизнь в самом начале.
— Не обращай внимания, — дал дружеский совет Сашка, когда они с Южиновым наведались ко мне с бутылочкой водки. — У многих старых кошёлок, долго трудившихся учителями, наблюдается профессиональный перекос. Ничего обидного здесь лично я не вижу. Расценивай столь прямолинейные уколы, как товарищескую критику.
— Критика — критикой, но, по–моему, не корректно так заявлять в присутствии, и учеников, и других преподавателей, — парировал я, тщательно чистя очередную картофелину.
Пушаров вывалил потёртую морковку на нагретую, зашипевшую, сковороду и согласился с моим доводом:
— В этом ты, дружище прав. Но, понимаешь, есть особая разновидность людей. Они, вроде и умны, и вежливы, и тактичны, а показать это окружающим не в состоянии.
— Да ты бы в сторонку её отвёл, — предложил, в присущей ему циничной манере, Южинов, — и напомнил перечнице, что Иван Грозный за аналогичные замечания на кол саживал. Гы–гы–гы!!!
Саша и Куприян стали заезжать значительно реже, и причина абсолютно прозрачна и легко объяснима их загруженностью. И всё же, хотя бы раз в каникулы они старались выбраться, навестить приятеля и распить вместе с ним купленную в складчину бутылку, а то и две.
Информацию, что из Питерки меня зазывают на освободившееся место, они выслушали скептически.
— Решай, конечно, сам, — разливая ледяную беленькую по вмиг запотевшим рюмашкам, прокомментировал Пушаров, — но вдумайся, хрена ли тебе там ловить? Перспективы, возможности — нулевые. А с жильём–то как?
— С жильём плохо.
— Ну вот, видишь. А в городе через год сдашь на категорию, и… Ты обмозгуй без эмоций одну идейку. Меня тут ангажируют летом скататься в Бургундию, на сбор винограда. Условия обещали достойные. Всё заманчивее, чем полгода нищенствовать, дожидаясь объедок господской трапезы.
— Секс–рабом нашему Пушарову не терпится стать, — гоготнул Южинов. — Насядут изголодавшиеся француженки, залюбят до смерти!
— Кто о чём, а Куприян о бабах! Ну и сиди на заднице ровно, жди, пока милостыню подадут.
— Мне–то, может, и милостыню, зато на Родине. А ты поедешь во Францию, а приедешь в Чечню. Заставят дворцы дудаевцам строить, да в яме спать. Кавказский пленник! Ну, намахнули, братцы!
С жильём, действительно дело обстояло хреновато. Изгнанный за беспробудные пьянки из бабушкиного дома, Владлен, перебрался к себе, а в избу вселились квартиранты. Подобная рокировка позволяла бабушке не болтаться регулярно в Питерку, а наезжать туда пореже. К сожалению, квартиросъёмщики оказались не лучше Владлена, и предпочитали жечь хозяйские запасы дров, не тратясь на закупку собственных.
Съехав весной, они оставили груды бутылок мусора и пустые дровяники. К следующей осени дровишек не сохранилось совсем. Поленницы, ранее возвышавшиеся у стен и у ворот, словно корова языком слизнула.
Туров, заглядывавший на кружку чая чаще прочих, составлял мне компанию в игре в шахматы. Я, к описываемому периоду, почти растерял все навыки, но достаточно быстро восстановил, если и не прежний уровень мастерства, то, его тень. Первые несколько поражений заставили меня сконцентрироваться и вспомнить дебюты, защиты, эндшпили, и в итоге средний счёт баталий неизменно равнялся 2:1 в мою пользу. Анализируя позднее записи партий, я пришёл к заключению, что Пашке не хватало стратегического мышления и умения просчитывать вперёд более чем на два хода. Он попадался в очаровательно простые ловушки, хотя изматывал противника довольно сильно и бился до последнего, не сдаваясь и в самой безнадёжной позиции.
Выдержав в школе один год, Туров сбежал в училище, но и там продержался не долго, мучительно прикидывая, куда бы можно пристроиться ещё. К счастью, родные его не бросили, а порекомендовали Пашу знакомому барыге, державшему магазин автомобильных запчастей, в качестве продавца. Я готовился открывать третий учебный сезон, а Туров изучал каталоги комплектующих к японским тачкам и изводил меня цитатами Радзинского. Просмотрев по ТВ ряд его выступлений, он мгновенно преобразился в горячего поклонника сего горе–историка, заменив экстравагантными тирадами драматурга, заметно поистаскавшуюся ложь Резуна.
Новым откровением вечно колеблющегося приятеля, стремившегося донести до непосвящённых свет истины, стал вывод, зародившийся в закипающих от воздействия «ящика», Пашиных извилинах: «России не нужна армия. Вооружённые силы требуется странам, имеющим интересы. А раз у России нет врагов, следовательно, нет и интересов, которые необходимо защищать от неприятеля и отстаивать. Козырев — лучший министр иностранных дел, он сумеет разрулить любую сложную ситуацию, а войска надо распустить. Слишком дорого они обходятся государству!»
Железная логика! Я похихикал в кулачок, мысленно покрутил пальцем у виска, да порадовался, что данный словесный понос прошёл незамеченным мимо Южинова, вполне способного, за не блещущие разумностью утверждения, скинуть Турова с девятого этажа, и потом заявить: «раз мозг не пострадал, то усё так и було!»
Услыхав об инициативе Саши скататься до виноградных полей Бургундии, Туров, причмокивая, подёргал губами влево, вправо, присвистнул и важно изрёк:
— Жить ему надоело, что ли?
Изредка Туров пересекался с Пустышкиным, в те месяцы бывавшим у меня в гостях не часто. Он считался чересчур занятым, ибо страдал. Нет, я, пожалуй, преуменьшаю. Он СТРАДАЛ! Ольгердовская школьная любовь неожиданно отбыла на ПМЖ в Германию, где вскоре вышла замуж и родила ребёнка. Нехитрые матримониальные планы Ольгерда в одночасье рухнули, и он находился в затяжной депрессии, из коей его выводили лишь приглашения на рюмашку «Рябины на коньяке», да отпущенные в долг «шуршики», обычно им не возвращаемые.
Постоянным партнёром в картишках являлся Фрол Беговых. Проживая по соседству, он, выгуливая перед сном пса, заруливал ко мне. Пока, Рэм, тяжело вздыхая, отлёживался в коридоре, Фрол, тасуя колоду, выпивал стакан чая, съедал пригоршню печенюшек.
Лилия Феоктистовна, однажды, когда в семье не осталось денег даже на проезд до станции, в сумерках пришла к бабушке Кате, притаранив в рукаве мутноватую самопальную, до ногтей на ногах продирающую, настоечку. Она надеялась, подпоив старушку, вытянуть взаймы необходимую сумму. До будущей зимы. Замаскировала Лилия Феоктистовна основную цель визита бравурными медоточивыми обещаниями познакомить меня с «ах, какой замечательной девушкой», недавно устроившейся у них в мастерских драить полы.
— Свидитесь, а там, глядишь, и свадьбу сыграем. Юля, она такая безотказная добрая, отзывчивая, красивая. Глаза — ух! Цыганские! Зыркнет, сердце останавливается! Мужики наши увиваются! Правда, Фрол?
— А я почём знаю, я и видел–то её один раз, да со спины. Фигурка, кажись, нормальная, не разглядел толком. Темно у вас в цехе.
— Ничё, ничё, — успокаивала Лилия Феоктистовна и подмигивала мне, — встретишь, непременно влюбишься. Единственно, предлог бы хороший сочинить для твоего приезда.
И она подпирала подбородок ладонью, на минутку умолкая в задумчивости.
— А зачем темнить? Давайте приглашайте её, мы стол накроем, бутылочку купим, — прямолинейно выдавал я, вращая ножик на клеёнке.
— Да она скромница невероятная, ты что! — ахала с укоризной Беговых, отламывая от булки кусок пшеничного хлеба размером с кулак. — Вот если бы ты напросился к ней на стрижку… Юлька–то — парикмахер. Это она поссорилась с парнем, сбежала от него, и к нам перешла робить, пока он её ищет. Да, собрала манатки, и смылась от гада. Представляешь! Полтора года он пьянками её мучил. Бил! Хлестал! Скотина!
Я в душе скептически хмыкнул, но стоически отмолчался. В тот раз Беговых ушла от нас не с пустым кошельком, отчего конкретной договорённости по «невесте», достичь не удалось. Бездарно проваляв ваньку три месяца, я, отрастивший изрядный хаер, наконец, намекнул Фролу при встрече, что созрел к посещению «цыганочки». Фрол пообещал уточнить у матери, и через день, забежав переброситься в «подкидного», раздосадовано развёл руками:
— Мама говорит, проспал ты своё счастье. Юля уже с кем–то сошлась. Ну, сам виноват, раньше почесаться следовало!
В связи с отсутствием по сему поводу разочарования, делать приличную мину при плохой игре не пришлось. Вскоре за очередной порцией выполненных мною контрольных собиралась заехать Светка Мутилова, на которую у меня сложились определённые виды, а накануне почтальон доставил долгожданное письмо от Китайченко. Посему, о потере мифической Юльки я до поры, до времени не горевал.
Мутилова Светлана Петровна, или по–простецки — Светка, происходила родом из небольшого села Мокрого, стоящего в пятнадцати километрах от Питерки. Её бабка, Варвара Геннадьевна, являлась сослуживицей бабушки Кати. Около десятка лет они служили счетоводами в деревенской заготконторе, и считались закадычными приятельницами. После выхода на пенсию, дружба их не прекратилась и они, то одна, то вторая, изредка наезжали друг к другу в гости. Вместе ходили по грибы, за черникой, брусникой и клюквой.
Я не имел никакого представления о Светке, ибо бабуся её с собой в Питерку не привозила. Светлана, моя ровесница, по окончании девятого класса поступила в педучилище (мы обзывали его — «педулищем», а выпускниц — «педульками») на учителя начальной школы, и спустя год с моего переезда в город, вернулась в Мокрое, приступив к работе по специальности. Однако полученного средне–специального образования ей показалось недостаточно, и, провозившись с малышами пару лет, она решила обзавестись дипломом о высшем. Удачно сдав экзамены, Мутилова была зачислена на заочное отделение исторического факультета Тачанской педагогической академии. Сочетая труд с учёбой, Света выбиралась на сессии, устраиваясь на период сдачи у знакомых или в общежитии.
К нам Мутилова стала заезжать в связи с возникшими у неё в институте сложностями. Как я упоминал выше, наша профессия не предполагает наличие у человека свободного времени. Вот и Светка столкнулась с данной загвоздкой. На выполнение контрольных, самостоятельных, зачётных и прочего, сил почти не оставалось. Бабушка Катя, прознав про затруднения у внучки наперсницы в учёбе, по доброте душевной предложила воспользоваться моей помощью. Мол, у Сергея и учебники есть и лекции старые, наверняка, сохранились. И однажды Светлана, сверкая жизнеутверждающей улыбкой, вошла в нашу квартиру.
Я, заранее предупреждённый об её визите, невероятно волновался, и оказалось, не зря. Мутилова, сама того, возможно, не желая, охмурила меня в короткие сроки. Понадобилось лишь два свидания, чтобы следующих её посещений я ждал с иссушающим нетерпением, как больной, глядя на опостылевший серый ноздреватый снег за окном палаты, мечтает об оттепели, а с ней и об освобождающем выздоровлении.
Невысокая, крепкая, ладная, с зёрнышком родинки над правой губой, с разбросанными по плечам русыми волосами и прищуренными зелёными изумрудинками, излучавшими энергию, она знала, чего хотела, и прекрасно понимала, чего хочу я, но, увы, хотелки наши обладали противоположной направленностью. Проявляя интерес, реальный, поддельный ли, к моей скромной персоне, Светлана выказывала его настолько искусно, взамен, ничего, вроде бы и, не обещая, что шла кругом голова. Её пытливые пронзительные взгляды, бросаемые на меня, когда мы запирались в маленькой комнатке, её горячие сухие ладошки, которыми она накрывала мои пальцы, листающие книгу, всё это придавало мне вдохновения выполнять по ночам её факультетские задания. Ими она исправно снабжала меня в период сессий.
Неопределённость тянулась несколько месяцев и разрешилась безликим пепельным осенним вечером. Света, заскочившая забрать проверочные, выполненные мною накануне, пролистав записи, небрежно рассыпала их по простыни кровати, а затем медленно и грациозно приблизилась вплотную ко мне, сидящему за рабочим столом. Грудь гостьи, обтянутая серебристой водолазкой, очутилась на уровне моих глаз, и Светка не дала мне опомниться. Она оглянулась на закрытую дверь, с таинственным видом обняла мою шею, и, улыбнувшись, умело чмокнула меня в усы. К тому дню я уже слыхал, что у этой хитрюги вот–вот должен вернуться из армии кавалер, и слухи сии не доставляли радости. Я легонько отстранил Свету, намереваясь подняться, но она оценила попытку встать не вполне верно. Ей показалось, будто я оттолкнул её. На лице девушки отразилась незаслуженная обида.
— На пионерском расстоянии держишь? — она схватила тетрадки и принялась нервно постукивать ими о книжную полку. — С другими тоже так? Или одной меня боишься?
— Свет, я в курсе, у тебя жених скоро приходит…. И не жажду проблем на ровном месте. И себе, и на тебя гром и молнию навлекать.
— На ровном? — усмехнувшись, она снова рассеяла листы по покрывалу и провела ладонями по бёдрам. — Эх ты! Рохлюшка… Легко прожить собираешься? Беспроблемно? Другой бы…
Я в точности не помню своего ответа, кажется, ощущая горящие щёки, брякнул: «Я не другой», и попробовал обвить руками её плечи, но слова отныне вряд ли что–то могли изменить. С того случая ни она, ни я не стремились преодолеть препятствие выросшее между нами. Называя вещи своими именами, я–то с готовностью бы исправил недоразумение, но как это сделать имел расплывчатое понятие. Светка держалась неизменно прохладно и натянуто, а я только мучился, но не осмеливался ни словом, ни делом продемонстрировать существование неких обстоятельств.
Впрочем, произошедшее не мешало Мутиловой и впредь пользоваться моими наработками при подготовке к сдаче зачётов. Её приезды я подстерегал с надеждой на чудо, хотя повода к тому она не давала ни малейшего. Светлана дождалась возлюбленного, вышла замуж и навещала нас намного реже.
В последний свой июльский приезд она, в знак признательности за расписанные семинары, выставила на холодильник флакон «Вдовы Кличко Советского шампанского» и коробку конфет. Бабушка находилась в деревне, мы сидели в квартире одни, и я, решившись воспользоваться подвернувшимся шансом, предложил Светке отметить её диплом. «Шампусик» замечательно развязывает языки мужикам, и кое–что другое — женщинам. Улыбнувшись, она согласилась, и мы распили бутылку, закусывая игристое конфетками, но от медленного танца отказалась, сославшись на боязнь опоздать на автобус до Мокрого. Понурившись, я проводил Свету на трамвай, и по дороге, кусая губы и поигрывая желваками, старался бодренько шутить, но прекрасно сознавал, что вряд ли мы свидимся ещё.
Так и случилось. Бабуля, иногда звонившая в Мокрое, ездившая туда летом проведать подругу, делилась сведениями о жизни Мутиловой. После рождения дочери, муженёк Светланы, и ранее–то не слывший трезвенником, совершенно попутал берега. Пьянствуя с друзьями, он закрутил амор с любовницей, и оскорблённая Светка, прознав об этом, его выгнала. Они разошлись, а по прошествии полугода сошлись опять. Однако и появление нового ребёнка не спасло трещавшие по швам отношения. Тогда–то они расстались окончательно. Но Мутилова не являлась бы Мутиловой, если бы постоянно чего–то не мутила и останавливалась на достигнутом. Третья доча появилась через семь лет от юного супруга, но и с молодым хахалем Светка долго не протянула.
Следующие двадцать лет я обладал весьма смутными представлениями, где Светик и что с ней. Лишь накануне смерти старушки случайно обнаружилось местопребывание, и род занятий Мутиловой. Обзаведясь состоятельным папиком–пенсионером, она наконец–то обрела семейное счастье, а артистическая сфера деятельности, позволявшая в полной мере раскрыться недюжинным актёрским талантам Светки, делала брак прочнее. На весть о кончине знакомого человека, Светлана отреагировала спокойно, на просьбу присутствовать на похоронах, и вовсе не отозвалась. Многие люди помнят сделанное им добро пять минут, а нанесённую обиду — десятки лет.
Не забывая напрочь Мутилову, я вскоре перенёс внимание на цацу, недолгое время подвизавшуюся в модельном бизнесе. На Китайченко. Рассуждая здраво, не пересекись мои пути с Натахой Китайченко, я б абсолютно ничего не потерял. Вероятно, даже выиграл бы по всем позициям. Не испытал бы изнурительного напрасного ожидания, не читал бы издевательских записок, не жёг впустую нервы, не узнал бы о существовании Тищенко. С другой стороны, не схлестнулся б с ярким образчиком красотки–стервы, с милой мордашкой, почти идеальной фигурой модели и павловскими жестяными неулыбающимися глазами. Презрительно относящейся ко всему выходившему за границы понимания её куриных мозгов, и считающей себя не только выше, но и умнее окружающих, а книги ценящей не за содержание, а за цвет обложки, гармонирующей с обоями. Китайченко призвана была послужить мне хорошим уроком, но я, к превеликому сожалению, не учёл дарованный опыт, и практически ничему на нём не научился, повторяя в будущем ошибки, допущенные один в один в шашнях с Наточкой.
Послание с изъявлением желания познакомиться пришло в октябре. Моё пребывание в школе в качестве учителя шло второй месяц, и пределом мечтаний оставалось любой ценой дотянуть до ближайших выходных и отоспаться. Наверное, поэтому я не слишком серьёзно воспринял предложение неизвестной, и не проявил должного рвения, дабы добиться свидания наедине. Но хотелось разобраться, откуда у таинственной особы взялся мой почтовый адрес, и какие виды она на меня имеет. Благодаря монотонной и нудной переписке удалось выяснить, что информацию обо мне она заполучила от жены Владлена, но подробности Наталья всё же утаила, отделавшись фразами–пустышками.
Короче говоря, вытянул я из Китайченко чересчур мало полезных сведений. По её словам, она являлась единственной доченькой у новорусских богатеньких родителей, не чающих в ней души, тоже недавно закончила ВУЗ, но устроиться в школу пока не смогла. Хобби у неё отсутствовало, книг она не читала, кино не смотрела, музыку не слушала. Любимое занятие — домашние дела. Какие, одной ей и ведомо.
Я долго не звонил Наташе, хотя домашний номер она сообщила достаточно рано, и даже сама приглашала позванивать. Но я затягивал, совершенно не представляя о чём стану с ней беседовать. Не о модельном бизнесе же. Телефонному трындежу я предпочитал письма, по которым гораздо проще идентифицировать истинное содержание человека. Сочиняя весточки, я уподоблялся Александру Дюма, и бумагу не экономил. Наточка же, напротив, отвечала скупо и немногословно. Почерк её, убористый, ровный, прилизанный, мне нравился, а вот дух посланий оставлял двоякое впечатление. Пушаров, прослышав о моих эпистолярных поползновениях, поднял меня на смех, назвав глупостью нежелание увидеться с девушкой, проживающей всего лишь в другом районе Тачанска.
— Удивляешь ты меня, дружище! — хмыкнул он, мешая в кружке спирт с водой из-под крана. — Отделываться бумажками в конвертах вместо свидания и непосредственного общения? Не, моим мозгам неподвластно… Слишком ты рафинированный, не от мира сего. Будь проще, своди её в ресторан, в кафешку…
Мне, в общем–то, не потребовались десятилетия, чтобы уразуметь: Натка в интеллектуальном плане олицетворяла собой нуль без палочки, и буде наша встреча свершится (фантастика, но она таки состоялась спустя год), то придётся приложить массу усилий, дабы нащупать тему, волнующую нас обоих. Исходя из сказанного, Наталья на роль подруги подходила весьма условно, но я это, параллельно и понимал, и отрицал.
На моментальной фотографии, присланной с корреспонденций, я узрел высокую стройную барышню в соломенной шляпке, затенявшей лицо, стоящую с букетом цветов на фоне садового домика с мезонином. Вполне допускаю, неким стандартам красоты она и соответствовала, однако, за исключением неплохой фигурки я, разглядывая фото, не выделил ничего. И вопреки внутреннему голосу, подсказывающему: в данном случае надеяться особо не на что, я начал окучивать Китайченко.

Благоприятный шанс оказаться в одной компании выпал во второй половине августа, на исходе каникул. Обычно в двадцатых числах этого последнего летнего месяца в Тачанске отмечают День Города. Отмечают на широкую ногу, с поголовным пьянством, ночным салютом и синеватым дымком от шашлычных углей, буквально въедающимся в одежду, в лавочки, в листву тополей, в стены домов центральной улицы. Набравшись решимости, я зазвал Натаху вместе обмыть это торжество, а вечером переместиться в Кировку и продолжить празднество в более интимной обстановке. Озвученная мною идея, её, кажется, заинтересовала, и последовал встречный ультиматум. Исходя из него, мне полагалось явиться на гульбище с двумя товарищами, ведь Ната собиралась «гудеть» с двумя подружками. Ну, значит, чтобы полная гармония получилась, в количественном отношении.
Я принялся за поиски тех, кто был бы не прочь познакомиться с привлекательными девицами, не обременёнными предрассудками. Кандидатура Пустышкина отпала сразу, ибо продолжение банкета организовывалось вскладчину. Туров не говорил ни «да», ни «нет», и тянул кота резину, по своему обыкновению ожидая, что из всего запланированного вытанцуется.
Оставались Пушаров и Южинов, и мне потребовалось ради переговоров поехать к ним на Вишнёвку. К моему изумлению, трудоголика Пушарова я в кабинете завуча не застал, хотя он клялся и божился, что днюет и ночует в школе. Да и на стук в дверь его квартиры никто не отозвался. Присев на скамейке у подъезда, я выдрал из блокнота листочек и, насколько возможно подробно, изложил суть дела, отдельно подчеркнув, что при серьёзном настрое они должны приехать в Кировку в ближайшие дни. Аккуратно свёрнутый квадратик я опустил в почтовый ящик Пушарова и, подежурив на лавке ещё около часа, отправился в обратный путь, надеясь завтра или послезавтра лицезреть приятелей во всём их великолепии.
Но и тут мне предстоял облом. Ни через сутки, ни через трое, ни Сашка, ни Куприян не удостоили меня визитом или звонком. Фрол Беговых также не поддался на мои уговоры. Денег у них в семье не прибавлялось. Однако, забегая вперёд, признаю, судьба не курица, её не обманешь, она в итоге свела Наточку и Фрола, правда не решусь утверждать, будто исход знакомства доставил удовольствие той или иной стороне.
Таким образом, чествование нами юбилея Тачанска осталось нереализованным. Но я уже закусил удила, и на руку мне сыграло заявление Китайченко о необходимости срочно увидеться, сформулированное ею в телефонном разговоре. Детали она обещала раскрыть в письме, и не соврала.
Суть пропозиции, приведшей меня в ступор, заключалась в следующем. По заверению Китайченко, где–то далеко, в какой–то области нашей необъятной матушки России, недавно скончалась её бабушка. Она оставила внучке в наследство хоромы на берегу Дона, но получить жилище внученька могла, лишь выйдя замуж. Мне–то Натка и отводила роль муженька, наводя на мысль о регистрации фиктивного брак. Если она меня не устроит в качестве супруги, то я вправе развестись, и претензий никаких она иметь не будет, наоборот, вручит 10% от суммы, вырученной за продажу постройки. Было обязательно провернуть её план до 31 октября, иначе капиталец уплывал.
Колебался я не долго. Но требовалось, как минимум, вживую увидеть ту, что сделала предложение, от которого сложно отказаться. И я стал настойчиво требовать свидания. Она согласилась, и 1 сентября, после окончания торжественной линейки в честь начала нового учебного года, я прямо с документами в папке, погнал к кинотеатру «Отчизна». Естественно, я чрезвычайно нервничал и пристально вглядывался в каждую проходящую мимо девушку. Наталья не появилась. Точнее, она, нацепив тёмные очки, прошествовала рядом с остановкой, где я вертел башкой в разные стороны, выглядывая её, и, тщательно рассмотрев планируемого мужа, села в подошедший кстати трамвай.
Проторчав там китайским истуканом 40 минут, я, отчаявшись, недоумевая, направился домой, а по дороге с телефона–автомата набрал её номер.
— Привет, Наташ, — замогильным голосом, всхлипывая подвывая, произнёс я, — это Максимов. Догадываешься, почему я звоню.
— Догадываюсь, — невозмутимо ответствовала ехидна. — Я передумала.
— Что передумала?
— Встречаться.
— Ну и отлично!
Я грохнул трубкой о рычаг и запрыгнул в маршрутку.
Дома, отыскав всё её бумажонки, я запихал их в конверт, приложив к ним насмешливую записку, указал на нем адрес Китайченко, и, не раскрывая данные отправителя, бросил послание в почтовый ящик. Позднее выяснилось, — письма свои обратно она не получила. По всей видимости, вес депеши превышал норму, и служащие отделения связи, не желая доставлять его адресату без доплаты, оставили пухлый пакет себе на память.
Горевать и рвать волосья на различных участках тела времени у меня не было. 28 часов нагрузки не предполагали сантиментов и соплей. Они ждали полной отдачи. Воспоминание о неприятном инциденте с Китайченко отходило на задний план.
Отправляясь следующим утром в школу, я увидел, — на детской площадке, у турника, лежит, прикрытый белой тканью труп мужчины. Из–под края простыни торчали чёрные брюки и пыльные ботинки. Милиционер, пристроившись на шатком бревенчатом краешке песочницы, в ожидании труповозки заполнял протокол осмотра места происшествия. После полудня я снова проходил по той же самой тропинке, и покойник до сих пор находился в прежнем положении. Вокруг стояло несколько зевак, и я расслышал сетования, что «…от безысходности повесился, им жалованье за 3 квартала шурупами и гвоздями собирались выдать…», что «Скорую» вызвали сразу по обнаружении мертвяка, но на подстанции пообещали приехать не ранее, чем найдут необходимый для поездки бензин. В описываемый период подобные ответы являлись обычным делом, и мало кого удивляли. Милиция не выезжала на вызовы, врачи к больным, пожарные опаздывали к полыхающим строениям. Бабушка Катя, коротавшая вечер на лавке с соседками, потом рассказала: мертвяка увезли около семи.
Прошлое нагнало меня неожиданно и по–свойски похлопало по плечу. Случилось так, что, выбравшись в деревню, в «Стекляшке» я увиделся с бывшими одноклассниками. Точнее, одноклассницами. Со Смитсон, а затем и Шмыгович. За прошедшие годы я сильно изменился, и обе они меня не узнали. Трудно вспомнить человека, когда ты маешься в очереди и мысли твои заняты подсчётами требующихся к ужину продуктов, а рядом мелькает, вроде бы, знакомая, и всё–таки совершенно чужая физиономия.
Заезд на уборку картошки планировался нами задолго до выходных. 1/2 надела, засаженного картофелем, мы вскопали с помощью мамы и Армена, в итоге прилично натрескавшихся браги, и по темноте носившихся друг от друга с криками: «Убью!» по огороду. На вторые сутки я не остался, «горела» подготовка к понедельнику, поэтому до обеда отбыл в город.
Аленделонистый Костя Герлов, наш новый учитель «Обществоведения» и «Истории» влился в штат в конце сентября. Темноволосый худощавый красавец с елейным взором и вкрадчивым тенорком моментально покорил сердца женской части коллектива. И даже Вика Максимовна, вплотную приблизившаяся к финишу бальзаковского возраста, на совещаниях нет–нет, да и бросала на Костика томные взгляды. Расписание она старалась делать Герлову близким к идеальному. А вот я от внезапных кульбитов графика иногда впадал в состояние отчаяния. Да и сложно не бегать с матом по коридорам в поисках Вики, если тебе поставили одновременно занятия в трёх отдельных классах. Приходилось выкручиваться. Постепенно я пообтёрся и привык, два урока враз в одной параллели уже не вызывали у меня замешательства.
Константин, пользуясь фурором, произведённым в коллективе, относился к профессии не то, чтобы легкомысленно, но всячески избегал проблем с детьми и стычек с начальством. Отметки выставлял, не зверствуя, при просьбах подправить, шёл на уступки. Дети же, чуя слабину, мгновенно уселись ему на шею и свесили ножки, запросто называя Герлова — «Костян», а он в ответ лишь застенчиво улыбался. Забежав как–то раз во время урока, проводимого им, в лаборантскую за забытым термосом, я чуть не упал, споткнувшись у входа о валявшийся чей–то портфель. Ещё на подходе к кабинету, я отчётливо слышал, — внутри стоит непрекращающийся гам, а очутившись за дверью, обнаружил, — детишки не только орут, но и носятся по комнате, дубасят сидящих рядом с ними товарищей учебниками, пускают самолётики, плюют из трубочек. А Герлов, делая вид, будто происходящее его вовсе и не касается, продолжает объяснять тему, обращаясь к пяти–семи учащимся, старавшимся в том аду расслышать слова преподавателя. Костя писал на доске термины и даты, а в её коричневую поверхность с хлюпаньем смачно впивались мокрые бумажки, выпущенные из трубок.
Так же, как Константина ученики любили за вольность на занятиях, меня ненавидели за строгость и попытки добиться хоть какой–то дисциплины. А Маломерова, спасаясь от нараставшего, точно снежный ком, бардака, в ноябре уволилась, чем поставила нас в достаточно неприятное положение. Её нагрузку срочно раскидали по остальным, а мне, вдобавок ко всему, досталось её классное руководство, к коему я оказался абсолютно не готов, ни морально, физически. Выхода, однако, не было, Должникова на меня надавила, и я согласился, о чём впоследствии неоднократно жалел.
Вскоре мне посчастливилось поучаствовать в праздновании Дня Синего Учителя, и ощутить на себе многие его прелести. Сигналом подготовки к действу послужило обращение завуча по внеклассной работе к коллегам с призывом представить от каждого объединения небольшое выступление. Общество поворчало, мол, лучше бы зарплату выдали, но смирилось.
Грачёва, услыхав о необходимости готовить концертную программу, в отношении меня тут же сменила гнев на милость. За три дня до того, мы с ней сошлись в клинче по поводу хрестоматий, полученных ею в библиотеке на моё имя. Разумеется, поступать подобным образом запрещено, но когда твои подруги — библиотекарши, то не возбраняется этим преимуществом воспользоваться. Я, прознав про её художества, полюбопытствовал у Грачёвой, кто станет расплачиваться в случае потери хотя бы одной книги. А Наталья Валентиновна принялась давать клятвенные заверения, что такое не невозможно. Почему невозможно? Да ПОТОМУ ЧТО!
И теперь, по окончании совещания, Грачёва, зная о наличии у меня гитары, подошла и, мило поигрывая ямочками на щёчках, заявила: я обязан поддержать честь гильдии историков.
— Нда? И как же? — с плохо скрываемым ехидством поинтересовался я.
— Ну «как же», «как же»? Саккомпанируйте и исполните что–нибудь.
— Да я бы, может быть и спел бы, да две струны порвались. А запасные купить оклад не позволяет. Миллион в магазине не меняют!
В итоге Грачёвой и Бодровой пришлось самим что–то изображать под фонограмму, а мы с Костей, развалившись, потягивали винцо.
Закуски на фуршет сготовили маловато. То ли денег не хватило, то ли специально так сделали, торопясь накачать присутствующих водярой. А вот розыгрыш «ценных призов» прошёл при всеобщем одобрении. Выигрывали зубные пасты, щётки, канцелярские скрепки. Мне повезло, я вытянул билетик с шампунем. Вернувшись со сцены к столику, я повертел пузырёк в руках, разглядывая этикетку, и с удивлением прочёл, — срок годности истёк пару месяцев назад.
Едва за окнами стемнело, официальная часть завершилась. Однако, расходиться никто особо не спешил, и я в числе избранных получил приглашение продолжить банкет в «Физике» Жарова, на третьем этаже. Пятнадцать человек быстро перебазировались на новое место дислокации, где с неослабевающим усердием опустошали принесённый снизу пакет с флаконами водяры.
Я, изредка опрокидывая в себя рюмашку, внимательно следил за происходящим, прислушивался к разговорам. Оригинальностью они не блистали. Женщины травили матерные анекдоты, присаживаясь на колени то к Жарову, то к балдевшему от их внимания Герлову, оправляли ему костюмчик, сдували пылинки с его плеча, жаловались на занудство мужиков, что–то шептали Костику на ухо и бегали прихорашиваться в соседний кабинет. Я не пользовался у барышень спросом, вдобавок от водки, закусываемой плиткой шоколада, поклёвывал носом, да разболелась голова от громкой музыки в стиле «тыц–тыц». Под шумок я решил покинуть тёплую компанию, а на пороге столкнулся с директрисой, пришедшей уговаривать раздухарившихся товарищей разойтись по домам в связи с поздним временем суток.
По дороге домой я пересёкся со школьным уркаганом юродивым, бритым наголо Бляшкиным из 9-го, считавшим своим долгом при наших встречах, скаля жёлтые клыки, бросить в меня камень, назвать «очкастым» и пообещать проломить мой черепок. Самое забавное заключалось в том, что я в его классе не преподавал, оценок ему не выставлял и вообще поначалу не имел ни малейшего представления о существовании этого слизня. Как–то, заметив Бляшкина в коридоре, я поинтересовался у Грачёвой, кто сей типчик, и услышал в ответ, что это не совсем нормальный паренёк, безобидный дурачок, состоящий на учёте у психиатра.
Стычки наши с Бляшкиным, наглеющим всё больше и больше, не прекратились и после его выпуска из школы. Тогда я на всякий случай уже таскал в сумке лёгкий алюминиевый ломик, всерьёз намереваясь пустить инструмент в дело при необходимости. Тем более, что затем на смену Бляшкину пришли ублюдки из 10-х, страстно жаждущие «разобраться с Максей»
— Ты, жучара, куда рано смылся? — напустился на меня в понедельник Костя, отведя подальше от чужих ушей и тыча указательным пальцем в пуговицу моего костюма. — У меня печень не казённая одному–то отдуваться.
— Отдулся? — захохотал я.
— Озверели окончательно, слушай! Пьяная баба по разрушительной силе опаснее атомной бомбы! Пришлось на парте с Наташкой сплясать, чтоб отстали.
— Стриптиз?
— Какой с меня стриптиз? На это охотниц и так хватало.
В следующий раз коллектив собирался отмечать новогодние праздники, но я, обеспокоенный бабушкиной болезнью, на пьянке не присутствовал. По словам Герлова, на ученической дискотеке двое из его подопечных, спрятавшись в туалете, ужрались до потери сознания. Первого откачивала Штрафунова с помощью холодной воды, пощёчин и «такой–то матери», а второму вызывали «Скорую», устроившей малолетнему алкоголику промывание желудка.
За неделю до 31 декабря бабушку увезли на операцию, и без проволочек вырезали грыжу. Обострение случилось у неё благодаря многочисленным поездкам в Питерку с целью вразумить Владлена, вернувшегося из армии в ноябре, наставить внучка на путь истинный. Владлен, как и до службы, снова не просыхал, действуя ещё с большим, нежели прежде, размахом. Братец устраивал драки на танцах, лупцевал жену за измены, иногда врывался к маме Зое, требовал денег и метелил её и Армена. Ребёнок у них голодал и постоянно болел. Супруге Владлена, предпочитавшей сыну шкалик, он был неинтересен, и пацанёнка частенько оставляли с бабкой, также не отличавшейся трезвым поведением.
Декабрь начался с сильных затяжных морозов, из–за которых в младшем и среднем звене отменяли занятия. Я покидал здание школы с красными, распухшими, шелушащимися от холода, царящего в кабинетах, руками. Отогреваясь, пил, пошвыркивая, на кухоньке, крепкий чай, и внимал последним известиям об анабасисе моей двоюродной сестрички, Нелли Кобылиной (бывшей Новгородовой), ни к селу, ни к городу разошедшейся с мужем, и поселившейся вместе с маленьким сыном в какой–то заиндевелой халупе в чужом посёлке.
— Ну чего же ей не хватало–то? — недоумевала старушка, придвигая мне тёплый душистый пирожок с рисом и луком. — Мужик трудолюбивый, хозяйство богатое! Корова, поросята, куры! Продукты свои! Парнишка отца обожает, а она, как обезумела. «Не люблю, — кричит, — его. Не собираюсь с ним жить!» Ой, не представляю, куда они теперь! С её–то характером! В голове ума нет!
Словно снег из поднебесья, Кобылина свалилась на нас на следующий день после операции. Приехав из больницы, я обнаружил, что в квартире кто–то побывал, нашёл на холодильнике флакончик женских духов, а в большой комнате — неразобранную матерчатую сумку с вещами. Сама Нелли нарисовалась около девяти поддатая, предложила сбегать за бутылкой. Я отказался, напомнив о необходимости с утра топать на работу. Нелли фыркнула, и ни слова не говоря уползла в гостиную, прикрыв кухонную дверь.
Назавтра выяснилось, — готовить съестное сеструха не намерена, зато как саранча замечательно сжёвывает мою стряпню. Бич пакеты, хранившиеся в кладовке, она спрятала у себя в шмотках, молоко выпила, а варёный картофель и сосиски сожрала. Ставить овощи на плиту заново времени не оставалось, я погнал в клинику, стараясь успеть в часы приёма, да там и обмолвился о политике разграбления и нахлебничества, осуществляемой Нелькой.
Утром «королевна» наведалась к бабуле, прослушала нотацию и, вернувшись, устроила яростный скандал, чудом не переросший в драку. Я уже присматривал, чем стану обороняться от мечущейся по коридору, раскрасневшейся вопящей дурным голосом восьмидесятикилограммовой лошади, стулом или «лентяйкой», когда неожиданно заверещал звонок. Это оказалась соседка, бабушкина добрая знакомая. Услыхав ор, доносящийся из–за стенки, она решила проверить, всё ли у меня в порядке, а заодно попросила отвезти для больной кураги и тёртой свёклы.
Обрётшая хладнокровие Кобылина, едва гостья удалилась, потребовала, чтоб я не попадался ей на глаза, и заперлась в зале. Нельке ничего не стоило воткнуть в человека что–нибудь острое из попавшегося под горячую лапу. Подобное коленце она однажды выкинула с брошенным муженьком, пригвоздив, в одной из потасовок, его запястье к столу старинной металлической вилкой с тремя зубцами. Зная о данном факте её насыщенной биографии, я считал дни до отъезда драгоценной родственницы, не выходил из комнатушки, и появлялся на кухне набегами, лишь для того, чтобы разогреть чайник и перелить кипяток в термос.
Постепенно до меня дошло, в чём крылась загадка её неадекватных действий. Причины семейных тайн лежат близко от поверхности. Ковырни перочинным ножичком, и ты утонешь в засасывающей липкой болотине взаимных обид, недоговорённостей, сплетен, чёрной зависти. Во мне Нелька видела ни к чему не годного типа, мешающего ей и дитю переселиться на новую жилплощадь. С тех пор она и находится со мной в смертельной вражде, не поколебленной даже триумфальным въездом на квадратные метры раздора, последовавшим вскоре за моим переездом к Лине.
Получив зарплату за май вечером 30 декабря, я созвонился с Туровым и предложил ему встретить наступающий год вместе. Утром 31-го он пригнал, и мы, прошвырнувшись по магазинам, закупились необходимым. До темноты жарили, парили, варили, строгали «Оливье» по туровской рецептуре. По квартире витали неповторимые ароматы приготовляемого мяса, подливки, гарнира. Настроение, смазанное от проживания рядом с Кобылиной, чуть выправилось, и в будущее я глядел с робкой надеждой. Впрочем, в том возрасте, что мы с Пашкой находились, в грядущее смотришь с заветной мечтой, независимо от творящегося вокруг. Сие есть закономерность. Салаты, запеканки, фаршированные кальмары, окорочка в чесночном соусе и майонезе получились замечательно. Мы, закусывая ими «Сангрию», чередуемую с притараненной Туровым водкой «Посольской — экстра», любовно именуемой им «Козыревской», до трёх ночи пялились в телевизор, лениво обмениваясь историями из жизни педагогических коллективов.
2А. …когда однажды мир качнётся…
Я так тебя люблю, и прячу эту боль
Сокрытую для глаз, открытую для сердца.
Е. Фролова.
Интерлюдия — 2018
Один и тот же сон изводит меня вот уже целую неделю. Я и Лида Лина пытаемся спастись от некоего человека в широкополой чёрной шляпе, облачённого в тёмные одежды, держащего в левой руке мачете. Призрак — левша. Он стремится нас убить. Каждый раз он почти догоняет свои жертвы, и ускользнуть удаётся исключительно благодаря имеющемуся у меня средству телепортации. Но преследователь неутомим, он опять и опять, словно неукротимая машина, равнодушный флегматичный автомат, настигает беглецов, распахивая пинком створчатые двери фойе больницы, и шагает, шагает, чеканя высокими берцами звуки пистолетных выстрелов в гулких коридорах. Он подобен танку, неторопливому, но неумолимому. При его появлении брызгает в стороны медперсонал, а я хватаю первую попавшуюся каталку и толкаю её на инфернального незнакомца. Моя жалкая потуга даёт нам небольшой шанс, мы порхаем за угол, очутившись, отчего–то, не в следующем отделении клиники, а на втором этаже школы, где я некогда учился, аккурат у кабинета химии.
Зная, он вот–вот появится, тороплюсь, тяну Лину к выходу, но в её лакированную белую туфельку что–то попало, и девушка начинает хромать. «Осторожнее, Сергей, помедленнее, я устала», — срывается с губ любимой. Я опускаюсь перед ней на колени, стаскиваю с её ступни парадную обувку, не предназначенную к беготне, выбиваю надоедливую песчинку, и в этот миг Лина в ужасе вскрикивает, судорожно вцепляется в моё плечо. Над нами вырастает мрачное облако, грозной безмолвной молнией сверкает стальное морозное лезвие. Удирать — поздно, защищаться — бесполезно. И я ударяю по кнопке прибора телепорта, висящего у меня на груди, на цепочке, и смастыренного неведомыми умельцами в форме брелока автомобильной сигнализации
Мы мгновенно оказываемся на улице, за зданием. Я возвращаю обувь Лине, и она подгоняет: «Скорей в „Нью–Йорк, Нью–Йорк“. Туда ему хода нет!» Да, он отыщет нас везде, всюду, но не там. Это убежище ему не по зубам. Оно для него не существует. Бежим сквозь густой пенный цветущий черёмуховый сад к торцу корпуса, и на какую-то секунду я, выпустив тёплую ладошку, теряю Лину из виду.
«Лина!» — испугавшись, кричу я.
«Тише, Серёженька, я здесь», — она на соседней аллее.
На Лине советская ученическая девчачья форма, белоснежный фартук, светлые гольфы.
На мне — синие брюки, розовая рубашка, пиджачок не по росту. Великоват. Мы, что, выпускники? Точного ответа не существует.
«Знаешь, я раньше считала, что свобода есть, а теперь уяснила, — свобода состоит из тысячи наугад выбираемых несвобод».
«Нью–Йорк, Нью–Йорк» — подвальчик, прозванный так из–за звучащей там постоянно песни Фрэнка Синатры. Лине она безумно нравится. Огибаем угол, останавливаемся у ведущего вниз окошка, находящегося на уровне колен. Приседаем, заглядывая в увитое зелёными трубами помещение. От книжного стеллажа у дальней стены к шаткой стопке пожелтевших журналов под окном, на высоте полутора метров от едва просматривающегося пола, переброшена узкая, заляпанная краской доска. По ней в нашу сторону до восторга известной походкой шествует, балансируя, невысокий человечек в котелке с тросточкой, напевающий упомянутую выше песенку.
Подпрыгнув, он цепляется за каменный крошащийся подоконник, выползает наружу, и я вижу, это — Том Вэйтс Чарли Чаплин. Он не перестаёт мурлыкать:
«I’ll make a brand new start of it
In old New York»
и, сбив с шляпы известковые горошины, отряхнув короткий сюртучок от налипшего мусора и рыжей кошачьей шерсти, он выразительно указывает оттопыренным большим пальцем на форточку.
«Но ты же вся измажешься!» — с отчаянием произношу я, адресуя восклицание Лине, и ничуть не изумляясь именитому гостю из другой реальности.
Чарли пожимает плечами и разводит руками, мол, ничего не поделаешь, на эту жертву надо пойти, жестом салютует, кивает и растворяется в воздухе.
Присев на корточки, вздохнув, придерживаясь за выступ, девушка протискивается в отверстие, и я, нагнувшись, слежу за её фигуркой, неуверенно пробирающейся на четвереньках по брусу. Затем импровизированный мостик с ужасным грохотом падает на пол, поднимая клубы пыли. У меня обрывается сердце, а Лина смеётся снизу и манит:
«Лезь сюда, тут классно! Он до нас никогда не доберётся!»
И я, рискуя поломать ноги, прыгаю к своей единственной.
«I want to wake up in a city that never sleeps
And find…»
Четырьмя годами ранее
— Ли–и–и–на! Ли–и–и–на! — кричал я в серое небо где–то в урочище под Питеркой.
В тот летний пасмурный день я стоял один посреди небольшой лесной полянки. Мне не доводилось бродить в данном районе, и старания специально забраться в безлюдную глушь увенчались успехом
— …ина–а–а! — равнодушно передразнило эхо.
Величественные сосны и высоченные малахитовые ели помалкивали. Звенела тишина. Отклика я не ждал, обращаясь к Лине, но допытываясь ответа у самого себя.
— Лина! — снова крикнул я, оглядываясь, стиснув кулаки, задирая голову, всматриваясь в безмолвную серость, перечёркиваемую ветвями. — Зачем ты так поступила? Для чего ты бросила меня? Одного. На этой чёртовой земле, будь она неладна! Хватит молчать! Отзовись! Пойми, я не собирался оставаться! Моё место — рядом с тобой, пропади ты пропадом!
Я схватил валявшуюся в траве полусгнившую сосновую ветку с иссохшей хвоей (вспыхнет порохом) и неуклюже треснул ею о ближайшее дерево. Смолистая кора, покрытая белесоватым мхом, отколовшись, рванулась вверх. Палка, хрустнув, переломилась, и часть её улетела в заросли буреющего Иван–чая. Обломок я запустил в кусты.
— Ты обязана была забрать меня с собой! Обязана! Я готовился! Слышишь? Не могу здесь больше! — я орал не прекращая, обращаясь к отсутствующим зрителям. Равнодушным созерцателям. — Что же делать? Сколько это продлиться? Я не вижу просвета! Нет его. Тупик! Болото! Отвечай! Лина! Ты же обещала! Не нужна мне твоя жертва! Не нужна! Ты обещала!
Я долбанул рукой по подвернувшейся молодой тонкой берёзке, и боль от сбитых костяшек, запачкавшихся в пудре девочки–подростка, чуточку привела в чувство. Рухнув в папоротник, я принялся рвать его грубые марающиеся жёлтым порошком листья, швырять направо, налево.
— Лина! В чём смысл? Объясни же! Кругом пустота! Чёрная дыра. Вакуум! Пространство и время перепутались, сбились. Я — есть, но меня — нет. Тебя — нет, но ты — есть.
Замер, крепко обняв охапку изломанных растений, синих неведомых цветочков размером с ноготь, черничника, вдыхая аромат их зелёной крови, ощущая подрагивающим подбородком стебли. Еле различимая серебряная букашка, опасливо дотронувшись усиками до моей кожи, поджала ножки и скатилась вниз по порванному листочку. Зажмурил глаза, посильнее сжал веки. Заткнул уши. Оглохнуть, онеметь, исчезнуть. Лина! Я — твой…
Отдышавшись, перевалился на бок, поднялся на корточки, цепляясь за рябинку, встал, постоял, пошатываясь, прислонился спиной к сосне, сполз по стволу, сел около узловатого корня, уткнулся лбом в колени. В макушках прошелестел ветерок, упали крупинки дождя. Кто–то начал плакать там, на небесах? Словно бы, вместе со мною? Да? Лина?
Да, в этот раз я сорвался. Впервые за многие годы. Предохранитель полетел. Силы иссякли.
— Лин! — уже не крик, а стон, хрип. — Почему, ну почему мне не суждено переместиться в ту вселенную, где у нас всё замечательно? Где мы счастливы…. Переиграть, к дьяволу, заново историю? Как исправить? Продать душу бесу? Пусть забирает! Подпишу! Да!!! Подпишу!!! Давай его сюда! Козлоного! Нет? Умереть? Но ты не дала мне сгинуть! Ты же отогнала смерть!? Где логика?
Сдержать слёзы не вышло, и я размазывал их по щекам грязными ладонями, приобретая диковатый облик лешего, вытирая пальцы о штаны, о листву.
— Пошли хотя бы знак! Намёк! Подсказку, что дальше…. Пришли нашего Бормотунчика. Два вопроса. Всего два…. Тот танец под Рики Мартина… разве он не может длиться вечно? Кто это решает? Ты же знаешь выход! У тебя на любые загадки есть ответы! Это несправедливо, в конце концов. Несправедливо! И тебе известно, — жить я без тебя не в состоянии. Столько лет получалось, а теперь — финиш! Кончился! Не хочу! Надоело! Обрыдло! Достаточно!
Вверху заворчало, заворочалось, громыхнуло, и снова капли коснулись моих волос.
Я откинулся назад и стал ожидать ливня. Но он не начинался, лишь где–то вдали перекатывалось грозное урчание. Бубнил что–то нечленораздельное некто невидимый и всесильный, долбил в порожнюю бочку дубиной, грозился.
Разглядывая медленно ползущие в вышине серые тучи, сшитые в грубое дешёвое полотнище, я понемногу успокаивался. Природе плевать на бремя страстей человеческих. Она не ведает горя. Этот лес существовал до моего рождения, он сохранится и после меня. Я — ничтожный муравей, жук, заплутавший в лабиринте. Песчинка на мшистом пригорке. Умри я вон под той елью, и не сыщется моё бренное тело. И следа от него не останется. Впрочем, его и так не останется…
Прошло несколько часов, как я забрёл в урочище. Здесь отчего–то не верещали комары, и это казалось странным. Стояла влажноватая прохлада. Я почти пришёл в себя. Но внутри, в середине груди жгло. Чёрная дыра расширялась, засасывала. Пора было выбираться на трассу, если я планировал засветло выйти к людям. Лесовик может и не выпустить.
Оклемавшись, я нагнулся подобрать рюкзак, и из нагрудного кармана куртки выскользнул детонатор телефон, нырнув мне под ноги. Новый, взамен приведённого в негодность Игнатом. Подхватив аппарат, я ненарочно нажал кнопку, и на экране высветились имена и цифры, занесённые в его память. В глаза бросилось: «Юргина Алина».
Я не позвонил ей тогда. Не поблагодарил. Не удосужился и через неделю, полагая, что разговор с посторонним мужчиной, о котором она, наверняка, и думать позабыла, не доставит девушке никакого удовольствия. А спустя две — вообще не находил обоснованной причины навязываться. А ныне, по прошествии, по сути, месяца — тем более. Набор символов следовало удалить с карты. Это — чрезвычайно просто. Касание клавиш. И забыть. Навсегда.
Но неосознанное, вечно подводившее меня под монастырь чувство ответственности мешало поступить подобным образом. Словно долг взял, а вернуть — не вернул. И давит, давит должок на сердце.
— Вот тебе и знамение, Васильич, — грустно усмехнувшись, пробормотал я себе под нос, а ветер чуть сильнее зашумел в вершинах вековых ёлок, и возле меня упала лёгкая сухая веточка.
Глянув вверх, я, естественно, не обнаружил ни единой живой души, могущей скинуть её на землю. И кого я намеревался там увидеть? Вельзевула? Лешака? Или её…? Могучие сосны, поскрипывая, таяли, путались в полупрозрачной пелене давящего вязкого неба.
Вздохнул, обретая цель:
— Точно, знак. Ладно, доберусь до зоны действия сети, отзвонюсь обязательно. Обещаю.
И хмуро бросил хитрым мойрам, плетущим нити судьбы:
— Клянусь.
— Сью–сью–тииу, — проснулась неизвестная птица, впечатлённая устроенным мною спектаклем.
«Обязательство принято и зафиксировано»
«Чертяки! Чтоб вас…!»
Закинув практически пустой рюкзачок за плечи, зашагал, обходя полугнилые поваленные стволы, в направлении Светловки. Сорок минут, и я топтал её правый берег. Подобравшись к воде, присел, умылся и отряхнулся, стерев пучками мокрых лопухов с одежды пятна грязи. Теперь, чтобы оказаться на шоссе, предстояло прошагать приблизительно пять километров вдоль реки. И ещё шесть до Питерки. Пустяки! Нет таких крепостей…
На асфальт я выполз, изрядно утомившись и прикончив три четверти запаса воды из бутылки.
«Переходим в режим строжайшей экономии».
Пошарив в кителе, достал мобильник, проверил связь. Помедлил, сунул сотовый обратно и сделал несколько шагов. Но тут же вытащил вновь, и решительно даванул вызов.
Долго не отвечали. «Семь гудков, восемь. Ещё чуть–чуть, и я затираю её цифры». Но затем я расслышал вполне чёткий женский голос:
— Да, я слушаю вас, говорите. Кто это? Алло!
Набрав в лёгкие воздуха, не сбавляя хода, я ответил:
— Добрый вечер? Если не ошибаюсь, то я общаюсь с Алиной? С Алиной Юргиной? Верно?
— Да… — растерянность. — А вы кто?
— Ну… понимаете, удивительное дело… Я вот… ну… тот тип, которому вы на вокзале Губернска героически вернули позорно прос… эээ… ммм… потерянную им флешку. Может, помните?
— А! — обрадовалась девушка, словно услышала старого приятеля, — Да, да, конечно помню. У вас пятки сверкали. И не бездарно, а весьма эпично!
«Хихикнула? Показалось? Дерзит. Ох, пожалеет!»
— Ну, уж и сверкали! Прям — эпично! Я, признаться, вас ведь тогда не успел поблагодарить. Вы, как говорится, растворились в равнодушной толпе. Значит… и звоню, чтобы заверить вас в искренней благодарности.
— О, да вы поэт! От сохи! А могу я узнать имя бегущего человека?
«Ехидна! Поэт! Бегущий человек! Арнольдом меня кличу. Альбертовичем. Ага, а фамилия моя слишком известна…»
— Ну, вообще–то… да, разумеется. Максимов Сергей Васильевич, собственной персоной. Кланяюсь и рассыпаюсь в почтении.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.