
Бесплатный фрагмент - Орегонская тропа
«Дальний Запад! Страна моей мечты и моих надежд! Я прочёл и не раз перечёл „Дневник“ Льюиса и Кларка, „Восемь лет“ Кэтлина, „Орегонскую Тропу“. Наконец-то я увижу страну и племена, о которых рассказывали эти книги», — писал Джеймс Шульц, один из тех, кто год за годом воспевал жизнь индейцев.
«Орегонская тропа» публиковалась в журнале «Knickerbocker Magazine» в 1847 году, а в 1849 году вышла отдельным изданием. С неё началась литературная карьера Фрэнсиса Паркмэна. Живописность, сочная энергия, поэтическое изящество, юношеский восторг придавали «Орегонской Тропе» особую привлекательность, воспроизводя для читателя красоту и необыкновенность жизни в неведомом для большинства людей мире. Эта книга заставила многих романтически настроенных людей отправиться на Дальний Запад в поисках того, чего они не могли найти в «цивилизованном» мире.
Надеюсь, что читатель получит незабываемое удовольствие от «Орегонской Тропы».
Андрей Ветер
Предисловие к четвёртому изданию
«Орегонская Тропа» — это то название, под которым эта книга впервые увидела свет. Впоследствии издатель изменил его, но теперь оно восстановлено. Поскольку ранние издания печатались в моё отсутствие, я не корректировал гранки, что было вдвойне необходимо, учитывая, что книга писалась под диктовку. Необходимые исправления были внесены в настоящее издание.
Эти очерки были написаны в 1847 году. Летние приключения двух юношей, только что окончивших колледж, вполне могли бы кануть в забвение, если бы не тот интерес, который всегда будет вызывать повествование о том, что прошло безвозвратно. Эта книга — отражение форм и условий жизни, которые в значительной мере перестали существовать. В ней — зеркальный образ необратимого прошлого.
Помню, как мы ехали у подножия Пайкс-Пика, когда две недели не встречали человеческого лица, и мой спутник заметил тоном, далёким от самодовольства, что придёт время, когда эти равнины станут пастбищем, бизонов заменят домашние коровы, вдоль водных потоков появятся фермерские дома, а волки, медведи и индейцы окажутся в числе того, что было. Мы соболезновали друг другу по поводу столь мрачной перспективы, но мало думали о том, что готовит будущее. Мы знали, что в недрах этих нетронутых гор есть золото, но мы не предвидели, что оно построит города на пустошах и возведёт отели и игорные дома среди владений гризли. Мы знали, что несколько фанатичных изгоев пробираются через равнины в поисках убежища от преследований язычников; но мы не представляли, что орды многожёнцев-мормонов возведут кишащий Иерусалим в самой глубине безлюдья. Мы знали, что год за годом всё больше и больше обозов с эмигрантами будут медленно тянуться к дикому Орегону или далёкой и необжитой Калифорнии; но мы не мечтали о том, как Торговля и Золото породят города вдоль Тихого океана, разочаровывающий визг локомотива развеет чары причудливых загадочных гор, права женщин вторгнутся в твердыни Арапахов, а отчаявшееся дикарство, атакованное спереди и сзади, скроет свои скальпы и перья перед торжествующей обыденностью. Мы не были пророками, чтобы предвидеть всё это; и, предвидь мы это, возможно, некое упрямое сожаление окрасило бы пыл нашей радости.
Дикая кавалькада, что спускалась со мной по ущельям Чёрных Холмов, с её краской и боевыми перьями, развевающимися трофеями и пёстрой вышивкой, луками, стрелами, копьями и щитами, больше никогда не предстанет пред нашими взорами. Те, кто её составлял, погибли в кровавых схватках или пали от волчьих клыков. Нынешний индеец, вооружённый револьвером и увенчанный старой шляпой, облачённый, возможно, в брюки или закутанный в безвкусную рубаху, — всё ещё индеец, но индеец, лишённый живописности, которая была его наиболее заметным достоинством.
Горный траппер исчез, и суровая романтика его дикой, тяжкой жизни — лишь воспоминания о прошлом.
Что касается мотивов, что привели нас в горы, то наших мечтаний о них было бы достаточно; но в моём случае добавился ещё один стимул. Я отправился в значительной степени как исследователь, чтобы подготовиться к литературному начинанию, план которого уже был намечен, но которое в силу неумолимых обстоятельств до сих пор осуществлено лишь наполовину. Именно это подтолкнуло меня к некоторым шагам, которые без определённой цели могли бы быть сочтены юношеской безрассудностью. Моим делом было наблюдение, и я был готов дорого заплатить за возможность заниматься им.
Два или три года назад я навестил нашего проводника, храброго и верного Генри Шатийона, в городке Каронделет близ Сент-Луиса. С нашей последней встречи прошло более двадцати лет. Время тяготило его, как обычно бывает со старыми горцами, обзаведшимися семьёй и осевшими; его волосы тронула седина, а лицо и фигура носили следы былых лишений; но мужественная простота его характера не изменилась. Он рассказал мне, что индейцы, среди которых я жил, — отряд ненавистных Сиу, — почти все были перебиты в стычках с белыми людьми.
Верный Делорье, полагаю, всё ещё жив на границе Миссури. Охотник Раймонд погиб в снегах во время злополучного перехода Фримонта через горы зимой 1848 года.
Бостон, 30 марта 1872 г.
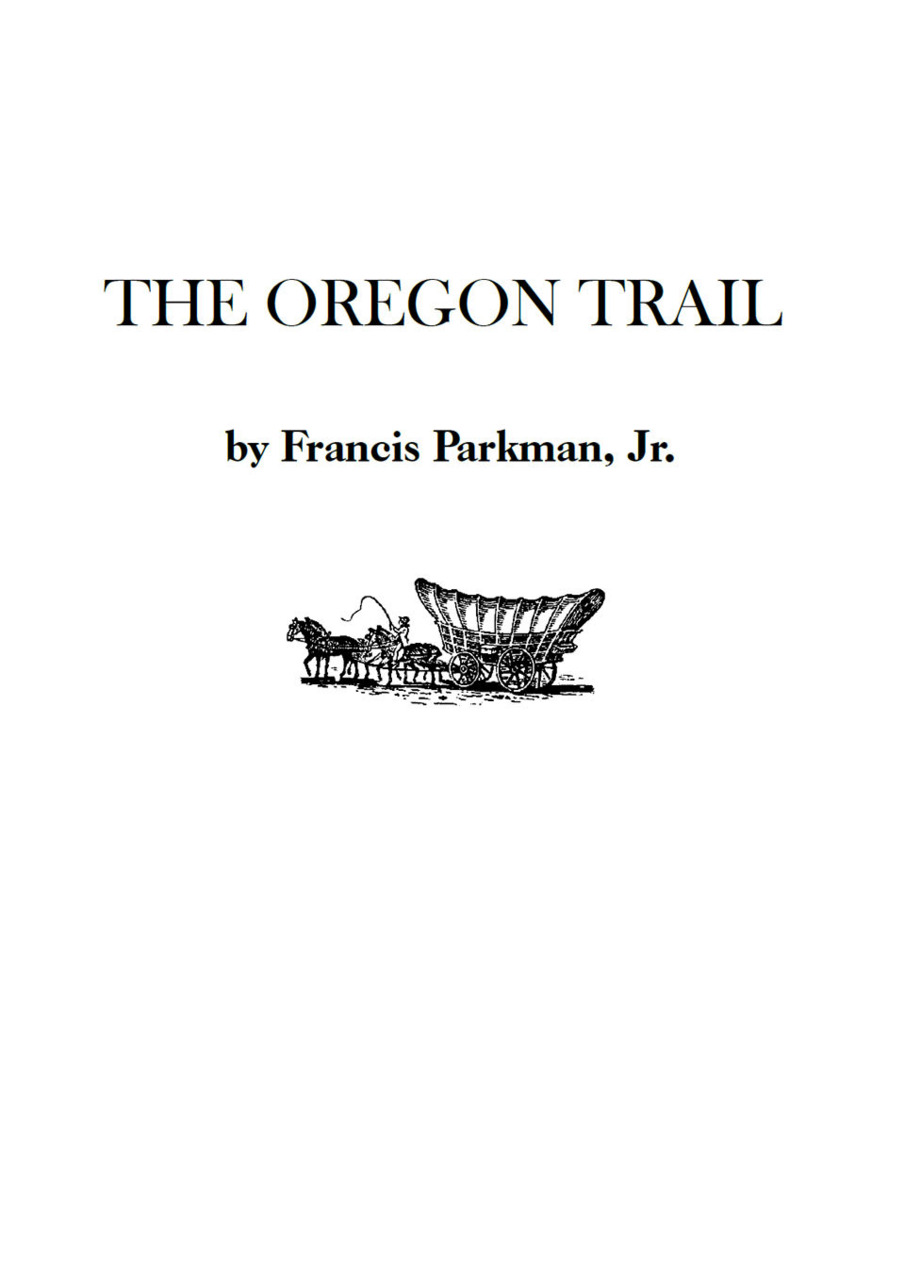
Глава I
Фронтир
Прошлой весной 1846 года в городе Сент-Луисе было оживлённо. Не только эмигранты со всех концов страны готовились к путешествию в Орегон и Калифорнию, но и необычайное множество торговцев снаряжали свои фургоны и караваны для поездки в Санта-Фе. Многие из эмигрантов, особенно направляющихся в Калифорнию, были людьми состоятельными и с положением. Гостиницы были переполнены, а оружейники и шорники без устали трудились, обеспечивая оружием и снаряжением различные группы путешественников. Почти каждый день пароходы отчаливали от пристани и шли вверх по Миссури, переполненные пассажирами, держащими путь к границе.
На одном из таких пароходов, «Радноре» (впоследствии севшем на мель и затонувшем), мой друг и родственник, Куинси А. Шоу, и я сам покинули Сент-Луис 28 апреля, отправляясь в поездку за новыми впечатлениями и развлечениями к Скалистым горам. Пароход был нагружен так, что вода попеременно переливалась через его планшири. Его верхняя палуба была заставлена ружьями из Санта-Фе для торговли, а трюм был забит товарами для того же назначения. Там же находились снаряжение и припасы партии орегонских эмигрантов, табун мулов и лошадей, груды сёдел и сбруи и множество предметов самого разного рода, незаменимых в прериях. Среди этой мешанины с трудом можно было разглядеть маленькую французскую двуколку, того типа, что за границами цивилизации вполне уместно называют «убийцами мулов», а неподалёку — палатку вместе с пёстрой коллекцией ящиков и бочек. Вся эта обстановка никоим образом не производила приятного впечатления. В этой обстановке и атмосфере нам предстояло долгое и трудное путешествие, в чём сможет убедиться в дальнейшем и наш настойчивый читатель.
Пассажиры на борту «Раднора» вполне соответствовали его грузу. В каюте находились торговцы с Санта-Фе, игроки, спекулянты и авантюристы всевозможных мастей, а его трюм был набит орегонскими эмигрантами, «горными людьми», неграми и группой индейцев из племени Канза, приехавших с визитом в Сент-Луис.
Итак, нагруженный пароход семь или восемь дней пробивался вверх против быстрого течения Миссури, скрежеща о заторы и подолгу застревая на отмелях. Мы вошли в устье Миссури под моросящим дождём, но вскоре погода прояснилась и представила нам широкую и мутную реку с её водоворотами, песчаными отмелями, изрезанными островами и покрытыми лесами берегами. Миссури постоянно меняет своё русло; подмывая берега с одной стороны, она образует новые с другой. Её фарватер непрерывно смещается. Острова появляются, а затем смываются; и в то время как старые леса на одной стороне подмываются и уносятся водой, молодая поросль поднимается из новой почвы на другой. При всех этих переменах вода так насыщена илом и песком, что совершенно непрозрачна, и за несколько минут на дне стакана образуется осадок толщиной в дюйм. Река сейчас была полноводной; но когда мы спускались по ней осенью, уровень сильно упал, и все секреты её коварных мелководий предстали взору. Было страшно видеть мёртвые и сломанные деревья, густо уставившие дно, как военное заграждение, прочно вмурованные в песок и все указывающие вниз по течению, готовые пронзить любой несчастный пароход, который в полную воду пройдёт над этим опасным местом.
Через пять или шесть дней мы начали замечать признаки великого движения на запад, происходившего тогда. Группы эмигрантов с палатками и фургонами стояли лагерем на открытых местах у берега, направляясь к общему месту сбора в Индепенденсе. В дождливый день, ближе к закату, мы достигли пристани этого местечка, расположенного в нескольких милях от реки, на самой окраине Миссури. Картина была характерной, ибо здесь, как на ладони, представали самые примечательные черты этого дикого и предприимчивого края. На илистом берегу стояли тридцать или сорок темнокожих, раболепного вида испанцев, тупо уставившихся из-под своих широких шляп. Они были приписаны к одной из компаний, торговавших с Санта-Фе, чьи фургоны теснились на берегу выше по течению. Посреди них, прикорнув у тлеющего костра, сидела группа индейцев из отдаленного мексиканского племени. Один или два французских охотника из гор, с длинными волосами и в одежде из оленьей кожи, разглядывали пароход; а на бревне неподалеку сидели трое мужчин с ружьями на коленях. Первый из них, высокий, крепкого сложения мужчина со светлыми голубыми глазами и открытым, умным лицом, мог бы служить прекрасным олицетворением той породы беспокойных и отважных пионеров, чьи топоры и ружья проложили путь от Аллеган до западных прерий. Он направлялся в Орегон, вероятно, более подходящее для него поле деятельности, чем любое, что осталось по эту сторону великих равнин.
Рано следующим утром мы достигли Канзаса, примерно в пятистах милях от устья Миссури. Здесь мы высадились и, оставив наше снаряжение на попечение моего доброго друга полковника Чика (чьё бревенчатое жилище заменяло трактир), отправились в фургоне в Уэстпорт, где надеялись раздобыть мулов и лошадей для путешествия.
Стояло необычайно свежее и прекрасное майское утро. Пышные и буйные леса, сквозь которые вела нас скверная дорога, были залиты ярким солнечным светом и оживлены множеством птиц. По пути мы нагнали наших недавних попутчиков, индейцев Канза, которые, разодетые во все свои лучшие наряды, бодро шагали домой; и какими бы они ни казались на борту парохода, в лесном пейзаже они являли собой очень яркую и живописную деталь.
Уэстпорт был полон индейцев, чьи лохматые пони десятками были привязаны вдоль домов и заборов. Сауки-и-Фоксы с выбритыми головами и раскрашенными лицами, Шауни и Делавары, развевающиеся в ситцевых платьях и тюрбанах, Вайандоты, одетые как белые люди, и несколько жалких Канза, закутанных в старые одеяла, бродили по улицам или слонялись туда-сюда между лавками и домами.
Стоя у дверей трактира, я увидел на улице примечательную внешне личность. У него было румяное лицо, украшенное обрубками щетинистой рыжей бороды и усов; на одной стороне головы красовалась круглая шапочка с шишечкой на макушке, какие носят иногда шотландские рабочие; его пальто было неопределённой формы и сшито из серого шотландского пледа с бахромой, свисающей повсюду; на нём были штаны из грубого домотканого сукна и подбитые гвоздями башмаки; и для полноты образа в уголке рта у него была зажата маленькая чёрная трубка. В этом странном наряде я узнал капитана К. из британской армии, который вместе со своим братом и мистером Р., английским джентльменом, отправлялся на охотничью экспедицию через континент. Я видел капитана и его спутников в Сент-Луисе. Они уже некоторое время находились в Уэстпорте, готовясь к отъезду и дожидаясь подкрепления, поскольку их было слишком мало, чтобы пускаться в путь в одиночку. Они могли бы, правда, присоединиться к какой-нибудь из партий эмигрантов, которые как раз собирались выступить в Орегон и Калифорнию; но они не выказывали большого желания иметь какие-либо связи с «кентуккийскими парнями».
Капитан стал уговаривать нас объединиться и отправиться в горы вместе. Мы тоже не испытывали большей симпатии к обществу эмигрантов, поэтому сочли предложение выгодным и согласились. Наши будущие попутчики обосновались в маленьком бревенчатом домике, где мы застали их окруженных со всех сторон сёдлами, сбруей, ружьями, пистолетами, подзорными трубами, ножами — словом, всем своим полным прерийным снаряжением. Р., заявлявший о склонности к естественной истории, сидел за столом, набивая чучело дятла; брат капитана, ирландец, сращивал на полу лассо, так как был моряком-любителем. Капитан с большим самодовольством показывал различные предметы их экипировки. «Видите ли, — сказал он, — мы все бывалые путешественники. Я убежден, что ни одна партия никогда не выходила в прерию лучше снаряженной». Нанятый ими охотник, угрюмого вида канадец по имени Сорель, и их погонщик мулов, американец из Сент-Луиса, слонялись неподалеку от постройки. В маленьком бревенчатом загоне рядом стояли их лошади и мулы, отобранные капитаном, который был отличным знатоком.
Заключив союз, мы оставили их завершать приготовления, а сами старались ускорить свои, насколько это было возможно. Эмигранты, к которым наши друзья питали такое презрение, расположились лагерем в прериях в восьми или десяти милях отсюда, числом тысяча или более, и новые группы постоянно выходили из Индепенденса, чтобы присоединиться к ним. Там царил большой беспорядок: они проводили собрания, принимали резолюции и вырабатывали правила, но не могли договориться о выборе командиров, которые повели бы их через прерии. Однажды, располагая свободным временем, я поехал верхом в Индепенденс. Город был переполнен. Множество лавок возникло, чтобы снабжать эмигрантов и торговцев из Санта-Фе всем необходимым для путешествия; и из дюжины кузниц доносился непрерывный стук и лязг, где чинили тяжелые фургоны и подковывали лошадей и волов. Улицы кишели людьми, лошадьми и мулами. Пока я был в городе, через него прошел караван эмигрантских фургонов из Иллинойса, направлявшийся присоединиться к лагерю в прериях, и остановился на главной улице. Из-под пологов фургонов выглядывало множество здоровых детских мордашек. Кое-где на лошадях сидели дородные девушки, прикрывая свои загорелые лица старыми зонтами или когда-то яркими, а теперь жалко полинявшими парасолями. Мужчины, очень степенного вида сельские жители, стояли возле своих волов; и, проезжая мимо, я заметил трёх старичков, которые, держа в руках длинные кнуты, с жаром обсуждали доктрину возрождения. Впрочем, не все эмигранты таковы. Среди них есть и самые отъявленные отверженные в стране. Мне часто приходилось ломать голову, пытаясь угадать различные побуждения, движущие этой странной миграцией; но каковы бы они ни были — безумная надежда на лучшую жизнь, желание сбросить оковы закона и общества или просто беспокойство, — несомненно то, что многие горько раскаиваются в этом путешествии и, достигнув земли обетованной, бывают счастливы убраться оттуда.
В течение семи или восьми дней мы почти завершили свои приготовления. Тем временем наши друзья закончили свои и, устав от Уэстпорта, сообщили нам, что выступят вперёд и будут ждать у переправы через Канзас, пока мы не подтянемся. Соответственно, Р. и погонщики мулов отправились вперед с фургоном и палаткой, в то время как капитан с братом, а также Сорель и присоединившийся к ним траппер по имени Буавер двинулись вслед со стадом лошадей. Начало путешествия было зловещим: капитан отъехал от Уэстпорта едва ли на милю, гордо возглавляя свою партию и ведя на поводу предназначенного для охоты на бизонов коня, как налетела страшная гроза и промочила всех до нитки. Они поспешили дальше, чтобы достичь места примерно в семи милях, где Р. должен был приготовить лагерь для их приёма. Но этот благоразумный человек, увидев приближение грозы, выбрал укрытую лесную поляну, где поставил палатку и попивал чашечку кофе с удобством, пока капитан скакал под дождём в поисках его. Наконец гроза утихла, и зоркий траппер сумел отыскать его палатку: Р. к этому времени уже допил кофе и сидел на бизоньей шкуре, попыхивая трубкой. Капитан был одним из самых невозмутимых людей на свете, так что он с большим спокойствием перенёс свою неудачу, разделил кофейную гущу с братом и улёгся спать в мокрой одежде.
Нам тоже досталось от ливня. Мы как раз вели пару мулов в Канзас, когда разразилась гроза. Таких резких и непрерывных вспышек молнии, такого оглушительного и беспрерывного грома я никогда не знал прежде. Леса полностью скрылись за косыми струями дождя, обрушивавшегося с тяжёлым гулом и вздымавшегося брызгами от земли; и ручьи поднялись так быстро, что мы с трудом могли их перейти вброд. Наконец, сквозь дождь показался бревенчатый дом полковника Чика, который принял нас со своим обычным мягким гостеприимством; в то время как его жена, хоть и немного подпорченная и ожесточенная слишком частым посещением лагерных собраний, не уступала ему в гостеприимных чувствах и предоставила нам средства привести в порядок наше промокшее и перепачканное состояние. Гроза, рассеявшаяся ближе к закату, открыла с крыльца дома полковника, стоящего на высоком холме, великолепный вид. Солнечные лучи, пробивавшиеся из разорванных туч, освещали быстрый и гневный Миссури и необъятные просторы буйных лесов, простиравшихся от его берегов к отдаленным утесам.
Вернувшись на следующий день в Уэстпорт, мы получили сообщение от капитана, который прискакал назад, чтобы передать его лично, но, обнаружив, что мы в Канзасе, вручил его своему знакомому по имени Фогель, державшему небольшую бакалейно-винную лавку. Виски, кстати, обращается в Уэстпорте свободнее, чем это совершенно безопасно в месте, где каждый человек носит в кармане заряженный пистолет. Проходя мимо этого заведения, мы увидели, как широкая немецкая физиономия Фогеля с плутоватыми глазами высунулась из двери. Он сказал, что хочет нам кое-что сообщить, и пригласил выпить. Ни его выпивка, ни его сообщение не были особо приятными. Капитан вернулся, дабы уведомить нас, что Р., взявший на себя руководство их партией, решил изменить маршрут, о котором мы договорились; и вместо того, чтобы идти путём торговцев, пройти на север через форт Ливенуорт и следовать по пути, проложенному драгунами во время их экспедиции прошлым летом. Принять такой план, не посоветовавшись с нами, мы сочли очень самоуправным поступком; но, подавив недовольство как могли, мы решили присоединиться к ним в форте Ливенуорт, где они должны были нас ждать.
Соответственно, наши приготовления теперь были завершены, и однажды прекрасным утром мы попытались начать наше путешествие. Первый шаг оказался неудачным. Едва только наших животных впрягли, как пристяжная мулица заартачилась, стала бить и рвать веревки и ремни, едва не опрокинув телегу в Миссури. Убедившись, что она совершенно не поддаётся управлению, мы обменяли её на другую, которую предоставил нам наш друг мистер Бун из Уэстпорта, внук Даниеля Буна, пионера. Это предисловие к прерийным испытаниям очень скоро сменилось другим. Уэстпорт едва скрылся из виду, как мы наткнулись на глубокую грязную промоину, подобные которой впоследствии стали для нас слишком привычными; и здесь, на протяжении часа или более, телега крепко засела.
Глава II
Первые трудности
И Шоу, и я сам были вполне привычны к превратностям путешествий. Мы испытали их в различных формах, и берестяное каноэ была для нас так же знакома, как и пароход. Беспокойство, любовь к диким местам и ненависть к городам, естественные, пожалуй, в юные годы для каждого неиспорченного сына Адама, были не единственной нашей причиной предпринять нынешнее путешествие. Мой спутник надеялся избавиться от последствий недуга, подорвавшего его изначально крепкое и здоровое сложение; а я стремился провести некоторые исследования, касающиеся характера и обычаев отдалённых индейских народов, будучи уже знаком со многими племенами на границе.
Выбравшись из грязевой топи, где мы в последний раз покинули читателя, мы продолжили свой путь некоторое время вдоль узкой тропы, в пёстрой тени и свете леса, пока наконец, выйдя на широкий простор, не оставили позади самые дальние окраины того великого леса, что некогда простирался неразрывно от западных равнин до берега Атлантики. Глядя через промежуточную полосу кустарника, мы увидели зелёное, подобное океану пространство прерии, волна за волной уходящее к горизонту.
День был мягким, тихим, весенним, когда человек более склонен к размышлениям и мечтаниям, чем к действию, и самая мягкая часть его натуры склонна брать верх. Я ехал впереди отряда, пока мы пробирались сквозь кустарник, и, поскольку укромный уголок зеленой травы представлял сильное искушение, я спешился и прилёг там. Все деревья и молодые побеги были в цвету или распускались свежей листвой; повсюду в изобилии виднелись красные гроздья кленовых соцветий и пышные цветы индейской яблони; и я был отчасти склонен сожалеть, что покидаю страну садов ради суровых сцен прерий и гор.
Тем временем отряд показался из-за кустов. Впереди ехал Генри Шатийон, наш проводник и охотник, статная, атлетичная фигура, восседающая на выносливом сером пони Вайандот. На нём был белый пальто-одеяло, широкий фетровый шляпа, мокасины и штаны из оленьей кожи, украшенные по швам рядами длинной бахромы. Его нож был заткнут за пояс; пулевой мешочек и пороховница висели сбоку, а его ружьё лежало перед ним, опираясь на высокую луку седла, которое, как и всё его снаряжение, повидало тяготы службы и сильно пообтрепалось. Шоу следовал за ним следом, верхом на маленькой гнедой лошадке и ведя на поводу более крупное животное. Его снаряжение, похожее на моё, было собрано с расчётом на пользу, а не на красоту. Оно состояло из простого чёрного испанского седла с кобурами тяжёлых пистолетов, свёрнутого позади него одеяла, и привязанного к шее лошади лассо, свисающего спереди свернутым в кольцо. Он нес двуствольное гладкоствольное ружьё, в то время как я похвалялся винтовкой весом примерно в пятнадцать фунтов. В то время наша одежда, хотя и далекая от элегантности, носила некоторые следы цивилизации и представляла весьма благоприятный контраст с неподражаемой потрёпанностью нашего вида на обратном пути. Красная фланелевая рубаха, подпоясанная вокруг талии, словно платье, составляла нашу верхнюю одежду; мокасины заменили наши дырявые сапоги; а оставшаяся существенная часть нашего туалета состояла из необычного предмета, изготовленного скво из прокопчённой оленьей кожи. Наш погонщик мулов, Делорье, замыкал шествие со своей телегой, шлёпая по щиколотку в грязи, попеременно затягиваясь своей трубкой и восклицая на своём прерийном жаргоне: «Sacré enfant de garce!», когда какой-нибудь мул будто бы отшатывался перед какой-то необычайно глубокой пропастью. Телега была того вида, что можно видеть десятками вокруг рыночной площади в Монреале, и имела белый полог, чтобы защитить вещи внутри. Это были наши припасы и палатка, вместе с боеприпасами, одеялами и подарками для индейцев.
Нас было всего четверо мужчин с восемью животными; ибо помимо запасных лошадей, которых вели Шоу и я, с нами гнали дополнительного мула про запас, на случай аварии.
После этого перечисления наших сил, возможно, не будет лишним бросить взгляд на характеры двух мужчин, которые нас сопровождали.
Делорье был канадцем, со всеми характерными чертами истинного Жана Батиста. Ни усталость, ни лишения, ни тяжелый труд не могли умалить его жизнерадостности и весёлости, или его подобострастной вежливости к своему буржуа; и когда наступала ночь, он садился у огня, курил свою трубку и рассказывал истории с величайшим довольством. По сути, прерия была его родной стихией. Генри Шатийон был из другого теста. Когда мы были в Сент-Луисе, несколько джентльменов из Пушной компании любезно предложили подыскать нам подходящего для наших целей охотника и проводника, и, зайдя однажды днем в контору, мы обнаружили там высокого и чрезвычайно хорошо одетого мужчину с лицом настолько открытым и прямым, что оно сразу привлекло наше внимание. Мы были удивлены, узнав, что именно он желает провести нас в горы. Он родился в маленьком французском городке близ Сент-Луиса, и с пятнадцати лет постоянно находился в окрестностях Скалистых гор, будучи по большей части нанят Компанией для снабжения их фортов бизоньим мясом. Как охотнику, у него был лишь один соперник во всём регионе, человек по имени Симонэ, с которым, к чести обоих, он состоял в самых близких дружеских отношениях. Он прибыл в Сент-Луис накануне, с гор, где пробыл четыре года; и теперь он просил лишь съездить и провести день с матерью, прежде чем отправляться в новую экспедицию. Ему было около тридцати; рост его был шесть футов, сложен он был очень мощно и грациозно. Прерии были его школой; он не умел ни читать, ни писать, но обладал природной утончённостью и деликатностью души, какие редко встречаются даже у женщин. Его мужественное лицо было совершенным зеркалом честности, простоты и доброты сердца; более того, он обладал острым восприятием характера и тактом, которые уберегли бы его от вопиющих ошибок в любом обществе. У Генри не было неугомонной энергии англо-американца. Он был доволен тем, чтобы принимать вещи такими, какие они есть; и его главный недостаток проистекал из избытка легкой щедрости, побуждавшей его раздавать слишком щедро, чтобы когда-либо преуспеть в мире. И всё же о нём обычно говорили: что бы он ни делал с тем, что принадлежало ему самому, собственность других всегда была в безопасности в его руках. Его храбрость была так же знаменита в горах, как и его мастерство в охоте; но характерно для него то, что в стране, где винтовка является главным арбитром между людьми, Генри очень редко бывал вовлечён в ссоры. Раз или два, правда, его тихое добродушие было неправильно понято и принято как должное, но последствия этой ошибки были настолько грозными, что никто никогда не был замечен в ее повторении. Не могло быть лучшего доказательства бесстрашия его нрава, чем общая молва, что он убил более тридцати гризли. Он был доказательством того, на что иногда способна неиспорченная природа сама по себе. Я никогда ни в городе, ни в дикой природе не встречал человека лучше, чем мой благородный и верный друг, Генри Шатийон.
Вскоре мы выбрались из лесов и кустов и очутились на широкой прерии. Время от времени нас обгонял индеец-Шауни, скачущий на своём маленьком лохматом пони рысцой; его ситцевая рубаха, его пёстрый пояс и яркий платок, повязанный вокруг его змеевидных волос, развевались на ветру. В полдень мы остановились передохнуть неподалеку от маленького ручья, кишащего лягушками и молодыми черепахами. Здесь прежде был индейский лагерь, и каркасы их конусовидных палаток всё ещё стояли, позволяя нам очень легко укрыться от солнца, просто набросив одно или два одеяла поверх них. Укрытые таким образом тенью, мы сидели на своих сёдлах, и Шоу впервые закурил свою любимую индейскую трубку; в то время как Делорье сидел на корточках над горячими углями, прикрывая одной рукой глаза, а в другой держа маленькую палочку, которой он помешивал шипящее содержимое сковороды. Лошадей отпустили пастись среди разбросанных кустов низкого топкого луга. В воздухе царила дремотная, весенняя духота, и голоса десяти тысяч молодых лягушек и насекомых, только что пробудившихся к жизни, поднимались разнообразным хором из ручья и лугов.
Едва мы уселись, как появился посетитель. Это был старый индеец Канза; человек знатного положения, если судить по его одежде. Его голова была выбрита и выкрашена красным, и из пучка волос, оставшегося на макушке, свисало несколько орлиных перьев и хвосты двух или трёх гремучих змей. Его щёки тоже были вымазаны красной краской; уши украшены зелёными стеклянными подвесками; ожерелье из когтей гризли окружало его шею, и несколько больших ниток вампума висели на его груди. Пожав нам руки с сердечным хриплым приветствием, старик, сбросив красное одеяло с плеч, сел на землю скрестив ноги. За неимением виски мы предложили ему чашку подслащённой воды, на что он воскликнул: «Хорошо!» и начал рассказывать нам, каким великим человеком он был и сколько Поуней он убил, когда вдруг появилась пёстрая толпа, бредущая через ручей к нам. Они прошли мимо быстрой чередой, мужчины, женщины и дети; некоторые были верхом, некоторые пешком, но все одинаково грязные и жалкие. Старые скво, сидящие верхом на лохматых, тощих маленьких пони, с одним или двумя узкоглазыми детьми позади, цепляющимися за их оборванные одеяла; высокие, худощавые молодые мужчины пешком, с луками и стрелами в руках; и девушки, чью природную некрасивость не могли скрыть все прелести стеклянных бус и алой ткани, составляли это шествие; хотя кое-где попадался мужчина, который, как и наш посетитель, казалось, имел некоторый статус в этом почтённом сообществе. Это были отбросы народа Канза, которые, пока их лучшие соплеменники отправились на охоту за бизонами, покинули деревню с попрошайнической экспедицией в Уэстпорт.
Когда эта оборванная орда прошла, мы поймали наших лошадей, оседлали, впрягли и возобновили наше путешествие. Перебираясь через ручей, мы увидели слева низкие крыши нескольких грубых построек, поднимающиеся из рощицы деревьев и леса; и проехав вверх по длинной аллее, среди обилия диких роз и ранних весенних цветов, мы нашли бревенчатую церковь и школьные здания, принадлежащие методистской миссии Шауни. Индейцы собирались на религиозное собрание. Несколько десятков из них, высоких мужчин в полуцивилизованной одежде, сидели на деревянных скамьях под деревьями; в то время как их лошади были привязаны к навесам и заборам. Их вождь, Паркс, человек необычайно крупный и крепкого сложения, только что прибыл из Уэстпорта, где у него есть торговое заведение. Кроме того, у него есть хорошая ферма и значительное количество рабов. Действительно, Шауни достигли большего прогресса в земледелии, чем любое другое племя на границе Миссури; и как внешне, так и по характеру составляют разительный контраст с нашими недавними знакомыми, Канза.
Несколько часов езды привели нас к берегам реки Канзас. Проехав леса, окаймлявшие её, и пробираясь сквозь глубокий песок, мы разбили лагерь недалеко от берега, у Нижней делаварской переправы. Наша палатка была впервые поставлена на лугу близ леса, и, завершив лагерные приготовления, мы начали думать об ужине. Пожилая делаварская женщина, весом около трехсот фунтов, сидела на крыльце маленького бревенчатого домика у самой воды, и очень милая девушка-метиска под её присмотром кормила большую стаю индеек, которые суетились и кудахтали у двери. Но никакие предложения денег или даже табака не могли заставить её расстаться с одним из своих любимцев; так что я взял свою винтовку, чтобы посмотреть, не найдётся ли чего в лесу или реке. Множество перепелов жалобно перекликались в лесах и на лугах; но ничего подходящего для винтовки не было видно, кроме трёх стервятников, сидящих на призрачных ветвях старого мёртвого платана, который выдвигался над рекой из плотной солнечной стены свежей листвы. Их уродливые головы были втянуты в плечи, и они, казалось, упивались мягким солнечным светом, лившимся с запада. Поскольку они не предлагали никаких гастрономических соблазнов, я воздержался от того, чтобы нарушить их наслаждение; но удовлетворился восхищением спокойной красотой заката, ибо река, стремительно кружащаяся в глубоких пурпурных тенях среди нависших лесов, представляла дикую, но умиротворяющую картину.
Когда я вернулся в лагерь, то обнаружил Шоу и старого индейца, сидящих на земле; в неторопливой беседе они передавали друг другу трубку. Старик объяснял, что он любит белых и питает особую слабость к табаку. Делорье расставлял на земле наш сервиз из жестяных кружек и тарелок; и поскольку других яств не было, он предложил нам трапезу из галет и бекона и большой горшок кофе. Обнажив ножи, мы набросились на еду, расправились с большей частью, а остатки подкинули индейцу. Тем временем наши лошади, теперь впервые спутанные, стояли среди деревьев, со связанными передними ногами, в великом отвращении и изумлении. Им, по-видимому, вовсе не по нраву пришёлся этот предварительный вкус того, что их ожидало. Мои лошади, в частности, питали моральное отвращение к прерийной жизни. Одна из них, по имени Гендрик, животное, чьими единственными достоинствами были сила и выносливость, и которое уступало лишь веским аргументам кнута, смотрела на нас с негодующим видом, словно замышляя отомстить за свои обиды ударом копыта. Другая, Понтиак, хорошая лошадь, хотя и плебейского происхождения, стояла с опущенной головой и гривой, свисающей на глаза, с огорчённым и угрюмым видом неловкого мальчишки, отправленного в школу. Бедный Понтиак! Его предчувствия были лишь слишком справедливы; ибо когда я в последний раз получил о нем вести, он находился под кнутом храбреца Оглала, в военном отряде, выступившем против Кроу.
Когда стемнело, и голоса козодоев сменили свист перепелов, мы перенесли наши сёдла в палатку, чтобы использовать их в качестве подушек, разостлали наши одеяла на земле и приготовились впервые в этом сезоне ночевать под открытым небом. Каждый выбрал в палатке место, которое он будет занимать на протяжении путешествия. Однако Делорье был определён в телегу, куда он мог забираться в дождливую погоду и находить гораздо лучшее убежище, чем то, которым его буржуа наслаждался в палатке.
Река Канзас в этом месте образует границу между землями Шауни и Делаваров. Мы пересекли её на следующий день, с большим трудом переправив на плоту наших лошадей и снаряжение, и разгрузив нашу телегу, чтобы подняться по крутому подъему на дальнем берегу. Было воскресное утро; тёплое, безмятежное и ясное; и совершенная тишина царила над грубыми оградами и запущенными полями Делаваров, если не считать неумолчного гула и стрекотания мириад насекомых. Время от времени проезжал мимо индеец по пути в молитвенный дом, или сквозь развалившийся вход какого-нибудь полуразрушенного бревенчатого дома можно было различить старуху, наслаждающуюся всеми прелестями праздности. Не было деревенского колокола, ибо у Делаваров его нет; и всё же над этим заброшенным и грубым поселением витал тот же дух воскресного покоя и безмятежности, что и в какой-нибудь маленькой деревушке Новой Англии среди гор Нью-Гэмпшира или в лесах Вермонта.
Не имея в настоящее время досуга для подобных размышлений, мы продолжили наше путешествие. От этого пункта шла военная дорога к форту Ливенуорт, и на многие мили фермы и хижины Делаваров были разбросаны через короткие промежутки по обе стороны. Маленькие грубые постройки из брёвен, возведённые обычно на опушках лесных участков, составляли живописную деталь пейзажа. В то раннее время года, к тому же, природа была в зените своей свежести и пышности. Леса были окрашены красными почками клёна; часто встречались цветущие кустарники, неизвестные на востоке; и зеленые взгорья прерий были густо усеяны цветами.
Расположившись лагерем у источника на склоне холма, мы возобновили наш путь утром и к ближе к полудню оказались в нескольких милях от форта Ливенуорт. Дорога пересекала ручей, густо окаймленный деревьями и бегущий по дну глубокого лесистого оврага. Мы уже собирались спускаться в него, когда появилась дикая и нестройная процессия, проходящая через воду внизу и поднимающаяся по крутому склону к нам. Мы остановились, чтобы дать им пройти. Это были Делавары, только что вернувшиеся с охотничьей экспедиции. Все, и мужчины, и женщины, были верхом на лошадях, и гнали с собой значительное количество вьючных мулов, нагруженных добытыми ими шкурами, вместе с бизоньими накидками, котлами и другими предметами их походного снаряжения, которые, как и их одежда и оружие, имели поношенный и потрёпанный вид, словно они недавно прошли через тяжёлые испытания. В хвосте процессии ехал старик, который, поравнявшись с нами, остановил свою лошадь, чтобы поговорить с нами. Он ехал на маленьком выносливом лохматом пони, чьи грива и хвост были густо усеяны репейником, а во рту у него был ржавые испанские удила, к которому вместо поводьев была привязана сыромятная верёвка. Его седло, вероятно, добытое у мексиканца, не имело покрышки, представляя собой лишь деревянную ленчу испанской формы, с куском шкуры гризли поверх, парой грубых деревянных стремян и, за отсутствием подпруги, ремнём из сыромятной кожи, обхватывающим брюхо лошади. Тёмные черты лица и острые змеиные глаза всадника были недвусмысленно индейскими. На нём была рубаха из оленьей кожи, которая, как и его бахромчатые гетры, была хорошо натёрта и почернела от жира и долгой службы; и старый платок был повязан вокруг его головы. На седле перед ним лежало его ружьё, оружие, в обращении с которым Делавары искусны, хотя из-за своего веса далёкие прерийные индейцы слишком ленивы, чтобы носить его.
«Кто ваш вождь?» — сразу же спросил он.
Генри Шатийон указал на нас. Старый Делавар пристально уставился на нас на мгновение, а затем многозначительно заметил: «Нехорошо! Слишком молоды!» С этим лестным комментарием он оставил нас и поехал вслед за своим народом.
Это племя, Делавары, некогда мирные союзники Уильяма Пенна, данники победоносных Ирокезов, ныне являются самыми предприимчивыми и грозными воинами в прериях. Они ведут войну с отдалёнными племенами, самые имена которых были неизвестны их отцам на их древних землях в Пенсильвании; и они ведут эти новые распри с истинной индейской яростью, посылая свои маленькие военные отряды вплоть до Скалистых гор и на мексиканские территории. Их соседи и бывшие союзники, Шауни, которые являются сносными земледельцами, находятся в процветающем состоянии; но Делавары с каждым годом уменьшаются в числе из-за потерь мужчин в их воинственных экспедициях.
Вскоре после того, как мы покинули эту группу, мы увидели справа лесные массивы, следующие по течению Миссури, и глубокий лесистый коридор, по которому она в этом месте протекает. Впереди вдали виднелись белые бараки форта Ливенуорт, едва заметные сквозь деревья на возвышенности над изгибом реки. Между нами и Миссури лежал широкий зеленый луг, ровный как озеро, и на нём, близ ряда деревьев, окаймлявших маленький ручей, стояла палатка капитана и его спутников, с их лошадьми, пасущимися вокруг, но сами они были не видны. Райт, их погонщик мулов, сидел там на дышле фургона, чиня свою сбрую. Буавер стоял у входа в палатку, чистя своё ружьё, а Сорель бездельничал поблизости. При более внимательном рассмотрении, однако, мы обнаружили брата капитана, Джека, сидящего в палатке за своим старым занятием — сращиванием лассо. Он приветствовал нас своим широким ирландским выговором и сказал, что его брат рыбачит в реке, а Р. отправился в гарнизон. Они вернулись до заката. Тем временем мы поставили нашу собственную палатку неподалеку, и после ужина был проведен совет, на котором было решено остаться один день в форте Ливенуорт, а на следующий окончательно попрощаться с границей: или, на языке этих мест, «спрыгнуть». Наши дебаты велись при красноватом свете от далёкого взгорья прерии, где горела сухая трава прошлого лета.
Глава III
Форт Ливенуорт
На следующее утро мы отправились верхом в форт Ливенуорт. Полковник, ныне генерал, Кирни, которому я имел честь быть представленным в Сент-Луисе, только что прибыл и принял нас в своей штаб-квартире с присущей ему изысканной учтивостью. Форт Ливенуорт, по сути, не является фортом, не имея оборонительных сооружений, кроме двух блокгаузов. Никакие слухи о войне ещё не нарушали его спокойствия. На квадратной заросшей травой площади, окружённой казармами и офицерскими квартирами, солдаты проходили и сновали туда-сюда или слонялись среди деревьев; хотя несколько недель спустя она представляла собой иную картину; ибо здесь собирались самые отбросы границы.
Проехав через гарнизон, мы поскакали к деревне Кикапу, в пяти-шести милях дальше. Тропа, довольно сомнительная и неопределённая, вела нас по гребню высоких утесов, окаймлявших Миссури; и, глядя направо или налево, мы могли наслаждаться странным контрастом противоположных пейзажей. Слева простиралась прерия, вздымаясь в холмы и волнистые возвышенности, густо усеянные рощами, или изящно расширяясь в широкие травянистые котловины протяженностью в мили; в то время как её изгибы, вздымающиеся к горизонту, часто увенчивались линиями солнечных лесов; картина, которой свежесть сезона и особая мягкость атмосферы придавали дополнительную нежность. Под нами, справа, был участок неровного и разбросанного леса. Мы могли смотреть вниз на вершины деревьев, некоторые живые, некоторые мертвые; одни стояли прямо, другие наклонялись под всевозможными углами, а иные еще были свалены в кучи прошедшим ураганом. За их крайней чертой сквозь ветви проглядывали мутные воды Миссури, мощно катящиеся у подножия лесистых склонов ее дальнего берега.
Вскоре тропа свернула вглубь суши; и, пересекая открытый луг, мы увидели перед собой на возвышении группу построек, окруженную толпой людей. Это были склад, дом и конюшни заведения торговца с Кикапу. Как раз в тот момент, случайно, его осаждала половина индейцев поселения. Они привязали своих жалких, запущенных пони десятками вдоль заборов и хозяйственных построек и либо слонялись вокруг, либо толпились в торговом доме. Здесь были лица различных цветов: красные, зелёные, белые и чёрные краски, причудливо смешанные и расположенные на лице в разнообразных узорах. Ситцевые рубахи, красные и синие одеяла, латунные серьги, ожерелья из вампума появлялись в изобилии. Торговец был голубоглазым, открытым мужчиной, который ни в манерах, ни во внешности не проявлял грубости, свойственной фронтиру; хотя в данный момент он был вынужден держать рысий глаз на своих подозрительных клиентах, которые, мужчины и женщины, взбирались на его прилавок и усаживались среди его ящиков и тюков.
Сама деревня была недалеко и достаточно иллюстрировала состояние её несчастных и опустившихся обитателей. Представьте себе маленький быстрый ручей, петляющий по лесистой долине; иногда полностью скрытый под бревнами и упавшими деревьями, иногда вырывающийся наружу и расширяющийся в широкий, чистый омут; и на его берегах, в маленьких уголках, расчищенных среди деревьев, миниатюрные бревенчатые домики в полном запустении и упадке. Лабиринт узких, загроможденных тропинок соединял эти жилища друг с другом. Иногда мы встречали заблудшего теленка, свинью или пони, принадлежащих кому-то из жителей, которые обычно лежали на солнце перед своими жилищами и смотрели на нас холодными, подозрительными глазами по мере нашего приближения. Дальше, вместо бревенчатых хижин Кикапу, мы нашли корьевые вигвамы их соседей, Потаватоми.
Наконец, устав и измученные чрезмерной жарой и духотой дня, мы вернулись к нашему другу, торговцу. К этому времени толпа вокруг него рассеялась, и он остался один. Он пригласил нас в свой дом, маленькое бело-зелёное здание в стиле старых французских поселений; и провёл нас в аккуратную, хорошо обставленную комнату. Ставни были закрыты, и жара, и ослепительный солнечный свет были исключены; в комнате было прохладно, как в пещере. Она была также аккуратно застлана ковром и обставлена так, как мы едва ли ожидали на границе. Диваны, стулья, столы и хорошо укомплектованный книжный шкаф не опозорили бы восточный город; хотя были одна-две маленькие детали, указывавшие на довольно сомнительную цивилизованность региона. На каминной полке лежал пистолет, заряженный и взведенный; а сквозь стекло книжного шкафа, выглядывая поверх произведений Джона Мильтона, поблескивала рукоять очень зловещего на вид ножа.
Наш хозяин вышел и вернулся с охлаждённой водой, стаканами и бутылкой отличного кларета; и вскоре появилась весёлая, смеющаяся женщина, которая, должно быть, год или два назад являла собой образец пышной и роскошной креольской красоты. Она пришла сказать, что ленч подан в соседней комнате. Наша хозяйка, очевидно, жила на солнечной стороне жизни и не обременяла себя её заботами. Она села и развлекала нас за столом рассказами о рыбалках, веселье и офицерах в форте. В конце концов попрощавшись с гостеприимным торговцем и его подругой, мы поехали обратно в гарнизон.
Шоу отправился в лагерь, а я остался навестить полковника Кирни. Я застал его ещё за столом. Там сидел наш друг капитан в тех же примечательных одеяниях, в которых мы видели его в Уэстпорте; черная трубка, однако, была на время отложена. Он болтал в руке свою маленькую шапочку и говорил о стипл-чейзах, время от времени касаясь своих предвкушаемых подвигов в охоте на бизонов. Там же был и Р., одетый несколько более элегантно. В последний раз мы вкусили роскоши цивилизации и выпили прощальный тост за нее вином, достаточно хорошим, чтобы заставить нас почти пожалеть о расставании. Затем, сев верхом, мы вместе поехали в лагерь, где всё было готово к отъезду на следующий день.
Глава IV
Мы выступаем
Читателю нет нужды говорить, что Джон Буль никогда не покидает дом, не обременив себя по возможности наибольшим грузом багажа. Наши спутники не были исключением из правила. У них был фургон, запряженный шестью мулами и набитый припасами на шесть месяцев, кроме боеприпасов на целый полк; запасные винтовки и охотничьи ружья, верёвки и сбруя; личный багаж и пёстрая коллекция вещей, которые причиняли бесконечные затруднения в пути. Они также украсили свои особы подзорными трубами и портативными компасами и несли английские двуствольные винтовки калибра шестнадцать на фунт, перекинутые через седла на драгунский манер.
К восходу солнца 23 мая мы уже позавтракали; палатки были сняты, животные осёдланы и впряжены, и всё было готово. «Avance donc! Пошёл!» — крикнул Делорье со своего места впереди телеги. Райт, погонщик мулов нашего друга, после некоторых ругательств и ударов кнутом, привел в движение свой непокорный караван, и тогда вся партия тронулась с места. Так мы надолго попрощались с постелью и столом, и с принципами «Комментариев» Блэкстоуна. День был самым благоприятным; и все же Шоу и я испытывали определенные опасения, которые впоследствии оказались лишь слишком обоснованными. Мы только что узнали, что хотя Р. взял на себя смелость выбрать этот маршрут, не посоветовавшись с нами, ни один человек в отряде не был с ним знаком; и нелепость высокомерного поступка нашего друга очень скоро стала очевидной. Его план состоял в том, чтобы выйти на след нескольких рот драгун, которые прошлым летом совершили экспедицию под командованием полковника Кирни к форту Ларами, и таким образом добраться до главной тропы орегонских эмигрантов вдоль Платта.
Мы ехали час или два, когда на маленьком холме показалась знакомая группа построек. «Эй!» — крикнул торговец с Кикапу из-за своего забора. — «Куда это вы направляетесь?» Кто-то довольно выразительно выругался, когда мы обнаружили, что отклонились на много миль в сторону и не продвинулись ни на дюйм к Скалистым горам. Поэтому мы повернули в направлении, указанном торговцем, и, используя солнце в качестве проводника, начали прокладывать «прямую линию» через прерии. Мы пробирались сквозь заросли и линии леса; мы переходили вброд ручьи и лужи; мы пересекали изумрудно-зелёные прерии, расстилавшиеся перед нами на мили; более широкие и дикие, чем пустоши, по которым скакал Мазепа:
«Ни человека, ни зверя,
Ни следа копыта, ни отпечатка ноги
Не лежало на дикой пышной почве;
Ни знака пути; ни знака труда;
Сам воздух был нем».
Едучи впереди, мы проехали по одной из этих великих равнин; мы оглянулись и увидели цепочку разбросанных всадников, тянущуюся на милю или более; и далеко позади на горизонте — белые фургоны, медленно ползущие. «Вот мы и на месте наконец!» — крикнул капитан. И в самом деле, мы наткнулись на следы большого конного отряда. Мы радостно повернули и последовали по этому новому пути, с настроением несколько улучшенным; и к закату расположились лагерем на высоком взгорье прерии, у подножия которого ленивый ручей просачивался сквозь заросли буйной травы. Начинало темнеть. Мы отпустили лошадей пастись. «Вбейте колья для палатки крепче, — сказал Генри Шатийон, — будет буря». Мы так и сделали и укрепили палатку как могли; ибо небо полностью изменилось, и свежий влажный запах в ветре предупреждал нас, что бурная ночь, вероятно, сменит жаркий ясный день. Прерия тоже приняла новый вид, и ее огромные взгорья почернели и потемнели под тенью облаков. Гром вскоре начал ворчать вдали. Привязав и спутав лошадей среди сочной травы у подножия склона, где мы разбили лагерь, мы укрылись как раз, когда начался дождь; и сидели у входа в палатку, наблюдая за действиями капитана. Несмотря на дождь, он расхаживал среди лошадей, закутавшись в старый шотландский плед. Его мучила крайняя тревога, как бы кто-нибудь из его любимцев не сбежал, или с ними не случилось какой-нибудь беды; и он тревожно поглядывал на трех волков, крадущихся по унылой поверхности равнины, словно опасаясь с их стороны какой-нибудь враждебных проявлений.
На следующее утро мы проехали всего милю или две, когда вышли к обширной полосе леса, посреди которого протекал ручей, широкий, глубокий и с видом особенно мутным и коварным. Делорье ехал впереди со своей телегой; он выхватил трубку изо рта, хлестнул мулов и обрушил град канадских восклицаний. Телега врезалась в воду, но на середине крепко засела. Делорье выпрыгнул по колено в воду и, благодаря sacres и энергичному применению кнута, вытащил мулов из трясины. Затем подъехала длинная упряжка и тяжёлый фургон наших друзей; но он остановился на краю.
— Мой совет таков, — начал капитан, который с тревогой созерцал грязную пучину.
— Вперёд! — крикнул Р.
Но Райт, погонщик мулов, по-видимому, ещё не решил этот вопрос для себя, и он сидел неподвижно на своем месте на одном из вьючных мулов, насвистывая себе что-то вполголоса задумчиво.
— Мой совет, — продолжил капитан, — разгрузиться; ибо я готов побиться об заклад с любым на пять фунтов, что если мы попробуем проехать, то крепко завязнем.
— Ей-богу, мы завязнем! — отозвался Джек, брат капитана, качая своей большой головой с видом твердого убеждения.
— Вперёд! Вперёд! — нетерпеливо кричал Р.
— Что ж, — заметил капитан, обращаясь к нам, пока мы сидели и наблюдали, весьма поучившись этому побочному действию среди наших союзников, — я могу только дать совет, и если люди не хотят быть благоразумными, что ж, не хотят; вот и все!»
Тем временем Райт, по-видимому, принял решение; ибо он внезапно начал выкрикивать град ругательств и проклятий, которые по сравнению с французскими импрекациями Делорье звучали как грохот тяжелых орудий после треска и шипения связки китайских хлопушек. В то же время он обрушил ливень ударов на своих мулов, которые поспешно нырнули в грязь и потащили за собой фургон, громыхая. На мгновение исход был сомнителен. Райт извивался в седле и ругался, и хлестал как безумный; но кто может положиться на упряжку полуобъезженных мулов? В самый критический момент, когда все должно было быть гармонией и согласованными усилиями, упрямые твари впали в прискорбный беспорядок и столпились в смятении на дальнем берегу. Фургон стоял по ступицу в грязи и заметно оседал с каждым мгновением. Делать было нечего, кроме как разгружать; затем копать лопатой грязь из-под колес и прокладывать мостовину из кустов и веток. Когда этот приятный труд был завершен, фургон наконец выбрался; но если я упомяну, что подобные перерывы случались по крайней мере четыре или пять раз в день на протяжении двух недель, читатель поймёт, что наше продвижение к Платту не обошлось без препятствий.
Мы проехали еще шесть или семь миль и остановились на полуденный привал у ручья. Собираясь возобновить путь, когда всех лошадей согнали к воде, мой тоскующий по дому конь, Понтиак, внезапно прыгнул через ручей и пустился рысью к поселениям. Я сел на оставшуюся лошадь и бросился в погоню. Сделав круг, я перехватил беглеца, надеясь загнать его обратно в лагерь; но он мгновенно перешел в галоп, сделал широкий круг по прерии и снова проскочил мимо меня. Я попробовал этот план несколько раз, с тем же результатом; Понтиаку явно прерия опостылела; поэтому я отказался от него и попробовал другой, рысью подъезжая к нему сзади, в надежде, что смогу тихо подобраться достаточно близко, чтобы схватить лассо, привязанное к его шее и волочившееся на дюжину футов позади него. Погоня становилась интересной. Милю за милей я следовал за негодником, с величайшей осторожностью, чтобы не спугнуть его, и постепенно приближался, пока наконец нос старого Гендрика не коснулся мелькающего хвоста ничего не подозревающего Понтиака. Не осаживая, я мягко соскользнул на землю; но моя длинная тяжёлая винтовка стесняла меня, и низкий звук, который она издала, ударившись о луку седла, испугал его; он насторожил уши и бросился бежать. «Друг мой, — подумал я, снова садясь в седло, — сделай так ещё раз, и я пристрелю тебя!»
Форт Ливенуорт находился примерно в сорока милях, и я решил следовать туда. Я настроился провести одинокую и голодную ночь, а затем снова отправиться утром. Однако оставалась одна надежда. Ручей, где застрял фургон, был как раз перед нами; Понтиак мог захотеть пить после бега и остановиться там попить. Я держался как можно ближе к нему, принимая все меры предосторожности, чтобы снова не спугнуть; и результат подтвердил мои надежды: ибо он неторопливо вошел среди деревьев и наклонился к воде. Я спешился, протащил старого Гендрика через грязь и с чувством бесконечного удовлетворения поднял скользкое лассо и обмотал его три раза вокруг руки. «Ну, посмотрим, как ты теперь уйдёшь!» — подумал я, снова садясь в седло. Но Понтиак был чрезвычайно не склонен поворачивать назад; Гендрик тоже, который, очевидно, льстил себя тщетными надеждами, проявлял величайшее отвращение и ворчал свойственным ему образом, будучи вынужден повернуться. Резкий удар кнута восстановил его бодрость; и, таща за собой возвращенного беглеца, я отправился на поиски лагеря. Прошел час или два, когда, ближе к закату, я увидел палатки, стоящие на пышном взгорье прерии, за линией леса, в то время как табуны лошадей паслись на низком лугу неподалеку. Там сидел Джек К., скрестив ноги на солнце, сращивая лассо, а остальные лежали на траве, курили и рассказывали истории. В ту ночь мы насладились серенадой волков, более оживленной, чем любая, которой они нас до сих пор удостаивали; и утром один из музыкантов появился в нескольких шагах от палаток, спокойно сидя среди лошадей и глядя на нас парой больших серых глаз; но, заметив, что на него наведена винтовка, он вскочил и умчался в горячей поспешности.
Я опускаю следующий день или два нашего путешествия, ибо ничего достойного записи не произошло. Если кому-то из моих читателей когда-либо вздумается посетить прерии, и если он выберет маршрут вдоль Платта (пожалуй, лучший из возможных), могу уверить его, что ему не следует думать, что он сразу попадет в рай своего воображения. Унылое предварительное, затянувшееся пересечение порога ждёт его, прежде чем он окажется на самом краю «великой американской пустыни», тех бесплодных пустошей, прибежища бизонов и индейцев, где сама тень цивилизации лежит в сотне лье позади него. Промежуточная страна, широкая и плодородная полоса, простирающаяся на несколько сот миль за пределы крайней границы, вероятно, будет соответствовать его предвзятым представлениям о прерии; ибо именно оттуда живописные туристы, художники, поэты и романисты, редко проникавшие дальше, черпали свои представления обо всем регионе. Если у него есть глаз художника, он может обнаружить, что его период испытаний не лишен интереса. Пейзаж, хотя и спокойный, изящен и приятен. Здесь есть равнины, слишком широкие, чтобы глаз мог их измерить; зеленые волнообразные возвышенности, подобные недвижным океанским валам; обилие ручьев, по всем своим изгибам сопровождаемых линиями леса и разбросанными рощами. Но пусть он будет сколь угодно восторженным, он найдёт достаточно, чтобы охладить его пыл. Его фургоны будут застревать в грязи; его лошади будут срываться; сбруя будет рваться, а оси окажутся ненадежными. Его постель будет мягкой, часто состоящей из чёрной грязи самой густой консистенции. Что касается еды, ему придётся довольствоваться галетами и солониной; ибо, как бы странно это ни казалось, этот участок страны очень беден на дичь. По мере продвижения он будет видеть, истлевающие в траве огромные рога лося, а дальше — побелевшие черепа бизонов, некогда кишащих в этом ныне заброшенном регионе. Возможно, как и мы, он может путешествовать две недели и не увидит и следов оленя; весной нельзя найти даже прерийную курочку.
Однако, чтобы компенсировать ему этот неожиданный недостаток дичи, он обнаружит себя осаждённым бесчисленными «тварями». Волки будут развлекать его ночным концертом и красться вокруг днём, чуть дальше выстрела из винтовки; его лошадь будет попадать в барсучьи норы; из каждого болота и грязной лужи будет подниматься рев, кваканье и трель легионов лягушек, бесконечно разнообразных по цвету, форме и размеру. Изобилие змей будет уползать из-под копыт его лошади или тихо навещать его в палатке ночью; в то время как назойливое жужжание несметного количества комаров изгонит сон с его век. Когда он, измученный жаждой после долгой скачки под палящим солнцем по какой-нибудь безбрежной прерии, наконец добирается до лужи воды и спешивается, чтобы напиться, он обнаруживает в дне своей кружки резвящуюся стайку головастиков. Добавьте к этому, что всё утро жаркое солнце бьёт в него знойным, проникающим жаром, и что, с досадной регулярностью, около четырёх часов дня поднимается гроза, и он промокает до нитки. Таковы прелести этого благословенного края, и читатель легко представит себе степень нашего удовлетворения, узнав, что целую неделю мы шли не по той тропе! Как было сделано это приятное открытие, я сейчас объясню.
Однажды, после утомительной утренней поездки, мы остановились отдохнуть в полдень на открытой прерии. Ни одного дерева не было видно; но рядом маленький журчащий ручей извивался из стороны в сторону по ложбине; то образуя лужи стоячей воды, то скользя едва заметным течением по грязи, среди чахлых кустов и больших зарослей высокой буйной травы. День был чрезвычайно жарким и душным. Лошади и мулы катались по прерии, чтобы освежиться, или паслись среди кустов в ложбине. Мы пообедали; и Делорье, затягиваясь своей трубкой, стоял на коленях на траве, отмывая наш жестяной сервиз. Шоу лежал в тени под фургоном, чтобы отдохнуть немного, прежде чем будет дана команда «собираться». Генри Шатийон, прежде чем лечь, оглядывался в поисках признаков змей, единственных живых существ, которых он боялся, и испускал различные восклицания отвращения, обнаружив несколько подозрительных нор рядом с фургоном. Я сидел, прислонившись к колесу в узкой полоске тени, делая пару пут, чтобы заменить те, которые мой непокорный конь Понтиак сломал прошлой ночью. Лагерь наших друзей, в нескольких шагах от нас, представлял ту же сцену ленивого спокойствия.
«Эй! — крикнул Генри, поднимая глаза от осмотра змеиных нор, — а вот и старый капитан!»
Капитан подошел и постоял некоторое время, созерцая нас в молчании.
«Слушай, Паркмэн, — начал он, — посмотри на Шоу там, спящего под фургоном, с дёгтем, капающим со ступицы колеса ему на плечо!»
Услышав это, Шоу поднялся, с полуоткрытыми глазами, и, потрогав указанное место, обнаружил, что его рука крепко прилипла к его красной фланелевой рубахе.
«Хорош он будет, когда попадёт к скво, а?» — заметил капитан с усмешкой.
Затем он заполз под фургон и начал рассказывать истории, запас которых был у него неиссякаем. И все же каждое мгновение он нервно поглядывал на лошадей. Наконец он вскочил в большом возбуждении. «Видите ту лошадь! Вон — та, что идёт через холм! Ей-богу, она уходит. Это ваша большая лошадь, Шоу; нет, это не она, это лошадь Джека! Джек! Джек! Эй, Джек!» Джек, вызванный таким образом, вскочил и уставился на нас бессмысленно.
«Иди и лови свою лошадь, если не хочешь потерять её!» — заревел капитан.
Джек мгновенно бросился бежать через траву, его широкие панталоны шлепали вокруг ног. Капитан тревожно следил взглядом, пока не увидел, что лошадь поймана; затем он сел, с выражением задумчивости и заботы.
«Говорю вам, что это, — сказал он, — так никогда не пойдёт. Мы однажды потеряем каждую лошадь в отряде, и тогда каково нам будет! Теперь я убеждён, что единственный способ для нас — чтобы каждый человек в лагере по очереди стоял в конном дозоре, когда мы останавливаемся. Предположим, сотня Поуней выскочит из того оврага, все вопят и размахивают своими бизоньими плащами, как они это делают? Да через две минуты ни одного копыта не останется в поле зрения». Мы напомнили капитану, что сотня Поуней, вероятно, уничтожит конный дозор, если тот попытается сопротивляться их грабежу.
«Во всяком случае, — продолжал капитан, уклоняясь от сути, — вся наша система неверна; я в этом убежден; она совершенно немилитаристская. Да ведь мы путешествуем так, растянувшись на милю по прерии, враг мог бы атаковать передовых и отрезать их, прежде чем остальные успеют подойти».
«Мы ещё не во вражеской стране, — сказал Шоу; — когда будем, мы будем путешествовать вместе».
«Тогда, — сказал капитан, — на нас могут напасть в лагере. У нас нет часовых; мы разбиваем лагерь беспорядочно; никаких мер предосторожности против внезапного нападения. Я лично убежден, что мы должны разбивать лагерь в полом квадрате, с кострами в центре; и иметь часовых, и назначать регулярный пароль на каждую ночь. Кроме того, должны быть ведеты (наблюдатели), скачущие впереди, чтобы найти место для лагеря и дать предупреждение о враге. Таковы мои убеждения. Я не хочу никому указывать. Я даю совет по мере моего разумения, вот и все; а потом пусть люди делают, как хотят».
Мы намекнули, что, возможно, было бы так же хорошо отложить такие обременительные меры предосторожности до тех пор, пока в них не возникнет реальной необходимости; но он скептически покачал головой. Чувство военной корректности капитана было жестоко оскорблено тем, что он считал нерегулярными действиями отряда; и это был не первый раз, когда он высказывался на эту тему. Но его убеждения редко приводили к каким-либо практическим результатам. В данном случае он, как обычно, удовлетворился тем, что распространялся о важности своих предложений и удивлялся, что они не принимаются. Но его план высылать ведеттов (дозорных) казался ему особенно важным; и поскольку никто другой не был склонен поддерживать его в этом вопросе, он вздумал сам поехать вперёд.
«Ну, Паркмэн, — сказал он, — поедешь со мной?»
Мы отправились вместе и проехали милю или две вперед. Капитан, за двадцать лет службы в британской армии, кое-что повидал в жизни; по крайней мере, одну обширную ее сторону он имел наилучшие возможности изучить; и, будучи от природы приятным малым, был очень занимательным спутником. Он шутил и рассказывал истории час или два; пока, оглянувшись, мы не увидели, что прерия позади нас простирается до горизонта без единого всадника или фургона в поле зрения.
«Теперь, — сказал капитан, — думаю, дозорным лучше остановиться, пока не подойдёт главная колонна».
Я был того же мнения. Прямо перед нами была густая полоса леса, через который протекал ручей. Перебравшись через него, мы обнаружили по ту сторону прекрасный ровный луг, полуокружённый деревьями; и привязав наших лошадей к кустам, мы сели на траву; в то время как используя старый пень в качестве мишени, я начал демонстрировать превосходство знаменитой винтовки фронтира над иностранным нововведением, которое носил капитан. Наконец вдалеке за деревьями послышались голоса.
«Вот они! — сказал капитан. — Пойдём посмотрим, как они переправятся через ручей».
Мы сели верхом и поехали к берегу ручья, где тропа пересекала его. Он протекал в глубокой ложбине, полной деревьев; глядя вниз, мы увидели беспорядочную толпу всадников, едущих через воду; и среди потёртой одежды нашей партии сверкала униформа четырёх драгун.
Шоу, хлеща свою лошадь в гору, опередил остальных с несколько возмущённым выражением лица. Первое его слово было благословением, горячо призванным на голову Р., который ехал с поникшим видом позади. Благодаря изобретательным уловкам этого джентльмена, мы полностью сбились с пути и забрели не к Платту, а к деревне индейцев Айова. Это мы узнали от драгун, которые недавно дезертировали из форта Ливенуорт. Они сказали нам, что наш лучший план теперь — держаться к северу, пока мы не выйдем на след, образованный несколькими партиями орегонских эмигрантов, которые в этом сезоне выступили из Сент-Джозефа в Миссури.
В крайне скверном настроении мы разбили лагерь на этом злополучном месте; в то время как дезертиры, чье дело не терпело отлагательства, поскакали быстро вперёд. На следующий день, выйдя на тропу Сент-Джозефа, мы повернули головы наших лошадей к форту Ларами, находившемуся тогда примерно в 700 милях к западу.
Глава V
Биг Блю
Великое смешение орегонских и калифорнийских эмигрантов в их лагерях вокруг Индепенденса слышало слухи, что несколько дополнительных групп вот-вот выступят из Сент-Джозефа, дальше к северу. Преобладало мнение, что это мормоны, числом две тысячи триста человек; и в результате была поднята большая тревога. Жители Иллинойса и Миссури, составлявшие подавляющее большинство эмигрантов, никогда не были в лучших отношениях с «Святыми последних дней»; и всей стране известно, сколько крови было пролито в их распрях, даже далеко в пределах поселений. Никто не мог предсказать, каков будет результат, когда большие вооружённые отряды этих фанатиков встретят самых порывистых и безрассудных из своих старых врагов на широкой прерии, далеко за пределами досягаемости закона или военной силы. Женщины и дети в Индепенденсе подняли большой крик; сами мужчины были серьёзно встревожены; и, как я узнал, они отправили к полковнику Кирни просьбу о предоставлении эскорта драгун до самого Платта. В этом было отказано; и, как показало дальнейшее, в этом не было нужды. Эмигранты из Сент-Джозефа были такими же хорошими христианами и ревностными ненавистниками мормонов, как и остальные; и очень немногие семьи «Святых», прошедшие этим сезоном по маршруту Платта, остались позади, пока не прошла великая волна эмиграции; они боялись «язычников» ничуть не меньше, чем последние их.
Мы находились теперь, как я упоминал ранее, на этой тропе Сент-Джозефа. По следам было очевидно, что крупные отряды на несколько дней опережали нас; и, поскольку мы тоже предполагали, что это мормоны, у нас были некоторые опасения насчет помех.
Путешествие было несколько монотонным. Один день мы ехали часами, не видя ни дерева, ни куста; впереди, позади и по обе стороны простиралось необъятное пространство, волнуясь чередой изящных взгорий, покрытых сплошным ковром свежей зеленой травы. Кое-где ворон, или грач, или гриф нарушал однообразие.
«Что мы будем делать сегодня ночью с дровами и водой?» — начали мы спрашивать друг у друга; ибо до захода солнца оставался час. Наконец вдалеке справа показалось темно-зеленое пятнышко; это была верхушка дерева, выглядывающая из-за взгорья прерии; и, покинув тропу, мы поспешили к нему. Оказалось, что это авангард группы кустов и низких деревьев, окружавших несколько луж воды в обширной ложбине; поэтому мы разбили лагерь на возвышенности рядом с ней.
Шоу и я сидели в палатке, когда смуглое лицо Делорье в старой фетровой шляпе просунулось в отверстие и, вытаращив глаза, и Делорье объявил об ужине. На траве были расставлены жестяные кружки и железные ложки в военном порядке, а кофейник возвышался посредине. Трапеза была скоро завершена; но Генри Шатийон всё ещё сидел, скрестив ноги, потягивая остаток своего кофе, напитка повсеместного употребления в прерии и особого любимца его. Он предпочитал его в первозданном вкусе, не испорченном сахаром или сливками; и в настоящий момент он полностью соответствовал его одобрению, будучи чрезвычайно крепким, или, как он выразился, «прямо чёрным».
Был богатый и великолепный закат — американский закат; и румяное сияние неба отражалось в некоторых обширных лужах воды среди тенистых зарослей на лугу внизу.
«Мне нужно обязательно искупаться сегодня вечером, — сказал Шоу. — Как там, Делорье? Есть возможность поплавать внизу?»
«Ах! Я не могу сказать; как вам будет угодно, месье», — ответил Делорье, пожимая плечами, озадаченный своим незнанием английского и крайне стремящийся во всех отношениях соответствовать мнению и желаниям своего буржуа.
«Посмотри на его мокасины, — сказал я. — Они явно недавно были погружены в глубокую бездну чёрной грязи».
«Пойдём, — сказал Шоу, — во всяком случае, мы можем удостовериться сами».
Мы отправились вместе; и, приближаясь к кустам, которые были на некотором расстоянии, мы обнаружили, что земля становится довольно коварной. Мы могли продвигаться только ступая на большие кочки высокой буйной травы, с бездонными пропастями между ними, словно на бесчисленных маленьких дрожащих островках в океане грязи, где ложный шаг втянул бы наши сапоги в катастрофу, подобную той, что постигла мокасины Делорье. Дело выглядело безнадежным; мы разделились, чтобы искать в разных направлениях, Шоу направился направо, а я двинулся прямо. Наконец я подошёл к краю кустов: это были молодые ивы, покрытые своими гусеницеподобными соцветиями, но между ними и последней кочкой травы лежала черная и глубокая топь, через которую, энергичным усилием, я сумел перепрыгнуть. Затем я пробился сквозь ивы, топча их грубой силой, пока не вышел к широкому потоку воды глубиной в три дюйма, вяло ползущему по дну скользкой грязи. Мое появление произвело большое смятение. Огромная зеленая лягушка-бык издала негодующий квак и спрыгнула с берега с громким всплеском: её перепончатые лапки мелькнули над поверхностью, когда она энергично дернула ими вверх, и я увидел, как она устроилась в податливой тине на дне, откуда несколько крупных пузырьков воздуха лениво пробивались кверху. Несколько маленьких пятнистых лягушек немедленно последовали примеру патриарха; а затем три черепахи, не больше доллара, свалились с широкого «листка кувшинки», где они отдыхали. В то же время змея, пестро расписанная черным и желтым, скользнула с берега и извиваясь переползла на другую сторону; и небольшой стоячий омут, в который я нечаянно столкнул камень ногой, мгновенно оживился скоплением черных головастиков.
«Есть возможность искупаться, где ты?» — крикнул Шоу издалека.
Ответ не был обнадеживающим. Я отступил сквозь ивы и, присоединившись к своему спутнику, мы продолжили наши исследования вместе. Недалеко справа взгорье, покрытое деревьями и кустами, казалось, резко спускалось к воде и подавало надежду на больший успех; поэтому мы направили свои шаги туда. Достигнув места, мы обнаружили, что продвигаться между холмом и водой — нелегкое дело, так как нам мешал заросль жестких, упрямых молодых берез, переплетенных виноградными лозами. В сумерках мы время от времени, чтобы поддержать себя, хватались за чувствительный стебель какой-нибудь древней шиповника. Шоу, который был впереди, внезапно издал несколько выразительное односложное восклицание; и, подняв глаза, я увидел его с одной рукой, вцепившейся в молодое деревце, и одной ногой, погруженной в воду, из которой он забыл ее вытащить, все его внимание было поглощено созерцанием движений водяной змеи длиной около пяти футов, причудливо испещренной черным и зеленым, которая неторопливо плыла через омут. Поскольку под рукой не было палки или камня, чтобы швырнуть в нее, мы некоторое время смотрели на нее в молчаливом отвращении; а затем двинулись вперед. Наше упорство было наконец вознаграждено; ибо несколько шагов дальше мы вышли на маленький ровный травянистый уголок среди кустарника, и по необычайному благоволению судьбы, водоросли и плавающие ветки, которые в других местах покрывали омут, казалось, разошлись и оставили несколько ярдов чистой воды прямо перед этим благословенным местом. Мы измерили его глубину палкой; она была четыре фута; мы зачерпнули воду в сложенные ладони; она казалась достаточно прозрачной, поэтому мы решили, что время для действий настало. Но наши омовения были внезапно прерваны десятью тысячами уколов, словно отравленными иглами, и жужжанием мириад разросшихся комаров, поднимающихся со всех сторон из родной грязи и тины и слетающихся на пир. Мы были вынуждены отступить со всей возможной скоростью.
Мы направились к палаткам, весьма освежившись купанием, которое жара погоды, соединенная с нашими предрассудками, сделала очень желательным.
«Что с капитаном? Посмотри на него!» — сказал Шоу. Капитан стоял один на прерии, размахивая своей шляпой вокруг головы и поднимая то одну ногу, то другую, не сходя с места. Сначала он смотрел на землю с видом величайшего отвращения; затем он смотрел вверх с озадаченным и негодующим выражением лица, словно пытаясь проследить полет невидимого врага. Мы крикнули, чтобы узнать, в чем дело; но он ответил лишь проклятиями, направленными против какого-то неизвестного объекта. Мы подошли, когда наши уши приветствовал гудящий звук, словно двадцать ульев опрокинулись разом. Воздух над нами был полон крупных чёрных насекомых, в состоянии большого смятения, и множество летало прямо над верхушками травинок.
«Не бойтесь, — крикнул капитан, заметив, что мы отшатываемся. — Твари не ужалят».
Услышав это, я сбил одного шляпой и обнаружил, что это не кто иной, как «майский жук»; и, присмотревшись ближе, мы обнаружили землю густо испещрённую их норами.
Мы поспешно покинули эту процветающую колонию и, поднявшись по взгорью к палаткам, обнаружили, что костер Делорье всё ещё ярко пылает. Мы сели вокруг него, и Шоу начал распространяться о превосходных удобствах для купания, которые мы обнаружили, и настоятельно рекомендовал капитану обязательно сходить туда перед завтраком утром. Капитан как раз собирался заметить, что не мог бы поверить в такую возможность, когда внезапно прервал себя, хлопнул рукой по щеке и воскликнул, что «эти адские жуки снова за ним». Действительно, мы начали слышать звуки, словно пули жужжат над нашими головами. Через мгновение что-то резко стукнуло меня по лбу, затем по шее, и сразу я почувствовал неопределённое количество острых жёстких коготков в активном движении, словно их владелец намерен был продвинуть свои исследования дальше. Я схватил его и бросил в огонь. Наша компания быстро разошлась, и мы отправились в наши соответствующие палатки, где, плотно закрыв вход, надеялись быть избавленными от вторжения. Но все предосторожности были тщетны. Майские жуки жужжали сквозь палатку и маршировали по нашим лицам до рассвета; когда, развернув одеяла, мы обнаружили несколько десятков, цепляющихся там с величайшей настойчивостью. Первым объектом, встретившим наши глаза утром, был Делорье, который, казалось, обращался с речью к своей сковороде, которую держал за ручку на вытянутой руке. Оказалось, что он оставил ее ночью у огня; и дно теперь было покрыто майскими жуками, прочно вмурованными. Множество других, любопытно обугленных и сморщенных, лежали разбросанными среди золы.
Лошадей и мулов отпустили пастись. Мы только что уселись за завтрак, или скорее возлежали в классической манере, когда восклицание Генри Шатийона и крик тревоги капитана предупредили о каком-то происшествии, и, подняв глаза, мы увидели весь табун животных, двадцать три головы, уходящих к поселениям, непокорный Понтиак шёл во главе, прыгающий на спутанных ногах походкой быстрой, но не изящной. Трое или четверо из нас бросились наперерез, мчась как могли сквозь высокую траву, которая сверкала мириадами капель росы. После гонки на милю или более Шоу поймал лошадь. Обвязав лассо вместо уздечки вокруг челюсти животного и вскочив ему на спину, он оказался впереди оставшихся беглецов, в то время как мы, вскоре собрав их вместе, погнали толпой к палаткам, где каждый поймал и оседлал свою. Затем мы услышали причитания и проклятия; ибо половина лошадей порвала путы, и многие были серьезно сбиты, пытаясь бегать в оковах.
Было поздно, когда мы тронулись в путь, поэтому ближе к полудню были вынуждены разбить лагерь, ибо налетела гроза и внезапно окутала нас вихревыми струями дождя. С большим трудом мы поставили наши палатки среди бури, и всю ночь напролёт гром ревел и рычал над нашими головами. Утром легкие мирные дожди сменили водопады ливня, которые промочили нас насквозь сквозь парусину наших палаток. Около полудня, когда появились некоторые коварные признаки хорошей погоды, мы снова тронулись в путь.
Ни единого дуновения ветра не шевелилось над свободной и открытой прерией; облака были как лёгкие кучи ваты; и там, где было видно голубое небо, оно имело туманный и вялый вид. Солнце палило на нас знойным пронизывающим жаром, почти невыносимым, и, пока наш отряд медленно полз по бесконечной равнине, лошади опускали головы, пробираясь по колено в грязи, а люди обмякли в самых удобных позах в седле. Наконец, ближе к вечеру, старые знакомые чёрные вершины грозовых туч быстро поднялись над горизонтом, и тот же глубокий рокот далёкого грома, ставший обычным сопровождением нашего послеполуденного путешествия, начал хрипло катиться по прерии. Прошло всего несколько минут, прежде чем все небо густо затянулось, и прерия и несколько групп леса впереди приняли пурпурный оттенок под чернильными тенями. Внезапно из самой густой складки облака вырвалась вспышка, дрожа снова и снова до самого края прерии; и в тот же миг раздался резкий раскат и долгий перекатывающийся грохот грома. Прохладный ветер, наполненный запахом дождя, как раз тогда настиг нас, пригибая высокую траву у края тропы.
«Вперед; мы должны уйти от него!» — крикнул Шоу, проносясь мимо во весь опор, его лошадь на поводу фыркала рядом. Весь отряд бросился в галоп и направился к деревьям впереди. Проехав их, мы обнаружили за ними луг. Мы налетели на это место в беспорядке, спрыгнули с лошадей, сорвали сёдла; и через мгновение каждый человек стоял на коленях у ног своей лошади. Путы были надеты, и животные отпущены; затем, когда фургоны быстро подкатили к месту, мы схватили палаточные колышки, и как раз когда буря разразилась, мы были готовы принять ее. Она обрушилась на нас почти с темнотой ночи; деревья, которые были рядом, были полностью скрыты ревущими потоками дождя.
Мы сидели в палатке, когда Делорье, с его широкой фетровой шляпой, свисающим вокруг ушей, и плечами, блестящими от дождя, просунул голову внутрь.
«Voulez-vous du souper, tout de suite? Я могу развести огонь, sous la charette — я думаю, да — попробую».
«Не беспокойся об ужине, заходи».
Делорье присел у входа, ибо скромность не позволяла ему вторгаться дальше. Наша палатка была не лучшей защитой от такого водопада. Дождь пробивался сквозь парусину мелкой моросью, которая хорошо мочила нас. Мы сидели на наших сёдлах, угрюмые, а вода капала с козырьков наших кепок и стекала по щекам. По моему прорезиненному плащу стекало двадцать маленьких быстрых ручейков, а бушлат Шоу пропитался как губка. Но больше всего нас беспокоили нескольких луж, быстро накапливающихся; одна в частности, которая собиралась вокруг палаточного кола, угрожала затопить всё внутри палатки, обещая не лучший комфорт для ночного отдыха. Однако к закату бур я прекратилась так же внезапно, как и началась. Яркая полоса чистого красного неба появилась над западным краем прерии, горизонтальные лучи заходящего солнца проникали сквозь нее и сверкали тысячей призматических цветов на промокших рощах и примятой траве. Лужи в палатке уменьшились и впитались в почву.
Однако наши надежды были обманчивы. Едва наступила ночь, как смятение вспыхнуло снова. Разрываясь с ужасным треском прямо над нашими головами, гром ревел над безграничной пустошью прерии, казалось, катясь по всему кругу небосвода с особой и страшной раскатистостью. Молния сверкала всю ночь, играя своим мертвенным сиянием на соседних деревьях, открывая необъятные просторы равнины, а затем оставляя нас запертыми, словно осязаемой стеной темноты.
Это не слишком нас беспокоило. Время от времени раскат будил нас и заставлял осознавать бушевавшую над нами битву небес. Мы лежали на прорезиненных тканях. Какое-то время они удерживали воду превосходно; но когда, наконец, она накопилась и начала переливаться через края, они столь же хорошо удерживали её не своей поверхности, так что к концу ночи мы покоились в маленьких лужах дождя.
Окончательно проснувшись утром, мы поняли, что перспектива была невесёлой. Дождь больше не лил потоками; но он настойчиво барабанил по натянутой и промокшей парусине. Мы освободились от наших одеял, каждое волокно которых блестело маленькими бусинками капель воды, и выглянули в тщетной надежде обнаружить какие-то признаки хорошей погоды. Облака, свинцовыми массами, лежали на мрачном краю прерии или вяло висели над головой, в то время как земля носила вид не более привлекательный, чем небеса, представляя ничего, кроме луж воды, травы, прибитой к земле, и грязи, хорошо утоптанной нашими мулами и лошадьми. Палатка наших спутников, с видом заброшенного и пассивного страдания, и их фургоны, подобным образом промокшие и печальные, стояли неподалеку. Капитан как раз возвращался со своей утренней инспекции лошадей. Он шагал сквозь туман и дождь, с пледом на плечах; его маленькая трубка, грязная как антикварная реликвия, торчала из-под усов, и его брат Джек следом.
«Доброе утро, капитан».
«Доброе утро вашим милостям, — сказал капитан, изображая ирландский акцент; но в тот же миг, когда он наклонился, чтобы войти в палатку, он споткнулся о верёвки у входа и полетел вперёд, наткнувшись на ружья, которые были привязаны вокруг кола в центре.
«Хороши же вы, чёрт возьми! — сказал он после восклицания, не требующего записи, — ставить каждый день перед дверью капкан для ловли своих гостей!»
Затем он сел на седло Генри Шатийона. Мы подкинули кусок бизоньей шкуры Джеку, который с некоторым смущением оглядывался. Он расстелил его на земле и занял место с бесстрастным выражением лица рядом с братом.
«Бодрящая погода, капитан!»
«О, восхитительно, восхитительно! — ответил капитан. — Я знал, что так и будет; вот что значит выступить вчера в полдень! Я знал, чем это кончится; я так и предупреждал».
«Ты говорил нам прямо противоположное. Мы не торопились и двинулись только потому, что ты настаивал».
«Джентльмены, — сказал капитан, вынимая трубку изо рта с крайне серьёзным видом, — это был не мой план. Среди нас есть человек, который решил, чтобы всё было по-своему. Вы можете выражать своё мнение; но не ждите, что он будет слушать. Вы можете быть сколь угодно разумными: о, всё идёт прахом! Этот человек решил править бал, и он будет выступать против любого плана, который он сам не придумал».
Капитан некоторое время затягивался своей трубкой, словно размышляя о своих обидах; затем он начал снова:
«Двадцать лет я служил в британской армии; но в этой проклятой прерии столько раздоров, ссор и прочей ерунды, сколько у меня я за все годы армейской службы не было. Он самый несносный человек, которого я когда-либо встречал».
«Да, — сказал Джек; — а ты знаешь, Билл, как он выпил весь кофе прошлой ночью и отложил остальное для себя до утра!»
«Он воображает, что знает всё, — продолжал капитан; — никто не должен отдавать приказы, кроме него! Это, о! мы должны сделать это; и, о! мы должны сделать то; и палатку нужно поставить здесь, а лошадей привязать там; потому что никто не знает так хорошо, как он».
Мы были немного удивлены этим раскрытием домашних раздоров среди наших союзников, ибо хотя мы знали об их существовании, мы не осознавали их масштабов. Преследуемый капитан, казалось, совершенно не знал, какой линии поведения ему следует придерживаться, и мы порекомендовали ему принять решительные и энергичные меры; но весь его военный опыт не смог научить его незаменимому уроку быть «жестким», когда этого требует чрезвычайная ситуация.
«Двадцать лет, — повторил он, — я служил в британской армии, и за это время я близко познакомился примерно с двумя сотнями офицеров, молодых и старых, и я никогда еще ни с кем не ссорился. О, „что угодно для спокойной жизни!“ — вот мой девиз».
Мы намекнули, что прерия — едва ли место, чтобы наслаждаться спокойной жизнью, но что в нынешних обстоятельствах лучшее, что он мог сделать для обеспечения желанного им спокойствия, — это немедленно положить конец помехе, которая его нарушала. Но снова легкое добродушие капитана отвернулось от задачи. Несколько энергичные меры, необходимые для достижения желаемого результата, были совершенно противны ему; он предпочел проглотить свои обиды, сохранив привилегию ворчать о них. «О, что угодно для спокойной жизни!» — сказал он снова, возвращаясь к своему любимому девизу.
Но взглянем на предыдущую историю наших заатлантических союзников. Капитан продал свое звание и жил в холостяцкой легкости и достоинстве в своих родовых чертогах близ Дублина. Он охотился, рыбачил, участвовал в стипл-чейзах, бегал на скачках и рассказывал о своих прежних подвигах. Он был окружен трофеями своего удилища и ружья; стены были щедро украшены, как он рассказывал нам, лосиными и оленьими рогами, медвежьими шкурами и лисичьими хвостами; ибо двуствольное ружье капитана послужило в Канаде и на Ямайке; он ловил лосося в Новой Шотландии и форель, по его собственным словам, во всех ручьях трех королевств. Но в злой час из Лондона явился соблазнительный незнакомец; не кто иной, как Р., который среди своих многочисленных странствий однажды побывал на западных прериях и, естественно, желал посетить их снова. Воображение капитана воспламенилось картинами охотничьего рая, которые развертывал его гость; он загорелся амбицией добавить к своим прочим трофеям рога бизона и когти гризли; поэтому он и Р. заключили союз путешествовать вместе. Джек последовал за братом, как само собой разумеющееся. Две недели на борту атлантического парохода доставили их в Бостон; еще две недели тяжелого пути привели их в Сент-Луис, откуда шесть дней езды довезли их до границы; и вот мы нашли их, вовсю готовящихся к своему путешествию.
Мы все время были в близких отношениях с капитаном, но Р., движущая сила ветви экспедиции наших спутников, был нам почти незнаком. Его голос, действительно, можно было слышать непрестанно; но в лагере он в основном оставался внутри палатки, а в дороге либо ехал один, либо пребывал в тесной беседе со своим другом Райтом, погонщиком мулов. Когда капитан покинул палатку в то утро, я заметил Р., стоящего у костра, и, не имея других занятий, я решил выяснить, по возможности, что он за человек. У него под мышкой виднелась книга, но в данный момент он был поглощён активным наблюдением за действиями Сореля, охотника, который готовил кукурузные лепешки на углях для завтрака. Р. был хорошо сложенным и довольно приятной наружности мужчиной, лет тридцати; значительно моложе капитана. Он носил бороду и усы цвета пакли, и его одежда в целом была более элегантной, чем обычно можно видеть в прерии. Он носил кепку набекрень; его клетчатая рубашка, расстегнутая спереди, была в очень аккуратном порядке, учитывая обстоятельства, а его синие брюки, покроя Джона Буля, могли когда-то красоваться на Бонд-стрит.
«Переверни ту лепёшку, приятель! Переверни её быстрей! Разве ты не видишь, что она горит?»
«Она ещё не готова», — проворчал Сорель тоном избитого бульдога.
«Готова. Переверни её, говорю тебе!»
Сорель, угрюмого вида канадец, который, проведя жизнь среди самых диких и отдаленных индейских племен, впитал в себя много их темного, мстительного духа, свирепо поднял глаза, словно жаждал наброситься на своего буржуа и задушить его; но он повиновался приказу, исходящему от столь опытного художника.
«Хорошая мысль пришла вам в голову, — сказал я, садясь на дышло фургона, — взять с собой кукурузную муку».
«Да, да, — сказал Р. — Это хороший хлеб для прерии — хороший хлеб для прерии. Говорю вам, она снова горит».
Тут он наклонился и, вытащив богато отделанный охотничий нож из пояса, начал выполнять роль повара сам; в то же время попросив меня подержать на мгновение книгу под его мышкой, которая мешала выполнению этих важных функций. Я открыл её; это были «Песни» Маколея; и я сделал какое-то замечание, выражая мое восхищение произведением.
«Да, да; довольно хорошая вещь. Хотя Маколей может сделать и лучше. Я знаю его очень хорошо. Я путешествовал с ним. Где мы впервые встретились — в Дамаске? Нет, нет; это было в Италии».
«Так, — сказал я, — вы прошли по тем же местам, что и ваш соотечественник, автор „Иофана“? В Америке были некоторые споры о том, кто он. Я слышал, упоминали имя Милна».
«Милна? О, нет, нет, нет; вовсе нет. Это Кинглейк; Кинглейк — тот самый человек. Я знаю его очень хорошо; то есть, я видел его».
Тут Джек К., стоявший рядом, вставил замечание (что было для него необычно), заметив, что он думает, погода прояснится до полудня.
«Будет дождь весь день, — сказал Р., — и прояснится посреди ночи».
Как раз тогда облака начали рассеиваться весьма недвусмысленным образом; но Джек, не желая защищать свою точку зрения перед столь авторитетным заявлением, отошел, насвистывая, и мы возобновили наш разговор.
«Борроу, автор „Библии в Испании“, полагаю, вы тоже его знаете?»
«О, конечно; я знаю всех этих людей. Кстати, мне сказали, что один из ваших американских писателей, судья Стори, недавно умер. Я редактировал некоторые его работы в Лондоне; хотя не без недостатков».
Затем последовала лекция по некоторым вопросам права, в которой он особенно порицал ошибки, которые, как он считал, допустил судья. Наконец, коснувшись поочерёдно бесконечного разнообразия тем, я обнаружил, что имею счастье найти человека, в равной степени компетентного просветить меня по всем ним, в равной степени авторитета в вопросах науки или литературы, философии или моды. Роль, которую я играл в разговоре, никоим образом не была выдающейся; было лишь необходимо задать ему ход, и когда он достаточно долго бежал по одной теме, отвлечь его на другую и привести к тому, чтобы он изливал свои груды сокровищ по очереди.
«Что этот тип говорил тебе?» — спросил Шоу, когда я вернулся в палатку. — «Я полчаса не слышал ничего, кроме его болтовни».
У Р. не было никаких особых черт обычного «британского сноба»; его нелепости были всецело его собственными, не принадлежащими никакой конкретной нации или климату. Им владел активный бес, который гнал его по суше и морю, по-видимому, без особой цели; ибо хотя у него был обычный набор глаз и ушей, проходы между этими органами и его мозгом казались заметно узкими и нехожеными. Его энергия была гораздо заметнее, чем его мудрость; но его преобладающей чертой было великодушное честолюбие проявлять при любом случае ужасающее владычество и превосходство, и эта склонность проявлялась одинаково, как читатель мог заметить, независимо от того, шла ли речь о выпекании лепешки или о пункте международного права. Когда такие разнородные элементы, как он и легкомысленный капитан, сталкивались, неудивительно, что возникало некоторое волнение; Р. ехал грубо, с утра до ночи, поверх своего военного союзника.
В полдень небо было ясным, и мы выступили, пробираясь сквозь грязь и слякоть глубиной в шесть дюймов. В ту ночь нас избавили от обычного наказания в виде душа.
На следующий день после полудня мы медленно двигались вперед, недалеко от участка леса, лежавшего справа. Джек К. ехал немного впереди;
Целый день он не проронил ни слова;
когда внезапно он обернулся, указал на лес и прокричал своему брату:
«О, Билл! Здесь корова!»
Капитан мгновенно поскакал вперед, и он с Джеком предприняли тщетную попытку захватить добычу; но корова, с обоснованным недоверием к их намерениям, укрылась среди деревьев. К ним присоединился Р., и они скоро выгнали её. Мы наблюдали за их действиями, пока они скакали вокруг неё, пытаясь тщетно поймать её при помощи лассо. Наконец они прибегли к более мягким мерам, и корова была погнана вместе с отрядом. Вскоре поднялась обычная гроза, ветер дул с такой яростью, что потоки дождя летели почти горизонтально по прерии, ревя как водопад. Лошади повернулись задом к буре и стояли, опустив головы, перенося наказание с видом кротости и покорности; в то время как мы втягивали головы в плечи и пригибались вперед, чтобы наши спины служили навесом для остальных частей тела. Тем временем корова, воспользовавшись суматохой, убежала, к большому огорчению капитана, который, казалось, считал ее своей особой добычей, поскольку она была обнаружена Джеком. Вопреки буре, он натянул кепку на лоб, выхватил огромный пистолет из кобуры и помчался за ней во весь опор. Это было последнее, что мы видели их некоторое время, туман и дождь создавая непроницаемую завесу; но наконец мы услышали крик капитана и увидели его, вырисовывающегося сквозь бурю, картину ирландского кавалера, с его взведенным пистолетом, поднятым для безопасности, и лицом, полным тревоги и волнения. Корова бежала рысцой перед ним, но проявляла явные признаки намерения снова убежать, и капитан ревел нам, чтобы мы ее перехватили. Но дождь проник за воротники наших пальто и путешествовал по нашим шеям многочисленными маленькими ручейками, и, боясь пошевелить головами, чтобы не впустить больше, мы сидели недвижно и неподвижно, косясь на капитана и смеясь над его неистовыми движениями. Наконец корова сделала внезапный рывок и убежала; капитан крепко сжал пистолет, пришпорил лошадь и помчался в погоню с явными намерениями нанести вред. Через мгновение мы услышали слабый выстрел, приглушенный дождем, а затем победитель и его жертва снова появились, последняя была прострелена насквозь и совершенно беспомощна. Вскоре после этого буря стихла, и мы снова двинулись вперед. Корова шла с трудом под присмотром Джека, которому капитан поручил её, в то время как сам он ехал вперёд в своей старой роли ведета. Мы приближались к длинной линии деревьев, следовавшей за ручьём, пересекавшим наш путь далеко впереди, когда мы увидели ведета, скачущего к нам, по-видимому, очень взволнованного, но с широкой ухмылкой на лице.
«Бросьте эту корову позади! — крикнул он нам. — Вот её хозяева!» И в самом деле, по мере приближения к линии деревьев, за ними был виден крупный белый объект, похожий на палатку. Однако, подъехав, мы обнаружили вместо ожидаемого лагеря мормонов лишь прерию и большой белый камень, стоящий у тропы. Поэтому корова снова заняла своё место в нашей процессии. Она шла до тех пор, пока мы не разбили лагерь, когда Р., решительно подойдя со своим огромным английским двуствольным ружьём, спокойно и обдуманно прицелился в её сердце и выпустил в него сначала одну пулю, а затем другую. Затем корова была разделана по самым одобренным принципам лесного мастерства и обеспечила очень желанный пункт в нашем несколько ограниченном меню.
Через день или два мы достигли реки под названием «Биг Блю». Подобными же элегантными названиями обозначены почти все ручьи этого региона. Мы пробирались через канавы и маленькие ручьи все то утро; но, проходя сквозь густые леса, окаймлявшие берега Блю, мы обнаружили, что нас ждут более грозные трудности, ибо поток, разбухший от дождей, был широк, глубок и быстр.
Едва мы оказались на месте, как Р. сбросил одежду и переплывал на другую сторону или шлепался по мелководью с концом веревки в зубах. Мы все смотрели с восхищением, гадая, каков может быть замысел этих энергичных приготовлений; но скоро мы услышали его крик: «Оберни эту верёвку вокруг того пня! Ты, Сорель: ты слышишь? Смотри живее теперь, Буавер! Переходите на эту сторону, кто-нибудь, и помогите мне!» Люди, к которым были обращены эти приказы, не обратили на них ни малейшего внимания, хотя они изливались без пауз и перерывов. Генри Шатийон руководил работой, и она продвигалась тихо и быстро. Резкий брюзжащий голос Р. мог быть слышен непрестанно; и он прыгал вокруг с величайшей активностью, умножая себя по манере великих полководцев, словно его всеобщее присутствие и надзор были крайне необходимы. Его приказы были довольно забавно непоследовательны; ибо, видя, что люди не делают, как он им говорит, он мудро приспособился к обстоятельствам и с величайшим пылом приказал им делать именно то, чем они в тот момент занимались, без сомнения вспомнив историю Магомета и упрямой горы. Шоу многозначительно улыбнулся; Р. заметил это и, подойдя с видом высокомерного негодования, начал немного важничать, но был мгновенно приведен к молчанию.
Плот был наконец готов. Мы сложили на него наши вещи, за исключением наших ружей, которые каждый предпочёл оставить при себе. Сорель, Буавер, Райт и Делорье заняли свои места на четырёх углах, чтобы держать его вместе и переплыть с ним; и через мгновение вся наша собственность плыла по мутным водам Биг Блю. Мы сидели на берегу, с тревогой наблюдая за результатом, пока не увидели, что плот благополучно пристал в маленькой бухточке далеко на противоположном берегу. Пустые фургоны были легко переправлены; а затем, сев каждый на лошадь, мы переехали через поток, заблудшие животные последовали по собственной воле.
Глава VI
Платт и пустыня
Мы подошли к концу наших одиноких странствий вдоль тропы Сент-Джозефа. Вечером 23 мая мы разбили лагерь недалеко от места ее слияния со старой законной тропой орегонских эмигрантов. В тот день мы долго ехали после полудня, тщетно пытаясь найти дрова и воду, пока наконец не увидели закатное небо, отражённое в луже, окруженной кустами и парой камней. Вода лежала на дне ложбины, гладкая прерия грациозно поднималась океанскими волнами со всех сторон. Мы поставили палатки у нее; однако не раньше, чем зоркий глаз Генри Шатийона различил какой-то необычный объект на слабо очерченном контуре далекого взгорья. Но во влажной, туманной атмосфере вечера ничего нельзя было четко разглядеть. Когда мы лежали у костра после ужина, до наших ушей донёсся низкий и далёкий звук, достаточно странный среди пространства прерии — взрывы смеха и слабые голоса мужчин и женщин. Восемь дней мы не встречали ни одного человека, и это странное предупреждение об их близости произвело чрезвычайно дикое и впечатляющее действие.
Около темноты бледнолицый парень спустился с холма верхом и, шлепая через лужу, подъехал к палаткам. Он был закутан в огромный плащ, и его широкий фетровый шляпа обливался дождем вокруг ушей от мороси вечера. За ним следовал другой, крепкий, квадратного сложения, интеллигентного вида мужчина, который представился лидером партии эмигрантов, расположившейся лагерем в миле впереди нас. С ним было около двадцати фургонов, сказал он; остальные его партии находились по ту сторону Биг Блю, ожидая женщину, у которой начались родовые схватки, и в то же время ссорясь между собой.
Это были первые эмигранты, которых мы догнали, хотя мы находили обильные и печальные следы их продвижения на всем протяжении пути. Иногда мы проезжали могилу того, кто заболел и умер в дороге. Земля обычно была разрыта и густо покрыта волчьими следами. Некоторые избежали этого осквернения. Однажды утром кусок доски, стоящий вертикально на вершине травянистого холма, привлёк наше внимание, и, подъехав к нему, мы обнаружили на нём очень грубо нацарапанные слова, по-видимому, раскалённым куском железа:
МЭРИ ЭЛЛИС
УМЕРЛА 7 МАЯ 1845
Два месяца от роду.
Такие знаки были обычным явлением, ничто не могло красноречивее говорить о выносливости, или скорее ослеплении, авантюристов, или о страданиях, ожидающих их в пути.
Мы поздно снялись с лагеря следующим утром, и едва мы проехали милю, как увидели далеко впереди, вырисовывающуюся на горизонте, линию объектов, протянувшихся через равные интервалы вдоль ровного края прерии. Промежуточный взгорье вскоре скрыл их из виду, пока, поднявшись на него через четверть часа, мы не увидели прямо перед собой караван эмигрантов, с его тяжелыми белыми фургонами, ползущими в медленной процессии, и большую отару скота, следующую позади. Полдюжины желтолицых миссурийцев, верхом на лошадях, ругались и кричали среди них; их долговязые, угловатые фигуры были обернуты в домотканое сукно, явно сшитое и подогнанное руками домашней портнихи. Когда мы приблизились, они приветствовали нас изысканным обращением: «Как вы, ребята? Вы в Орегон или в Калифорнию?»
Пока мы быстро проезжали мимо фургонов, детские лица высовывались из-под белых пологов, чтобы посмотреть на нас; в то время как измученная, худощавая матрона или дородная девушка, сидящая впереди, прерывали вязание, которым большинство из них было занято, чтобы уставить на нас с удивленным любопытством. Рядом с каждым фургоном шёл хозяин, подгоняя своих терпеливых волов, которые тяжело плелись, дюйм за дюймом, в своем бесконечном путешествии. Было легко заметить, что среди них царили страх и раздор; некоторые из мужчин — но эти, за одним исключением, были холостяками — смотрели на нас с тоской, пока мы легко и быстро проезжали мимо, а затем нетерпеливо на свои громоздкие фургоны и тяжело ступающих волов. Другие не желали двигаться вперед вовсе, пока к ним не присоединится оставшаяся позади часть партии. Многие роптали на выбранного ими лидера и желали сместить его; и это недовольство разжигалось некоторыми честолюбивыми душами, надеявшимися занять его место. Женщины были разделены между сожалением о покинутых домах и опасением перед пустынями и дикарями, ожидавшими их впереди.
Мы скоро оставили их далеко позади и радостно надеялись, что попрощались окончательно; но, к несчастью, фургон наших спутников так надолго застрял в глубокой грязной канаве, что, прежде чем его вытащили, авангард каравана эмигрантов снова появился, спускаясь с ближайшего холма. Фургон за фургоном погружались в грязь; и так как было около полудня, а место обещало тень и воду, мы с большим удовлетворением увидели, что они решили встать лагерем. Вскоре фургоны были поставлены в круг; скот пасся по лугу, а мужчины с кислыми, угрюмыми лицами искали дрова и воду. Казалось, они встречали лишь посредственный успех. Когда мы покидали место, я увидел высокого сутулого парня с носовым акцентом «даун-ист», созерцающего содержимое своей жестяной кружки, которую он только что наполнил водой.
«Смотрите-ка, вы, — сказал он, — она до краёв полна всякой живности!»
Кружка, которую он протянул, действительно демонстрировала необычайное разнообразие и обилие животной и растительной жизни.
Подъехав к маленькому холму и оглянувшись на луг, мы легко могли увидеть, что в лагере эмигрантов не все в порядке. Мужчины столпились вместе, и, казалось, шла гневная дискуссия. Р. отсутствовал на своем обычном месте в строю, и капитан сказал нам, что он остался позади, чтобы подковать свою лошадь у кузнеца, примкнувшего к партии эмигрантов. Что-то подсказывало нам, что затевается какая-то пакость; мы, однако, продолжали путь и, вскоре выйдя к ручью с довольно сносной водой, остановились отдохнуть и пообедать. Отсутствующий всё ещё задерживался. Наконец, на расстоянии мили, он и его лошадь внезапно появились, резко вырисовываясь на фоне неба на вершине холма; и прямо позади огромный белый объект медленно возник в поле зрения.
«Что этот болван теперь тащит с собой?»
Следующее мгновение развеяло тайну. Медленно и торжественно, один за другим, четыре длинных упряжки волов и четыре эмигрантских фургона перекатились через гребень склона и степенно спустились, в то время как Р. ехал во главе с видом полного достоинства. Оказалось, что во время процесса подковки лошади затаённые раздоры среди эмигрантов внезапно прорвались наружу. Некоторые настаивали на том, чтобы двигаться вперед, некоторые — оставаться на месте, а некоторые — возвращаться назад. Керсли, их капитан, с отвращением отказался от командования. «А теперь, ребята, — сказал он, — если кто-нибудь из вас хочет идти дальше, просто валяйте за мной».
Четыре фургона, с десятью мужчинами, одной женщиной и одним маленьким ребенком, составили силы «идущей вперёд» фракции, и Р., со своей обычной склонностью к пакостям, пригласил их присоединиться к нашей партии. Страх перед индейцами — ибо я не могу представить другого мотива — должно быть, побудил его искать столь обременительного союза. Как легко можно представить, эти повторяющиеся случаи самоуправства достаточно нас разозлили. В данном случае, в самом деле, мужчины, присоединившиеся к нам, были всем, что можно было пожелать; грубые, конечно, в манерах, но открытые, мужественные и умные. Сказать им, что мы не можем путешествовать с ними, было, конечно, немыслимо. Я лишь напомнил Керсли, что если его волы не смогут успевать за нашими мулами, он должен ожидать, что его оставят позади, так как мы не можем согласиться на дальнейшие задержки в пути; но он немедленно ответил, что его волы «должны успевать; а если не смогут, что ж, он полагает, что найдет способ заставить их!» Воспользовавшись тем удовлетворением, которое можно было извлечь, дав Р. понять мое мнение о его поведении, я вернулся на нашу сторону лагеря.
На следующий день, как случилось, наши английские спутники сломали ось своего фургона, и вся громоздкая машина с грохотом рухнула в русло ручья! Вот и работа на целый день. Тем временем наши эмигрантские товарищи продолжали свой путь, и так энергично они погоняли своих могучих волов, что, со сломанной осью и прочими бедствиями, прошла целая неделя, прежде чем мы догнали их; когда наконец мы обнаружили их однажды после полудня, тихо ползущих вдоль песчаного берега Платта. Но тем временем с нами самими произошли различные происшествия.
Было вероятно, что на этом этапе нашего путешествия Поуни попытаются нас ограбить. Поэтому мы начали нести караул по очереди, разделив ночь на три вахты и назначив по два человека на каждую. Делорье и я стояли на карауле вместе. Мы не маршировали с военной точностью взад и вперед перед палатками; наша дисциплина никоим образом не была столь строгой и жесткой. Мы закутались в одеяла и сели у огня; и Делорье, сочетая свои кулинарные функции с обязанностями часового, занялся варкой головы антилопы для нашего утреннего приема пищи. И все же мы были образцами бдительности по сравнению с некоторыми из партии; ибо обычной практикой часового было устроиться в самой удобной позе, какую он мог; положить свою винтовку на землю и, укутав нос в одеяло, размышлять о своей возлюбленной или о любом другом предмете, который ему больше нравился. Это вполне допустимо, когда находишься среди индейцев, которые обычно не заходят дальше в своей враждебности, чем ограбление путешественников их лошадей и мулов, хотя, в самом деле, сдержанность Поуней не всегда заслуживает доверия; но в определенных регионах дальше на западе, часовой должен остерегаться, как бы не подставлять своё тело свету огня, дабы какой-нибудь зоркий крадущийся стрелок не выпустил пулю или стрелу из темноты.
Среди различных историй, циркулировавших вокруг нашего лагерного костра, была довольно любопытная, рассказанная Буавером, и не неуместная здесь. Буавер охотился с несколькими спутниками на окраинах страны черноногих. Человек на карауле, хорошо зная, что ему надлежит проявить величайшую осторожность, держался вдали от света костра и сидел, внимательно наблюдая во все стороны. Наконец он заметил темную, пригнувшуюся фигуру, бесшумно пробирающуюся в круг света. Он поспешно взвел курок своей винтовки, но резкий щелчок замка уловил ухо черноногого, чьи чувства были настороже. Подняв свою стрелу, уже наложенную на тетиву, он выстрелил в направлении звука. Настолько верным был его прицел, что он пронзил ей горло несчастного часового, а затем с громким воплем отпрыгнул от лагеря.
Глядя на моего напарника по караулу, пыхтящего и раздувающего свой огонь, мне пришло в голову, что он может оказаться не самым эффективным помощником в случае неприятностей.
«Делорье, — сказал я, — ты бы убежал, если бы Поуни выстрелили в нас?»
«Ах! Oui, oui, monsieur!» — ответил он очень решительно.
Я не сомневался в факте, но был немного удивлен откровенностью признания.
В этот самый момент с прерии неподалеку донеслось самое причудливое разнообразие голосов — лай, вой, визг и скулеж — все смешанные вместе, словно там собрался целый конклав волков всех возрастов и полов. Делорье поднял глаза от своей работы с улыбкой и начал имитировать этот любопытный мешанину звуков с самым комическим совершенством. Услышав это, они повторились с удвоенной силой, музыкант, по-видимому, негодуя на успешные усилия соперника. Все они исходили из горла одного маленького волка, не крупнее спаниеля, сидящего в одиночестве на некотором расстоянии. Он принадлежал к виду, называемому прерийный волк; суровый на вид, но безобидный маленький зверь, чьей худшей склонностью является подкрадываться к лошадям и грызть сыромятные веревки, которыми они привязаны вокруг лагеря. Но по прериям бродят и другие звери, гораздо более грозные по виду и характеру. Это большие белые и серые волки, чей глубокий вой мы слышали время от времени издалека и вблизи.
Наконец я задремал и, пробудившись от сна, обнаружил Делорье крепко спящим. Возмущенный этим нарушением дисциплины, я собирался стимулировать его бдительность, ткнув его прикладом своей винтовки; но, возобладавшее сострадание, я решил дать ему поспать еще немного, а затем разбудить и преподать подходящий упрек за такую забывчивость в отношении долга. Время от времени я обходил кругом среди молчаливых лошадей, чтобы убедиться, что все в порядке. Ночь была холодной, сырой и темной, влажная трава гнулась под ледяными каплями росы. На расстоянии нескольких шагов палатки были невидимы, и ничего не было видно, кроме темных фигур лошадей, тяжело дышащих и беспокойно вздрагивающих во сне, или все еще медленно жующих траву. Далеко, за черным контуром прерии, было румяное сияние, постепенно усиливающееся, словно отблеск пожара; пока наконец широкий диск луны, кроваво-красный и сильно увеличенный испарениями, медленно поднялся над темнотой, усеянный одной или двумя маленькими тучами, и, когда свет разлился по мрачной равнине, близкий свирепый и суровый вой, казалось, приветствовал его как незваного гостя. В этом месте и в этот час было что-то внушительное и грозное; ибо я и звери были всем, что обладало сознанием на многие мили вокруг.
Прошло несколько дней, и мы приблизились к Платту. Двое мужчин верхом подъехали к нам однажды утром, и мы наблюдали за ними с тем любопытством и интересом, которые такое столкновение всегда возбуждает в одиночестве равнин. Они явно были белыми, по их манере езды, хотя, вопреки обычаю этого региона, ни один из них не нес винтовки.
«Дураки! — заметил Генри Шатийон. — Ехать так по прерии; Поуни найдут их — тогда им достанется!»
Поуни НАШЛИ их, и они очень близко подошли к тому, чтобы «достаться»; действительно, ничто не спасло их от беды, кроме приближения нашей партии. Шоу и я знали одного из них; человека по имени Тернер, которого мы видели в Уэстпорте. Он и его спутник принадлежали к партии эмигрантов, расположившейся лагерем в нескольких милях впереди, и вернулись искать заблудившихся волов, оставив свои винтовки, с характерной безрассудностью или невежеством, позади. Их небрежность чуть не стоила им дорого; ибо как раз перед тем, как мы подошли, приблизилось полдюжины индейцев, и, увидев их, по-видимому, беззащитными, один из негодяев схватил узду прекрасной лошади Тернера и приказал ему спешиться. Тернер был совершенно безоружен; но другой выхватил маленький револьвер из кармана, при виде которого Поуни отступил; и как раз тогда некоторые из наших людей появились вдали, вся компания хлестнула своих корявых лошадок и ускакала. Ничуть не испугавшись, Тернер глупо упорствовал в движении вперед.
Долго после того, как мы оставили его, и поздно тем же вечером, посреди мрачной и бесплодной прерии, мы внезапно наткнулись на большую тропу Поуней, ведущую от их деревень на Платте к их военным и охотничьим угодьям к югу. Здесь каждое лето проходит пестрая толпа; тысячи дикарей, мужчин, женщин и детей, лошадей и мулов, нагруженных своим оружием и утварью, и бесчисленное множество необузданных волкоподобных собак, которые не приобрели цивилизованного умения лаять, но воют, как их дикие сородичи с прерии.
Постоянные зимние деревни Поуней расположены на нижнем Платте, но в течение лета большая часть жителей скитается по равнинам, вероломная трусливая банда, которая тысячами актов грабежа и убийств заслужила суровую кару со стороны правительства. В прошлом году воин-Дакота совершил знаменательный подвиг в одной из этих деревень. Он подкрался к ней один в середине тёмной ночи и, взобравшись по внешней стороне одного из жилищ, имеющих форму полусферы, заглянул внутрь через круглое дымовое отверстие наверху. Тусклый свет от тлеющих углей указал ему, кто где спал, и легко спрыгнув через отверстие, он обнажил свой нож и, раздув огонь, хладнокровно выбрал своих жертв. Одну за другой он заколол и снял с них скальпы, когда внезапно проснулся и закричал ребёнок. Воин-Дакот выскочил из типи, издал боевой клич Сиу, прокричал своё имя в знак триумфа и вызова, и через мгновение выскочил на темноте, оставив всю деревню в смятении, с воем и лаем собак, криками женщин и воплями разъярённых воинов.
Наш друг Керсли, как мы узнали, присоединившись к нему, отличился менее кровавым достижением. Он и его люди были хорошими лесниками и хорошо владели винтовкой, но оказались совершенно не в своей стихии в прерии. Никто из них никогда не видел бизона, и у них были очень смутные представления о его природе и внешности. На следующий день после того, как они достигли Платта, глядя на далекое взгорье, они увидели множество маленьких черных точек, движущихся по его поверхности.
«Хватайте свои винтовки, ребята, — сказал Керсли, — и у нас будет свежее мясо на ужин». Это побуждение было вполне достаточным. Десять мужчин оставили свои фургоны и пустились в горячей поспешности, некоторые верхом, некоторые пешком, в погоню за предполагаемыми бизонами. Тем временем высокий травянистый хребет скрыл дичь от вида; но, взобравшись на него после получаса бега и скачки, они внезапно оказались лицом к лицу с примерно тридцатью Поуни верхом! Изумление и смятение были взаимными. Не имея ничего, кроме луков и стрел, индейцы решили, что их час пробил, и участь, которую они, без сомнения, сознавали, что вполне заслужили, вот-вот настигнет их. Поэтому они начали, все до одного, выкрикивать самые сердечные приветствия дружбы, подбегая с крайней горячностью, чтобы пожать руки миссурийцам, которые были так же обрадованы, как и они, избежав ожидаемого конфликта.
Низкая волнистая линия песчаных холмов ограничивала горизонт перед нами. В тот день мы ехали десять часов подряд, и уже смеркалось, прежде чем мы въехали в ложбины и ущелья этих мрачных маленьких холмов. Наконец мы достигли вершины, и долгожданная долина Платта лежала перед нами. Мы все осадили лошадей и, собравшись в кучку на гребне холма, с радостью смотрели вниз на вид. Он был очень желанным; странным тоже и поразительным для воображения, и все же в нем не было ни одной живописной или красивой черты; не было в нем и черт величия, кроме его необъятной протяженности, его одиночества и его дикости. Лига за лигой равнина, ровная как замерзшее озеро, расстилалась под нами; то тут, то там Платт, разделенный на дюжину нитевидных протоков, пересекал ее, и случайная роща деревьев, поднимающаяся посредине, словно тенистый остров, нарушала монотонность пустоши. Ни одно живое существо не двигалось по всему необъятному пейзажу, кроме ящериц, которые мелькали по песку и сквозь высокую траву и опунцию прямо у наших ног. И все же суровые и дикие ассоциации придавали этому виду особый интерес; ибо здесь каждый человек живет силой своей руки и доблестью своего сердца. Здесь общество сводится к своим первоначальным элементам, вся ткань искусства и условностей грубо разбита на куски, и люди внезапно оказываются возвращенными к потребностям и ресурсам своей первоначальной природы.
Мы прошли более трудную и монотонную часть путешествия; но четыреста миль все еще лежали между нами и фортом Ларами; и достижение этой точки стоило нам еще трех недель пути. Все это время мы двигались вверх по центру длинной узкой песчаной равнины, простирающейся, словно вытянутый пояс, почти до Скалистых гор. Две линии песчаных холмов, часто разбитых на самые дикие и фантастические формы, фланкировали долину на расстоянии мили или двух справа и слева; в то время как за ними лежала бесплодная, бездорожная пустошь — Великая Американская Пустыня — простирающаяся на сотни миль до Арканзаса с одной стороны и Миссури с другой. Перед нами и позади нас ровная монотонность равнины была не нарушена, насколько мог видеть глаз. Иногда она ослепительно блистала на солнце, пространством горячего, голого песка; иногда ее скрывала длинная грубая трава. Огромные черепа и побелевшие кости бизонов были разбросаны повсюду; земля была исхожена мириадами их следов, и часто покрыта круглыми вмятинами, где быки валялись в жаркую погоду. Из каждого оврага и ущелья, открывающихся с холмов, спускались глубокие, хорошо протоптанные тропы, по которым бизоны дважды в день ходили процессией на водопой к Платту. Сама река течет посредине, тонкий поток быстрой, мутной воды, шириной в полмили и глубиной едва в два фута. Ее низкие берега, по большей части без куста или дерева, состоят из рыхлого песка, которым поток так насыщен, что скрипит на зубах при питье. Сам по себе голый пейзаж достаточно уныл и монотонен, и все же дикие звери и дикие люди, посещающие долину Платта, делают его сценой интереса и волнения для путешественника. Из тех, кто путешествовал там, едва ли один, возможно, не оглядывается назад с теплым сожалением на свою лошадь и свою винтовку.
Рано утром после того, как мы достигли Платта, к нашему лагерю приблизилась длинная процессия жалких дикарей. Каждый был пешком, ведя свою лошадь на веревке из бычьей кожи. Его одежда состояла лишь из скудного пояса и старого бизоньего плаща, истрёпанного и загрязненного от носки, который свисал с его плеч. Его голова была чисто выбрита, кроме гребня волос, идущего через макушку от центра лба, очень похожего на длинные щетинки на спине гиены, и он нес свой лук и стрелы в руке, в то время как его тощая маленькая лошадь была нагружена вяленым мясом бизона, продуктом его охоты. Таковы были первые экземпляры, которых мы встретили — и очень посредственные они были — подлинных дикарей прерии.
Это были те самые Поуни, с которыми столкнулся Керсли накануне, и принадлежали к большой охотничьей партии, как известно, рыскающей по прерии в окрестностях. Они быстро прошли мимо, в полумиле от наших палаток, не останавливаясь и не глядя в нашу сторону, по манере индейцев, когда они замышляют пакость или сознают свою вину. Я вышел и встретил их; и провел мирную беседу с вождем, подарив ему полфунта табаку, на что незаслуженная щедрость вызвала у него большое удовольствие. Эти парни, или некоторые из их товарищей, совершили подлое нападение на партию эмигрантов впереди нас. Двое мужчин, уехавших верхом на некоторое расстояние, были схвачены ими, но, хлестнув лошадей, они вырвались и бежали. Услышав это, Поуни подняли боевой клич и выстрелили в них, пронзив заднего сквозь спину несколькими стрелами, в то время как его товарищ умчался и принес новость своей партии. Охваченные паникой эмигранты оставались в лагере несколько дней, не смея даже отправиться на поиски мертвого тела.
Читатель вспомнит Тернера, человека, чьего узкого спасения упоминали не так давно. Мы слышали, что люди, которых уговоры его жены побудили отправиться на его поиски, нашли его неспешно гонящим своих отбившихся волов и насвистывающим в полном презрении к племени Поуни. Его партия располагалась лагерем в двух милях от нас; но мы проехали мимо них тем утром, пока мужчины загоняли волов, а женщины упаковывали свою домашнюю утварь и своих многочисленных отпрысков в просторные патриархальные фургоны. Оглянувшись, мы увидели, как их караван тащит свою медленную длину по равнине; утомительно бредя своим путем, чтобы основать новые империи на Западе.
Наш новоанглийский климат мягок и ровен по сравнению с климатом Платта. Это самое утро, например, было душным и знойным, солнце вставало с томительным, удушающим жаром; когда внезапно на западе собралась темнота, и яростный шквал мокрого снега и града ударил прямо в наши лица, ледяной холодный и несущийся с такой дьявольской яростью, что ощущался как буря иголок. Было любопытно наблюдать за лошадьми; они поворачивались с крайним неудовольствием, держа хвосты, как побитые собаки, и дрожа, пока сердитые порывы, воющие громче, чем концерт волков, проносились над нами. Длинная упряжка мулов Райта пронеслась перед бурей, словно стая коричневых снегирей, гонимая зимней бурей. Так мы все оставались неподвижными несколько минут, пригнувшись к шеям наших лошадей, слишком угрюмые, чтобы говорить, хотя однажды капитан поднял голову из-под воротника своего пальто, его лицо багровое, а мышцы рта сведены холодом в самую комическую гримасу агонии. Он пробормотал что-то, звучавшее как проклятие, направленное, как мы полагали, на несчастный час, когда он впервые подумал оставить дом. Это не могло длиться долго; и как только порывы ветра утихли, мы поставили наши палатки и оставались в лагере до конца мрачного и хмурого дня. Эмигранты тоже расположились лагерем неподалеку. Мы, будучи первыми на месте, присвоили всю древесину в пределах досягаемости; так что только наш костёр весело пылал. Вокруг него скоро собралась группа неуклюжих фигур, дрожащих род моросящим дождём. Среди них выделялись двое или трое полудиких мужчин, которые проводят свои безрассудные жизни в охоте среди Скалистых гор или в торговле для Меховой компании в индейских деревнях. Все они были канадского происхождения; их жёсткие, обветренные лица и кустистые усы выглядывали из-под капюшонов их белых капотов с дурным и грубым выражением, словно их владелец мог быть готовым орудием любого злодейства. И таков, по сути, характер многих из этих людей.
На следующий день мы догнали фургоны Керсли, и с тех пор, на неделю или две, мы были попутчиками. По крайней мере, один хороший эффект вытекал из союза; он значительно уменьшал серьезную усталость от стояния на карауле; ибо партия, став теперь более многочисленной, имела более длинные интервалы между дежурствами каждого человека.
Глава VII
Бизон
Четыре дня на Платт, а бизонов всё ещё нет! Признаки их прошлогоднего присутствия были досадно обильны; и так как дров было крайне мало, мы нашли превосходную замену в bois de vache [коровьем навозе], который горит точь-в-точь как торф, не производя неприятных эффектов. Однажды утром фургоны уже покинули лагерь; Шоу и я были уже на лошадях, но Генри Шатийон все еще сидел, скрестив ноги, у мертвых углей костра, задумчиво играя замком своего ружья, в то время как его крепкий уайандотский пони спокойно стоял позади него, глядя у него над головой. Наконец он поднялся, похлопал пони по шее (которого, преувеличенно оценив его достоинства, он окрестил «Пятьсот Долларов»), а затем сел в седло с меланхоличным видом.
— Что такое, Генри?
— Ах, мне одиноко; я никогда не был здесь раньше; но я вижу вон там, за холмами, и внизу, на прерии, черное — все черно от бизонов!
После полудня мы с ним оставили отряд в поисках антилопы; пока на расстоянии мили или двух справа были видны лишь высокие белые фургоны и маленькие черные точки всадников, так медленно продвигавшиеся, что казались неподвижными; а далеко слева поднималась изломанная линия обожженных, пустынных песчаных холмов. Огромная равнина колыхалась высокой густой травой, достававшей до брюха наших лошадей; она качалась взад и вперед волнами от легкого бриза, и повсюду антилопы и волки двигались сквозь нее, мохнатые спины последних то появлялись, то исчезали, когда они неуклюже скакали; в то время как антилопы, с присущим им простым любопытством, часто приближались совсем близко, их маленькие рожки и белые горлышки были видны над верхушками травы, пока они жадно взирали на нас своими круглыми черными глазами.
Я спешился и развлекался, стреляя в волков. Генри внимательно изучал окружающий ландшафт; наконец он вскрикнул и велел мне снова садиться в седло, указывая в направлении песчаных холмов. В полутора милях от нас две крошечные чёрные точки медленно пересекли поверхность одного из голых ослепительных склонов и исчезли за вершиной. «Поехали!» — закричал Генри, пришпорив Пятисот Долларов, и я последовал за ним. Мы поскакали быстро сквозь густую траву к подножию холмов.
Из одного из их проемов спускалось глубокое ущелье, расширявшееся по мере выхода на прерию. Мы въехали в него и, поскакав вверх, через мгновение оказались окружены мрачными песчаными холмами. Половина их крутых склонов была гола; остальные скудно покрыты пучками травы и различными неказистыми растениями, среди которых заметно выделялся похожий на рептилию опунций. Они были изрезаны бесчисленными оврагами; и так как небо внезапно потемнело, и поднялся холодный порывистый ветер, странные кустарники и унылые холмы выглядели вдвойне дикими и пустынными. Но лицо Генри было полно нетерпения. Он отщипнул немного волос от куска бизоньей шкуры под своим седлом и подбросил вверх, чтобы определить направление ветра. Дичь была с наветренной стороны, и нужно было развить максимальную скорость, чтобы обойти их.
Мы выбрались из этого оврага и, поскакав прочь через лощины, вскоре нашли другой, извивавшийся, как змея, среди холмов и такой глубокий, что полностью скрывал нас. Мы ехали по его дну, поглядывая сквозь кустарник у его края, пока Генри резко не дернул повод и не соскользнул из седла. В полной четверти мили от нас, на очертаниях самого дальнего холма, длинная процессия бизонов шла, гуськом, с величайшей важностью и неторопливостью; затем показались еще, карабкающиеся из лощины неподалеку и поднимающиеся, один за другим, по травянистому склону другого холма; затем мохнатая голова и пара коротких сломанных рогов появились, выходя из оврага рядом, и медленной, величавой поступью, один за одним, громадные животные предстали взору, направляясь через долину, совершенно не подозревая о враге. Через мгновение Генри уже извивался, лежа плашмя на земле, сквозь траву и опунции, к своим ничего не подозревающим жертвам. С ним были и мое ружье, и его собственное. Он вскоре скрылся из виду, а бизоны все продолжали выходить в долину. Долгое время все было тихо. Я сидел, держа его лошадь, и гадал, что он делает, когда вдруг, быстро одна за другой, раздались резкие выстрелы двух ружей, и вся линия бизонов, ускоряя шаг до неуклюжей рыси, постепенно исчезла за гребнем холма. Генри поднялся на ноги и стоял, глядя им вслед.
— Ты промахнулся, — сказал я.
— Да, — сказал Генри; — поедем. — Он спустился в овраг, зарядил ружья и сел на лошадь.
Мы поехали вверх по холму за бизонами. Стадо скрылось из виду, когда мы достигли вершины, но лежа на траве неподалеку, был один совершенно безжизненный, а другой бился в предсмертных судорогах. Генри стрелял с расстояния более ста пятидесяти ярдов, и обе пули прошли через лёгкие.
Сгущались сумерки, и начался шторм. Привязав наших лошадей к рогам жертв, Генри начал кровавую работу расчленения, орудуя ножом с искусством знатока, в то время как я тщетно пытался подражать ему. Старый Гендрик отпрянул с ужасом и негодованием, когда я попытался привязать мясо к веревкам из сыромятной кожи, всегда носимым для этой цели и болтавшимся на задней луке седла. После некоторых затруднений мы преодолели его брезгливость; и тяжело нагруженные более подходящими частями бизона, мы отправились в обратный путь. Едва мы выбрались из лабиринта ущелий и оврагов и выехали на открытую прерию, как колючая ледяная крупа, порыв за порывом, понеслась прямо нам в лица. Было на редкость темно, хотя до заката ещё оставался час. Ледяной шторм вскоре проник до кожи, но беспокойная рысь наших тяжело ступавших лошадей согревала нас достаточно, пока мы заставляли их, неохотно, навстречу дождю и крупе, мощным убеждением наших индейских кнутов. Прерия в этом месте была твердой и ровной. Процветающая колония луговых собачек прорыла в ней норы во всех направлениях, и маленькие холмики свежей земли вокруг их отверстий были почти столь же многочисленны, как кочки на кукурузном поле; но ни единого лая не было слышно; нос ни одного жителя не был виден; все удалились в глубины своих нор, и мы позавидовали их сухим и удобным жилищам. Час тяжелой езды показал нам наш тускло вырисовывающийся сквозь бурю шатер, одна сторона которого раздувалась силой ветра, а другая соответственно опадала, в то время как безутешные лошади стояли дрожа поблизости, а ветер заунывно свистел в ветвях трех старых полумертвых деревьев над ними. Шоу, подобно патриарху, сидел на своем седле у входа, с трубкой во рту и сложенными на груди руками, созерцая с холодным удовлетворением кучи мяса, которые мы швырнули на землю перед ним. Наступила темная и мрачная ночь; но солнце взошло с таким знойным и томным жаром, что капитан извинился этим от засады на старого бизона, который с глупой важностью шел по прерии к реке напиться. Вот вам и климат Платт!
Но не одна погода произвела это внезапное ослабление охотничьего рвения, которое капитан всегда выказывал. Он выезжал днем ранее, вместе с несколькими членами своей партии; но их охота не привела ни к чему иному, кроме потери одной из их лучших лошадей, серьезно раненной Сорелем во время безуспешной погони за раненым быком. Капитан, чьи представления о быстрой езде были почерпнуты из заатлантических источников, выразил крайнее изумление перед искусством Сореля, который перепрыгивал овраги и мчался на полной скорости вверх и вниз по сторонам крутых холмов, хлеща свою лошадь с безрассудством скакуна Скалистых гор. К несчастью для бедного животного, он принадлежал Р., к которому Сорель питал безграничную неприязнь. Сам капитан, казалось, тоже пытался «загнать» бизона, но хотя он был хорошим и опытным наездником, вскоре оставил эту попытку, будучи поражен и совершенно раздражен характером местности, по которой ему приходилось скакать.
В тот день ничего необычного не произошло; но на следующее утро Генри Шатийон, обозревая океаноподобную ширь, увидел у подножия отдаленных холмов нечто похожее на стадо бизонов. Он не был уверен, сказал он, но, во всяком случае, если это бизоны, это отличный шанс для скачки. Шоу и я немедленно решили испытать скорость наших лошадей.
— Ну, капитан; посмотрим, кто лучше скачет, янки или ирландец.
Но капитан сохранял серьезное и строгое выражение лица. Тем не менее он сел на свою подведенную лошадь, хотя очень медленно; и мы отправились рысью. Дичь появилась на расстоянии около трех миль. По мере нашего продвижения капитан делал различные замечания, полные сомнений и нерешительности; и в конце концов заявил, что не хочет иметь ничего общего с таким рискованным делом; уверяя, что он скакал на многих стипль-чезах в свое время, но он никогда не знал, что такое настоящая скачка, пока не оказался позади стада бизонов позавчера. — Я убежден, — сказал капитан, — что «загон» не имеет смысла. Примите мой совет сейчас и не пытайтесь. Это опасно и совершенно бесполезно.
— Тогда зачем ты поехал с нами? Что ты собираешься делать?
— Я буду «скрадывать», — ответил капитан.
— Ты же не собираешься «скрадывать» со своими пистолетами, да? Мы все оставили наши ружья в фургонах.
Капитан, казалось, был ошеломлен этим предложением. В свойственной ему нерешительности, при отправлении, пистолеты, ружья, «загон» и «скрадывание» смешались в неразрешимую мешанину в его мозгу. Он проехал рысью молча между нами некоторое время; но наконец отстал и медленно повел свою лошадь обратно, чтобы присоединиться к партии. Шоу и я продолжали путь; и вот! по мере нашего продвижения, стадо бизонов превратилось в определенные кусты высокой травы, усеивавшие прерию на значительном расстоянии. При таком смехотворном окончании нашей погони мы последовали примеру нашего недавнего союзника и повернули обратно к партии. Мы ехали вдоль края глубокого оврага, когда увидели Генри и широкогрудого пони, скачущих к нам галопом.
— Вон старый Папен и Фредерик, спустились из форта Ларами! — закричал Генри, задолго до того, как подъехал.
Мы уже несколько дней ожидали этой встречи. Папен был хозяином форта Ларами. Он спустился по реке с бизоньими шкурами и бобровыми мехами, добычей прошлой зимней торговли. У меня среди багажа было письмо, которое я хотел вручить в их руки; поэтому, попросив Генри задержать лодки, если сможет, до моего возвращения, я отправился за фургонами. Они были примерно в четырех милях впереди. Через полчаса я догнал их, взял письмо, поскакал обратно по следу и, внимательно глядя, пока ехал, увидел участок сломанных, бурей побитых деревьев и двигающиеся рядом с ними какие-то маленькие черные точки, похожие на людей и лошадей. Прибыв на место, я нашел странное собрание. Лодки, числом одиннадцать, глубоко нагруженные шкурами, прижимались к берегу, чтобы избежать сноса быстрым течением. Гребцы, смуглые низкорослые мексиканцы, подняли свои тупые лица вверх, чтобы посмотреть, когда я достиг берега. Папен сидел посреди одной из лодок на брезентовом покрытии, защищавшем шкуры. Он был крепким, здоровым малым, с маленьким серым глазом, который имел особенно хитрый блеск. «Фредерик» также растянул свои долговязые пропорции рядом с хозяином, а «горцы» завершали группу; некоторые бездельничали в лодках, некоторые прогуливались на берегу; некоторые одетые в ярко раскрашенные бизоньи шкуры, подобно индейским щеголям; некоторые с волосами, пропитанными красной краской, и приклеенными к вискам; и один размалеванный киноварью на лбу и на каждой щеке. Они были смешанной расой; тем не менее французская кровь, казалось, преобладала; у некоторых, действительно, можно было увидеть черный змеиный глаз индейского метиса, и все они, по-видимому, стремились уподобиться своим диким товарищам.
Я пожал руку хозяину и передал письмо; затем лодки развернулись в потоке и уплыли. У них была причина спешить, ибо путешествие из форта Ларами уже заняло целый месяц, и река с каждым днем становилась всё мельче. Пятьдесят раз в день лодки садились на мель, действительно; те, кто плавает по Платт, неизбежно проводят половину времени на песчаных отмелях. Две из этих лодок, принадлежащие частным торговцам, впоследствии отделившись от остальных, безнадежно застряли на мелководье недалеко от деревень Поуни, и вскоре были окружены толпой жителей. Они унесли все, что считали ценным, включая большинство шкурок; и развлекались, связывая оставленных на охране мужчин и основательно хлеща их палками.
Мы разбили лагерь той ночью на берегу реки. Среди эмигрантов был переросток, лет восемнадцати, с головой такой же круглой и примерно такой же большой, как тыква, а приступы лихорадки окрасили его лицо в соответствующий цвет. На нем была старая белая шляпа, завязанная под подбородком платком; тело у него было короткое и крепкое, но ноги непропорционально и ужасающе длинные. Я заметил его на закате, взбирающимся на холм гигантскими шагами, и стоящим на вершине на фоне неба, как колоссальные щипцы. Через мгновение мы услышали его дикие крики за гребнем, и, не сомневаясь, что он в лапах индейцев или гризли, некоторые из партии схватили свои ружья и побежали на помощь. Однако его вопли оказались лишь вспышкой радостного возбуждения; он загнал двух маленьких волчат в их нору, и он стоял на коленях, разрывая землю, как собака, у входа в нору, чтобы добраться до них.
До утра он причинил более серьезное беспокойство в лагере. Настала его очередь стоять на средней вахте; но едва его подняли, как он хладнокровно устроил пару седельных сумок под фургоном, положил на них голову, закрыл глаза, открыл рот и заснул. Часовой с нашей стороны лагеря, считая, что присматривать за скотом эмигрантов не входит в его обязанности, удовольствовался наблюдением за нашими собственными лошадьми и мулами; волки, сказал он, были необычайно шумны; но все же никакой беды не ожидалось до самого восхода солнца, когда ни копыта, ни рога не было видно! Скот исчез! Пока Том мирно почивал, волки угнали его.
Тогда мы пожинали плоды драгоценного плана Р. путешествовать в компании с эмигрантами. Бросить их в беде было немыслимо, и мы считали себя обязанными ждать, пока скот не будет разыскан и, если возможно, возвращен. Но читателю, возможно, любопытно узнать, какое наказание ожидало неверного Тома. По здравому закону прерии, тот, кто засыпает на посту, приговаривается идти весь день, ведя свою лошадь в поводу, и мы много упрекали наших спутников за то, что они не применили такое наказание к нарушителю. Тем не менее, будь он в нашей партии, я не сомневаюсь, он точно так же ушел бы безнаказанным. Но эмигранты пошли дальше простого снисхождения; они постановили, что раз Том не может стоять на посту, не засыпая, он не должен стоять на посту вовсе, и с тех пор его сон был непрерывен. Установление такой премии за сонливость не могло иметь благотворного эффекта на бдительность наших часовых; ибо далеко не приятно, после езды от восхода до заката, чувствовать, как твой сон прерывается толчком приклада ружья в бок, и сонный голос ворчит тебе на ухо, что ты должен встать, чтобы дрожать и замерзать три утомительных часа в полночь.
«Бизон! Бизон!» Это был всего лишь угрюмый старый бык, бродивший по прерии в одиночестве, в мизантропическом уединении; но, возможно, за холмами было больше. Опасаясь монотонности и томности лагеря, Шоу и я оседлали лошадей, пристегнули кобуры на место и отправились с Генри Шатийоном на поиски дичи. Генри, не намереваясь принимать участие в погоне, а лишь сопровождая нас, взял с собой своё ружьё, в то время как мы оставили наши как обузу. Мы проехали миль пять или шесть и не увидели ни одного живого существа, кроме волков, змей и луговых собачек.
— Это никуда не годится, — сказал Шоу.
— Что не годится?
— Здесь нет дерева, чтобы сделать носилки для раненого; у меня есть предчувствие, что одному из нас понадобится что-то в этом роде до конца дня.
Были некоторые основания для такого опасения, ибо местность была не лучшей для скачки и становилась всё хуже по мере нашего продвижения; действительно, вскоре она стала отчаянно плохой, состоя из крутых холмов и глубоких лощин, изрезанных частыми оврагами, нелегкими для переправы. Наконец, в миле впереди мы увидели стадо быков. Некоторые разбрелись, пасясь на зеленом склоне, в то время как остальные были плотнее собраны вместе в широкой лощине внизу. Сделав круг, чтобы оставаться вне поля зрения, мы поехали к ним, пока не поднялись на холм в пределах фурлонга от них, за которым ничего не находилось, что могло бы скрыть нас от их взглядов. Мы спешились за гребнем, только что скрывшись из виду, подтянули подпруги, осмотрели пистолеты и, снова сев в седла, поехали через холм и спустились легким галопом к ним, пригнувшись близко к шеям лошадей. Мгновенно они встревожились; те, что были на холме, спустились; те, что внизу, собрались в массу, и все пришли в движение, толкая друг друга в неуклюжем галопе. Мы последовали, пришпорив лошадей до полной скорости; и когда стадо ринулось, теснясь и топча в ужасе через проход в холмах, мы были у них на пятках, почти задыхаясь от облаков пыли. Но по мере нашего приближения их тревога и скорость росли; наши лошади показывали признаки крайнего страха, яростно шарахаясь в сторону при нашем приближении и отказываясь входить в середину стада. Бизоны теперь разделились на несколько небольших групп, разбегающихся по холмам в разных направлениях, и я потерял из виду Шоу; ни один из нас не знал, куда делся другой. Старый Понтиак бежал, как безумный слон, вверх и вниз по холмам, его тяжелые копыта ударяли по прерии, как кузнечные молоты. Он проявлял любопытную смесь рвения и ужаса, напрягаясь, чтобы догнать охваченное паникой стадо, но постоянно отскакивая в испуге, когда мы приближались. Беглецы, действительно, представляли не самое привлекательное зрелище, со своими громадными размерами и весом, их лохматыми гривами и оборванными остатками прошлогодней зимней шерсти, покрывавшими их спины неровными клочьями и лоскутами и развевающимися на ветру, пока они бежали. Наконец я погнал лошадь прямо за быком, и после тщетных попыток, ударами и шпорами, поравняться с ним, я выстрелил в бизона из этой невыгодной позиции. При выстреле Понтиак так рванулся в сторону, что я снова оказался немного позади дичи. Пуля, вошедшая слишком далеко сзади, не смогла вывести быка из строя, ибо бизона нужно стрелять в определенные точки, иначе он наверняка уйдет. Стадо взбежало на холм, и я последовал в погоне. Когда Понтиак стремительно помчался вниз по другой стороне, я увидел Шоу и Генри, спускающихся по лощине справа, неторопливым галопом; а впереди бизоны как раз исчезали за гребнем следующего холма, их короткие хвосты торчком, а копыта мелькали сквозь облако пыли.
В тот момент я услышал, как Шоу и Генри кричат мне; но мускулы руки сильнее моей не смогли бы сразу остановить бешеный бег Понтиака, чья пасть была нечувствительна, как кожа. Кроме того, я ехал на нем тем утром с обыкновенным мундштуком, так как накануне, ради пользы моей другой лошади, отстегнул от уздечки мундштук с цепочкой, который обычно использовал. Более сильного и выносливого животного не ступало по прерии; но невиданное зрелище бизонов наполнило его ужасом, и на полной скорости он был почти неуправляем. Достигнув вершины гребня, я не увидел бизонов; они все исчезли среди сложного переплетения холмов и лощин. Перезарядив свои пистолеты, как мог, я поскакал дальше, пока снова не увидел их, бегущих у подножия холма, их паника несколько утихла. Старый Понтиак помчался вниз среди них, разбрасывая их вправо и влево, и затем у нас началась еще одна долгая погоня. Около дюжины быков были впереди нас, мчась по холмам, срываясь вниз по склонам с огромной силой и стремительностью, а затем с утомительным галопом взбираясь вверх. Все же Понтиак, несмотря на шпоры и удары, не хотел сближаться с ними. Один бык наконец немного отстал от остальных, и благодаря большим усилиям я погнал лошадь в шести или восьми ярдах от его бока. Его спина потемнела от пота; он тяжело дышал, а его язык болтался на фут из челюстей. Постепенно я поравнялся с ним, подгоняя Понтиака ногой и поводом ближе к его боку, затем вдруг он сделал то, что бизоны в таких обстоятельствах всегда делают; он замедлил галоп и, повернувшись к нам с выражением смешанной ярости и страдания, опустил свою огромную лохматую голову для атаки. Понтиак с фырканьем в ужасе отпрыгнул в сторону, едва не сбросив меня на землю, так как я был совершенно не готов к такому эволюции. Я в гневе поднял пистолет, чтобы ударить его по голове, но, передумав, выстрелил пулей вслед быку, который возобновил бегство, затем натянул поводья и решил присоединиться к своим спутникам. Высокое время. Дыхание тяжело вырывалось из ноздрей Понтиака, и пот катился крупными каплями по его бокам; я сам чувствовал себя так, будто вымок в теплой воде. Пообещав себе (и я сдержал обещание) отомстить при будущей возможности, я огляделся в поисках каких-либо признаков, которые показали бы мне, где я нахожусь и какой курс мне следует держать; я мог бы с таким же успехом искать ориентиры посреди океана. Сколько миль я проскакал или в каком направлении, я не имел ни малейшего понятия; и вокруг меня прерия вздымалась крутыми волнами и подъемами, без единой отличительной черты, чтобы направлять меня. У меня на шее висел маленький компас; и, не зная, что Платт в этом месте значительно отклоняется от своего восточного направления, я подумал, что, держась к северу, я непременно достигну его. Поэтому я повернул и проехал около двух часов в том направлении. Прерия изменилась по мере моего продвижения, переходя в более пологие волны, но ничего похожего на Платт не появлялось, ни малейшего признака человека; та же дикая бескрайняя ширь лежала вокруг меня по-прежнему; и, судя по всему, я был так же далек от своей цели, как и прежде. Я начал теперь считать себя в опасности заблудиться; и поэтому, осадив лошадь, призвал скудную долю умения ориентироваться в лесу, которой я обладал (если этот термин применим на прерии), чтобы выручить меня. Оглядевшись, мне пришло в голову, что бизоны могут оказаться моими лучшими проводниками. Вскоре я нашел одну из троп, проложенных ими при переходе к реке; она шла почти под прямым углом к моему курсу; но повернув голову лошади в указанном ею направлении, его более свободный шаг и настороженные уши убедили меня, что я прав.
Но тем временем моя поездка отнюдь не была уединенной. Вся поверхность страны была усеяна далеко и широко бесчисленными сотнями бизонов. Они двигались вереницами и колоннами, быки, коровы и телята, на зеленых поверхностях склонов впереди. Они разбегались по холмам справа и слева; и далеко вдали, бледно-голубые волны на самом горизонте были усеяны бесчисленными точками. Иногда я заставал врасплох лохматых старых быков, пасущихся в одиночестве или спящих за гребнями, на которые я поднимался. Они вскакивали при моем приближении, тупо смотрели на меня сквозь свои спутанные гривы, а затем тяжело уносились галопом. Антилопы были очень многочисленны; и так как они всегда смелы, находясь по соседству с бизонами, они приближались совсем близко, чтобы посмотреть на меня, пристально вглядываясь своими большими круглыми глазами, затем внезапно отпрыгивали в сторону и легко мчались по прерии, столь же быстро, как скаковая лошадь. Жалкие, разбойничьи волки крались по лощинам и песчаным оврагам. Несколько раз я проезжал через деревни луговых собачек, которые сидели, каждая у входа в свою нору, держа лапы перед собой в умоляющей позе и отчаянно лая, энергично виляя своим маленьким хвостом с каждым писклявым криком, который издавала. Луговые собачки не разборчивы в выборе компаньонов; различные длинные, клетчатые змеи грелись на солнце посреди деревни, и степенные маленькие серые совы, с большим белым кольцом вокруг каждого глаза, сидели бок о бок с законными обитателями. Прерия кишела жизнью. Снова и снова я смотрел на заполненные склоны холмов и был уверен, что вижу всадников; и подъезжая ближе, со смесью надежды и страха, ибо индейцы были поблизости, я находил их превратившимися в группу бизонов. Не было ничего человеческого среди всего этого огромного скопления животных форм.
Когда я свернул на бизонью тропу, прерия, казалось, изменилась; лишь волк или два проскользнули мимо на расстоянии, как сознательные преступники, никогда не глядя ни вправо, ни влево. Теперь, будучи свободен от беспокойства, я мог досуга наблюдать за объектами вокруг меня; и здесь, впервые, я заметил насекомых, совершенно отличных от любых разновидностей, найденных дальше к востоку. Яркие бабочки порхали вокруг головы моей лошади; странно сформированные жуки, сверкающие металлическим блеском, ползали по растениям, которых я никогда прежде не видел; множество ящериц тоже метались, как молния, по песку.
Я отъехал на большое расстояние от реки. Мне пришлось долго ехать по бизоньей тропе, прежде чем я увидел с гребня песчаного холма бледную поверхность Платт, сверкающую среди своих пустынных долин, и слабые очертания холмов за ней, колышущиеся вдоль неба. С того места, где я стоял, ни дерева, ни куста, ни живого существа не было видно на всем протяжении выжженного солнцем ландшафта. Через полчачаса я наткнулся на след, недалеко от реки; и видя, что партия еще не прошла, я повернул на восток, чтобы встретить их, долгая размашистая рысь старого Понтиака снова уверяя меня, что я поступаю правильно. Поскольку утром, покидая лагерь, я чувствовал легкое недомогание, шесть или семь часов трудной езды чрезвычайно утомили меня. Поэтому я вскоре остановился; швырнул седло на землю и, положив на него голову и свободно привязав к руке аркан лошади, лежал, ожидая прибытия партии, размышляя тем временем о степени повреждений, полученных Понтиаком. Наконец белые покрытия фургонов показались на краю равнины. По странному совпадению, почти в тот же момент появились два всадника, спускающиеся с холмов. Это были Шоу и Генри, которые искали меня некоторое время утром, но, хорошо зная тщетность такой попытки в такой пересеченной местности, поместили себя на вершине самого высокого холма, какой смогли найти, и, привязав своих лошадей неподалёку от них, как сигнал для меня, легли и заснули. Заблудший скот был найден, как сказали нам эмигранты, около полудня. До заката мы продвинулись еще на восемь миль вперёд.
7 ИЮНЯ 1846 г. — Четверо мужчин пропали; Р., Сорель и два эмигранта. Они отправились сегодня утром за бизонами и до сих пор не появились; убиты они или заблудились, мы не можем сказать.
Я нахожу вышеприведенное в моём блокноте и хорошо помню совет, состоявшийся по этому поводу. Наш костёр был его сценой. Генри Шатийон отливал пули у огня, когда капитан приблизился с озабоченным и измученным выражением лица, верно отраженным на тяжелых чертах Джека, который следовал близко позади. Затем эмигранты стали сходиться от своих фургонов к общему центру; были сделаны различные предположения, чтобы объяснить отсутствие четверых мужчин, и один или двое из эмигрантов заявили, что когда они выезжали за скотом, они видели индейцев, выслеживающих их и ползущих, как волки, вдоль гребней холмов. В это время капитан медленно покачал головой с двойной серьезностью и торжественно заметил:
«Путешествовать по этой проклятой пустыне — серьезное дело»; мнение, с которым Джек немедленно выразил полное согласие. Генри не хотел брать на себя обязательства, высказывая какое-либо определенное мнение.
«Может, он просто слишком далеко погнался за бизоном; может, индеец убил его; может, он заблудился; я не могу сказать!»
С этим слушателям пришлось удовольствоваться; эмигранты, нисколько не встревоженные, хотя и любопытствующие узнать, что стало с их товарищами, ушли обратно к своим фургонам, а капитан задумчиво удалился в свою палатку. Шоу и я последовали его примеру.
«Это будет плохо для наших планов, — сказал он, когда мы вошли, — если эти ребята не вернутся целыми. Капитан беспомощен на прерии, как ребенок. Нам придется взять его и его брата на буксир; они будут висеть на нас, как свинец».
«Прерия — странное место, — сказал я. — Месяц назад я бы подумал, что довольно тревожное дело, если знакомый уедет утром и лишится скальпа к ночи, но здесь это кажется самой естественной вещью в мире; не то чтобы я верил, что Р. уже потерял свой».
Если человек по натуре подвержен нервным опасениям, поездка по далеким прериям окажется лучшим лекарством; ибо хотя, находясь по соседству со Скалистыми горами, он может временами оказаться в обстоятельствах некоторой опасности, я верю, что немногие дышат той безрассудной атмосферой, не становясь почти безразличными к любому злому случаю, который может постигнуть их самих или их друзей.
У Шоу была склонность к роскошным удобствам. Он расстелил свое одеяло с величайшей тщательностью на земле, убрал палки и камни, которые, как он думал, могли помешать его комфорту, приспособил свое седло в качестве подушки и устроился для ночного отдыха. В тот вечер у меня была первая вахта; поэтому, взяв ружье, я вышел из палатки. Было совершенно темно. Бодрый ветер дул с холмов, и искры от костра летели над прерией. Одним из эмигрантов, по имени Мортон, был мой спутник; и положив наши ружья на траву, мы сели вместе у огня. Мортон был кентуккийцем, крепким малым, с прекрасным умным лицом, и в своих манерах и разговоре он проявлял существенные характеристики джентльмена. Наш разговор обратился на пионеров его доблестного родного штата. Три часа нашей вахты наконец тянулись, и мы пошли будить смену.
Вахта Р. следовала за моей. Его не было; но капитан, опасаясь, как бы лагерь не остался беззащитным, вызвался стоять на его месте; поэтому я пошёл разбудить его. Не было никакой необходимости в этом, ибо капитан не спал с наступления темноты. Снаружи палатки пылал огонь, и при свете, проникавшем сквозь брезент, я увидел его и Джека лежащими на спине с широко открытыми глазами. Капитан мгновенно откликнулся на мой зов; он вскочил, схватил двуствольное ружьё и вышел из палатки, полный торжественной решимости, как будто собираясь посвятить себя всего безопасности нашего отряда. Я пошёл и лёг, не сомневаясь, что в течение следующих трёх часов наш сон будет охраняться с достаточной бдительностью.
Глава VIII
Незаметный отъезд
8 июня, в одиннадцать часов, мы достигли Южного рукава Платт у обычного брода. Лига за лигой пустынное однообразие пейзажа было почти нерушимо; холмы были усеяны маленькими пучками сморщенной травы, но между ними белый песок ослепительно сверкал на солнце; а русло реки, почти на одном уровне с равниной, было всего лишь одним большим песчаным ложем шириной около полумили. Оно было покрыто водой, но столь скудно, что дно едва скрывалось; ибо, какой бы широкой она ни была, средняя глубина Платт в этом месте не превышает полутора футов. Остановившись у ее берега, мы собрали bois de vache [коровьи лепешки] и пообедали бизоньим мясом. Вдалеке, на другой стороне, виднелся зелёный луг, где мы могли разглядеть белые палатки и фургоны лагеря эмигрантов; и прямо напротив нас у кромки воды можно было различить группу людей и животных. Вскоре четыре или пять всадников въехали в реку и через десять минут перешли ее вброд и вскарабкались на рыхлый песчаный берег. Это были дурно выглядящие парни, худые и смуглые, с изможденными, тревожными лицами и крепко сжатыми губами. У них была веская причина для тревоги; прошло три дня с тех пор, как они впервые разбили здесь лагерь, и в ночь их прибытия они потеряли 123 своих лучших вола, угнанных волками из-за халатности часового. Это обескураживающее и тревожное бедствие было не первым, что с ними приключилось. С тех пор как они покинули поселения, они не встречали ничего, кроме неудач. Некоторые из их отряда умерли; один человек был убит Поуни; а около недели назад они были ограблены Дакотами, которые забрали всех их лучших лошадей, и те жалкие животные, на которых сидели наши посетители, были единственными оставшимися.
Они рассказали нам, что разбили лагерь около заката у берега Платт, и их волы бродили по лугу, в то время как табун лошадей пасся чуть поодаль. Внезапно гребни холмов ожили от толпы конных индейцев, не менее шестисот человек, которые с оглушительным воем хлынули вниз к лагерю, подскакав на несколько родов [единица длины, около 5 метров], к великому ужасу эмигрантов; но внезапно развернувшись, они пронеслись вокруг табуна лошадей и через пять минут исчезли со своей добычей через проходы в холмах.
Пока эти эмигранты рассказывали свою историю, мы увидели, как приближаются еще четверо мужчин. Ими оказались Р. и его спутники, с которыми не случилось никаких неприятностей, а они лишь слишком далеко забрели в погоне за дичью. Они сказали, что не видели индейцев, а только «миллионы бизонов»; и у Р., и у Сореля за седлами болталось мясо.
Эмигранты переправились обратно через реку, и мы приготовились последовать за ними. Сначала тяжелые волы с фургонами нырнули с берега и медленно поволоклись по песчаному ложу; иногда копыта волов едва смачивались тонким слоем воды; а в следующий момент река кипела у их боков и яростно кружилась вокруг колес. Дюйм за дюймом они удалялись от берега, уменьшаясь с каждым мгновением, пока наконец не показалось, что они плывут далеко посреди самой реки. Нас ждал более рискованный эксперимент; ибо наша маленькая мулиная повозка была плохо приспособлена для переправы через столь быстрый поток. Мы с тревогой следили за ней, пока она не превратилась в маленькую неподвижную белую точку посреди вод; и она БЫЛА неподвижна, ибо крепко застряла в зыбучих песках. Маленькие мулы теряли опору, колеса погружались все глубже и глубже, и вода начала просачиваться через дно, заливая товары внутри. Все мы, оставшиеся на этом берегу, поскакали на выручку; мужчины прыгнули в воду, добавив свою силу к силе мулов, пока после больших усилий повозка не была высвобождена и благополучно переправлена на другую сторону.
Когда мы достигли другого берега, нас окружила грубая группа мужчин. Они не были крепкими, ни крупного телосложения, однако имели вид закаленной выносливости. Не находя дома простора для своих пылких энергий, они удалились в прерию; и в них, казалось, возродился с удвоенной силой тот свирепый дух, что гнал их предков, едва ли более беззаконных, чем они сами, из немецких лесов, затоплять Европу и крушить Римскую империю. Две недели спустя эта несчастная партия проходила мимо форта Ларами, когда мы были там. Ни одного из их пропавших волов не нашли, хотя они оставались в лагере целую неделю в их поисках; и им пришлось бросить большую часть своего багажа и провизии, и запрячь коров и тёлок в свои фургоны, чтобы продолжить путь, самая трудная и опасная часть которого все еще лежала перед ними.
Стоит заметить, что на Платт иногда можно увидеть разбитые обломки старинных столов на когтистых ножках, хорошо навощенных и натертых, или массивные резные дубовые бюро. Они, многие из них, без сомнения, реликвии былого процветания предков в колониальные времена, должны были пережить странные превратности судьбы. Возможно, изначально привезенные из Англии; затем, с падением благосостояния их владельцев, перевезенные через Аллеганы в отдаленную глушь Огайо или Кентукки; затем в Иллинойс или Миссури; и теперь наконец заботливо уложенные в семейный фургон для бесконечного путешествия в Орегон. Но суровые лишения пути мало кем предвидятся. Дорогая реликвия вскоре выбрасывается, чтобы обгореть и потрескаться на жаркой прерии.
Мы возобновили наше путешествие; но мы проехали едва милю, как Р. крикнул сзади:
— Мы разобьем лагерь здесь.
— Зачем тебе здесь становиться? Посмотри на солнце. Еще нет и трех часов.
— Мы разобьем лагерь здесь!
Это был единственный ответ, который он удостоил нас дать. Делорье был впереди со своей повозкой. Увидев, как мулиный фургон сворачивает с тропы, он начал разворачивать свою упряжку в том же направлении.
— Поезжай дальше, Делорье, — и маленькая повозка снова двинулась вперед. Пока мы ехали, мы вскоре услышали, как фургон наших союзников скрипит и подпрыгивает позади нас, а возница, Райт, разражается яростной тирадой ругательств в адрес своих мулов; без сомнения, изливая на них гнев, который не смел направить на более подходящий объект.
Нечто подобное происходило часто. Наш английский друг отнюдь не благоволил к нам, и мы усматривали в его поведении намеренное желание мешать и досаждать нам, особенно замедляя движение отряда, которое мы, как янки, стремились ускорить. Поэтому он настаивал на том, чтобы разбивать лагерь в совершенно неподходящие часы, говоря, что пятнадцать миль — достаточный дневной переход. Обнаружив, что наши пожелания систематически игнорируются, мы взяли руководство делами в свои руки. Всегда оставаясь впереди, к невыразимому негодованию Р., мы разбивали лагерь тогда и там, где считали нужным, мало заботясь о том, последуют ли за нами остальные. Однако они всегда делали это, ставя свои палатки рядом с нашими, с угрюмыми и гневными лицами.
Путешествовать вместе на таких приятных условиях не соответствовало нашим вкусам; уже некоторое время мы размышляли о расставании. Связь с этой партией стоила нам различных задержек и неудобств; и вопиющее отсутствие учтивости и здравого смысла, проявленное их фактическим лидером, не располагало нас терпеть эти досады с большим терпением. Мы решили покинуть лагерь рано утром и двигаться вперед как можно быстрее к форту Ларами, до которого мы надеялись добраться, при усердной езде, за четыре или пять дней. Капитан вскоре подскакал между нами, и мы объяснили наши намерения.
— Очень необычный поступок, честное слово! — заметил он. Затем он начал распространяться о чудовищности этого замысла. Самым ярким впечатлением в его уме, очевидно, было то, что мы поступаем низко и вероломно, покидая его отряд на том этапе пути, который он считал очень опасным. Чтобы смягчить чудовищность нашего поведения, мы осмелились предположить, что нас всего четверо, в то время как в его отряде все еще шестнадцать человек; и более того, раз мы собирались двигаться вперед, а они следовать за нами, по крайней мере, полная доля опасностей, которых он опасался, выпадет на нас. Но суровость черт капитана не смягчилась. «Очень необычный поступок, джентльмены!» — и, повторив это, он ускакал, чтобы посовещаться со своим начальником.
По счастливой случайности мы нашли луг со свежей травой и большую лужу дождевой воды посреди него. Мы разбили здесь лагерь на закате. Вокруг валялось множество бизоньих черепов, выбеленных на солнце; и густо усыпанная среди травы была великое множество странных цветов. Мне больше нечего было делать, и, собрав горсть, я сел на бизоний череп, чтобы изучить их. Хотя порождение дикой природы, их структура была хрупкой и нежной, а цвета чрезвычайно насыщенными; чисто белый, темно-синий и прозрачный малиновый. Путешественник в этой стране редко имеет досуг думать о чем-либо, кроме суровых черт пейзажа и его составляющих, или практических деталях каждого дня пути. Как и они, он и его мысли становятся жесткими и грубыми. Но теперь эти цветы внезапно пробудили ряд ассоциаций, столь же чуждых грубой сцене вокруг меня, как и они сами; и на мгновение мои мысли вернулись в Новую Англию. Толпа милых и хорошо памятных лиц возникла, живо, как сама жизнь, передо мной. «Есть хорошие вещи, — подумал я, — в дикой жизни, но что она может предложить взамен тем сильным и облагораживающим влияниям, которые могут достигать неослабленными более трех тысяч миль гор, лесов и пустынь?»
Перед восходом солнца на следующее утро наша палатка была свернута; мы запрягли наших лучших лошадей в повозку и покинули лагерь. Но сначала мы пожали руки нашим друзьям-эмигрантам, которые искренне пожелали нам безопасного путешествия, хотя некоторые другие члены отряда легко бы утешились, встреть мы по пути индейский военный отряд. Капитан и его брат стояли на вершине холма, закутанные в свои пледы, словно духи тумана, с тревогой наблюдая за табуном лошадей внизу. Мы помахали им рукой на прощание, когда уезжали с места. Капитан ответил приветствием величайшего достоинства, которое Джек попытался скопировать; но, будучи мало практикующимся в жестах вежливого общества, его попытка не была очень успешной.
Через пять минут мы достигли подножия холмов, но здесь мы остановились. Старый Гендрик был в оглоблях, и, будучи воплощением упрямого и грубого упорства, он наотрез отказался двигаться. Делорье хлестал и ругался, пока не устал, но Гендрик стоял, как скала, ворча себе под нос и косился на своего врага, пока не увидел благоприятный момент для мести, когда он ударил под оглоблю с такой хладнокровной злобой, что Делорье избежал удара лишь внезапным подскоком в воздух, на который был способен только француз. Шоу и он тогда объединили усилия и хлестали с обеих сторон сразу. Тупое животное постояло некоторое время, пока не смогло больше терпеть, и вдруг начало лягаться и брыкаться, грозя полным разрушением повозки и упряжи. Мы бросили взгляд на лагерь, который был в полной видимости. Наши спутники, воодушевленные соперничеством, уже сворачивали свои палатки и загоняли скот и лошадей.
— Выпряги лошадь, — сказал я.
Я снял седло с Понтиака и надел его на Гендрика; первый был мгновенно запряжен в повозку. «Avance donc!» — крикнул Делорье. Понтиак зашагал вверх по холму, подергивая за собой маленькую повозку, словно она была легка, как перо; и хотя, достигнув вершины, мы увидели, как фургоны наших покинутых товарищей только начинают движение, мы мало боялись, что они смогут нас догнать. Оставив тропу, мы напрямик пересекли местность и пошли кратчайшим путем, чтобы достичь основного потока Платт. Внезапно нас прервал глубокий овраг. Мы двигались вдоль его краев, пока не нашли их менее крутыми, а затем пробились сквозь него как могли. Пройдя позади песчаных оврагов, называемых «Пепельная лощина», мы остановились на короткий полденный привал у лужи дождевой воды; но вскоре возобновили наше путешествие и за несколько часов до заката спускались по оврагам и ущельям, открывавшимся вниз к Платт к западу от Пепельной лощины. Наши лошади брели по песку до пута; солнце палило, как огонь, и воздух кишел песчаными мухами и комарами.
Наконец мы достигли Платт. Проследовав вдоль нее около пяти миль, мы увидели, как раз когда солнце садилось, большой луг, усеянный сотнями голов скота, а за ними — лагерь эмигрантов. Группа из примерно дюжины человек вышла нам навстречу, взирая на нас сначала с холодными и подозрительными лицами. Увидев четверых людей, отличающихся внешностью и снаряжением от них самих, выезжающих из холмов, они приняли нас за авангард столь страшных мормонов, встречи с которыми они очень опасались. Мы раскрыли нашу истинную сущность, и тогда они приветствова нас сердечно. Они выразили большое удивление, что столь маленький отряд осмелился пересекать эту местность, хотя на самом деле такие попытки нередко предпринимаются трапперами и индейскими торговцами. Мы поехали с ними к их лагерю. Фургоны, числом около пятидесяти, с тут и там стоящей палаткой, были расположены, как обычно, по кругу; в пределах этого круга были привязаны лучшие лошади, и вся окружность светилась тусклым светом костров, показывая формы женщин и детей, толпившихся вокруг. Эта патриархальная сцена была достаточно любопытна и впечатляюща; но мы покинули это место со всей возможной поспешностью, будучи измучены назойливым любопытством мужчин, толпившихся вокруг нас. Янки-любопытство было ничто по сравнению с ихним. Они требовали наши имена, откуда мы, куда направляемся и каковы наши занятия. Последний вопрос был особенно затруднителен; поскольку путешествие в этой стране, да и вообще где-либо, из какого-либо другого мотива, кроме выгоды, было идеей, которую они не признавали. Тем не менее это были прекрасно выглядящие парни, с отпечатком откровенности, щедрости и даже учтивости, пришедшие из одного из наименее варварских приграничных округов.
Мы проехали около мили за ними и разбили лагерь. Будучи слишком малочисленными, чтобы стоять на посту без чрезмерной усталости, мы потушили наш костер, чтобы он не привлек внимания бродячих индейцев; и, привязав наших лошадей близко вокруг себя, проспали не потревоженными до утра. Три дня мы путешествовали без помех, и вечером третьего дня разбили лагерь у известного источника на Скоттс-Блафф.
Генри Шатийон и я выехали утром и, спустившись по западной стороне Блаффа, пересекали равнину за ним. Нечто, показавшееся мне вереницей бизонов, возникло в поле зрения, спускаясь с холмов в нескольких милях перед нами. Но Генри натянул поводья своей лошади и, внимательно вглядываясь через прерию более зорким и опытным глазом, вскоре обнаружил ее истинную природу. «Индейцы!» — сказал он. «Палатки Старого Дыма, я полагаю. Поехали! Давай! Вах! поднимайся, Пятьсот Долларов!» И, усердно хлеща, он помчался вперед, а я ехал рядом с ним. Вскоре на прерии, в двух милях от нас, стала видна черная точка. Она становилась все больше и больше; она приняла форму человека и лошади; и вскоре мы могли различить голого индейца, несущегося во весь опор к нам. На расстоянии фурлонга он развернул свою лошадь в широкий круг и заставил ее описать различные мистические фигуры на прерии; и Генри немедленно заставил Пятьсот Долларов проделать подобные эволюции. «Это деревня Старого Дыма, — сказал он, интерпретируя эти сигналы, — разве я не говорил?»
Когда индеец приблизился, мы остановились, чтобы подождать его, как вдруг он исчез, словно провалившись в землю. Он наткнулся на один из глубоких оврагов, которые повсюду пересекают эти прерии. В мгновение ока грубая голова его лошади показалась из-за края, и всадник со скакуном выкарабкались наружу и помчались к нам; внезапный рывок поводья остановил дико пыхтящую лошадь на полном скаку. Затем последовала необходимая формальность рукопожатия. Я забыл имя нашего гостя. Он был молодым парнем, не известным в своем народе; однако своей внешностью и снаряжением он был хорошим образцом воина-Дакота в его обычной походной одежде. Как и большинство его соплеменников, он был почти шести футов ростом; гибкий и грациозный, но крепко сложенный; и с кожей удивительно чистой и нежной. Он не был раскрашен; голова его была обнажена; и его длинные волосы были собраны в пучок сзади, к верхушке которого поперек был прикреплен, отчасти для украшения, отчасти как талисман, мистический свисток, сделанный из крыловой кости военного орла и наделенный различными магическими свойствами. От затылка спускалась линия сверкающих латунных пластинок, сужающихся от размера дублона до размера пол-дайма, громоздкое украшение, очень модное среди Дакотов и за которое они платят торговцам чрезвычайно высокую цену; его грудь и руки были обнажены, бизонья шкура, надетая на них во время отдыха, спадала вокруг его талии и была закреплена там поясом. Это, вместе с яркими мокасинами на ногах, завершало его наряд. В качестве оружия он нес за спиной колчан из собачьей кожи, а в руке — грубый, но мощный лук. У его лошади не было уздечки; шнур из волос, обмотанный вокруг ее челюсти, служил вместо нее. Седло было самой необычной конструкции; оно было сделано из дерева, покрытого сыромятной кожей, и оба, лука и задняя лука, поднимались перпендикулярно на целых восемнадцать дюймов, так что воин был плотно зажат на своем сиденье, откуда ничто не могло его сместить, кроме лопнувших подпруг.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.