
- Все
- Экономика и бизнес
- Промышленность
- СМИ и индустрия развлечений
- Издательская деятельность и журналистика
Бесплатный фрагмент - Опыт восхождения к цельному знанию
Публикации разных лет
Материалы девяностых годов двадцатого века
PROCEEDINGS TO THE XII CONFERENSE OF THE WORLD FUTURE STUDIES FEDERATION
Barcelona, Spain, September 1991
S. Galperin,
the All-union Centre
of Future Researches,
USSR
Change of natural-scientific paradigm is unavoidable
The stable present-coming ecological crisis is not difficult to be found in the fundamentals of philosophy of the contemporary natural science: in contradiction of spirit and matter (subject-oriented division), in stating the equality of originality and usefulness (phenomenological coming), in attempt of seeing the Universe as a system, which can be explained by the ultimate logic-mathematical analysis.
But there had existed principally different understanding of the world in the origins of the world cultures which the superior rationalism tried not to notice. The development of such of understanding may be found out in the works of Russian thinkers: V. Solovyov, N. Fyodorov, P. Florensky, N. Berdyaev, A. Losev.
Owing to the understanding of equality of stability and motion with endless great velocity it is not reasonable to take into consideration subject-object division, i.e. the law of equality of formal logics (A = A) should be changed (A = not A). The understanding itself is not to be the result of formal measurement (comparison) but the act of inner integration of cognitive subject with cognitive object.
The foresight is taking place a part from biological structures, the main basis of Reason. The numeric point of isotopic and heterogeneous space is inexhaustible. An ambiguity of corpuscular-wave dualism is change by single impression of interconnection of nondiscrete and discrete, about the nature of c, the world phenomenological constants are being deciphered.
Multiaged mystery is coming to its end. The human-being in this mystery was given a role of a possible watcher. The over-value of values is to be unavoidable. Its necessity is not only for science but also for social consciousness as a whole is indisputable.
Из материалов Всесоюзного центра
по исследованию будущего (СССР)
для XII конференции Международной федерации
по изучению будущего (ротапринт);
Барселона, Испания, сентябрь 1991
Неизбежность смены естественнонаучной парадигмы
Неотвратимость наступления нынешнего экологического кризиса нетрудно обнаружить в истоках философии современного естествознания: в противопоставлении духа материи (субъектно-объектное расчленение), в провозглашении тождества истинности и полезности (феноменологический подход), в попытке представить мироздание системой, поддающейся исчерпывающему логико-математическому анализу.
Между тем в истоках мировых культур как Востока, так и Запада существовало принципиально иное восприятие мира, которое преуспевающий рационализм старался не замечать. Развитие такого восприятия можно выявить в трудах русских мыслителей: В. Соловьёва, Н. Фёдорова, П. Флоренского, Н. Бердяева, А. Лосева.
Благодаря осмыслению тождества покоя и движения с бесконечной скоростью несостоятельным оказывается субъектно-объектное расчленение: закон тождества формальной логики (А = А) подлежит существенному видоизменению (А = неА); само знание предстаёт не как результат формального измерения (сравнения), а как акт внутреннего объединения, познающего с познаваемым.
Реальную основу обретает наличие предвидения вне биологических структур — основной прерогативы Разума. Неисчерпаемой оказывается нульмерная точка изотропного и однородного пространства; двусмысленность корпускулярно-волнового дуализма уступает место однозначному представлению о взаимосвязи непрерывного и дискретного, о природе квантования; расшифровываются мировые феноменологические постоянные.
Многовековой мистерии, в которой человеку была отведена роль бесстрастного наблюдателя, приходит конец; переоценка ценностей неизбежна. Необходимость её не только для науки, но и для общественного сознания в целом — неоспорима.
ЯЗЫК И ТЕКСТ: ОНТОЛОГИЯ И РЕФЛЕКСИЯ
Сборник материалов первых международных
философско-культурологических чтений,
СПб., 1992. С. 145 — 151.
Онтологические основы выразительности слова (имени) у А. Ф. Лосева
Слово (имя) играет ключевую роль в учении А. Ф. Лосева об эстетике как науке о выражении.
Привычный, сугубо прагматичный подход к реальности не даёт возможности выявить изначальную гармонию слова (имени), осмыслить его онтологическую основу. Дискурсивное (логическое) мышление использует лишь познавательный аспект слова, игнорируя его выразительную компоненту как несущественную, излишнюю, как информационный шум.
Толкованием смысла словесного текста заниматься осознанно начали ещё в эпоху эллинизма, анализируя наследие Гомера. Так возникла герменевтика (греч. germēnua — разъясняю), трансформировавшаяся в средние века в экзегетику (токование Священного Писания). Сейчас герменевтика переживает новый взлёт: она пытается не столько «понять» текст, сколько дать ему онтологическое основание. Ещё одна сфера, использующая слово как носитель смысла — семиотика (греч. semeion — знак); здесь изучаются любые знаковые системы и, конечно, естественные языки. Выявляется внутренняя структура системы, отношения её с пользователем, возможности системы как средства выражения смысла.
Однако, несмотря на достижения названных наук, приходится признавать правоту поэта: «Мысль изреченная есть ложь…» Даже если мы стараемся говорить правду, одну только правду, ничего, кроме правды.
В чём дело? Да хотя бы в том, что «мысль изреченная», — словесная конструкция, — состоит из дискретных элементов (слов), и они не в состоянии адекватно отразить непрерывность мыслительного процесса. О существовании такого неустранимого противоречия я впервые прочёл однажды в неопубликованной статье В. В. Налимова «Выход в другую культуру».
Между прочим, у древних греков и «слово», и «мысль» обозначались как «логос». Но у них же «слово» имело более древние выражения: «миф», «эпос». Последователь Лосева О. С. Широков обращает внимание на, то что ранние значения отражают коллективное мнение, «логос» же индивидуальную мысль.1
Слово (имя) имеет с реальностью двойственную связь: 1) через предмет, которому оно принадлежит (к которому относится); 2) через грамматическую (логическую) конструкцию, в которую оно входит.
Мыслимая предметность — это эйдос. В нём явлена сущность предмета (его «чтойность»).2 Логос, как и эйдос, представляет собой чистый символ, но в то время как эйдос вещи есть сама вещь, логос вещи — некий абстрактной момент вещи, он реален, как принцип и метод, как инструмент, «как щипцы, которыми берут огонь, а не сам огонь». 3
А вот и более развёрнутое сопоставление их, приведённое Лосевым: «Эйдос видится мыслью, осязается умом, созерцается интеллектуально; логос не видится мыслью, но полагается ею; не осязается умом, но сам есть щупальцы, которыми ум пробегает по предмету; не созерцается интеллектуально, а есть лишь задание, заданность, метод, чистый закон, чистая возможность интеллектуального созерцания». 4
Итак, связь имени с эйдосом определена: эйдос явлен в имени. Выявлены и корни двойственности имени, отражённые в отношениях эйдоса и логоса. Но это лишь один план его бытия.
Слово (имя) непосредственно связано с предметом. Это его символ, который может иметь как звуковое (фонемное), так и письменное (иероглифическое) выражение. Принципиальная разница между ними в том, что произносимое слово (имя) непосредственно связано с личностью, написанное же слово в значительной степени отчуждено от неё. Связь эту П. Флоренский выявляет в общем для древних языков корне «маг»: «внутреннее вечного и могучего, владеющего силой мудрости и знания». Сила мага переходит в его слово: «Восторг (воз-торг) есть мгновенное отторжение себя от себя. Слово кудесника, рождённое в восторге, несёт в себе, возносит с собой отторженный кусок его волнения». 5
Однако символика иероглифического выражения также по-своему содержательна, хотя и в ином ракурсе. На это обратил внимание, в частности, М. Волошин, цитируя французского писателя Клоделя: «Всякое письмо начинается с черты или линии, которая сама по себе в своей длительности представляет чистый знак и личность. Линия или горизонтальна, как всякое явление, которое в одном направлении к своей собственной сущности находит достаточное основание бытия; или вертикальна, как дерево, как человек, указывая на действие или утверждая; или наклонна — тогда она обозначает движение и чувство». 6
Заслуживает внимания подход современного поэта Конст. Кедрова, который в книге «Поэтический космос» связывает начертание букв русского алфавита (кириллицы) с действиями человека. У меня при этом возникли, в частности, интересные ассоциации с формой буквы Ж («живая точка»), буквы В с учётом смысла префикса в предлоге «в»), буквы К с учётом смысла предлога «к») и некоторых других. А насколько глубок символизм слова, составленного из двух предлогов В — ОТ! (хотя это и выглядит весьма спекулятивно). Вместо неподвижного формально указанного места мы получаем подвижный покой (свёртку-развёртку) живой точки. И ведь это слово идёт к нам из глубокой древности: «И реша ноугородьци Святославу: «Въдай ны Володимера». Он же рече им: «Вото вы есть». 7
Энергия сущности, проявленная в действии, находит богатое выражение в слове. Глагол считается душой древних языков. И в наше время неизбывная действенность прорывается в словотворчестве ребёнка.8
Обратимся к происхождению той же «точки», сугубо геометрического, статического понятия, и мы обнаружим исходную динамичность этого символа. Этимология его — сплошная глагольная среда в разных языках:9
«точка» (русск.) от тъкнути, воткнуть;
«бод» (чешск.) от бодати, колоть;
«стигме» (др.-гр.) восходит к значению «укол»;
«пунктум» (лат.) восходит к «пунго» — колю;
«ташкас» (литв.) восходит к «тяшка» — капает, брызгает;
«крапка» (укр.) от крапаты — капать.
Вернёмся к философскому осмыслению имени. Конечно, оно принадлежит предмету, особи, человеку. И-мя — то, что я имею, моя собственность, но благодаря ей я связан с миром людей. Лосев пишет об этом: «Тайна слова заключается именно в общении с предметом и в общении с другими людьми… Слово — мост между „субъектом“ и „объектом“. Имя предмета — арена встречи воспринимающего и воспринимаемого, вернее, познающего и познаваемого… Без слова и имени человек — вечный узник самого себя, антисоциален, необщителен несоборен, следовательно, также и индивидуален, не-сущий, он чисто животный организм». 10
Рассмотрим вместе с Лосевым слово (имя) как целостность — феномен, обладающий внутренней сущностью, продвигаясь вглубь, осуществляя свёртку.
Внешний слой — фонематический, связанный со звуковой формой имени: звук как физическое явление (воздушные колебания), голос (членораздельные звуки определённого тембра), индивидуальность произношения.
Далее предлагается рассмотреть семему — сферу слова, обладающую характером значения (вместо совокупности звуков рассматривается значение самого слова). Выявляется этимон (корень слова), морфема (грамматическая структура), синтагма (смысловая энергия предложения, которую несёт слово), наконец, символическое единство слова.
Ещё более глубокий пласт — ноэма (греч. noema — мысль). Чистая ноэма есть понимаемая предметность, то «что в обывательском сознании, т.е. в школьной грамматике и психологии некритично трактуется как „значение слова“». Однако это мёртвая абстракция. Лосев пишет: «Тайна слова в том и заключается, что оно орудие общения с предметом и арена интимной и сознательной встречи с их внутренней жизнью… Ноэма есть свет смысла, освещающий, т.е. осмысливающий звуки и от значения звуков как таковых совершенно отличный… В ноэме должна быть арена… встречи адекватного понимания с адекватно понимаемым. Назовём эту арену полного формулирования смысла в слове идеей, считая, что это слой — дальнейший за семемой вообще… и за самой ноэмой». 11
На идее свёртка имени завешается. В идее взаимоопределяются сущее и не-сущее (меон) — ключевой пункт лосевской диалектики: «не-сущее» (иное) как инобытие сущего (одного). Любой предмет — «нечто» — отличается от «иного». При этом «иное не имеет самостоятельной природы, это лишь момент отличия и различия. Сущее есть основание и опора смыслового рационального, «иное» (меон) — диалектически необходимый иррациональный момент в самой рациональности сущего. Идея предмета и есть его инобытие. «Если под инобытием мыслится человеческое или иное сознание, то идея в этом смысле есть полное и адекватное понимание предмета». 12
Иное сознание» воплощено в единстве подвижного покоя самотождественного различия, т.е. в нуль-мерной точке, чей покой тождествен движению с бесконечной скоростью. Отсюда можно начинать второй этап онтологизации имени — развёртку. Лосев осуществляют этот процесс с помощью энергемы. Это «смысловая изваянность выражения… Меон и энергема фактически одно и то же, однако меональная вещь получает осмысление лишь извне и сама не рождает смысла и выражения. Энергема же есть смысловая выраженность, естественная выраженность сущности». 13
«Смысл живёт своей внутренней жизнью, нуждаясь в „ином“ лишь как в окружающей тьме; иное — ничто». 14 Однако смысл может передаваться иному, это и есть проявление энергии сущности. Энергема, следовательно, будет представлять собой ту или иную степень осмысленности.
Лосев предлагает следующую иерархию самоутверждённости:15
— чистое «вне себя» (физическая энергема): — физическое пространство (вещь);
— знающее чистое «вне себя» (органическая энергема): — раздражение (организм);
— знающее себя без осознания (сенсуальная энергема): — ощущение (животное).
Следующие четыре степени осмысленности относятся к человеческому сознанию; последняя из них сближает его с Богом:
— самосознание себя как себя в ином — восприятие;
— самосознание себя как иного в себе — представление;
— самосознание себя как себя в себе — мышление;
— самосознание себя как абсолютной единичности — умный экстаз.
Физической, органической и сенсуальной энергемам соответствует просто звук, органически-физиологический звук, животный крик. Энергемам восприятия, представления, чистого мышления и сверх-умного мышления — имя (слово). Но слово — «не дым и звук пустой». Это ипостась сущности. Пройдём вслед за Лосевым по вехам, отмеченным им: «Сущность есть a) эйдос. Но этот эйдос соотнесён с алогическим инобытием и потому как бы заново нарисован, но уже алогическими средствами. Следовательно, он, а вместе с ним и сущность есть b) символ. Но это тот символ, который сам себя соотносит с собой и с иным, а не кто-нибудь иной это делает. Следовательно, он есть абсолютное (или его степень) самосознание, т.е. миф. Отсюда, сущность есть с) миф. Но эйдетически выраженная символическая стихия мифа и есть имя, слово. Следовательно, сущность есть d) имя, слово.
Если сущность — имя и слово, значит и весь мир, вселенная и есть имя и слово, имена и слова». 16
В тайнах выразительности слова (имени) скрыты основы мироздания, предельное обобщение мировых явлений — Бог. «В Бога имени, — говорит Лосев, — произносимом со звуками и буквами, существует сам Бог. Но не в субстанции, а в своей акциденции, в своей энергии». 17
Одна и та же сущность, явленная в разных формах своей энергии, это и есть основа мироздания. Это доказано весьма убедительно.
Примечания:
1 Лосев А. Ф. и культура ХХ века. Лосевские чтения. М., Наука. 1991.
2 Лосев А. Ф. Страсть к диалектике. М., Советский писатель. 1990, С. 35.
3 Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 100.
4 Там же. С. 101.
5 Философские науки. №12. 1990.
6 Волошин М. А. Лики творчества. М., Наука. 1979.
7 Повесть временных лет (древнерусский текст) // Литература древней Руси (Хрестоматия). М., 1990. С. 17.
8 Чуковский К. И. От двух дол пяти. М., 1968.
9 Откупщиков Ю. В. К истокам слова. М., 1973. С. 114—115.
10 Лосев А. Ф. Из ранних произведений. С. 38.
11 Там же. С. 41.
12 Там же. С. 97.
13 Там же. С. 75.
14 Там же. С. 73.
15 Там же. С. 52 — 73.
16 Там же. С. 127.
17 Контекст — 1990. М., Наука. 1990. С. 18.
РОССИЯ И ЕВРОПА
ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРА, СОВРЕМЕННОСТЬ
Материалы международного симпозиума,
Саратов, 1993. С. 44—49.
Диалектическая тетрактида А. Ф. Лосева — фундамент новой парадигмы
К концу второго тысячелетия н.э. человечество оказалось в тисках жесточайшего гносеологического кризиса. Неудачи и провалы в отдельных сферах общественного бытия и общественного сознания, будь то технология или культура, экология или экономика, отражают приближающуюся к критической отметке степень неадекватности расщеплённого восприятия реальности в сложившейся системе знаний самой целостной реальности. Эти знания не позволяют установить фундаментальные взаимосвязи между явлениями или хотя бы осмыслить их, повлиять на их протекание, предвосхитить их последствия. Изменения в природе и обществе происходят быстрее, нежели накопление знаний, позволяющих предвидеть результаты таких изменений. Вследствие этого человечество по существу оказывается во власти слепых, весьма разрушительных сил, зачастую вызванных им самим по незнанию. Ожидаемый прогресс на базе компьютеризации при всех колоссальных возможностях в части обработки информации, выбора оптимальных решений не сможет оправдать возлагаемых надежд: он не затрагивает онтологической основы знаний.
Язык природы не сводится ни к логико-математическому, ни к логико-понятийному. Самое совершенное математическое моделирование способно воспроизвести вещь, процесс, факт лишь схематично, но не сущностно. Уложенное в прокрустово ложе формальной логики, научное мышление не может выйти за пределы абстракций, осуществляя именно на их основе теоретические построения. Однако научный эксперимент, благословляемый теорией проводится отнюдь не с абстрактными понятиями и субъективными идеями, а с конкретными вещами в биоценозе, в производственно-социальной сфере — с фактами. Подход к фактам в современной науке однозначен — это подход феноменологический. Это законное дитя субъект-объектного расчленения реальности. Объективация природы превращает человека (мыслящий дух) в бесстрастного наблюдателя, фиксирующего в пределах формальной логики результаты своих наблюдений. Этот подход находит опору и оправдание в релятивизме, господствующем в науке, в её недвусмысленном отказе о Абсолютной Истины; в утончённой механистичности, которая благополучно перекочевала из классического естествознания в физику микромира.
Предельно расчленённая картина мира не может не способствовать нарастанию тотального отчуждения. Мысль о неизбежности смены парадигмы проникает в общественное сознание всё глубже. Проблема в том, в каком направлении вести поиск новой.
В этой связи заслуживает первоочередного внимания философское наследие А. Ф. Лосева. В своём замечательном «восьмикнижии» — итоге самого плодотворного этапа деятельности — он не только ставит проблему радикального переосмысления основ мироздания, но и предлагает прямой путь к её решении. Его вывод: естественной основой любой теории является диалектика. Сверхсущее (перво-единое), бытие одного, его синтез с иным в становлении и явленность ставшего (факта) — суть диалектической тетрактиды, предложенной Лосевым вместо обычной триады: «Диалектическую триаду легко понять (и понимали) как чистую идею и смысл, в то время, как диалектика захватывает как раз всю стихию живого движения фактов, и потому надо говорить не просто об отвлечённой триаде, но и о триаде как о вещи, как о факте, т.е. триада должна вобрать в себя действительность и стать ею. „Четвёртый“ момент и есть у меня „факт“. Только таким образом и можно спасти диалектику от субъективного и бесплотного идеализма, оперирующего с абстрактными понятиями, не имеющими в себе никакого тела». 1
Первая диалектическая тетрактида Лосева оказывается не просто погружённой в многообразие реальности, — она сама становится настоящим центром кристаллизации, выявляющим внутреннюю упорядоченность как в сфере смысла, так и в сфере факта. Я пытаюсь для наглядности отразить это схематически, используя (при отдельных исключениях) лосевские наименования категорий (см. схему):
Анализируя второе начало тетрактиды — смысл (единичность как раздельную множественность), Лосев возвращает ему многозначность и многомерность, которой обладал он в античном мировосприятии под именем эйдоса. В лосевском определении смысл (эйдос как сущее) — это единичность данная, как подвижной покой самотождественного различия.
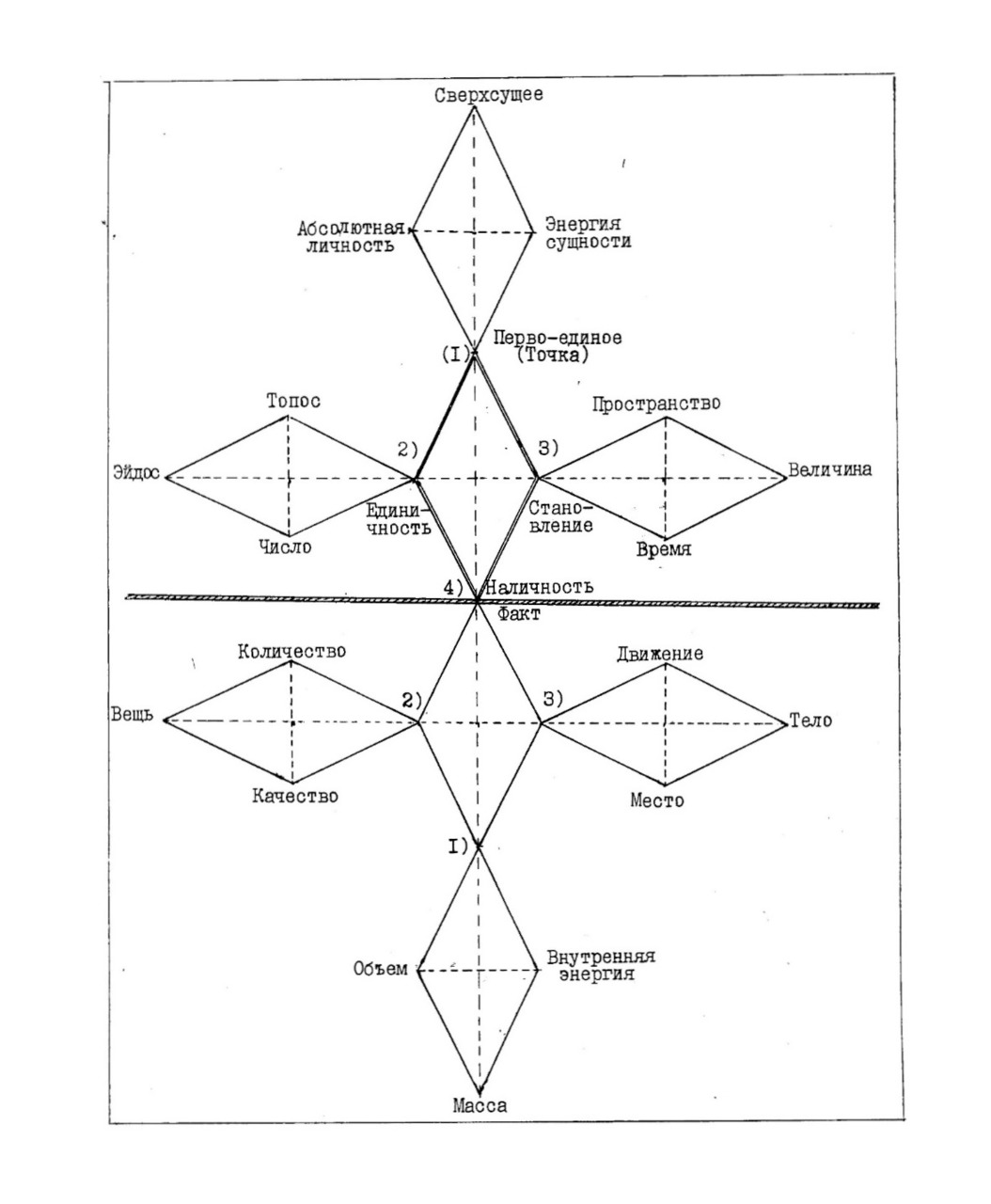
Провозгласив факт полноправной диалектической категорией, Лосев сразу же находит радикальное средство, связывающее единый категориальный смысл факта с многообразием его форм, проявляющихся в реальности — выражение. Это — соотнесённость внешнего с внутренним, имеющая характер символа; здесь логический смысл сущности отождествлён с его алогической явленностью — феноменом. Следовательно, подход Лосева к постижению реальности — феноменолого-диалектический. Преимущества его как перед феноменологическим, так и перед чисто логическим очевидны.
Феноменологический подход, используемый наукой, опирается исключительно на математику. Но физическая реальность, представляемая математической структурой (то есть схемой), не выхолит зав пределы логического анализа (по Лосеву: «Математика — логос схемного логоса»). Здесь выражение соотнесённости внутреннего с внешним может носить лишь характер механизма, идея которого даёт лишь метод объединения частей; факт остаётся отчуждённым от целостного мира.
Диалектический подход, применяемый до настоящего времени, сводится по существу к логическому, поскольку не выходит за пределы абстракций. Абстрактные идеи и понятия, формулирующие «законы диалектики», проецируются на такие же абстракции — «материя», «движение», именуемые «объективной реальностью». Лосев чётко выразил взаимоотношения конкретных наук с диалектикой: «Науки, где отвлечённый анализ и без того весьма развит, инстинктивно боятся дальнейших абстракций, и им кажется бесполезным нагромождать за выработанными формулами ещё какие-то другие формулы, которые, не становясь, например, математическими, претендуют, однако, на то, чтобы быть логическим основанием самой математики». 2
Природа, которую, исходя из логики, пытаются объяснить конкретные науки, используя математический метод, либо философия, используя диалектический метод, действительно обладает внутренне присущей ей алогичностью. Она — живая, она не механизм, но организм, поскольку на любом уровне пронизана смыслом — разумом. Одним логико-понятийным уровнем здесь не обойтись. В тетрактиде Лосева вершины ромбов — категории, обозначаемые понятиями, и действительно представляют собой эйдосы. Что же, в таком случае, понятие? Это всего лишь тень чистого смысла вещи, её сущности, это логос эйдоса, взятого, как некая единичность. «Логос вещи есть некоторый абстрактный момент в вещи… Реальность логического есть реальность применения логического принципа, в то время как реальность эйдетического есть непосредственная, ни от какого принципа не зависимая явленность сущности вообще». 3
Логически эйдос представлен понятием, алогически он явлен в мифе. Изъятый из социально-культурных сфер (богословской, этнографической и др.), миф выявляет свою первоначальную феноменолого-диалектическую природу. «Миф есть внутренняя жизнь символа, — пишет Лосев, — стихия жизни, рождающая её лик и внешнюю явленность». 4
Развёрнутое единство мифа и символа, их тождество, явлено в личности. К личности («я») приводит рассмотрение мифа не в чисто смысловой стихии, но как несомое при посредстве «факта». Личность есть факт, это символически осуществлённый миф, следовательно, она мифична, причём, миф утверждает её не субстанциально, а энергийно; миф — это лик личности.
В личности явлена сущность, в ней символически осуществлено самосознание и самоощущение. Личность утверждается: в религии — в вечности; в искусстве — в образах, имеющих самодовлеющую созерцательную ценность; в науке — в понятиях, имеющих ценность познавательную. В личности сосредоточено начало цельного знания. Исходит оно из равнозначности логического и алогического. В этом — основа лосевской диалектики.
Равнозначность эта исчерпывающе разрешает антиномию веры и знания, предполагает их равноправную ценность, создаёт условия для их естественного синтеза. «Таким синтезом является в е д е н и е, равноправно вмещающее в себя веру и знание и не способное осуществляться ни без веры ни без знания, — пишет Лосев. — Это — простейший и притом чисто логический, совершенно невероучительный синтез. Но признать его, понять и утвердить его можно только при соответствующем мифологическом, т.е. чисто жизненном опыте. Я называю эту мифологию абсолютной: она всегда ведение, г н о с и с. Фидеизм же и рационализм есть виды относительной мифологии». 5
Сформулированный современной наукой «антропный принцип», будучи полным благими намерениями, сохраняет за человеком ранг наблюдателя. Последний обречён оставаться перед наглухо запертой дверью Природы, и к его услугам лишь замочная скважина. Лосев нашёл ключ от этой двери. Остаётся воспользоваться им. Выбор за нами.
Примечания:
1 Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы. М., 1927. С. 133.
2 Там же. С. 3.
3 Лосев А. Ф. Философия имени.// Из ранних произведений. М., 1990. С. 100.
4 Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы. С. 26.
5 Лосев А. Ф. Диалектика мифа. // Из ранних произведений. С. 585.
ПАРАДИГМЫ ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ
Сборник материалов вторых международных
философско-культурологических чтений,
СПб., 1995. С. 211—216.
Алексей Лосев: прорыв в новую реальность
ALEXEI LOSEV: BURSTING INTO THE NEW REALITY
Modern science understands the world through concept which limit the sense of phenomena and objects. This is the paradigm of logical-conceptual thought. Alexei Lossev offers quite a new approach: the essence of a thing is unique and unitary, but can manifest itself in a great many different ways. Here essence of a thing is left as a mystery, but a thing finds itself as a symbol. It has categories of difference and identity. The meeting of these divergent categories creates an eidos which is seen through the mind´s eye as a quality of sense. Thus a new model of reality is formed — the symbolic paradigm.
Everything has its name connected to essence through the energy of sense. Here dialectics is used as logic of symbol. Its appearance offers the chance for the unity of different branches of knowledge: the synthesis of science, religion, art.
The historical role of unified knowledge lies in the fact that it seeks to expose the fallacy of theories based on a division between various branches of knowledge.
Symbolic reality helps to resort the perception of the world as it really exists, in the magnitude of its Unity.
В 1919 году в Цюрихе вышла на немецком языке книга под названием «Die russische Philosophie (Rußland: Geistesleben, Kunst, Philosophie, Literatur)». Среди материалов сборника, отражавших культурно-духовную жизнь России, была статья Алексея Лосева «Русская философия» объёмом в два авторских листа. В ней двадцатипятилетний философ выделил главные особенности самобытной русской философии, дал её характеристику, попытался предугадать судьбу.
«…Русской философии, в отличие от европейской, и более всего немецкой философии, чуждо стремление к абстрактной чисто интеллектуальной систематизации взглядов. Она представляет собой чисто внутреннее, интуитивное, чисто мистическое познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть постигнуты не посредством сведения к логическим понятиям, а только в символе, в образе посредством силы воображения и внутренней жизненной подвижности…
…Русская самобытная философия представляет собой непрекращающуюся борьбу между западноевропейским абстрактным ratio и восточно-христианским, конкретным богочеловеческим Логосом и является беспрестанным, постоянно поднимающимся на новую ступень постижением иррациональных и тайных глубин космоса конкретным и живым разумом…
…Самостоятельная русская философия, поднявшаяся на высокую ступень апокалипсической напряжённости, уже стоит на пороге нового откровения, возможно, также и новой кристаллизации этого откровения…»1
Фундаментальные труды Алексея Лосева, созданные им между тридцатью и сорока годами, в расцвете творческих сил, со всей полнотой выразили то, о чём писал он в своей ранней программной статье. Судьбе было угодно, чтобы эти замечательные работы, в которых как раз и кристаллизовалось откровение, предчувствуемое глубоко верующим мыслителем, долгие десятилетия находились под запретом, а некоторые так и оставались в рукописях в архиве учёного. Они все по-настоящему лишь сейчас выходят в свет прежде всего благодаря усилиям вдовы философа, его верного соратника Азы Алибековны Тахо-Годи. И нам дана возможность прикоснуться к тайне, оставленной нам в наследство, переживать её неисчерпаемость, созерцать её красоту.
Выявлению и обсуждению неисповедимых тайн сущности вещи, её полагания (бытия), первого зачатия мысли посвящена работа Лосева «Самое само», обнаруженная в его архиве в 1990 году и включённая в третий том ранних работ А. Ф. Лосева. Написанная замечательно живым языком, в котором строгость логики сочетается с парадоксами диалектики, а холодный блеск ума — с благодатным порывом чувства, она заслуживает особого внимания.
Всякая вещь хранит тайну своего бытия и разгадать её невозможно. Если мы даём вещи определение, то тем самым о-пределяем границу её смысла, устанавливаем предел её значимости. В действительности вещь не есть ни один из её признаков, ни все они вместе взятые. Можно лишь констатировать, что всякая вещь исключает полное совпадение с чем бы то ни было, и это просто невозможно выразить так же абсолютно. Кстати, наука на это и претендует. И мир вещей, и мысль об этом мире сводится наукой к той или иной системе фактов, явлений (феноменов), каждому из которых соответствует своё понятие. В целом всё это представляет собой логико-понятийную парадигму (модель) реальности. В этой модели имеется ниша для наук о природе (физики, химии, биологии и др.) и для наук о человеке (антропологии, психологии, социологии и др.). Предел научного мышления сводится к пределу применимости понятия; именно здесь следует искать корни современного гносеологического кризиса.2 Ни наука, некогда провозгласившая устами Ф. Бэкона тождество истинности и полезности, ни философия, выросшая из пелёнок протестантизма, где даже Бог оказался понятием, никакой изначальной тайны вещи просто не чувствуют.
У Гегеля реальность и познание реальности сводятся к единой цепи категорий, начинающейся с «ничто» и завершающейся «абсолютным знанием». В этой цепи «сущность является», а «явление существует» — и только. Но и то, и другое принадлежит полю понятий, в которое явленная вещь сама по себе никак не вписывается. Если же последовать совету гуссерлианцев и рассматривать её как чисто смысловую данность, наглядную целостность, то тогда останется лишь примитивная описательность, лишённая познавательной ценности, где исследователя вообще не интересует природа явления (последнее даже объявляется важнейшим достижением феноменологического подхода).
Лосев предлагает вернуться к исходной позиции: считать, что данная вещь есть именно она сама. Это относится и к миру в целом.
— Где этот мир? Каковы его свойства? Существует ли этот самый мир? — спрашивает он. — На все эти вопросы я могу сделать только указательный жест, и — больше ничего. Вот он, этот мир, говорю я, показывая рукой на всё окружающее. Каков он, этот мир? Вот он каков, говорю я, продолжая пользоваться тем же самым жестом.3
В логико-понятийной парадигме подобные действия выражают абстрактное мышление. Именно так поступает ребёнок, не ведающий ещё о неисчерпаемости мира. Но природная любознательность заставляет его задавать свои «почему?» — и мир начинает понемногу разворачиваться перед ним как бесчисленное множество осознаваемых проявлений. Однако то же самое относится к любой вещи. Она дана в какой-нибудь конкретной значимости, но её можно рассматривать с разных точек зрения, стало быть, она способна обнаружить бесчисленное количество своих интерпретаций, не теряя, естественно, при этом свою индивидуальность, свою самость — самое само. Сохраняя всякий раз тождество внутреннего (самости) и внешнего (явленности), вещь предстаёт как символ бесконечности. Отсюда главный постулат Лосева: «Самое само дано только в символах (каковы бы ни были эти символы)». 4 Отсюда и его обобщающий вывод: «Всё существующее (логика с её категориями, природа с её вещами и организмами, история с её людьми и их жизнью, космос со всей его судьбой) есть только символы сáмого самогó, или абсолютной самости, т.е. одни только символы абсолютной самости и существуют… Не быть символистом — это значит быть или только рационалистом, или только эмпириком. Но разум со всей его логикой и наукой есть только абстракция живого бытия, и чувственный опыт с его наглядностью и непосредственной реальностью, есть только абстракция живого бытия». 5)
Лосев не делает никаких исключений для осмысления выявленной им реальности, напоминая, что симоволическими являются даже рассуждения о сáмом самóм: оно остаётся непознаваемым и до-логическим. Если мы хотим зафиксировать первое движение мысли после этого сáмого самогó, то должны предложить некое первое полагание. А это не что иное, как бытие. Сáмому самомý не свойственна категория бытия. Но именно она лишь и способна связать с ним вещь, которая есть символ, стадо быть вообще есть. И вот тут-то и выявляется тайна первого полагания мысли:
«Чтобы был ум, требуется тайна его первого зачатия, и тайна эта уже не есть тайна только ума… Это тайна сáмого самогó и тайна его эманирования. Она — абсолютно неразрешима, но она в то же время и абсолютно необходима… Она являет себя как тайну, и она ощутима как тайна, без всяких надежд на разрешение, но зато со всяческой надеждой на оплодотворение ею любых проявлений человеческого разума и смысла вообще». 6
Из всего этого следует, что наряду с исторически сложившейся в общественном сознании онтической логико-понятийной парадигмой реальности существует алогическая символическая парадигма с непрерывно-сплошной текучестью становления и физиономической выразительностью ставшего, с изначальной апофатичностью (допредметной и докатегориальной сверхмыслимостью) и катафатичностью (вездесущим выразительным проявлением энергии смысла). Содержательную бедность и смысловую несостоятельность законов тождества и противоречия аристотелевской логики, которые пытается снять гегелевская диалектика понятия, здесь заменяет платоновская диалектика «одного» и «иного», бытия и небытия. Лосев приходит, рассматривая их отношения, к исчерпывающим характеристикам инобытия, числа, границы, выявляет смысловую основу противоречия и противоположности. Вполне закономерным представляется его вывод: диалектика — логика символа. Он предлагает возвратить в философский обиход категорию «эманация», отсутствующую у Гегеля, естественно, не связывая её ни с какими физическими аналогиями типа «рассеяние», «распыление». Это — определение самой вещи в её явленности всему иному». 7 Эманация бытия — это и есть первый полный символ, который позволяет охватить и представить главные проявления сáмого самогó (сущности):8
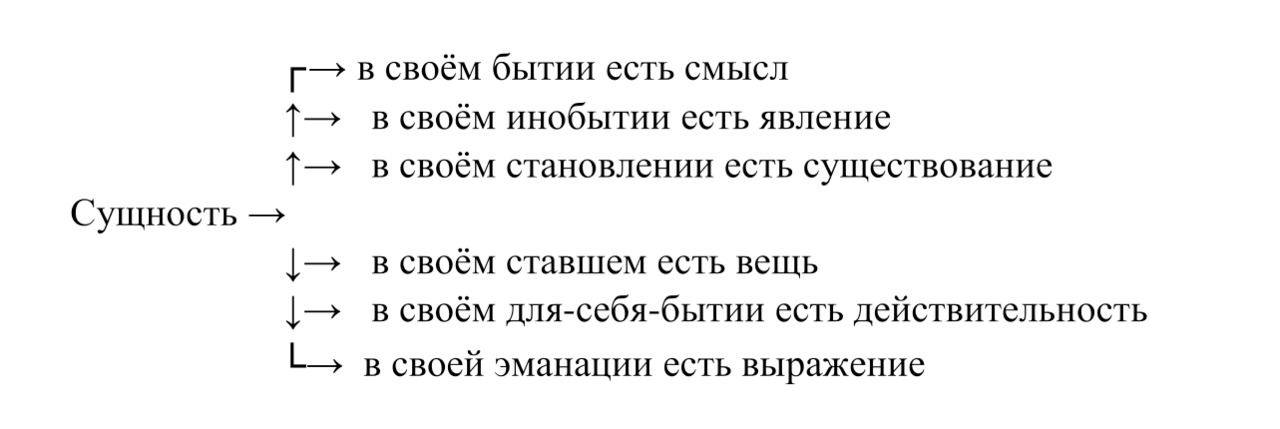
Тайна бытия распространяется и на сферу смысла. Однако он проявлен: смысл бытия есть всё то, что можно помыслить (почувствовать, представить, высказать и т.д.). При уточнении оказывается, что символ вещи есть то, чем она отличается от всего прочего, т.е. сама категория различия. Надо искать в вещи то, что делало бы эти различия ею самой, при этом сохраняя себя, объединяясь в слитное, нераздельное единство. А ведь это не что иное как тождество! «Различие есть бесконечный символ тождества, и тождество есть бесконечный символ различия». 9 Они раздельны, обособлены, в своём становлении, но встретившись, образуют цельнораздельное единство, устойчивую мыслимую предметность — эйдос. «Эйдос есть самотождественное различие, данное как ставшее, как наличное бытие, как определённое качество, т.е. как ставшее, как наличность, как качество смысла». 10
Этим определением заканчивается лосевское «Сáмое самó», труд, который по праву может считаться вершиной русской религиозно-философской мысли в сфере онтологии на пороге третьего тысячелетия от рождения Христа. Если каждая вещь имеет сáмое самó, то все вещи вместе также образуют нечто, что есть оно самó — абсолютную самость. Но поскольку каждая вещь — символ своего сáмого самогó, а оно входит в абсолютную самость, то и каждая вещь оказывается символом абсолютной самости. Лосев не только избегает по известным причинам собственного имени этой «абсолютной самости» — Бога, он даже не делает прямо напрашивающегося вывода, что цельнораздельное единство абсолютной самости — в гармонии Всеединства и Всеразличия — Единого Бога и тварного мира. И всё же эзотерическая, божественная основа бытия выявлена им чётко и однозначно.
В непосредственно примыкающей к рассмотренной выше другой ранней работе «Вещь и имя», впервые опубликованной в 1993 году, Лосев осуществляет диалектическую развёртку качества смысла: голый, пустой, изолированный, отвлечённый смысл выявляет себя в понятии… т.е. смысл = тезис, алогическое бессмыслие = антитезис, понятие = синтез». 11
Далее понятие выражается словом. В слове-понятии символическая реальность не может быть раскрыта: символ здесь всего лишь термин, слово — знак вещи, условно передающий её значение: вещь является тем-то. Здесь лишённое рельефности поле.
Между тем смысловое содержание слова не ограничивается его понятийной формой. Слово способно выявить себя в умной смысловой энергии, становясь ликом. В энергии смысла выявляется личностное начало всякой вещи, и утверждается оно как личность, но не в субстанциальном, а в умном (смысловом) отношении: энергия сущности явлена в имени. Имя оказывается нижней ступенью диалектической последовательности, последним уровнем инобытийности в нисходящей пирамиде символической реальности.
Понятие, определяющее вещь — тоже имя, но нарицательное, устанавливающее отношение «общее — единичное». В нём энергия смысла не проявлена в отличие от имени собственного, где именно она создаёт нерушимую связь: Единое — единственное — единичное, становится реальным средством общения с обладателем имени. Здесь ясно ощутима эзотерическая природа имени, корни христианского логизма (всякая вещь таит скрытое Слово, в котором сотворён мир; Слово воплощено в Абсолютной личности — Ипостаси Сына) и православного энергетизма (тварный мир причастен Богу не субстанциально, а энергийно).
Итак, в символической реальности осознаётся изначальное равенство непостижимой для человеческого ума Тайны и благодатности Божественного откровения. Но каким образом может это отразиться на научном подходе? Неужели его можно соединить с религиозным? Ответ однозначен: и можно, и должно. Необходимо лишь отказаться от иллюзии, доставшейся нам от эпохи Просвещения: смысл всему на свете придаёт сам человек. В основе нынешней теории познания (теории отражения) нетрудно разглядеть изначальное свойство человеческого ума — его интенцию (направленность на исследуемую вещь). Отражение — лишь осознаваемый её результат. В символической реальности всякая вещь способна вы-ражать; в её имени явлена энергия смысла, личностное, умное начало. «Энергия смысла» современным образованным человеком понимается лишь как своеобразная метафора, поскольку общеизвестна механическая основа термина «энергия». Между тем, то, что ныне в науке именуют «энергией», всего лишь триста лет тому назад Лейбниц называл «мёртвой силой». Зато впервые применивший это понятие Аристотель, относил его, как неоднократно отмечает в своих работах Лосев, к принципу становления смысла.
Привыкнув к представлению, что чувственно воспринимаемая реальность существует в пространстве и времени, мы уже давно не думаем о том, что невидимый мир, окружающий эту реальность, проникающий во все её закоулки, не подчиняется пространственно-временным зависимостям и ограничениям, и поэтому энергия, образующая смысловые связи, действует с неотвратимой и бесконечной силой в отличие от её механического аналога. Это она мгновенно образует экспоненту в любом свободно развивающемся процессе,12 и даёт результат «дважды два — четыре» в привычной таблице умножениям, проявляя интенсивность любого соединения, включая «произведение масс» в ньютоновском законе всемирного тяготения, воспроизводит цельнораздельное единство числа в степенном ряду, как и в любом волновом процессе,13 выявляет механическую содержательность элементарного электрического заряда, одновременно предлагая осуществить «голубую мечту» современной физики — расшифровать мировые феноменологические постоянные.
Символическая реальность, раскрываемая Лосевым, формирует основу задумываемого им с юных лет цельного знания — синтеза религии, науки, искусства, с проявлением равноправия алогического и логического в единстве веры и знания — ведении. В современных условиях при этом появляется реальная возможность выработать новую стратегию развития науки, включая фундаментальные исследования; ускорить технологический переворот, с учётом экологической целесообразности; существенно сократить сроки получения образования при одновременном кардинальном повышении уровня знаний; ликвидировать отчуждённость человека от внешнего мира, раскрыв смысл его творчества как продолжения миротворения, сотворчества с Богом.
Историческая роль цельного знания видится в том, что оно вскрывает ложность начальных посылок, оправдывающих любое расчленение: смысловое соединение универсально и вездесуще. Символическая реальность воссоздаёт восприятие мира человеческим разумом, очами ума таким, каков он есть на самом деле — во всём величии Всеединства.
Примечания
1 Лосев А. Ф. Русская философия // Страсть к диалектике. М., 1990. С. 73, 78, 101.
2 Гальперин С. В. Лосев и путь к цельному знанию // Сб. Абсолютный миф Алексея Лосева /в печати/.
3 Лосев А. Ф. Самое само // Миф. Число. Сущность. М., 1994. С. 318.
4 Там же. С. 335.
5 Там же. С. 350.
6 Там же. С. 403.
7 Там же. С. 449.
8 Там же. С. 469.
9 Там же. С. 505.
10Там же. С. 526.
11 Лосев А. Ф. Вещь и имя // Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 840.
12 Гальперин С. В. Лосев и путь к цельному знанию /в печати/.
13 Гальперин С. В. Православно понимаемый неоплатонизм Лосева и смена естественнонаучной парадигмы /в печати/.
14 Гальперин С. В. Моё мировидение. М., 1992. С. 162.
ОЙКУМЕНА МЫСЛИ
ФЕНОМЕН ЛОСЕВА
Сб. статей, Уфа, 1995. С. 26—37.
Об историзме Алексея Лосева
Примерно год тому назад мне возвратили из «Культурной инициативы» («Фонд Сороса») не прошедшую по конкурсу рукопись общеобразовательного пособия, которое, как я предполагал, могло быть использовано в семейном обучении (есть сейчас и такая форма образования). Уже на второй странице краткого предисловия, где я упоминал о пользе цельного знания, против слов: «…чьи основы заложил выдающийся мыслитель ХХ века Алексей Лосев» на полях был выписан безымянным рецензентом выразительный вопросительный знак. Второй красовался тремя строками ниже, где говорилось, что миф отнюдь не противостоит реальности, что это жизнь, увиденная изнутри, отрешённая по смыслу (но не по факту) от привычного рефлексивного восприятия.
Мог ли я упрекнуть старательного рецензента в предвзятости или, того хуже, в невежестве? Что может знать сегодня о Лосеве гуманитарий школьной сферы (историк, обществовед, словесник) с солидным профессиональным стажем? Возможно, лишь жутковатый анекдот минувших лет. «Сталину сказали: «Вот Лосев — идеалист». А тот спрашивает: «А все другие?» — «А все другие — материалисты, Иосиф Виссарионович.» — «Тогда пусть будет одын идеалист». 1 Вероятно, и поныне законопослушный специалист из сферы образования, услышав о Лосеве, привычно произнесёт на всякий случай «чур меня». Что ж тут удивляться вопросительным знакам на полях отвергаемой им рукописи?
Сам Лосев ответил на вопрос о себе прямо и откровенно: «Что же со мною делать, если я не чувствую себя ни идеалистом, ни материалистом, ни платоником, ни кантианцем, ни гуссерлианцем, ни рационалистом, ни мистиком, ни голым диалектиком, ни метафизиком, если даже все эти противоположения часто кажутся мне наивными? Если уж обязательно нужен какой-то ярлык и вывеска, то я, к сожалению, могу сказать только одно: я — Лосев!». 2
Всякий, кому близок лосевский образ мыслей, ощутит в этом заявлении и неисчерпаемость апофатичности, и пафос самоутверждения автора. Отказываясь от застывших ярлыков, отражающих как метафизическое бессилие понятийного аппарата философской науки, так и ограниченность людей, применяющих его, он предлагает обратить внимание на другое: «…Если угодно отнестись ко мне добросовестно, надо принять как непреложный факт: с именем Лосева связано самое острое чувство истории. Всё, что дано, есть и будет, всё, что вообще может быть, конкретным становится только в истории». 3
Но прежде, чем перейти к особенностям историзма Лосева, обратимся к трактовке самого этого термина в современном отечественном словаре. Историзм определяется как «принцип познания вещей и явлений в их становлении и развитии в органической связи с порождающими их условиями». Естественно, он является мощным инструментом марксизма: «Благодаря этому принципу, составляющему неотъемлемую сторону диалектического метода, марксизм сумел объяснить сущность таких сложных общественных явлений, как государство, классы и др., предвидеть исторически преходящий характер капитализма, неизбежность смены его социализмом». И, конечно, последнее слово остаётся за воинствующим материализмом: «Одна из характерных черт современной немарксистской философии и социологии — отрицание принципа историзма, борьба против него или же такое истолкование, которое выхолащивает из него материалистическое и диалектическое содержание». 4
Нет, Лосев не отрицает принцип историзма и не борется против него. Наоборот, он-то как раз и применяет его в полном соответствии с приведённым выше определением. История — выражение жизни, а жизнь — не что иное, как становление — непрерывно-сплошная текучесть. Оно присуще и человеку, и окружающей его природе. «Не история есть момент в природе, но всегда природа есть момент истории». 5 Сама констатация факта, его «здесь и теперь» даже в причинной зависимости от каких бы то ни было условий никакого отношения к истории не имеет. Явленность факта — это всегда ставшее. Ему соответствует логико-понятийная схема (система) — механизм. Становлению же, то есть истинному историческому процессу, соответствует организм, в котором явленность факта выражает внутреннюю сущность символически, а не онтически.
Конечно, такой историзм действительно «выхолащивает» марксистскую его трактовку, убедительно изложенную правоверным марксистом Г. В. Плехановым: «Великая научная заслуга Маркса заключается в том, что он… на природу человека взглянул как на вечно изменяющийся результат исторического движения, причина которого лежит вне человека (курсив автора — С.Г.). Чтобы существовать, человек должен поддерживать свой организм, заимствуя необходимые для него вещества из окружающей его внешней природы (курсив автора — С.Г.). Это заимствование предполагает известное действие человека на эту внешнюю природу. Но, „действуя на внешнюю природу, человек изменяет свою собственную природу“. В этих немногих словах содержится сущность всей исторической теории Маркса…»6
Ни Маркс, ни его последователи даже не почувствовали, что от самого принципа становления остаются при таком его понимании «рожки да ножки». Он подменён главной, по их мнению, причинно-следственной связью, существующей между человеком и природой, обусловленной его целесообразной предметной деятельностью — трудом и применяемыми орудиями труда. Это весьма недвусмысленно подтверждает Плеханов следующим заявлением: «Всё существование австралийского дикаря зависит от его бумеранга, как всё существование современной Англии зависит от её машин. Отнимите от австралийца его бумеранг, сделайте его земледельцем, и он по необходимости изменит весь свой образ жизни, все свои привычки, весь свой образ мыслей, всю свою природу». 7
Увы, всё оказалось не так просто. Жизнь вновь и вновь подтверждает правдивость евангельского символического: «Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» (Лк., IV, 4). Попытки осуществить социальные утопии, изменить образ жизни целых народов чреваты трагическими последствиями. Мир человека не сводится к удовлетворению потребностей благодаря окружающей его природе, а деятельность — к производству материальных благ. Фундамент марксистского историзма: «Бытие определяет сознание», — оказывается на поверку весьма рыхлым. «Между бытием и сознанием, — утверждает Лосев, — существует вовсе не причинно-следственная и вещественная связь, но диалектическая». 8 Действительно, невозможно отрицать, что реальная жизнь людей существенно влияет на их сознание. И причина изменений этой реальной жизни действительно «лежит вне человека», то есть вне его телесно-духовной осуществлённости здесь и теперь, стало быть, и вне человеческого сознания. Становление, переживаемое как непрерывное изменение, как алогическое исчезновение в момент появления (отражённое, по Лосеву, в континуальном типе античного мышления) и есть суть исторического. Сама же практика человека, как и его воззрение на мир, преходящи, временны, представляя собой сгусток общественно-исторических отношений. Кредо Лосева чёткое и недвусмысленное:
«Для меня нет никакого бытия более реального, чем историческое. Ни одну логическую идею, ни одну художественную форму, ни одну научную теорему я не могу понять вне истории. В этом смысле я иду гораздо дальше многих марксистов. Так, большинство марксистов считает, например, математику и механику вечным и нерушимым бытием; я же считаю, что механика Ньютона, ровно как и система Коперника, есть специфически классовая идеология буржуазии, основанная на опыте изолированного индивидуализма и рационалистической метафизики. То и другое как немыслимо для феодализма, так и должно отпасть, если окончательно погибнет капиталистическая культура. Большинство марксистов абсолютизирует так называемые „законы природы“, в то время, как для меня они просто стиль эпохи, т.е. в конце концов тот иди иной классовый стиль. Большинство марксистов апеллируют в религиозных вопросах к тому, что „доказывала наука“ в то время как, по их же собственному мнению, наука вся буржуазная и доказывает то, что угодно господствующему классу. В таком случае, спрошу я, не слишком ли высокое место отводится „доказательствам“, заимствованным из естествознания, и не лучше ли здесь просто апеллировать к власти и воле пролетариата, а не к науке, которая ведь всегда служанка того или иного класса? И т. д. и т. д. В распространении историзма я несомненно иду дальше многих марксистов: и тут скорее можно бояться у меня преувеличений, чем преуменьшений». 9
Вот он — подлинный Лосев, бросающий вызов догмам, откуда бы они ни исходили, обличающий незадачливых их защитников! В основе этих догм лежит логико-понятийная парадигма, в которой формируются механизм, схема, система, то есть именно то, что лишь и приемлемо для рефлексирующего сознания (его именуют ещё и «здравым смыслом»), что даёт возможность разобраться в реальности, попытаться вначале мысленно, а потом и на деле упорядочить её. Если исходить из того, что человеческий разум — единственное, что придаёт смысл реальности во всём её многообразии, где даже Абсолют становится понятием, то и сама диалектика оказывается лишь методом, которому суждено оставаться всегда в поле абстрактных понятий и служить средством для доказательства жизнеспособности субъективных идей, вплоть до самых бредовых, какими бы «объективными» они ни объявлялись. Необходимость, которая присуща миру природы, рассудочное сознание предусмотрительно заключает в рамки «закона — следствия», причина появления которого просто неизвестна (в современном естествознании слово «закон» иногда вообще подменяют словом «запрет». ). Скорей всего это некоторая уступка пантеизму, однако и здесь учёный мир ни на йоту не отступает от антропоцентризма, предел которого соответственно именуется «антропным принципом».
Выявление законов развития человеческого общества по аналогии с законами природы, составляющее суть перехода от диалектического материализма к историческому материализму, требовало ликвидации в общественном сознании сформировавшегося за века, прошедшие с начала европейского Возрождения, представления о природно-духовном дуализме человека. Если в античности он ощущал себя неотъемлемой частью Космоса — микрокосмосом, красота и величие которого воспринималась им в созерцании, здесь он должен был ощутить себя частицей наиболее совершенной формы материи, достигшей в своём развитии собственного самосознания, — человеческого общества, в котором общественное бытие определяет общественное сознание. Из трёх видов производства, на которые способен человек: производство людей, производство вещей, производство идей, — основным признавалось производство вещей. В этом нет ничего удивительного: ведь Маркс и Энгельс выбрали для себя в сложном переплетении современных им общественных отношений чётко определённую классовую позицию, а именно, позицию главного производителя вещей — рабочего класса — в развивающемся капиталистическом производстве. Естественной точкой, формирующей эти переплетения, оказался товар, а форма отношений, в которых он существует — рыночный обмен. Динамика спроса и предложения с большой точностью воспроизводится в метаболизме — обмене веществ в живом организме, вплоть до его клеточного уровня. Стало быть, и сама природа как будто целиком подтверждает правильность предположений. Диалектика как единство и борьба противоположностей оказалась применимой к рассмотрению не только природных процессов, но и общественно-исторического развития. Неутихающая борьба природных стихий во всей своей мощи воспроизводится в антагонизме классовой борьбы. Это ли не возрождение античной мифологии вообще, облечённой в современную логико-понятийную упаковку: язычество, требующее своих идолов и своих жертвенников?
Естественно, монотеизм христианства, даже доведённая до пределов секуляризации протестантская культура с Богом-понятием, не могли удовлетворить создателей теории неотвратимой победы коммунизма. Игнорируя замечательнее по своей глубине, пронизанные диалектикой труды выдающихся богословов ортодоксального христианства IV–VIII веков н.э. (а возможно и не подозревая об их существовании), новые пророки безапелляционно заявляют: «Религия есть самоосознание и самочувствование человека, который или ещё не обрёл себя, или уже снова себя потерял». 10 По боку истинный путь формирования представлений о личности, который начинается с Абсолютной Личности воплощённого в облике обóженного человека Слове — Иисуса Христа. Вместо цельнораздельного единства, достигаемого в Богочеловечестве; благотворения, в котором проявляется подобие человека Богу; свободы, реализуемой в сотворчестве его с Богом по преображению мира, человек оказывается всего лишь частицей безликой производительной силы, удовлетворяющей потребности некоего ненасытного желудка, каким представляется общество; «продуктом общественных отношений», определяемых, естественно, характером производства «пищи» и условиями её переваривания этим прожорливым чудищем; существом, чьё бытие в качестве «частицы» и «продукта» воспринимается им самим как осознанная необходимость и потому становится… свободой.
И вот уже саму историю человечества выстраивают по ранжиру: первобытный коммунизм — рабовладельческий строй — феодализм — капиталистическая формация — коммунизм, в котором достигнут идеал человечества: от каждого — по его способностям, каждому — по его потребностям. Не беда, что ни Индия, ни Китай, ни империя инков не знали рабовладельческого общественного строя; что целые цивилизации не изъявили внутренней потребности отказаться от первобытнообщинной формации; что страны с развитым капитализмом, по всем признакам готовые к осуществлению мировой революции во имя победы коммунизма, почему-то вовсе не собирались её начинать. Но если факты не соответствуют единственно правильной теории, то тем хуже для них.
На фоне чудовищного эксперимента, невольными участниками которого оказались многие поколения, особенно ярко выделяется твёрдая убеждённость Лосева, который всего через полтора года после возвращения из гулаговского кошмара противопоставляет догмату исторического материализма ясную и стройную позицию исторического идеализма — философию истории, являвшуюся стержнем русской религиозно-философской мысли:
«Всякая логическая идея погружена в недра материальности и в значительной мере ею определяется. Но как бы она ею ни определялась, её всегда можно выделить из конкретного исторического процесса и рассмотреть её в собственном процессе… Если марксизм есть учение о том, что саморазвивается одна только материя, а всё прочее есть только механический привесок, не содержащий в себе никакого имманентно-телеологического саморазвития (!!! — С.Г.), то в этом я отличаюсь от марксистов, тут я — идеалист… Итак, я признаю саморазвитие общеисторической идеи и отрицаю абсолютность, единственность саморазвития как только одной логической идеи, так и только одной материи». 11 И далее вновь: «Для меня последняя конкретность, — это саморазвивающаяся историческая идея, в которой есть её дух, смысл, сознание, и есть её тело, социально-экономическая действительность. В процессе этого саморазвития последняя определяет первую сферу, но определяет не вещественно-причинно и не логически-дедуктивно, определяет не экономически, не эстетически, не психологически (и тем более не индивидуально-психологически), но физиономически-выразительно и символитчески-бытийственно». 12
Эти предельно чёткие и ясные утверждения стали достоянием общественности лишь сейчас, опровергая безапелляционность догматов, насаждаемых усердствующими идеологами под видом философии во всех сферах, и в первую очередь в нашем образовании. «Они просто стремились создать охваченную единой дисциплиной (но не в научном смысле дисциплиной) некоторую совокупность мыслей и убеждений у части общества. И люди знали, что они преподают вовсе не философию; их задача была другой — создать некоторое единомыслие. Отсюда, по этой схеме, выросла внешняя структура преподавания философии, которая с природой философии не считалась». 13 История развития общественного сознания оказывалась перерезанной непрерывной линией фронта борьбы материализма с идеализмом. При этом вопреки всякой очевидности идеализм, как и материализм, провозглашался монистическим учением. В действительности монизму материализма, для которого человеческое сознание — продукт материи, а идея (смысл), естественно, — продукт сознания, противостоит столь же монистический спиритуализм, где духовное реально, а материальное, вещественное — призрачно.
Идеализм дуалистичен в своей основе, несмотря на примат идеального над материальным. Бытие и сознание антиномичны диалектически, поэтому столь однозначен и вывод Лосева, выражающий его историзм:
«… В саморазвивающейся исторической идее я вижу её дух, им вижу её тело, производственные отношения. Покамест дух не проявился в своём собственном специфическом теле, до тех пор я не знаю никакого духа. Тело осуществляет, реализует, впервые делает существующим внутренний дух, впервые выражает его бытийственно. Сознание только тогда есть осознание, когда оно действительно есть, то есть когда оно определяется бытием. Это диалектическое саморазвитие единого живого телесного духа и есть последняя известная мне реальность. Экономика делает специальную идею выразительно сущей. Дух, который не создаёт своей специфической экономики, есть или не родившийся, или умирающий дух». 14
Не имея реальной возможности опубликовать сами принципы исторического идеализма, Лосев тем не менее остаётся верен своей философии истории как фундаменту, на котором строится его многотомная «История античной эстетики». Следите за его мыслью:
«Если отвлечься от непосредственной картины рабского способа производства и поставить вопрос об его обобщении, то прежде всего станет ясно, что перед нами не просто отношения раба как вещи, как „говорящего орудия“ (instrumentam vocale) и рабовладельца как его господина, но и отношения неосмысленно действующей рабочей силы и осмысленно направляющего эту силу интеллекта. Тут мыслится уже не просто отношение раба и рабовладельца, но отношение рабочей силы и принципа её целесообразной направленности». 15 Лосев убедительно показывает, что ни принудительность рабского труда, ни собственническое отношение рабовладельца к труду не являются определяющими. Реальность и целесообразность античного рабовладения отражена в философских обобщениях: «Именно идея в античной философии не есть рабовладелец, а материя не есть раб, но всё-таки идея почти всегда трактуется здесь как формообразующий принцип, а материя — как пассивный материал для этого формообразования. В античном способе производства рабовладелец выступает не как цельная личность, но только как интеллект, как орудие формообразования; и в античной философии интеллект трактуется не как абсолютный дух, но только как принцип формообразования; и поэтому он в такой же степени не есть цельная личность, в какой не является ею и раб». 16
Лосев обращает внимание на то, что «класс, как явление чисто экономическое, возник лишь в Новое время в связи с появлением буржуазно-капиталистической формации». 17 Отсюда несложно сделать вывод о высокой вероятности ошибок при трактовке явлений, относящихся к весьма отдалённым временам, с современных (классовых) позиций.
Вот характерный пример, относящийся именно к попытке изложить античное миросозерцание подобным способом. Основывая марксово (и своё собственное) отношение к роли производительных сил, Плеханов внезапно делает следующее «лирическое» или скорее историческое отступление:
«Но вот что, например, может показаться на первый взгляд совсем непонятным: Плутарх, упомянув об изобретениях, сделанных Архимедом во время осады Сиракуз римлянами, находит нужным извинить (курсив автора — С.Г.) изобретателя: философу, конечно, неприлично заниматься такого рода вещами, рассуждает он, но Архимеда оправдывает крайность, в которой находилось его отечество… Но откуда взялось у греков такое странное „мнение“? Происхождение его нельзя объяснить свойствами „человеческого разума“. Остаётся припомнить их общественные отношения. Греческие и римские общества были, как известно, обществами рабовладельцев (курсив автора — С.Г.). В таких обществах весь физический труд, всё дело производства достаётся на долю рабов. Свободный человек стыдится (курсив автора — С.Г.) такого труда, и поэтому, естественно, устанавливается презрительное отношение даже к важнейшим изобретениям, касающимся производительных процессов и, между прочим, к изобретениям механическим». 18
Ну что ж, объяснение как будто достаточно убедительное. Но обратимся непосредственно к Плутарху. Он не только извиняет Архимеда, применившего механику, но вдобавок делает, как и его будущий комментатор, специальное отступление:
«Механика, предмет искания и прославления, есть изобретение Евдокса и Архита. Они захотели некоторым способом иллюстрировать геометрию (дать геометрии внешнюю прикрасу) и основать на чувственных и материальных примерах теоремы, которые трудно решить с помощью рассуждений и научных доказательств. Так, для теоремы о двух средних пропорциональных, для разрешения которой мало одних рассуждений и которая, однако, необходима по отношению ко многим фигурам, они прибегли к механическим средствам и составили род мезолябии при помощи кривых линий и конических сечений. Но скоро Платон в негодовании стал упрекать их, что они портят геометрию, лишают её достоинства обращают в беглого раба (курсив мой — С.Г.), заставляя её от изучения бестелесных и умственных вещей переходить к чувственным предметам и прибегать, кроме рассуждения, к помощи тел, рабски изготовленных работою руки (курсивы мой — С.Г.). Так униженная механика была отделена от геометрии. Она стала одним из военных искусств». 19
Будучи настроенным на «классовую волну», можно вполне согласиться с плехановской трактовкой и Плутарха, и Платона. Но как же быть с тем, что в античности весьма уважительно относились вообще к ремеслу (τεχνη, δημιουργια), его не отличали от науки, искусства? «Разве не удивительно, что когда Платон стал строить свой мир, то назвал строителя „демиург“? — пишет Лосев. — А „демиургос“ — это же мастер, плотник, столяр». 20 Если следовать мысли Плеханова, следует предположить, что Сократ должен был стыдиться своего отца-каменотёса; что титанический труд Праксителя и Лисиппа был унизителен, поскольку их шедевры были созданы исключительно «работою руки».
Нет, не стыдится свободный человек в эпоху античности физического труда. Но он крайне уважительно относится к священному порядку, существующему в мире (и первое, и второе — одно и то же /κοσμος/). Секуляризованному сознанию постренессансного человека трудно представить сакрализованное восприятие реальности человеком античности. «Изучение бестелесных и умственных вещей» геометрией означает, что здесь соблюдается гармония формообразующего принципа, мира идей с воплощением их в чувственно воспринимаемой форме — чертежах, построение которых является единственно возможным для уважающих этот порядок трудом. Изготовление же прибора, замена благородных рассуждений недостойным их трудом разрушает эту божественную гармонию. «Беглый раб» — именно такой образ лишь и может передать вопиющее нарушение космического равновесия, допущенное Евдоксом и Архитом; относится этот образ, однако, не к их труду, а к самой науке… Впрочем, обретя свободу, она со временем стала «одним из военных искусств».
Саморазвитие внеличностного космологиям как основы мира античности, детально раскрытое Лосевым, даёт возможность переосмыслить содержание древних текстов. Но главное не это. Лосев делает решительный шаг, взаимно отождествляя античную мифологию, эстетику, философию. Действительно, они выражают, хотя и в разных категориях, одно и то же — космоцентризм. В знаменитых 12 тезисах об античной культуре она предстаёт отнюдь не надстройкой над общественно-экономическим базисом, но смыслом, сознанием, духом космологизма. Имеет он и собственное тело («σωμα») в буквальном смысле. Это тело и осязает человек той эпохи, и видит как в себе самом, так и в окруждающей его реальности: в естественных вещах и произведениях искусства, в общинно-родовом строе и рабовладельческом полисе, в богах-стихиях и скульптурной гармонии самого Космоса.
Идея космологизма, лишённого личностного начала, воплощённая сперва в дорефлексивной мифологии, а затем в натурфилософии, по мере развития, с одной стороны, идеального восприятия действительности, а с другой — логико-понятийного аппарата, начала клониться к своему закату. Архаический миф явился предметом, а мифологическая рефлексия — средством, которые совместно и довершили её разрушение. Круг неоплатоников стал последним обобщающим символом античности. «Эти философы, глубоко понимавшие сущность античной философии, всё-таки в конце концов пришли к выводу, что всё это — пустыня. Почему? Нет никого, раз нет личности, а есть только что. Космос — это „что“, а не „кто“… Так кончились те светлые дни, когда человек молился на звёзды, возводил себя к звёздам и не чувствовал собственной личности». 21
Точно так же, с позиций исторического идеализма, успешно осмысливается саморазвитие идеи теоцентризма (христоцентризма) средневековья в её собственном теле и духе, в противоречиях, порождённых приматом христианской аскезы над природным началом человека. «Выяснилось, что принудительное осуществление Царства Божия — невозможно; принудительно, без согласия, без участия свободных, автономных человеческих сил не может быть создано Царство Божье». 22 Антропоцентризм эпохи европейского Возрождения — закономерный этап её саморазвития, когда человек наиболее полно ощутил своё особое положение: «Только человеку дал Отец семена и зародыши, которые смогут развиваться по-всякому. Каков будет за ними уход, такие они принесут цветы и плоды. Посеет он семена растений, вырастет существо чисто растительной жизни; будет давать волю инстинктам чувственности, одичает и станет, как животное. Последует он за разумом, вырастет их него небесное существо. Начнёт развивать свои духовные силы, станет ангелом и сыном Божиим!«23
Развитие протестантско-просвещенческих взглядов способствовало абсолютизации человеческой личности. Богочеловек начала антропоцентризма исподволь замещался человекобогом. Он воплощался в разных ипостасях, будь то «экзистенция» Кьеркегора или «сверхчеловек» Ницше, культ класса в марксизме (теория) или культ личности (читай: культ вождя) в СССР (практика).
Абсолютизация человеческой личности, носителя разума, с апелляцией к последнему, как к высшей инстанции, не могла не привести к господству рационализма и прагматизма в науке, к объективации природы и сведению её к роли «окружающей среды», к порабощению самого человека машинной культурой — уродливым детищем этого самого разума. Нынешняя «компьютеризация», по всей видимости, завершающий этап развития этой культуры, в очередной раз сулящий весьма обманчивое на поверку благоденствие.
Осознает ли общество и как скоро, что от саморазвития исторической идеи никуда не деться? Нынешнее брожение умов, охватившее наше общество в целом, не миновало и круги экономистов, историков, политологов. За их разноречивыми мнениями, ссылками на мировой опыт, на национальную идею и т. д. проглядывают «уши» того самого исторического материализма с его неуничтожимой основой: «Общественное бытие определяет общественное сознание». Правда, общественное бытие рассматривается теперь не только с классовой позиции, как у коммунистов, но и с других: экономической, национальной, культурной и пр.
Претендующие на власть над умами деятели даже не подозревают, что религиозный миф правдивей и грандиозней самой заманчивой утопии. «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». 24
Исторический идеализм, являвшийся основой русского философского историзма, блестяще подтверждённый лосевскими работами, до настоящего времени не стал достоянием мировой общественности, упрятан за семью печатями от сферы образования. Конечно, саморазвитие исторической идеи неуничтожимо; действуя слепо, она пробивает дорогу сквозь множество иллюзий, оставаясь доступной интуитивному восприятию. В этой связи небезынтересно привести отрывок из интервью в газете «Аргументы и факты» с выдающимся скульптором Эрнстом Неизвестным»: «Мысль о том, что всякие религиозно-общественные движения якобы начинаются с движения материального, с моей точки зрения, глубоко ошибочна. Но, как ни странно, демократы и все обновленцы в России продолжают так думать. А история говорит о том, что все движения родились с параллельным рождением объединяющего мифа. Идея христианства родилась из основополагающего христианского мифа. То же самое происходило с мусульманской идей, с идеей коммунизма и фашизма. Всюду имел место этот объединяющий миф». 25 Конечно, автор проявляет незаурядные способности к обобщениям, обладает замечательным историческим чутьём. И тем досадней, что ни он, ни те, кого он критикует, по всей видимости, не знают о существовании богатейшего духовного наследия, которое даёт возможность избежать глухих тупиков в общественном развитии.
Лосевские труды, идеи, мысли составляют существенную часть этого наследия. И если они остаются «твёрдым орешком» для многих именитых историков и философов, искусствоведов и филологов, вскормленных щедро унавоженной почвой коммунистической идеологии, которые не в состоянии оправиться от растерянности, сменить стереотипы, то молодёжи эта доля наследия необходима сегодня, сейчас. Её освоение поможет ощутить твёрдую почву под ногами, восстановить связь времён, осмыслить и пережить цельнораздельное единство мироздания.
Примечания:
1 Зёрна. 4. РОУ. М., 1992. С. 3.
2 Лосев А. Ф. История эстетических учений. Предисловие // Путь. 1993. №3. С. 251.
3 Там же. С. 245.
4 Философский словарь. М., 1991. С. 170—171.
5 Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 529.
6 Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. М., 1949. С. 132.
7 Там же. С. 133.
8 Путь. 1993. №3. С. 247.
9 Там же. С. 247.
10 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 20. С. 414.
11 Путь. 1993. №3. С. 246.
12 Там же. С. 249.
13 Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992. С. 25.
14 Путь. №3. С. 249.
15 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Итоги тысячелетнего развития. Кн.1. М., 1992. С. 394—395.
16 Там же. С. 396.
17 Там же. С. 395.
18 Плеханов Г. В. См. указ. соч. С. 141—142.
19 Плутарх. Жизнь Марцелла. Цит. по кн.: Кудрявцев П. С. История физики. М., 1948. С. 53—54.
20 Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1989. С. 167.
21 Там же. С. 170.
22 Бердяев Н. Смысл истории. М., 1990. С. 101.
23 Пико делла Мирандола. О достоинстве человека. // Цит. по кн.: Дживелегов А. К. Возрождение. Собр. текстов. М.-Л., 1925. С. 33.
24 Соловьёв Вл. С. Русская идея// Сб. «Россия глазами русского». С.-П..1991. С. 312.
25 Аргументы и факты.1994. №34. С. 7.
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»
научно-образовательный вестник,
1.96, М., 1996. С. 40 — 49.
От цельного знания — к цельной личности
(Расписание на завтра)
Публикуя статью С. Гальперина, редакция допускает, что в ряде положений она не бесспорна. Однако сама постановка темы нам представляется интересной и заслуживающей внимания. Мы рассчитываем, что оппоненты подхватят её и выскажутся по затронутой проблеме.
Пять лет (всего лишь пять!) осталось до наступления третьего тысячелетия от рождения Христа. В нашей исторической литературе продолжают писать «н.э.», вслух произнося то «новой эры», то «нашей эры», заменяя таким нехитрым способом конкретную историческую наполненность безликой условностью. Однако подмена эта напоминает фиговый листок, которым пытаются прикрыть выхолощенную наготу мысли, лишённой величайшей непостижимой тайны рождения человека в Боге и рождения Бога в человеке. Само нынешнее брожение умов, захлестнувшее Россию, тоже всего лишь одно (будем надеяться — последнее) из зловещих следствий, оставленных воинствующим материализмом, усердно перепахивающим общественное сознание. Конечно, было бы наивным считать, что внезапное исчезновение жёстких идеологических установок, десятки лет навязываемых обществу, тут же позволит ему прозреть. На просторах России осели сотни миллионов экземпляров научных трудов, учебных пособий, словарей, справочников, способных ещё долго генерировать токсины знаний, питаемых пафосом богоотрицания. Нет недостатка и в толкователях таких знаний.
Но и одно лишь признание Бога не спасает от жестоких заблуждений. Современная мировая наука и поныне устами своих деятелей апеллирующая подчас к «космическому религиозному чувству», исподволь превратила знание из силы созидающей в силу разрушающую. Именно сейчас человечество всё сильнее сжимают тиски жесточайшего гносеологического кризиса: экологические катастрофы и социальные сотрясения — лишь разные стороны его проявления. Активно применяемые знания при сохранении нынешней расчленённой картины мира не дают возможности предвосхитить последствия результатов их использования для биосферы, для социума. Так что человечество оказывается по существу во власти слепых сил, вызванных им самим.
Всё болезненней ощущается отсутствие исторической цели в нынешнем развитии человеческого сообщества, всё явственней признаки тотального отчуждения, которое не преодолеть ни компьютерными сетями и сверхсовременными средствами коммуникации, ни призывами к свершению добрых дел и всеобщей медитации. Отказавшись от призрачной цели — строительства коммунистической утопии и взяв курс на западную цивилизацию, постсоциалистическая Россия почти мгновенно достигла самого зыбкого места трясины, в которую эта цивилизация уже давно понемногу погружается. Советы соседей, соорудивших себе временную экономическую твердь и пока чувствующих себя достаточно вольготно, ей бесполезны — они никак не связаны с подлинно религиозным корнями русской души: мистическим переживанием Божественной тайны, неизбывной верой в Божью справедливость, неистребимой тягой к духовному соработничеству с Богом.
К счастью общество не сводится к гигантскому механизму производства и потребления со своим «пламенным мотором» — рынком, его питает живительными соками не менее реальный и стократ более совершенный организм — духовная культура с её неугасимым стремлениям к идеалам: Добру — Истине — Красоте, и ведь всё это имена Бога. И хотя нынешние политические и государственные деятели России самого разного толка, и бывалые и малоискушённые, но, по-видимому, уже с молоком матери впитавшие «бессмертные» принципы исторического материализма, основывают свою стратегию и тактику на том, что бытие определяет сознание, что культура — всего лишь надстройка над производственным базисом, всё яснее становится несостоятельность попыток построить сколько-нибудь надёжные экономические подпорки прежде, нежели будет создана возможность расправить всё ещё сложенные крылья отечественной культуры, мощный взмах которых не только вырвет Россию из болотной хляби одряхлевшей цивилизации, но и вынесет её на вольный простор для выполнения своей исторической миссии на удивление и в пример другим странам и народам.
Для этого необходимо прежде всего восстановить порушенную связь времён: начало ХХ века в России (её духовно-культурный Ренессанс, безжалостно прерванный большевистской экспансией, на корню пресекавшей в дальнейшем любые попытки его продолжения) — с нынешним смутным временем конца тысячелетия, наполненным эсхатологическими предчувствиями, тревогами и ожиданиями. Замечательные плоды «серебряного века» русской религиозно-философской мысли, — наше бесценное духовное наследие, — могут уже сейчас стать основой образования в России, послужить надёжной базой для фундаментальных открытий в естествознании и гуманитарной сфере, воплотиться в принципиально новых производственных и организационных технологиях, выразиться в эффективной экономической стратегии и мудрых политических решениях. Самое главное — продолжится саморазвитие исторической идеи России, воплощаемой как в полноте её духовной культуры, так и в социально-экономической реальности.
Сегодня нельзя пожаловаться на отсутствие интереса к событиям, происходившим в России в начале нынешнего века. Историки и политологи, экономисты и социологи, искусствоведы и культурологи на все лады обсуждают и анализируют жизнь последнего российского самодержца и игру политических сил в империи, значимость столыпинских реформ и судьбу царской Государственной Думы, признаки классового расслоения и разноголосицу художественных вкусов. Никто и не скрывает, что за этим обсуждением и анализом стоит естественное желание отразить события того времени в зеркале сегодняшнего дня, спроецировать их на складывающуюся ситуацию; в прошлом своей родной страны, отделённом от настоящего времени эпохой господства тоталитарного режима, найти ответ на сакраментальный вопрос: «Что делать?»
Наша православная церковь, бдительно охраняя чистоту символа веры и отдавая дань многовековой традиции, продолжает находить в результатах религиозных исканий русских философов лишь зёрна разномыслия (ереси), но никак не искры Божественного откровения, хотя и не исключает возможности появления их в будущем. Ещё хуже обстоит дело с философской средой. Нищета официальной (советской) философии обусловливалась тем, что она не только напрочь отвергала всякое религиозное начало, но и вообще целиком сводилась к теории познания (в соответствии с установками классиков марксизма-ленинизма), опираясь при этом исключительно на немецкий идеализм (один из источников марксизма), и то лишь как на метод, который годился для использования в диалектическом и историческом материализме. И ведь именно такая «философия» вдалбливалась в умы нескольких поколений, а любая иная (прежде всего самобытная русская философия) была строго-настрого запрещена.
Не удивительно, что и сейчас, после отмены всякой цензуры, русскую философию на её же родине продолжают рассматривать и изучать по преимуществу лишь как некое ответвление западной философии, прежде всего того же немецкого идеализма, сводя её при таком подходе по существу к продукту протестантства.1 Подобная позиция вполне объяснима, однако предлагаемый при этом продукт неудобоварим: он непригоден для нормального, естественного развития национального самосознания. Каждому, для кого русская культура является родной, жизненно необходимо с самых ранних лет идти от истоков самобытной русской мысли — неотъемлемой части этой культуры. Существующее у нескольких поколений отчуждение от таких истоков является противоестественным, в той или иной мере способствует развитию духовной ущербности.
Ясно, что преодоление этого отчуждения может начаться лишь в сфере образования, в основу которого будет положена исходная идея самобытной русской философии — идея цельного знания, основанного на органической полноте жизни.2 Мысль эта неоднократно высказывалась, подхватывалась и развивалась несколькими поколениями русских мыслителей. Цельное знание — способ существования цельной личности, в котором собраны воедино и реализуются её нравственный опыт, творческое стремление, рациональное мышление, эстетическое восприятие, религиозное (мистическое) созерцание: это не что иное, как телесно-духовная утверждённость личности в мире.
Но тогда становится совершенно ясным, что это ничего общего не имеет с отвлечённой западной философией, гипертрофирующей рациональное мышление, сводящейся лишь к нему. Кстати, именно такое мышление, опирающееся на логико-понятийный аппарат, имея в своём распоряжении рефлексию и трансцендирование, и породило специфическое восприятие, отразившееся и в европейском Просвещении, и в основах протестантской этики. Оно послужило Яну Коменскому (XVII век) фундаментом для формирования в странах Европы системы образования, предполагающей обучение всех, всему и повсеместно, с тем, чтобы в идеале достичь высшей мудрости — пансофии, опять-таки доносимой до обучаемого с помощью системы рациональных в своей основе знаний.
Русская самобытная философия диаметрально противоположна: проявляемая в цельном знании, она предполагает формирование цельной личности как её самораскрытие во всём богатстве внутренних ресурсов личностного развития: интуиции (мистического созерцания), познания (рефлексивного осмысления), воли (творческого стремления), чувства (эстетического переживания). Но ведь истинная тоска (иначе и не назовёшь) именно по такому подходу всё больше охватывает круги воспитателей и педагогов всех рангов. Основные методы обучения и воспитания, выработанные за долгие десятилетия советской школой с её однозначной ориентацией на общественную полезность («государству нужны специалисты») и жёсткой идеологией, помогавшие сглаживать коллизии между желаемым и действительным, между словом и делом, между авторитарностью и конформностью, обернулись махровым формализмом и обнаружили полную свою несостоятельность в постсоветской России. Школа не только не в состоянии формировать целостное индивидуальное мировоззрение, отвечать на вопросы о смысле жизни, — она оказалась не в силах противостоять росту у своих питомцев ядовитых побегов правового нигилизма.
Перед сложившейся в течение столетий системой образования, как на Западе, так и в России, стоят два важнейших вопроса: «Чему учить?» и «Как учить?», то есть решаются проблемы содержания и формы обучения.
Если взглянуть повнимательнее, то нетрудно заметить, что образование находится целиком внутри круга, куда вовлекла его авторитарность науки: она, по существу, формирует содержание образования; причём, поставляя пищу юному уму, сама же и определяет и гарантирует её качество. Однако именно наука, решая частные проблемы, издавна привыкла задавать природе лишь частные вопросы (не теряя, однако, надежды когда-нибудь угадать общий ответ). Как раз это и определило особенности её организации, структуру, характер и направления исследований. В итоге в самом образовании воспроизведены образ и подобие науки: общая расчленённость знаний с приоритетностью «естественных» дисциплин над «гуманитарными»; усиленное развитие логико-математического подхода в ущерб образно-символическому; утверждение всеобщего релятивизма, где место учёного незнания, замещаемого верой в Абсолютную Истину, занимает абсолютное доверие к субъективным идеям — начальным посылкам и постулатам отдельных авторитетов, подтверждаемым до поры до времени исторически ограниченной практикой.
И если для задач сугубо профессиональной подготовки, условия которых диктует уровень техники, технологии, организации, достигнутый и поддерживаемый этой самой наукой¸ то этого никак нельзя отнести к задаче общего образования. Ведь истинная его цель — создание целостного образа мира — оказывается при этом размытой, поскольку сводится всего лишь к набору понятий и определений, никак не совмещающихся с неисчерпаемостью реальной жизни. Не удивительно, что именно сложившаяся система образования формирует ту полупросвещённую массу, которая так легко поддаётся умственному брожению. Невостребованная здоровая мистика, изначально присущая человеку, не находя единого духовного центра, обращается на случайный объект, будь то плод самого нелепого слуха, или явление очередного «пророка». А что же столь мало ценимые нынешним научным Олимпом философы эпохи культурно-духовного Ренессанса России, обладатели цельного знания? Они оказались на высоте, оставив незадачливым потомкам прямые, чёткие, лишённые и намёка на двусмысленность ответы: вéдение (единство веры и знания) мыслителей, твёрдо стоящих на почве идеализма. Но не остаются ли эти ответы гласом вопиющего в пустыне? Ведь на всех уровня нашей системы образования у многих поколений пытались выработать стойкий иммунитет к «заразе» идеализма.
Между тем, идеализм, считая идею (смысл) вещи отличной, но неотъемлемой от самой вещи реальностью, является учением изначально дуалистическим, притом выражающим действительность без какой-либо условности и ущербности для здравого смысла. Он как раз и констатирует наличие тождества между внутренним и внешним: идея оказывается реальной смысловой насыщенностью, а всё существующее — символами сáмого самогó. Кантова мысль о «вещи в себе», оторванной от реальности, ложна: сущность явлена в символе; явление вещи — инобытие сущности (самости) вещи. То, что оказалось не под силу германскому идеализму, опирающемуся на Аристотеля, преодолел идеализм русский, обратившийся к Платону: в нём диалектика выявила себя как естественная логика символа в различных уровнях инобытия. Новая парадигма — символическая реальность — заявила о своём праве на место в общественном сознании.3
Глубокий прорыв в новую реальность — не что иное, как завершение философского осмысления символизма, составившего основу «серебряного века» русской культуры с его поисками духовного центра и попытками противостоять всепроникающему ratio, в который, в конце концов, выродились «и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений». Нельзя обойти вниманием начало этого осмысления — перипетии борьбы между ratio и Логосом: именно здесь обнаруживается ключ к решению нынешних наших проблем образования, культуры и не только их.4 В ratio и Логосе противопоставляются два познавательных начала, чьи корни обнаруживаются в различиях западной и восточной ветвей христианства.
Западное вероучение, исходя из существования отношений между Лицами Св. Троицы, развило богословие (схоластическую философию) внутри веры; затем, после Реформации, в самой вере стала активно развиваться философия вне веры. Естественно, главным действующим лицом её оказался рассудок (ratio) со своей исключительной способностью к отвлечённым суждениям; руководящими началами — законы формальной логики с их однозначностью и безапелляционностью; местом боевых действий — универсальное поле понятий, в котором нашлось место самому Богу. Иное дело — восточное христианство.5 Оставаясь верным святоотеческим традициям, русское православие в течение многих веков сохраняло во всей полноте великую истину христианства: «Слово плоть бысть» (Ин. 1, 14). Слово (Логос), в котором сотворён мир и которое таит сокровенно всякая вещь, извечно существует в Себе. Этот вторая Ипостась Св. Троицы, воплотившаяся в Богочеловеке Иисусе Христе. Свершился исторический акт: в человеческом сообществе явилась Личность. Нельзя не обратить внимание на то, что именно христианству человечество обязано появлением представления о личности, и не только представления, но рождения и развития человека как духовной суверенности, чего не знала античность и были лишены древние восточные культуры. Это сегодня наши психологи, социологи и прочие «обществоведы», ориентируясь на ratio (и, по-видимому, даже не подозревая об этом), дружно сводят личность к понятию, определяя её как системное качество индивида, формирующееся в совместной деятельности, или что-то иное в том же духе.
Нам же следует обратить внимание на два важнейших фактора, вытекающих из восточнохристианского (православного) понимания Логоса: 1) обладая двумя естествами, Сын Божий и Сын Человеческий как Абсолютная Личность «воипостасен» человечеству — воплощает Богочеловечество, следовательно, личность не может быть сведена к индивидуальности и обладает мистической соборной природой; 2) храня в себе тайное, сокровенное Слово (Логос), всякая вещь оказывается причастной к личностному началу: обладает не только смыслом, но и соотнесённостью смысла с самим собой (это, по Лосеву, её интеллигенция, или сознание). Конечно, всё это не только далеко от ныне сложившихся в обществе представлений, но и просто несовместимо с ними, однако именно таковы результаты интеллектуального (без мистики) осмысления русского (православного) логизма.
Русская культура, сохраняющая свои начала в глубинной народной мистике, в преданиях и обычаях, в неповторимом языке и самобытной философии, ещё в состоянии сопротивляться размывающей её западной цивилизации — овеществлённому рационализму, всё сводящему к механической схеме. Более того, она способна проявить свою изначальную органическую целостность, что сразу же благотворно отразится на общественном здоровье. Для этого ей следует направиться по пути преодоления собственной секулярности, которая не имеет таких глубоких исторических корней, как на Западе. Секуляризация — расчленённость, автономизация всех областей культуры — стала неизбежной в западном христианстве в конце Средневековья, когда выявилась неспособность человека построить Царство Божие лишь на духовной основе, отвергая природное начало, признаваемое падшим. Мирское, преходящее, временное («секулум» — столетие) отделилось от божественного, сакрального, вечного; человек понемногу утратил ощущение своей причастности к всюдности и вечности, фокусируя осмысление собственного бытия и всего мира в моменте — «здесь-теперь». В России секуляризация явила себя в плодах европейского Просвещения. Естественно, к настоящему времени она прочно обосновалась во всех сферах нашей жизни, в государственных и социальных институтах. Система образования усердно помогает проникать ей в индивидуальное сознание, которое изначально (особенно в детстве) противится такому расчленению. Так что сегодня мы по существу не отстаём в степени распространения этого явления от западной цивилизации, и сопротивление его экспансии сохраняется разве что на подсознательном уровне.
Цельное знание, символическая реальность, логизм, о которых выше шла речь, способны преодолеть в России секуляризацию общественного сознания, но для этого недостаточно ни издания массовыми тиражами трудов русских мыслителей, ни подвижничества популяризаторов этих трудов. Для этого необходимо проявление общественной воли. Ведь предстоит отказаться от привычных стереотипов, совершенно по-иному взглянуть на историю, религию, науку, искусство, чувственно пережить всё то, что раньше подлежало лишь рассудочному измерению.
Наконец, следует поверить в то, что сами эти усилия, как и любой исторический поворот — есть Ответ на Вызов, проявление откровения человеческой воли в ответ на Божественное Откровение. Может быть, обретение такой веры — самое трудное в этом мучительном процессе, но оно и самое необходимое.
Примечания:
1 Так именовали немецкий идеализм полтораста лет тому назад И. В. Киреевский и А. С. Хомяков, считая, что русская философия является продолжением философии святоотеческой (православия). Таких же взглядов придерживался Вл. Соловьёв и его последователи.
2 Формулировка, выделенная курсивом, дана Н. А. Бердяевым в книге «А. С. Хомяков» (1912) и приведена в отрывке из названной работы в очерке А. Ф. Лосева «Русская философия» (1918).
3 Полный охват проблемы символической реальности, как и иных проблем, позволяющих начать в сфере образования введение в цельное знание, осуществлён А. Ф. Лосевым в фундаментальных трудах 30-х гг.; эти труды изданы в 1993–1995 гг. издательством «Мысль»; некоторые их них выходят в свет впервые.
4 Наиболее ярко эта борьба выражена в сборнике статей «Борьба за Логос» (1911) В. В. Эрна, к сожалению, рано ушедшего из жизни (1882–1917). Его работы переизданы в 1991 г. в качестве приложения к «Вопросам философии».
5 В мистическом опыте отцов Восточной Церкви Бог-Троица познавался в своих отношениях к тварному («в энергиях»). Это входило в область икономии (Божественного домостроительства). Целью такого познания является соединение с Богом (обожение), между тем как богословие остаётся учением о Божественном существе в самом себе, доступном лишь откровению. Не случайно предание Восточной Церкви знает всего трёх богословов: св. Иоанна Богослова — евангелиста-мистика; св. Григория Богослова — автора созерцательных поэм и св. Симеона Нового Богослова, воспевшего соединение с Богом.
ФИЛОСОФИЯ. ФИЛОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА
Материалы Международной конференции к 100-летию со дня рождения А. Ф. Лосева // Сб. Вопросы классической филологии, вып. XI., МГУ. 1996. С. 70 — 77.
Православно понимаемый неоплатонизм Лосева и смена естественнонаучной парадигмы
О созидательной силе творчества Лосева можно говорить бесконечно. К нему как нельзя полнее приложим вывод Н. А. Бердяева о творчестве как продолжении миротворения. Сам Лосев в конце земного пути обозначил свою главную философскую созидательную идею как православно понимаемый неоплатонизм.1 В этом определении ясно выражена особая слиянность религии и философии, которая вообще присуща русской философской мысли. Сам Лосев ещё в юношеском возрасте писал: «Русской философии, в отличие от европейской, и более всего немецкой философии, чуждо стремление к абстрактной, чисто интеллектуальной систематизации взглядов. Она представляет собой чисто внутреннее, интуитивное, мистическое познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть постигнуты не посредством сведéния к логическим понятиям, а только в символе, в образе посредством силы воображения и внутренней жизненной подвижности». 2
Классическая немецкая философия, пропитанная протестантским духом, который А. С. Хомяков относил к «свободе без единства», развивалась прежде всего как теория познания; ей, безусловно, требовалось формальное единство. И оно было осуществлено, но, конечно, не в мистически насыщенном символе веры, а в логико-понятийной онтической парадигме, где нашлось место и самому Богу. «Протестантизм — тоже религия, тоже общение, но общение в понятиях. Гегель и Кант были глубоко религиозны, — но в понятиях», — констатирует Лосев.3 Понятие оказалось незаменимым средством, а логико-понятийное мышление — необходимым и, увы, достаточным условием развития западной цивилизации от эпохи Просвещения и до наших дней. Рационализм — философия нового времени — не мог не вести к абсолютизации человеческой личности, размывая представления о воплощённом в Иисусе Христе Божественном Слове — Абсолютной Личности. А ведь именно личностное начало возродило в Средние века к новой жизни неоплатонизм, в котором учение Платона об идеях получило диалектическое развитие, гармоничное оформление и логическое завершение. Личностное начало пронизало все категории-сущности неоплатонизма: Единое — Мировой Ум — Мировую Душу — Космос. И вот эта гармония мироздания оказалась искажённой: в его центре начал всё яснее вырисовываться зловещий призрак человекобожества.
Лосев решительно берётся за восстановление этой гармоничной картины. Обладая счастливым сочетанием жёсткой дисциплины мысли с неудержимой свободой её полёта, он воспринимает алогичность становления как данность, как реальность. Это, безусловно, драматично, но отнюдь не трагично. «Сама-то жизнь — сумасбродство, пишет он. — Но в этом сумасбродстве есть метод. И жизнь философа между сумасбродством и методологией». 4 Естественно, диалектический метод, которым он владел в совершенстве и применял с энтузиазмом, не привёл, да и не мог привести его к панлогизму: «Соблазны гегельянства я очень хорошо знаю. У Гегеля я настолько же учился, насколько с ним всегда и боролся». 5
Истинное начало диалектики Лосев обнаруживает у Платона. В отделённом от идей христианства непреодолимой пропастью платонизме он уловил бурление животворящих соков, которым суждено было через много веков питать русскую религиозно-философскую мысль. Платонизм — диалектика символа. Идея Платона — диалектический символ. В алогической символической парадигме, в континуальном рельефном мышлении символ — хранитель тождества внутреннего и внешнего; оставаясь апофатичным, но являясь в выражении, он — носитель общей для них энергии смысла, в то время как в логико-понятийной модели (поле понятий) он всего лишь термин. Всё это далеко не самоочевидно даже для человека весьма высокообразованного, но знающего об особенностях античного миросозерцания от множества разноречивых толкователей, а главное, привычно воспринимающего историю как себя в прошлом, а не переживающего её как прошлое в себе.
Лосев не только отдаёт предпочтение Платону, но и детально прослеживает развитие платоновской мысли; то же совершает он и по отношению к неоплатоникам. Более того, он подвергает тщательному анализу их многочисленных комментаторов и толкователей, высвобождая из-под многовековых наслоений-заблуждений чистую и ясную мысль, подобно талантливому реставратору древних картин, являющему миру их замечательную первозданность.
И при всём этом он твёрдо стоит на позиции ортодоксального христианства — сочетания единства и свободы Церкви как Тела Христова, в которой людей объединяет любовь к Сыну Божьему. Исхождение Св. Духа от Отца (непризнание Filioque), православный энергетизм (человек соединён с Богом не по сущности, а по энергии), возможность сотворчества с Богом и прижизненного обретения Божественной благодати — это не отвлечённые сухие догматы, но глубоко переживаемые, философски осмысленные и практикоориентированные жизненные установки человека, обращённого к стяжанию Св. Духа, к синтезу веры и знания в вéдении, к телесно-духовной утверждённости в вечности.
Таким предстаёт мне Алексей Фёдорович Лосев. Причастность к его миропознанию делает собственную жизнь несводимой к экзистенции, к индивидуальному самоутверждению, к выполнению лишь социальной функции — в ней всё чётче начинает проявляться характер миссии высокого предназначения, имеющего эзотерическую, мистическую основу. Следовать этой миссии — высокая честь.
Освоение лосевского наследия — путь обретения цельного знания, требующий новой целостной картины мира — новой парадигмы. Тоска по ней давно проникла в общественное сознание. Между тем православно понимаемый неоплатонизм Лосева даёт возможность наметить её фундамент уже при рассмотрении всего лишь одной проблемы: Единое — единственное — единичное.
Неоплатоническая тетрада, безусловно, символична, а не схематична, и Единое в ней апофатично: ни то, ни то и ни это, поскольку выше явленной в мысли предметности, но лишь потенция, неисчерпаемая возможность проявления. Однако в античном миросозерцании (мировосприятии) это Единое не имеет предания, имени, то есть священной истории. Всё это появляется лишь с христианством, с воплощением в Едином Св. Троицы — нераздельных и неслиянных Ипостасей. Жёсткое единобожие иудаизма и языческий политеизм неоплатонизма находят разрешение в троическом откровении.
Ортодоксальное христианство всегда подчёркивало совершенную единичность начала в Св. Троице, отсутствие ступенчатой субординации Её Ипостасей. В святоотеческой литературе (в частности, у Иоанна Дамаскина) «Дух Св. есть Дух Сына не как из Него, а как чрез Него. Он исходит как некое сияние, проявляющее сокровенную благость Отца и возвещающее Слово. Слово и Дыхание совместны, но Дыхание ради Слова, то есть чрез Слово… В Божестве Троичность дана и открывается в нераздельности Единого Существа. Различение только мыслится, оно не переходит никогда в рассечение, как различие не переходит в раздельность… Мы называем ипостаси совершенными, чтобы не ввести сложность в Божеское естество, ибо сложение — начало раздора, — сложение никогда не даёт действительной сплошности, непрерывности и единства». 6
Но ведь такая абсолютная единичность не может не проявляться и в античном числе, которое Лосев обнаруживает у Платона между Единым и Умом. Здесь особое положение занимает число «1» (единица).7 Трактуя точку, которую математики называли «знак» (σημεία), как единицу, и в то же время как становящуюся и развёртывающуюся сущность,8 Платон, безусловно, выявлял их единую символическую природу (пифагорейцы называли точку «помещённой единицей»). Пройдёт немногим менее двух тысячелетий — и христианин-неоплатоник Н. Кузанский напишет: «…Открой очи ума и увидишь, что Бог во всяком множестве, поскольку Он в единице, и во всякой величине, поскольку Он в точке». 9 Кстати, у Кузанского весьма часто встречаются сопоставления «точка» — «единица». Окончательно соединёнными мы находим их в лосевском эйдосе.
Число позволяет уже в эйдосе проявить смысл откровения о нераздельности Троичности. Дело в том, что в эйдосе (явленной сущности) число — множество (подвижной покой единичности) — не нарушает эту единичность, сохраняет её внутреннюю смысловую целостность. Эйдос — мыслимая единичность, одно сущее: «единичность тех оформлений и осмыслений, которые находятся в сфере самогό одного… Это представитель первой и общей единичности в каждом отдельном множестве». 10
Стало быть, сущее составляет и то, что входит в множество. Что же это? Конечно, «точка, содержащая в себе идею направления, или точка, содержащая в себе черты некоего континуума». 11
Она весьма своеобразна: сама точка и, естественно, континуум лишены значимой пространственной (геометрической) мерности, то есть они нульмерны. Что же касается «идеи направления», то она имеет вполне «видимое» проявление: точка в действительности представляет собой центр, куда сходится (и откуда выходит) бесконечное множество направлений. К такому заключению приводит классическое естествознание нового времени, где пространство рассматривается как однородное (все точки равнозначны) и изотропное (все направления равноправны). Таковы идеальные потенциальные возможности нульмерной точки — умопостигаемого дискретного начала. Но это означает, что нульмерная точка изначально обладает динамическими свойствами, можно предположить её способность к саморазвитию, к образованию связей с другими точками. Она воплощает по сути одно во многом и многое в одном, то есть идеальное нераздельное и неслиянное множество. Вместе с тем нульмерная точка тождественна в самόм эйдосе с единицей — и как с единичностью, и как с множеством. Если всё, что говорилось выше о точке, отнести теперь к единице, то мы получим реальную основу задуманной Лосевым науки об идеальном числе — аритмологии, где роль такового придётся сыграть единице — однозначному символу Единого — единственного — единичного. Именно единица становится важнейшим краеугольным камнем в фундаменте новой естественнонаучной парадигмы.
Точка-единица, явленная в эйдосе, будучи единичностью, дискретна, но будучи становящейся единичностью, обладает потенциальной непрерывностью. Обсуждая конструкцию первой диалектической тетрактиды, Лосев показал, что алогическое становление точки (топоса) порождает пространство, а алогическое становление числа (множества) — время. Это не что иное, как реализация их изначальной непрерывности (континуальности). А что же дискретность? Естественно, и она реализуется, но в последовательном, логически осмысливаемом саморазвитии единичности и выражена, соответственно, в волновом движении и в степенном ряду натурального числа. Такой вывод представляет собой прямое развитие лосевского учения об эйдосе.
Именно волновое движение воспроизводит в непрерывном пространстве неуничтожимую дискретность точки. В телесной частице она оказывается её геометрическим центром, постоянным или мгновенным, в зависимости от характера пространственно-временнόго бытия частицы. На макроуровне круги по воде от брошенного в неё камня иллюстрируют происходящее достаточно ясно. Благодаря такому осмыслению явлений тугой клубок, в который сплелись физические и математические закономерности, разматывается достаточно легко. Одновременно получает однозначное объяснение множество закономерностей, а заодно и мифов (к примеру, корпускулярно-волновой дуализм).
Подобно волновому движению в пространстве, сохраняющему дискретность точки, степенной ряд натурального числа воспроизводит в числовом скалярном поле изначальную нераздельность и неслиянность множества как единичности. И здесь выявляется не только эзотерическое начало определённого математического действия (возведения в степень) или выражения (напр., геометрическая прогрессия), но и смысл реально протекающих в пространстве и времени процессов, их динамика, кинетика. В каждом последовательно осуществляемом акте (итерации) воспроизводится единичность первоначального множества (основы степени).
В таком подходе вновь осмысливается античная изваянность числа, его σώϻα, истинная натуральность числового ряда как нарастание единиц, где сама единица — αρχή, начало всякой величины, вещественности. Конечно, у Платона числовой ряд не мог выйти за пределы прямой видимости («плоскостное число» соответствует второй степени, «телесное число» — третьей). Не могло быть у греков и нулевой мерности, ведь это было бы равнозначно отрицанию самогό бытия (у пифагорейцев пространство представлялось суммой точек — «единиц положения»). И всё же именно возврат к античному представлению о числе как о величине и сопоставление его мистической основы у греков с христианским откровением позволяют прийти к замечательным результатам.
Впрочем, это далеко не всё. Привычное арифметическое действие — умножение, которое продолжают считать всего лишь сокращённым сложением, выявляет совершенно иной смысл, поскольку каждый из сомножителей может оказаться единством, состоящим из нераздельных и неслиянных точек. И тогда произведение оказывается равным числу взаимосвязей, которое образовали между собой единицы-точки сомножителей. Конечно, неоднократное повторение одного и того же множества действительно есть сокращённое сложение, и древние египтяне, как свидетельствуют математические папирусы, шли именно таким путём.12 Греки с их чувством целостности не могли сводить операции с числами лишь к констатации аддитивности: Евклид называет сомножители произведения «сторонами» (πλευραί).13
Но какими бы ни были выводы историков, перед нынешним обществом появляется настоятельная необходимость существенного переосмысления привычных вещей (буквально: смысла 2 х 2 = 4). Конечно, сами числа находятся вне пространственно-временных отношений. Однако в подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с именованными числами. К тому же имеются реальные объекты, служащие единицей измерения и обладающие центральной пространственной симметрией, геометрическим центром. И тогда произведение таких величин означает всего лишь интенсивность образованного ими единства. Именно в этом и кроется «тайна» выражений закона всемирного тяготения Ньютона (произведение масс), кулоновского закона электростатики (произведение зарядов).14 Но тогда «фундаментальные постоянные» — элементарный электрический заряд, гравитационная постоянная (как, впрочем, и остальные того же ранга) — перестают быть «феноменологическими»: они выявляют свою внутреннюю структуру. И вообще сам принцип «близкодействия», безраздельно господствующий в современной физике, с его виртуальными и прочими переносчиками «фундаментальных» взаимодействий, оказывается полностью несостоятельным: лосевский вывод о тождестве покоя и движения с бесконечной скоростью, возвращающий в мироздание истинность всюдности и вечности, неопровержим. Не следует сохранять сущности без надобности — «бритва Оккама» отнюдь не затупилась, её воздействие на нынешнее «фасеточное» восприятие мироздания, несомненно, будет благотворным.
Глубокая драма видится в том, что в период кипения научных страстей, почивания «победителей» на лаврах, упоения достигнутыми успехами, которые оказались чреваты последующим глубоким кризисом, скромно ждал своего часа готовый фундамент новой естественнонаучной парадигмы, ясно вырисовывавшийся из лосевского восьмикнижия, а сам его создатель был обречён на многолетнее молчание и забвение.
Со всей решительностью Лосев высказался о существующем философском взгляде на основы естествознания как о вырожденном догмате тринитарности. Конечно, конкретно речь шла лишь о положениях диалектического материализма. Однако нынешние естественнонаучные концепции рационального либо позитивистского толка — плоды протестантского духа — проявляют по существу те же признаки. Если само природное явление подразумевается лишённым собственного личностного начала, оно неизбежно станет атрибутом «вселенского мёртвого чудища». Понимание того, что результаты опыта неразрывно связаны с самим естествоиспытателем, и даже «антропный принцип», провозглашающий неразрывную связь человека и вселенной, не выходят за пределы своеобразного научного язычества.
Согласно православному энергетизму, которому верен Лосев и который он развивает в своих трудах, каждая вещь обладает энергией смысла, личностным началом, восходящим к Богу. Идея вещи (её смысловая модель, её инобытие) таит физическую энергоёмкую — чистое «вне себя», непроявленную смысловую связь со всем миром. Называя вещь, именуя её, мы проявляем эту невидимую связь, одновременно мифологизируя вещь, выявляя её собственную энергийную разрисовку.
Вещь проявляет свою символическую природу, которая никак не может быть обнаружена в логико-понятийной парадигме, где вещь — не более, нежели понятие, а символ, как уже упоминалось выше, всего лишь термин. В символической (алогической) парадигме символ мифичен, он обладает внутренней самоосознанностью, он личностен. Кроме того, мифический символ находится в непрерывном становлении, и это становление особым образом проявляется. Наконец, в становлении (истории) мифического символа (личности) могут выявиться признаки абсолютного самоутверждения, что воспринимается, как чудо.15
Миф не что иное как лик личности. И если личностная основа присуща всякой вещи, то личностный характер с необходимостью проявится и в отношениях вещей, и в самих природных стихиях. Но тогда и в привычных разделах механики: статике, динамике, кинематике нетрудно обнаружить отражение неоплатонической тетрады: центричность Единого, целенаправленность Ума, самодвижение Души, их проявление в телесности Космоса. Внешне происходит смена мифа о мёртвой, обезличенной природе, имеющего в основе своей безапелляционный постулат материализма, либо, в лучшем случае, пантеизма, на миф проявления личностного начала во всём: в бесконечной вселенной и в нульмерной точке. Действительный же смысл этого явления — религиозное преображение общества, его начальный этап, где вера и знание соединяются в вéдение.
Феноменологический подход в науке повсеместно заменил становление ставшим. Возьмём, к примеру, фундаментальное явление — движение. Для получившего высшее естественнонаучное образование человека его основополагающим критерием служит система отсчёта, относительно которой и происходит измерение движения; отход от этого — признак дремучего невежества. Для него вывод Лосева о тождестве покоя и движения с бесконечной скоростью, где любая система отсчёта теряет смысл, покажется сухой схоластикой, умственной эквилибристикой, не имеющей ничего общего с реальностью. Масла в огонь подольёт упоминание о Кузанском: «Абсолютное движение есть покой и Бог, а в Нём свёрнуто заключено всякое движение». 16
К сожалению, в компании с ним окажется и нынешний правоверный философ, которого даже намёк на присутствие Бога в вещах и явлениях, на единство религиозно-философского подхода бросает в дрожь. Трудно ли предположить, до чего неудобоваримым покажется и тому, и другому православно понимаемый неоплатонизм Лосева? Один из маститых профессоров так на нынешней конференции и высказался: «А у меня долосевское мышление». Конечно, никто не вправе посягать на его индивидуальное мышление. Но ведь он тиражирует свою истину в учебных пособиях, несёт её в студенческую аудиторию и не собирается отказываться от этого в дальнейшем. Реальные носители долосевского, то есть сугубо логико-понятийного, но никак не символического мышления, сохраняют в настоящее время монополию в науке и образовании, продолжая воспроизводить своё расчленённое мировидение в умах и душах учащейся молодёжи.
А время не ждёт! Гносеологический кризис нарастает, и зловещим фоном для него служит нынешняя сфера образования. Попытки улучшить её путём компьютеризации, гуманитаризации к успеху не приведут. Необходимо обратиться к нашему духовному наследию решительно, бесповоротно — и вершина, достигнутая Лосевым, предстанет очам ума во всей божественной красоте.
Примечания:
1 Студенческий меридиан. 1991, №10. С. 29.
2 А. Ф. Лосев. Русская философия // Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 213.
3 Контекст — 1990. М., 1990. С. 24.
4 Путь. 1993. №3. С. 251.
5 Там же. С. 241.
6 Прот. Георгий Флоровский. Восточные отцы V — VIII вв. Репринт. М., 1992. С. 233.
7 А. Ф. Лосев. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 648.
8 Там же. С. 612—613.
9 Н. Кузанский. Соч. в 2-х т. М., 1979. Т. 2, С. 295.
10 А. Ф. Лосев. Диалектика художественной формы. М., 1927. С. 14.
11 А. Ф. Лосев. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С.612.
12 Д. Я. Стройк. Краткий очерк истории математики. Пер. с нем. М., 1984. С. 37.
13 О. Шпенглер. Закат Европы. М., 1993. Т. 1. С. 218.
14 С. В. Гальперин. Моё мировидение. Курс лекций. М., 1992. С. 161—162.
15 А. Ф. Лосев. Диалектика мифа // Из ранних произведений. М., 1990. С. 569—570.
16 Н. Кузанский. Соч. в 2-х т. М., 1979. Т. 1, С. 130.
ОБРАЗ МИРА — СТРУКТУРА И ЦЕЛОЕ
Материалы международной научной конференции
Сб. Лосевские чтения.// ЛОГОС №3. М., 1999. С.198 — 207.
Интерпретация физико-математических взаимосвязей в учении Лосева о символической реальности
До настоящего времени освоение наследия Лосева осуществляется исключительно в гуманитарной сфере. Все мои усилия обратить за последние 7 — 8 лет внимание общественности на необходимость активного использования его колоссального потенциала в среде естественнонаучной пока успехом не увенчались. Настоящее сообщение представляет собой очередную попытку, предпринятую в надежде, что её не постигнет участь предыдущих.
Как известно, Лосев ещё в ранней юности пришёл к проблеме высшего синтеза, который он определил как «примирение в научном мировоззрении всех областей психической жизни человека: науки, религии, философии, искусства и нравственности». 1 Сейчас, когда в свет вышли обнаруженные в лосевском архиве фундаментальные труды: «Самое само», Вещь и имя», «Диалектические основы математики», можно с полной уверенностью утверждать: Лосев ещё в 30-е годы решил эту грандиозную проблему, сделав попутно множество эпохальных открытий, которые правильнее назвать прозрениями. Совершенно новый мир открылся его очам ума, и глубоко трагично, что он так и не получил ни малейшей возможности обнародовать своё видение в форме целостного учения, более того, вынужден был всячески скрывать его основы. Лишь в самом конце своего земного пути он решился в виде итоговой формулы открыто предложить следующий императив: «Сама действительность, и её усвоение¸ и её переделывание требуют от нас символического образа мышления». 2 Правда, тут же последовало авторское разъяснение, где настойчиво повторялось, что символ так и или иначе лишь отражает действительность. Такое многократное подчёркивание (беру на себя смелость утверждать это) было призвано усыпить подозрительность стоящих на страже «ленинской теории отражения» редакторов, которые могли встретить в штыки столь крамольное требование. Впрочем, имели ли его опасения основание, можете судить сами, раскрыв популярный лосевский сборник «Дерзание духа», изданный Госполитиздатом в 1989 г.: здесь всё ещё не потерявшие бдительности стражи идеологии взяли и заменили в упомянутой формуле слово «символический» на «определённый», что, естественно, совершенно исказило её смысл.3
Между тем основой символического образа мышления самого Лосева являлось, конечно же, не отражение, а выражение. Неспроста, в Предисловии к его «Диалектическим основам математики» Валентина Михайловна Лосева отмечает у автора «острейшее чувство самостоятельности всей выразительно-смысловой сферы, так что иному его выразительные „эманации“ и впрямь кажутся какими-то физическими истечениями», и далее, в качестве резюме: «я считаю необходимым сказать одно: тут острейшее ощущение „выразительных“ форм действительности и это „выражение“, — может быть самая яркая категория философии Лосева, синтезирующая у него в наиболее зрелой форме логическое и алогическое». 4
Символ, по Лосеву, — это соотнесённость внутреннего с внешним при их взаимной тождественности. Бытие всякой вещи, как и мира в целом, предполагает их выраженность — абсолютную явленность внутреннего внешнему. Это и есть эманация, или первый символ бытия. Следовательно, реальность (или живая действительность) сама по себе символична. Именно в символической реальности и осуществляет Лосев свой «высший синтез».
В современной цивилизации, развившейся из западноевропейской культуры с её антропоцентризмом, целостная живая действительность оказывается расчленённой на ряд сфер, которые юный Лосев (помните?) целиком справедливо именовал «областями психической жизни человека». В таких условиях одно и то же понятие может приобретать совершенно различный смысл. Это и случилось с понятием «символ», активно используемым в «кухне» физиков. Он никак не соответствует определению, предложенному Лосевым. Символ — ценное и незаменимое средство как для осмысления результатов измерения, так и для понимания законов природы, но при всём при этом он остаётся всего лишь знаком, принятым обозначением, в лучшем случае — условным шифром. Вот как определяет его роль и место один из создателей квантовой механики Макс Борн: «Математика представляет собой обнаружение и исследование структур мышления. Эти структуры зашифрованы в виде математических символов…, причём символы эти играют своеобразную роль: они раскрывают структуры». 5 Что это, как не продолжение пути «мыслящего духа», начатого ещё Декартом? Впрочем, здесь вообще речь не идёт ни о выражении, ни об отражении. Вывод Борна следующий: «Переход к реальности совершается теоретической физикой, которая коррелирует символы с наблюдаемыми явлениями. Там, где это может быть сделано, зашифрованная структура соотносится с явлением; эти же самые структуры рассматриваются физиками, как объективная реальность «по ту сторону субъективных явлений». 6 Ну что ж, в таком случае символ оказывается средством сопоставления, не более того, т.е. остаётся неотъемлемым атрибутом научного мышления, пределом которого является предел применимости понятия.
У Лосева символическая реальность обусловлена вездесущим, непостижимым единоначалием, которое по-разному выражено в различных сферах общественного сознания: в христианском вероучении — это Бог-отец, в философии — самое само, в искусстве — первообраз, в антропологии — личность, в математике — единица, в физике — точка. Следовательно, лосевский СИМВОЛ — неисчерпаемое богатство апофатических возможностей смысла — принципиально отличается от применяемого в современном научном обиходе термина. Во избежание недоразумений Валентина Михайловна в упомянутом Предисловии даже употребила специальное выражение — «внутренний символ», 7 которое, если недостаточно вникнуть в суть дела, может вообще быть принятым за описку, что и случилось при редактировании этой работы, изданной вместе с «Диалектическими основами математики». 8
Полное совпадение у Лосева с современным научным подходом отмечается при общей оценке роли математики в фундаментальных науках: «Физика и химия — науки о бытии, но если мы из них выбросим математику и логику, то они превратятся в бессмысленную груду фактов, которые не могут быть охвачены ни познавательно, ни научно». 9 Однако далее появление принципиальных расхождений неизбежно.
Фундаментом познания мира современными физиками принято считать (с подачи известного математика Германа Вейля) сочетание математической конструкции (модели), экспериментальной установки (техники) и сущностного анализа (понимания, смысла).10 Объединены они общей идеологией измерения в соответствии с основным тезисом науки: узнать — значит измерить. Но поскольку определяющим началом при любом измерении остаётся разум человека, то в конечном счёте он измеряет не что иное, как… сам себя. Это разъяснил ещё Николай Кузанский в своём трактате, кстати, переведённом с латинского самим Лосевым: «Простец об уме». 11 Автор справедливо утверждает, что ум человека способен уподобляться точке, мгновению и вообще всякой вещи, а потому именно ум и оказывается универсальным и притом единственным средством измерения, что выражено даже в самом языке (mens по-латыни «ум»; mensurare — «измерять»). А это значит, что человек выйти за пределы собственного ума при измерении просто не в состоянии, пользуется ли он обычной школьной линейкой или тончайшим измерительным прибором. Причём сами результаты измерения абсолютно точны, и смысл обнаруживается в них обязательно, поскольку его источником является «человек мыслящий». Но именно найденным в собственном разуме смыслом и наделяется им весь необъятный мир и любая существующая в нём вещь. Этого может быть вполне достаточно для житейской практики, но не для оснований познания: фундамент современной физики оказывается, на поверку, мягко говоря, ненадёжным.
У Лосева принципиально иной подход: смысл существует независимо от человеческого разума. Им обладает всякая вещь. Прежде всего он включает в себя то, чем она отличается от всех прочих, т.е. различие как категорию. Но отличающие её элементы могут сохранить себя, лишь будучи самой вещью в своём слитом единстве — в тождестве. Следовательно, смысл есть тождество различий — единораздельность вещи, которой она обладает вне зависимости от воспринимаемых нами пространственно-временных ограничений. И касается это не только отдельной вещи, но и всех вещей, составляющих мир: смысл соединяет их во вселенское цельнораздельное единство. Это соединение осуществляется с неотвратимой и бесконечной силой. С такой же силой выражается и их различие, которое и даёт нам возможность воспринимать всё многообразие мира (это не что иное, как уже знакомая нам эманация). Стало быть основа мировой динамики не в механизме притяжения и отталкивания (физикализация реальности) и даже не в принципе единства и борьбы противоположностей (гегелевская диалектика понятия), а в постоянстве смыслового соединения и непреходящей выразительности.
Конечно, должно существовать нечто, посредством чего совершается и то, и другое. Это энергия — понятие, введённое впервые Аристотелем, который (как неоднократно подчёркивает Лосев) использовал его для выражения принципа становления смысла. Новоевропейская наука намертво связала энергию с механическим движением, с количественно измеряемой силой, способной осуществить это движение, с её переходом в полезную работу. В символической реальности энергия проявляется как становление — непрерывно-сплошное протекание, каждая точка в котором исчезает в момент своего появления. Энергия смысла осуществляет смысловое соединение.
Наконец, помимо всего названного, символическая реальность должна обладать принципом своей оформленности. Это не что иное как бесконечность — понятие, которое современная наука использует исключительно в математическом аппарате физики, не пытаясь подойти к ней, подобно Лосеву, как к конкретно-физической проблеме. А Лосев делает именно это. Предприняв беспрецедентную попытку подвести под весьма громоздкое здание современной математики диалектический фундамент и безжалостно критикуя при этом формализм, а подчас и узость мышления самых именитых его строителей, он не упускает возможности обратиться к анализу формы бесконечности. Лосев привлекает внимание к геометрическим и конкретно-физическим проблемам, на которых «становится ясным всё чудовищное своеобразие этой категории, столь упорно замалчиваемое и затираемое в обычном и популярном сознании». 12 Свою собственную задачу он видит в малом: «Попробуем не развивать целиком соответствующее учение, а только всего наметить некоторые приблизительные вехи для будущего анализа этой величайшей проблемы о бесконечности в геометрическом и конкретно-физическом…». 12 По существу же в своём обсуждении формы бесконечности он предсказал, в каком направлении должно идти осмысление физико-математических взаимосвязей.
И вот оказывается, что даже простая попытка осуществить предлагаемый анализ, использовав всего лишь одну из его «вех», не только вводит нас в символическую реальность, но и позволяет активно «обживать» её. Лосевская «веха» — это точка, которая перестаёт быть сугубо математическим объектом, а предстаёт в качестве конкретного физического первоначала. Конечно, этого нет ни в классической физике с её абстрактной материальной точкой, пребывающей в системе декартовых координат, ни в современной, где точку условились считать событием, прибавив к пространственным координатам ещё одну — временнýю. Итог современным воззрениям подводит уже упоминаемый Борн: «Я утверждаю, что математическое понятие точки континуума не имеет непосредственного физического смысла». 13 Лосевский подход противоположен: точка обладает конкретно-физическим смыслом. Различия результатов таких подходов видны невооружённым глазом.
Простейшей и важнейшей операцией в математике издавна считается сложение. В нём отражено восприятие человеческим разумом и освоение им на практике мира дискретных счётных вещей. Прибавляя, складывая, суммируя, человек опосредствует свойства аддитивности, использует результаты экстенсивности. Сложение — основа главнейших математических операций, будь то умножение (сокращённое сложение), возведение в степень (умножение числа на самоё себя) или нахождение интеграла (суммирование приращений функции). Кстати, и классическая физика сводится всего лишь к познанию отношений между бесконечно малыми приращениями динамических переменных.
Открытая Лосевым первичная форма бесконечности — точка, проявляет свойства, учёт которых приводит к совершенно новым, непривычным, но тем не менее вполне реальным результатам. По Лосеву, «любая точка бесконечности движется сразу во всех направлениях с бесконечной скоростью, т.е. покоится». 14
Но это означает, что она оказывается центром бесконечного множества, притом единственного и неповторимого (это нетрудно представить чисто геометрически). А если так, то любая точка бесконечности, помимо этого, связана со всякой другой лишь единственным совпадающим для обеих направлением. И это не просто геометрически проявляемая связь, но та самая смысловая связь, благодаря которой и осуществляется открытое Лосевым смысловое всеединство мира. Таким образом, известная евклидова аксиома о связи двух точек лишь одной прямой, чей формализм показался недостаточным Гильберту, наполняется совершенно новым, как чисто математическим, так и сугубо физическим содержанием. Связь двух точек — простейшая смысловая парная связь. Но ведь каждая точка, входя во множество m точек, способна образовать с множеством n точек столько же (т.е. m) внешних парных связей, а каждая из n точек, в свою очередь — n таких связей с точками множества m. В итоге получается mn смысловых связей, что выражает интенсивность (смысловое единство этого соединения), численно представляя собой произведение (нынешняя математика рассматривает выражение mn лишь как основу комбинаторики).
Конечно, это не имеет ничего общего со сложением — точки складывать вообще нельзя, зато они способны соединяться, и это не только и не столько геометрия, сколько самая настоящая физика: независимость любого парного соединения обнаруживается в вездесущем принципе суперпозиции: целостность динамических характеристик выражена в результатах перемножения разнородных именованных чисел (произведение 5 кГ на 6 м даёт 30 единиц работы кГм). Существование смыслового всеединства обнаруживается в произведении тяготеющих масс в законе всемирного тяготения, где в действительности речь идёт вовсе не о массах, а о точках — геометрических центрах частиц — носителей массы, из которых состоят эти тела. Само значение массы таких частиц оказывается составляющей гравитационной постоянной, входящей в формулу, известную со школьной скамьи, между тем, как истинный смысл этой постоянной всё ещё остаётся тайной за семью печатями для современной физики.
Так получает развитие лосевское представление о геометрическом числе — числе «вне себя». Такое число должно рассматриваться вместе со своими смысловыми связями, как и с энергией смысла, которой оно обладает. Но ведь любое целое число состоит из частей — из единиц, а в бесконечности часть несёт на себе смысловую энергию целого (к примеру, в каждой из четырёх единиц числа «4» энергийно содержится всё число «4»). А поскольку всему в мире присуща абсолютная выраженность (эманация), число «4» способно последовательно выразиться вовне, и это будет не что иное, как степенной ряд, показателями которого служат числа натурального ряда (41, 42, 43…). Здесь же, кстати, обретают истинный смысл числа в нулевой степени (l0 = 1), где нуль означает отсутствие значимой мерности. Стягивание любой величины в точку, а любого числа в единицу — яркая демонстрация неуничтожимости бытия. Смысловое же развёртывание выражено не только в степенном ряду чисел, но и во всём многообразии возникновения и затухания волнового движения; наиболее зримое представление об этом дают расходящиеся круги от брошенного в воду камня. Следует тут же твёрдо заявить, что такая трактовка позволяет по-новому подойти к анализу явлений в микромире и отказаться от двусмысленности корпускулярно-волнового дуализма — престарелого детища современной теоретической физики.
Лосевские «вехи» позволяют достаточно чётко проявить смысл общих закономерностей реальных процессов, ход которых определён отношениями свободы и связанности. Если между двумя точками существует единственная парная связь, то между первой («активной») точкой, с которой начинается процесс, и всеми другими образуется устойчивое отношение (1 + n) / n, где n в числителе — число точек, с которыми связана первая точка, а n в знаменателе — число связей, образованных с ней всеми другими точками; в реальности таких точек, как и связей, — бесконечное множество. Бесконечной является и степень выраженности этого отношения. Численное значение (эффект) проявления такого свойства реальности может быть найдено в пределе, и это будет lim (1 +1/n) n, т.е. (при n→∞) е = 2,718… — в этом истинный смысл Неперова числа. Отсюда нетрудно выявить чисто физический смысл экспоненты, объяснить особенности, проявляемые ею в математическом анализе (постоянство значений ех в качестве производных любого порядка, присутствие ех в корнях дифференциальных уравнений), притом объяснить не формально, а исходя из анализа формы бесконечности — бытия точки. «Активная точка», с которой начинается свободно протекающий процесс, мгновенно, вне пространства и времени, образует устойчивое отношение с бесконечным множеством других точек, и лишь затем, во всём своеобразии характера пространственно-временных ограничений и формирования причинно-следственных связей протекает сам процесс, описываемый формулой, уравнением или обычным литературным языком.
Вообще с выявлением Лосевым реальности бесконечной скорости точки, что означает её абсолютный покой, создаются благоприятные условия для возвращения в физическую картину мира всеобщего принципа дальнодействия, надолго вытесненного некогда его удачливым антиподом — близкодействием, что привело к безрезультатным поискам абсолютных минимумов, к примеру, границ протяжённости и времени; выдвижению гипотез о виртуальных носителях фундаментальных взаимодействий и т.д.; вовлекло науку в «дурную бесконечность», выбраться из которой необходимо решительно и бесповоротно. Нежелание мыслителей, определяющих развитие новоевропейской культуры, своевременно воспринять «чудовищное своеобразие» формы бесконечности (хотя на него указывал ещё Николай Кузанский), обернулось чудовищными заблуждениями в самих основах теоретической физики, которые и поныне научный Олимп не желает признавать. Впрочем, здесь нет ничего удивительного — ещё мудрый Гёте не без горечи отметил: «Ложное учение не поддаётся опровержению — оно исходит из того, что ложь есть истина». Каков же выход? Прежде всего необходимы альтернативные исходные моменты, новые начальные посылки. Всё это блестяще выполнено Лосевым. У него внутреннее совершенство — диалектика (логика символа) — предшествует внешнему оправданию — фактам (феноменам) — выражению внутреннего, т.е. первоначала. Современная наука (имеется в виду её фундамент — теоретическая физика) шла обратным путём. Факты (внешнее), которые быстро накапливались благодаря ускоренному развитию экспериментальной базы и совершенствованию средств измерения, требовали немедленных объяснений, — практика нуждалась в теоретическом обосновании. Наиболее важным из таких фактов и были принесены в жертву, словно идолам, представления о целостности мира, которые как-то пыталась сохранять классическая физика. Началась беспрецедентная экспансия науки по отношению к иным сферам общественного сознания, и её главной, а по существу, единственной опорой оказался донельзя формализованный математический аппарат.
Признание истинной целостности мира и восприятия средствами познания и прежде всего «очами ума» его цельнораздельного единства и является той необходимой ценой, которую придётся заплатить современной науке, чтобы всё нагромождение фактов, требующее всё новых и новых объяснений а, соответственно, всё возрастающих материальных затрат, обрело внутреннее совершенство, которое прозрел гений Лосева.
Около двадцати лет тому назад, влекомый необъяснимой интуицией, я начал заниматься фундаментальными проблемами естествознания, и мог бы считать удачными попытки решить некоторые из них. Но лишь моё обращение к Лосеву сделало как ранее полученные мной результаты, так и новые, действительно осмысленными, поставило на прочный фундамент, и они начали гармонично вписываться в открытую им выразительно-смысловую символическую реальность. Это можно отнести и к выявлению природы электромагнитных явлений, и к расшифровке мировых феноменологических постоянных, и к разгадке тайны существования устойчивых элементарных частиц. Свой поиск и сегодня я продолжаю вместе с Лосевым; его результатом станет возврат к целостной картине мира.
Как-то в телевизионной передаче ректор МГУ В. А. Садовничий заметил, что использование работ одного лишь Максвелла окупило все затраты на науку ХХ века. Я могу с полной ответственностью заявить, что использование лосевского учения во всей полноте с лихвой окупит затраты не только на науку ХХI века, но и на образование, и на восстановление экологического равновесия, и на большинство социальных программ, причём, это может начаться уже с наступлением нового века. Но прежде основы самого учения должны войти в общественное сознание, стать для него желанной сменой обветшавших стереотипов, принадлежностью образа мысли.
Мне постоянно слышатся полные отчаяния слова Алексея Фёдоровича, произнесённые незадолго до кончины: «Нет, ничего не сделано, ничего не успел сделать!.. Погибла жизнь». 15 Он действительно так и не передал из рук в руки свои главные открытия ныне живущим, хотя сделаны они были более полувека (!) тому назад. И у нас нет права оставить их освоение будущим поколениям; общество должно выйти навстречу Лосеву именно сейчас — к этому его вынуждает сам ход истории. В последнем десятилетии в России то и дело раздаются призывы к покаянию. Между тем покаяние (μετάνοια) — это не только сожаление о прошлых заблуждениях, отказ от них, но ещё и перемена мысли. Вот эту требуемую перемену мысли и несёт с собой лосевское учение. Именно его недостаёт для восстановления некогда порушенной в России связи времён, выявления не сводимого лишь к экономике истинного общественного потенциала, необходимого для её дальнейшего развития; определения роли и места России в нынешнем мировом сообществе с её поисками смысла жизни и эсхатологическими предчувствиями будущего преображения человечества.
Литература
1. А. Ф. Лосев. «Мне было 19 лет…». Дневники. Письма. Проза. М., 1997. С. 67.
2. А. Ф. Лосев. Страсть к диалектике. М., 1990, С. 38.
3. А. Ф. Лосев. Дерзание духа. М., 1989. С. 213.
4. Начала. 2. 1993. С. 120.
5. М. Борн. Моя жизнь и взгляды. М., 1973. С. 121.
6. Там же. С. 122.
7. Начала. 2, 1993. С. 122.
8. А. Ф. Лосев. Хаос и структура. М., 1997. С. 16, 823.
9. А. Ф. Лосев. Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 792.
10. Проблема объекта в современной науке. Сб., М., ИНИОН.1980. С. 144 –167.
11. Николай Кузанский. Соч. в 2-х т. М., 1979. Т. 1. С. 385 — 444.
12. А. Ф. Лосев. Хаос и структура. М., 1997. С. 253.
13. М. Борн. Размышления и воспоминания физика. М., 1977. С. 162.
14. А. Ф. Лосев. Хаос и структура. М., 1997. С. 529.
15. А. А. Тахо-Годи. Лосев. М., 1997. С. 443.
Выборка публикаций из газет и журналов
Газета
«КУЛЬТУРА»
19.12.1994
Воспитание к свободе
О народы, отдайте всё, всё,
но только не свободу мысли!
И.Г.Фихте
Смутное время переживает Россия. И смутой этой обязана она внезапно обретенной свободе мысли. Еще вчера идеологический пресс давил на общественное сознание, жесткая цензура пыталась [и не без успеха] проникнуть в сознание индивидуальное. Сегодня ничего этого нет: думай, о чем хочешь, высказывайся в открытую, публикуй самые сногсшибательные теории. В этой пьянящей атмосфере старческим брюзжанием могут показаться слова Николая Бердяева: «С горечью нужно признать, что свобода мысли дорога лишь тем людям, у которых есть творческая мысль. Она очень мало нужна тем, которые мыслью не дорожат. В так называемых народных демократиях, основанных на принципе народного суверенитета, значительную часть людей составляет народ, еще не сознающий себя свободными существами, несущими в себе достоинство свободы. Предстоит еще воспитание к свободе, что не делается быстро». И все же к написанному полвека тому назад философом-изгнанником стоит прислушаться.
Распалась связь времён…
Драгоценные пласты нашей материальной и духовной культуры свидетельствуют о том, что Россия никогда не была обделена носителями творческой мысли. Но сколь же пренебрежительно (это наиболее мягкое выражение) относились к ним во времена господства коммунистической идеологии, опирающейся на классовый (уравнительный) принцип, на воинствующий материализм! С каким упорством пытались вытравить из сознания нескольких поколений саму память о русской религиозной философии, чьи корни — идеи Платона и неоплатоников, труды святых отцов православной (восточной) церкви, а вершина — Владимир Соловьев и его последователи. Вся система образования принимала в этом деятельное участие. В итоге некогда плодородная нива была обращена в пустыню. Распалась связь времён… Будто и не было культурно-духовного Ренессанса России, ее серебряного века, наполнявшегося предчувствиями грядущего религиозного преображения.
Но наконец мрачная пора позади. Вот она — свобода: не анархия — демократия. Можно обращаться к древним символам и новым идеям, развивать экономику и государственность на строго научной основе, использовать опыт других стран, добившихся выдающихся успехов. С верой тоже все в порядке: можешь верить в любого бога, либо вообще ни в какого. Не забыты и сами идеи религиозных философов: то и дело слышишь: «русская идея», «соборность», «духовность». Всё теперь действительно будет направлено на всестороннее развитие личности — и образование, и культура, и наука.
Увы, душевная эта пастораль отражает не суровую реальность, а всего лишь привлекательные с виду островки в зыбкости брожения умов, охватившего общество, то есть те самые «мнения», которым некогда Маркс-Энгельс противопоставили свой исторический материализм. Это брожение не миновало круги экономистов, историков, политологов, социологов. За их разноречивыми мнениями, ссылками на мировой опыт, на национальную идею и т. д. проглядывают «уши» упомянутой выше философии с ее неуничтожимой основой: «Общественное бытие определяет общественное сознание». Правда, сейчас избегают говорить о «базисе» и «надстройке»; общественное бытие рассматривается не только с классовой позиции, как у коммунистов, но и с других: экономической, национальной, культурной. Но это не меняет существа проблемы: распавшаяся в историческом развитии России связь времён сама собой не восстанавливается.
Основой русской философии истории является саморазвивающаяся историческая идея, образующая своё тело — социально-экономическую реальность и свой дух, выявляемый в сфере символов — культуру. Это исторический идеализм, предельно сжато выраженный Вл. Соловьевым: «Идея нации есть не то, что она думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». Это и есть развёртка христианской священной истории, обращённой к судьбе не только любой цивилизации, но и каждого человека в отдельности. Изначальный смысл «русской идеи» — воссоздание в общественном организме образа Св. Троицы — находится в лоне религии, определяемой отнюдь не по Фрейду и не по Фромму при всей популярности в мире их взглядов, но как телесно-духовная утверждённость человека в вечности.
Всякая новая трактовка «русской идеи» при самых благих намерениях её авторов манифестирует в действительности личину вместо лика, где истинно диалектическая связь между бытием и сознанием подменена одной из форм причинно-следственной, в основе своей вещественной связи. Справедливости ради следует отметить, что не только искажению, но и полному забвению преданы и иные исторические «идеи», хотя бы «американская». Пуритане — поселенцы Нового Света верили, что свобода лишь у Бога, они же свято следуют божественному предначертанию. В православии, которому Россия верна вот уже тысячу лет, сам образ Божий в человеке — его ум, его свобода. «У человека два крыла, чтобы возлетать к Богу — свобода и благодать», — говорит Максим Исповедник. Человек способен к сотворчеству с Богом — к синергии, в этом основа многовековой практики православного исихазма (священнобезмолвия). Если в протестантстве мир представляется мастерской, то в православии мир — это Храм. Оказывается, корни свободы, которую страстно призывает беречь Фихте, вовсе не в классовом сознании, а в религиозном.
Краеугольным камнем научного познания (и это особенно выделялось в советской науке) являлось его полное отмежевание от религиозного чувствования, от веры. И это несмотря на то, что начальные посылки, постулаты, рабочие гипотезы, носящие явно субъективный характер как в естественных, так и в общественных науках, расцветали подлинно религиозным мифом, превращались в догматы, находя опору в слепой вере. Современная мировая наука, некогда выросшая из пеленок протестантского просвещения, не настолько ортодоксальна, чтобы не сохранить симбиоз с религией в сфере этики, нравственных начал, онтологии. В советской науке подобная ниша начисто отсутствовала: основы научного коммунизма полностью отвергали саму возможность такого «противозаконного» дуализма. Господство в течение долгих десятилетий однозначно и догматически трактуемой философии истории произвело труднообратимый сдвиг в общественном сознании, исказило истинный смысл исторического процесса как саморазвития исторической идеи.
В пустыне познания
Осознáет ли общество, и как скоро, что от саморазвития исторической идеи никуда не спрячешься? Претендующие ныне на власть над умами деятели даже не подозревают, что религиозные мифы правдивее и грандиознее самых заманчивых социальных утопий, потому что символически выражают эту идею. Действуя слепо, она пробивает путь сквозь множество иллюзий, разрушая по пути выглядящие неприступными, а на поверку оказавшиеся воздушными замки.
Обществу необходимо прозреть, но существующее положение не внушает оптимизма. Исторический идеализм, блестяще раскрытый работами Бердяева, и в особенности Лосева, пока не стал достоянием широкой общественности, упрятан за семью печатями от сферы образования.
Мне могут возразить, что у нас не только снят запрет на труды русских философов, но и книги их переиздаются значительными тиражами. Но ведь мысли — зёрна, им необходима благодатная почва. Вместо нее (я уже упоминал) — пустыня. При достаточно щедром поливе на ней прорастает что угодно, в этом можно убедиться, обратившись к книжному рынку, где, естественно, царствует свобода, определяемая игрой спроса и предложения, а носители знания и веры приобретают все признаки товара.
Почему религиозные идеи никак не проявляют себя на государственном уровне (речь идёт, естественно, не о посещении первыми лицами торжественных богослужений)? Почему столь критично относятся демократы к альтернативе потребительской и духовной цивилизаций? Почему призыв преп. Серафима Саровского к стяжанию Духа Святаго остаётся лишь в лоне Православной Церкви, разве он не выражает архетип всей русской культуры? На все эти «почему?» (а их могло быть гораздо больше) ответ один: потому что общественное сознание остаётся крайне секуляризованным. Это обретение эпохи европейского Ренессанса, когда мера времени («секулум» — столетие) отделила в восприятии человека преходящее — мирское от вечного — божественного. Между «здесь-сейчас» и «здесь-всегда», «сейчас-везде» начала возникать непроходимая пропасть, все больше отдаляя его от причастности к всюдности и вечности. Он перестал переживать пространство и время как становление — непрерывно-сплошную текучесть. Однако это «обмирщение» имело значительные достоинства: оно сопровождалось выявлением причинно-следственных зависимостей в окружающем человека мире, стало быть, заставляло этот мир служить ему, приносить пользу. Человек не только обнаружил строгие закономерности в природе, но и связал их с собственной свободой: «Свобода — познанная необходимость». Начиналось триумфальное шествие познания…
Однако путь развития общества, фундаментом которого явился сам человеческий разум, вероятно, ясен, а конечный вывод просто-таки прекрасно знаком. Беда в том, что сам этот разум оказался несостоятельным: человечество охвачено острым гносеологическим кризисом. Относится это, отнюдь, не только к России, просто у нас, как всегда, наиболее обострены противоречия. Действительно, корни нынешних экологических и социальных кризисов — в использовании знаний, которые не позволяют установить фундаментальные связи между явлениями, тем более, предвосхитить отдалённые последствия их воздействий. Современная наука, добиваясь порой впечатляющих успехов в отдельных сферах, выявляет свою полную беспомощность в попытках построить целостную картину мира. Знание дало человеку обещанную силу, но она оказалась, скорее, разрушительной, нежели созидательной; её применением он обязан во многом нарастанию всеобщего отчуждения. Стало быть, часть знаний следует считать ложными.
В этих условиях ранее упорно насаждаемая вера в рациональное знание неизбежно сменяется возвращением в индивидуальное сознание веры в Сверхсущее, в Единое, в Бога: «есть же вера уповаемых извещение», — справедливо утверждает апостол Павел. Но спасительный для человеческой индивидуальности, как и общества в целом, возврат этот весьма затруднён. Культура в значительной степени секуляризована, общественное сознание испытывает последствия целенаправленного атеистического воспитания, в чём особенно преуспела система образования. В итоге поворот к вере превращается по существу в брожение умов. Основы древних культов Востока и их современная интерпретация теософского и антропософского характера, спекулятивная трактовка феноменов, не имеющих объяснения в ортодоксальной науке, образуют пёструю смесь, которая проникает в полупросвещённые массы, охваченные эсхатологическими настроениями и предчувствиями. Заезжие и доморощенные «учители», организуя по мере возможностей рекламу, подчас весьма успешно конкурируют с традиционным православием, которое противопоставляет риторике протестантского увещевания или отрешённости восточной медитации пышность и торжественность храмовой литургии одновременно с непререкаемостью древних догматов.
Свобода истинная и мнимая
Желание верить есть. Оно упорно пробивается из глубины индивидуального самосознания сквозь наслоения псевдокультуры. Вера принадлежит сердцу, но начинается в мыслях. Как же преодолеть злосчастную секулярность, ощутить истинную, а не мнимую свободу?
Русская философия серебряного века, завершаемая ранними трудами Лосева, предлагает формировать и развивать цельное знание, где алогическое и логическое равноправны, соединяя веру и знание в вéдение. Естественно, эта философия с её опорой на диалектику символа, на исторический идеализм, на православно понимаемый неоплатонизм не умещается в прокрустово ложе, сооруженное западным философским рационализмом со всеми его позднейшими ответвлениями, включая экзистенциализм. Её не примут пропитанная релятивизмом отечественная наука и наше родное, шарахающееся лишь от одного упоминания об идеализме образование. Да и Православная Церковь с подозрением относится к тем её положениям, которые остаются вне пределов канонического богословия.
Действительно, представьте себе, что в обычной (не воскресной) государственной школе вдруг заговорят о том, что христианское вероучение обращено непосредственно к человеку, ведь именно здесь его разум и свобода творчества представляют собой образ Божий. И отнюдь не человек придаёт всему существующему смысл — это было бы слишком самонадеянно, а Бог, чья сущность непознаваема, поскольку выходит за пределы бытия и человеческой мысли (попытайтесь помыслить об «одном» — и вас постигнет неудача). Зато Он причастен миру своими проявлениями, энергиями, благодатью.
Да, пожалуй, представить это трудно. В нашей системе образования, верной идеологии материализма, десяткам миллионов юных людей продолжают внушать, что развитие мира предопределено формами движения, простейшая из которых — механическое движение, а сама сложная — психическая, почему человеческий разум и есть высший продукт материи. Личность же сводится по существу к марксову «продукту общественных отношений». Попытка перенести такую «личность» в центр образования даже с учетом её индивидуальных качеств, даже при щедро финансируемых сегодня Фондом Сороса «гуманизации» и «гуманитаризации» обречена на неудачу. Можно даже поклоняться ей, но это будет поклонение идолу, а вовсе не божеству.
Цельное знание соединяет науку, религию, искусство, в которых отразилось извечное стремление человека к Истине, Добру, Красоте. Но соединяет не механически, предлагая некую сумму знаний, упакованных, соответственно, в сумму учебных дисциплин. Его основой является личностное начало, скрытое во всякой вещи; тайное, сокровенное Слово, воплотившееся в Абсолютной Личности. Потому и самому слову «образование» возвращается изначальный смысл: формирование образа мира в индивидуальном сознании, совмещающееся со всеми формами самораскрытия личности: интуицией, познанием, стремлением (волей), чувством.
Истинная свобода — во Всеединстве. Но к нему не приводят ни эмпирический опыт, ни рефлексирующий интеллект, а лишь внутреннее видение (озарение), интуиция. И тогда кажущаяся отвлечённость откровения святых отцов о нераздельности и неслиянности Св. Троицы, их суждения о сложности сложения, о разделении и различении, об энергии сущности и благодати приобретает истинную конкретность и придаёт совершенно новый смысл числам и математическим операциям, «незыблемым» законам природы, привычным словам и выражениям.
В самой стихии русского языка ярко выявляется стремление к этому изначальному Всеединству: предлог «в», символизирующий вмещённость, — наиболее распространенное слово по частотному словарю, в то время как сама вещная определённость оказывается менее важной (в русском языке в отличие от европейских нет артиклей). Сама судьба человека, осуществляющаяся в борьбе между добром и злом, жажде самовыражения, духовной устремлённости предстаёт как неповторимая и неуничтожимая точка на непрерывной линии священной истории — продолжающегося диалога Человека с Богом.
Невыносимо трудно не только разрушить, но даже поколебать устойчивые стереотипы нескольких поколений, живущих ныне. Именно они, надёжно угнездившись в сознании, не позволяют выйти за пределы царства необходимости, предлагают ложные пути и ориентиры, сохраняя подчас духовную слепоту у самых высокообразованных людей, у весьма авторитетных политических лидеров. Итоги этого могут быть плачевны, что известно из евангельской притчи о слепом, ведомом слепым.
Но именно поэтому творческую энергию личности, которой щедро наделена Россия, следует сконцентрировать на осознании образа Божия в себе. Это необходимый этап грядущего религиозного преображения, которое предчувствовали, к которому стремились русские мыслители-духовидцы. Это продолжение некогда прерванного культурно-духовного Возрождения России — пути к Богочеловечеству.
Журнал
«СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕРИДИАН»
ноябрь, 1995 г.
К цельному знанию
Своё восхождение к вершинам любомудрия Алексей Фёдорович Лосев начал в эпоху русского культурного Ренессанса. Еще, будучи студентом Московского университета, он знакомится с С. Булгаковым, Е. Трубецким, С. Франком, И. Ильиным, П. Флоренским; его дипломное сочинение читает и одобряет Вячеслав Иванов. Уже в раннем очерке «Русская философия» передаётся ощущаемый им богоданный напор интеллектуально-духовной мощи, который не могут ослабить даже бурные события, потрясшие Россию: «Самостоятельная русская философия, поднявшаяся на высокую ступень апокалипсической напряжённости, уже стоит на пороге нового откровения, возможно, также и новой кристаллизации этого откровения…».
Высокое гражданское мужество А. Ф. Лосев проявляет в период жестокого подавления свободомыслия: выпускает в свет (1927 г. — 1930 г.) восемь книг, содержание которых резко расходится с господствующей в стране идеологией. В 1930 году его арестовали, следом за ним — жену Валентину Михайловну, единомышленницу и помощницу как в научных делах, так и в религиозной жизни. Он испытал кошмар Белбалтлага, где почти ослеп. После возвращения в Москву (1933 г.) Лосев был обречён на многолетнее молчание. Печататься он начал лишь после смерти Сталина, издав до конца жизни около пятисот работ в области филологии, эстетики, лингвистики, культурологии, истории, в том числе несколько десятков монографий. Лосев широко известен как автор фундаментальной «Истории античной эстетики».
Но именно в «ранних» трудах кристаллизовалось откровение, некогда предчувствуемое им. Они дают возможность не только по-новому осмыслить и почувствовать реальность, но и выявить волшебную связь времён в смутные годы конца настоящего столетия с культурно-духовным Ренессансом России начала столетия. Давайте же прикоснёмся к неисповедимой тайне, оставленной нам в наследие последним мыслителем серебряного века, лежащей в основе его цельного знания.
Тайна смысла
С самого раннего детства мы стараемся понять окружающий мир, задавая бесчисленные «что?», «как?», «почему?». Но ведь любая вещь, составляющая мир, есть прежде всего именно она сама. То же относится к миру в целом. Такую исходную позицию предлагает и Лосев: «Где этот мир? Каковы его свойства? Существует ли этот самый мир? — спрашивает он. — На все эти вопросы я могу сделать только указательный жест, и — больше ничего. Вот он — этот мир, говорю я, показывая рукой на всё окружающее. Каков он, этот мир? Вот он каков, говорю я, продолжая пользоваться тем же самым жестом».
Человеческий разум издавна отошёл от подобного восприятия. Он начал придавать вещам определённый смысл, который так и называется — определение. И в науке, и в житейской практике без этого не обойтись. Но выявить, что представляет собой вещь (о-пределить её), — значит установить границу её смысла, предел её значимости. А как же быть с тем, что вещь всё же «именно она сама»? Привычная для нашего общества философия предлагает не ломать над этим голову и прибегнуть к категории «материя». Но ведь мы имеем дело не с философской абстракцией, а с неисчерпаемой в своих свойствах материальной вещью.
Между тем решение проблемы необычайно просто, и мы по мере надобности прибегаем к нему, хотя и не строим на этом своё мировоззрение. Как часто упоминаем мы о «душе» и о «теле» (и не только по отношению к человеку), когда хотим сопоставить тайну внутреннего с явленностью внешнего. При этом мы не собираемся давать определение ни тому, ни другому. И правильно делаем! Нам достаточно констатировать, что в каком бы облике, в какой бы форме ни воспринималась нами вещь, то есть как бы она ни проявлялась вовне, её индивидуальность (самость), то есть внутреннее вещи сохраняется: внешнее всегда оказывается символом внутреннего. И это не искусственный приём, не условность, изобретённая человеком (в отличие от определения), а сама реальность, считает Лосев. Всё в мире, включая историю с её людьми и жизнью, символично.
Стало быть, наряду с логико-понятийной «плоской» моделью мироздания существует алогичная «рельефная», символическая модель реальности. Утверждаемая Лосевым, она становится надёжным фундаментом русского символизма, составлявшего сердцевину серебряного века и пытавшегося сохранить целостность мира, разрушаемого утончённой рефлексией, всепроникающим «рацио». Тем самым оправдывается тоска человека в творчестве по органичности, по религиозному центру, разрешаемая в соборности Вяч. Иванова, синтезе живописи с музыкой Чюрлёниса, эсхатологической мистерии Скрябина.
Итак, абсолютная индивидуальность (самость) вещи остаётся непознаваемой. Но ведь вещь-то есть, она существует! Именно бытие оказывается первым полаганием, высекает первую искру мысли, проявляет тайну первого зачатия ума. «Эту тайну невозможно разрешить, ей можно только дивиться, — утверждает Лосев. — Она ощутима как тайна без всяких надежд на разрешение, но зато со всяческой надеждой на оплодотворение ею любых проявлений разума и смысла вообще».
Признание изначальной тайны смысла кладёт конец иллюзии, питающейся ныне как материалистической философией, так и рационалистической наукой, что смысл всему на свете придаёт исключительно сам человек. Мир не только существует вне зависимости от того, что о нём знает и думает человек, — он отнюдь не бессмыслен сам по себе. Смысл всякой конкретной вещи включает в себя то, чем она отличается от всего прочего, то есть те различия, которые создают её индивидуальность, неповторимость. Но именно эти различия, сливаясь воедино, и делают вещь ею самόй. Нашему уму это цельнораздельное единство является как устойчивая мыслимая предметность — образ, символ, то есть как уровень бытия. Если смысл вещи — её бытие, то явление вещи — её инобытие.
Поскольку у каждой вещи есть своя самость, то все вещи вместе должны иметь некую абсолютную самость, стало быть, любая вещь также символически причастна к ней. Противопоставляя господствующей в общественном сознании логико-понятийной модели реальности алогическую — символическую с её изначальной тайной смысла, Лосев, по сути, выражает нетеологическими средствами религиозную идею — приходит к гармонии Всеединства и Всеразличия: единого Бога и тварного мира — вершине русской мистической философии.
Тайна имени
Произнеся чьё-либо имя, а подчас и вообще именуя какую-то вещь, мы не подозреваем, что не только сообщаем (информируем) о них, но проявляем их энергию смысла. Действительно, в символической реальности внешнее несёт на себе смысл внутреннего — выражает его. Стало быть, это внешнее и есть проявление энергии смысла — таков вывод Лосева.
Со школьной скамьи мы связываем понятие «энергия» с возможностью выполнения работы, даже если речь идёт об умственной энергии. Между тем впервые применивший это понятие Аристотель, как неоднократно подчёркивает в своих работах Лосев, относил «энергию» к принципу становления смысла. Привыкнув к тому, что чувственно воспринимаемая реальность существует в пространстве и времени, поначалу трудно представить, что невидимый и неслышимый смысл (не придуманный человеком) охватывает эту реальность, не подчиняясь пространственно-временным ограничениям. А это значит, что энергия смысла действует мгновенно, с неотвратимой и бесконечной силой, в отличие от своего механического и всех прочих аналогов.
Всё это относится и к имени, за исключением имени-понятия: оно представляет собой имя нарицательное — обозначение одной из многих одинаковых вещей, смысл которого сводится всего лишь к установлению отношения между единичным и общим. Если же мы намереваемся вступить в общение с конкретной вещью, то оказываемся наедине с её неисчерпаемым смыслом. Нам придётся обратиться к ней напрямую, назвать по имени. И это уже имя собственное, оно, как и сама вещь, является символом, то есть выражает тождественное ему внутреннее (самость, смысл), притом не самими звуками речи (физико-физиолого-психологическим фактом), а той энергией смысла, которую они несут. Произнося имя вещи, мы проявляем её энергийно-смысловую разрисовку, её лик — мы мифологизируем вещь.
Если с позиции науки миф есть выдумка, противостоящая привычной и незыблемой логико-понятийной реальности, то у Лосева миф — развёрнутое магическое имя, жизнь вещи, увиденная изнутри, получившая словесное выражение её самоосознанность. Современный психолог, безоговорочно верящий в материализм, утверждает, что сознание — высший уровень психического отражения, присущий только человеку. Лосев предлагает более простое, но гораздо более ёмкое определение: «Сознание… есть соотнесённость смысла с самим собой». Нетрудно понять, что оно имеет отношение к любой вещи, поскольку она обладает смыслом (см. выше). Выходит, всякой вещи присуща самоосознанность — сугубо личностное начало.
Конечно, в этих умозаключениях ярко проявляется святоотеческая, христианская основа: всякая вещь таит в себе скрытое, сокровенное Слово (Логос), в котором сотворён мир. Слово воплощено в Абсолютной Личности — Ипостаси Сына. Обращение Лосева к тайне имени было отнюдь не случайным: культурно-духовный Ренессанс не обошёл стороной и клерикальные круги. Православный энергетизм, развивавший учение о причастности Бога миру не субстанциально, а энергийно, привёл к движению монахов-имяславцев, осуждённому Св. Синодом как ересь. Лосев, разделявший вместе с П. Флоренским взгляды имяславцев, сформулировал ряд тезисов, суть которых, по его воспоминаниям, в том, что «в имени Божием Бога, его субстанции нету, но в его энергии, в его смысловом истечении есть сам Бог».
Именно этот подход и осуществил Лосев, разрабатывая философию имени и не обращаясь непосредственно к вероучительным началам. Он предлагает исчерпывающий вывод: «Личность, данная в мифе и оформившая своё существование через своё имя — есть высшая форма выраженности, выше чего не поднимается ни жизнь, ни искусство». Кстати, в соответствии с этим художественная форма (по Лосеву) — «символ как личность, или личность как символ».
Итак, в имени символически выражено личностное начало вещи. Таким образом, имя вещи не сводится к тому смысловому (семантическому) значению, которое оно приобрело в языковой стихии и в котором используется в практике общения; в нём явлена энергия смысла, личностное, умное начало. Это и есть подлинная тайна имени, его мистика.
Реальность энергии смысла, выраженной в слове-имени, сводит на нет множество околонаучных мифов, питающих до настоящего времени всё, что связано с психологией. Появляется возможность свести к единому центру наиновейшие исследования в этой сфере, а заодно лишило сенсационности и откровенной спекулятивности не вписывающиеся в ортодоксальную науку явления экстрасенсорики, биоэнергетики и пр.
Тайна истории
Жизнь любого из нас — становление, непрерывно-сплошная текучесть, каждое мгновение она тождественна бодрствующему сознанию. Её таинственный признак направленности, чувство жизни человек пытается выразить словом «время», противопоставляя его «вечности». История — это становление понимаемых фактов; следовательно, она включает сознание. Без этого сами факты глухи и немы. Например, никто никогда не воспринимает чистую, вне-историческую природу. Не история есть момент в природе, но всегда природа есть момент истории, поскольку воспринимается и объясняется не иначе как с помощью сознания.
Уже эти лосевские взгляды диаметрально противоположны материалистическому подходу с его безапелляционным: материя — первична, сознание — вторично». Это фундамент исторического материализма, на котором построен логически безупречный вывод: воздействуя на внешнюю природу, заимствуя из неё необходимые вещество и энергию, человек изменяет внутреннюю природу — своё сознание. Отсюда следует подчинение всего исторического процесса жёсткой природной необходимости, неизбежности смены экономических формаций, классовая оценка реальности и т. д.
Основанием же лосевской философии истории является христианская священная история: диалог человека с Богом, начавшийся с момента, когда тот использовал данную ему свободу по собственному произволу (вкусил от древа познания добра и зла). Тайна истории есть тайна свободы: встречи Откровения Божия с откровением человеческой воли. Искупительная жертва Христа дала человечеству надежду на спасение, то есть на такое утверждение личности, чтобы она уже не в состоянии была попадать в сферу бытия ущербного, чтобы осуществилась её субстанционально-духовная утверждённость в вечности.
Продолжая традиции русской религиозно-философской мысли, Лосев заявляет, что смысл исторического процесса сводится к саморазвитию исторической идеи; философией истории оказывается исторический идеализм. Речь, однако, не идёт о некой чисто логической идее — абстракции, оторванной от действительности. «Для меня последняя конкретность это — саморазвивающаяся историческая идея, в которой есть её дух, смысл, сознание и есть её тело — социально-экономическая действительность, — заявляет Лосев. — В процессе этого саморазвития последняя определяет первую сферу, но определяет не вещественно-причинно и не логически-дедуктивно, определяет не экономически, не этически, не психологически (и тем более не индивидуально-психологически), но физиономически-выразительно и символически-бытийно».
Это предельно чёткое разъяснение не только преодолевает лукавую двусмысленность столь знакомого со школьной скамьи тезиса: «Бытие определяет сознание», не только показывает несостоятельность представления о культуре как всего лишь «надстройке» над «базисом», но и воспринимается как достойное завершение общественного поиска, осуществлявшегося в России в начале нынешнего века. Религиозное беспокойство и искания того времени представляли собой попытку общественного сознания (национального самосознания, жаждущего духовного преображения) найти адекватный ответ на исторический вызов, выразившийся в появлении и активном росте зловещих явлений: русского нигилизма, русского атеизма, русского большевизма. С позиций исторического идеализма однозначно следует, что начало европейского Ренессанса знаменует смену одной исторической идеи — христоцентризма средневековой Европы — другой — антропоцентризмом (причину смены Н. Бердяев называл в своих лекциях ещё в 1919 году). И бурное развитие предпринимательства, и сдерживающая беспредельный индивидуализм протестантская этика, и амбициозное буржуазное самодовольство, и социальные утопии от Кампанеллы до Маркса — всё это дух и тело вполне определённой исторической идеи, благополучно дожившей до наших дней и ныне процветающей в западном мире под личиной рациоцентризма. Развиваемый восточной (византийской) церковью христоцентризм не мог перейти в антропоцентризм, поскольку личность в нём не сводилась к индивидуальности (в ней проявляется не столько единственное, сколько Единое). В соответствии с восточной святоотеческой традицией Абсолютная Личность — Иисус Христос, воплощая Слово (Логос), вместе с тем «воипостасен» человечеству, несёт в Себе его духовные возможности, следовательно, в Нём Богочеловечество. Православному христоцентризму историей суждено развиваться как логизму (логоцентризму):
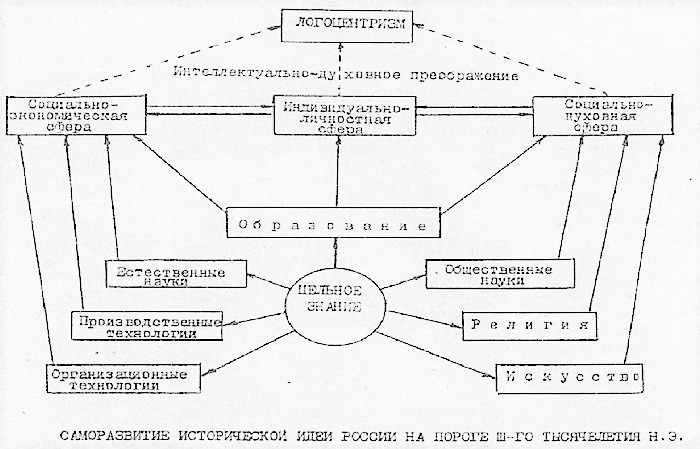
Но именно эта историческая идея и определяет основные особенности тысячелетнего развития русской материальной и духовной культуры. Общинному (мирскому) сознанию, отражённому в культурных символах, способах ведения хозяйства, межличностных отношениях, соответствует сакральное: Божественная благодать взаимной любви (соборность), эсхатологические ожидания (надежда на всеобщее спасение), синергия (соработничество с Богом).
И, естественно, свобода здесь никак не связана со всесторонним предпринимательством, но исключительно с творчеством, которое носит характер продолжения миротворения; мир представляет собой не мастерскую, но Храм; личность никоим образом не сводится к индивидуальности — начало её мистическое. Так раскрывается тайна нашей истории. Она незримо участвует в судьбе государства Российского, и пора узнать о ней каждому его гражданину: от школьника до президента.
Газета
«НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА»
20.05.98
Уроки монаха Андроника
опубликовано под псевдонимом Серафим Галин
Памяти русского мыслителя Алексея Лосева
Десять лет тому назад в день св. Кирилла и Мефодия окончил свой без малого вековой земной путь Алексей Федорович Лосев — православный мыслитель-духовидец, оставивший неоценимое литературное наследие и тайну своей подвижнической жизни. Цель жизни, которую он наметил ещё в юношеское годы, определялась «необходимостью примирения в научном мировоззрении всех областей психической жизни человека: науки, религии, философии, искусства и нравственности, то есть преодоления западного секуляризма с его проповедью автономии разных сфер творчества. Сознательно войдя при этом в русло самобытной русской философии с её святоотеческими корнями, Лосев тем самым выбрал единственно возможный путь восхождения к истине: лествицу христианского подвига, свершаемого к тому же в мрачные годы богоотрицания. Это была жизнь (по его же выражению) «слабой философской индивидуальности, затерявшейся в необъятном море коммунизма, но мыслившей самостоятельно», внешне, конечно, мало напоминавшая классические жития православных святых. И лишь сейчас, когда Россия, вовлечённая в водоворот гибельных событий, начинает искать спасение в православной вере, явление Лосева обретает новый, до того неведомый смысл. К Лосеву нужно идти, и первые шаги — самые трудные.
Вместо рационализации христианства, начатого схоластическим богословием Римской Церкви и завершённого протестантством, в православии осуществлялась христианизация ума, насыщение мысли тайной, которая есть не скрываемый секрет, а свет неистощимый. Лосев говорит о ней так: «… она ощутима как тайна, без всяких надежд на разрешение, но зато со всяческой надеждой на оплодотворение ею всех проявлений разума и смысла вообще». Православное богословие различает в Боге три Ипостаси (лица), единую природу (сущность) и природные энергии — вечно изливающийся преизбыток Божественной сущности. Неприступный по Своей природе Бог присутствует в Своих энергиях; они неотделимы от Его сущности, но сообщимы человеку. Сам Бог непознаваем, но Своим проявлением, обращённостью, энергиями Он причастен сотворённому Им миру, то есть всему сущему, а это уже постигаемо. Таковы истинные позиции православного мыслителя.
Предметом постижения для Лосева стало имя — узел, который связывает человека с каждой вещью окружающего его мира и с самим Богом. Вера и знание образуют у Лосева нерасторжимый союз. Всякая вещь хранит тайный, сокровенный смысл (свою самость). Обращаясь к вещи по имени, мы проявляем этот скрытый смысл. И в этом нет ничего противоестественного — ведь весь тварный мир и всякая вещь в нём сотворены Словом (Логосом) — Абсолютной Личностью. Поэтому всякое бытие личностно и выражается также развёрнутым магическим именем — мифом. Следовательно, сама действительно мифична, и осознание этого — мифология. Таким образом, утверждения современной науки о том, что миф (и прежде всего миф религиозный) противостоит реальности, несостоятельны, поскольку представляемая наукой реальность также не что иное, как относительная мифология вещного мира. Выйти за пределы мифологии в поисках истины невозможно.
Так — шаг за шагом — осуществляет Лосев синтез богословия, философии, науки. Возникают контуры грандиозного учения, которое он, однако, не мог выразить сжато и ясно по одной простой причине: вокруг разворачивалась беспрецедентная, беспощадная борьба с религией, само упоминание о Боге (кроме его отрицания) делало всякую публикацию просто невозможной. И философ вынужден облекать содержание своих замечательных трудов в 20-е годы в сложную, замысловатую форму. Утверждая и развивая православное миропостижение, Лосев готов к научным дискуссиям, всестороннему обсуждению выдвинутых им идей, однако жизнь предлагает совершенно иные варианты.
Искореняющая всякое инакомыслие власть во всём видит политическую подоплёку. Это и предопределило дальнейшую судьбу профессора Лосева, которую, разделила с ним нежная и любящая супруга Валентина Михайловна, незаменимая помощница во всех делах. Вместе они участвовали в движении имяславцев, которые предупреждали, что Россия погибнет, если престанет почитать Имя Божие; вместе вели агитацию против сергианцев, раскалывавших Русскую Православную Церковь унизительным компромиссом с безбожной властью. Они всё больше убеждаются в дальнейшей невозможности жить церковно-свободно и начинают готовиться к уходу в монастырь. И хотя монастыри запрещены и разогнаны, Лосевы вопреки всему решаются создать монастырь в миру, дать монашеские обеты, жить в духовном браке, предавшись истинной цели христианской жизни — стяжанию Духа Святого Божия.
Однако стены монастыря в миру не смогли защитить монахов ХХ в. от произвола тоталитарного режима, чьим главным оружием было устрашение. Они оказались участниками «дела», сфабрикованного ОГПУ. Преданность православной вере обернулась обвинением в «антисоветской агитации и пропаганде», участие в кружках имяславцев превратилось в «деятельность во Всесоюзной контрреволюционной монархической организации „Истинно-православная церковь“…»
Два с половиной года провёл Лосев в заключении. Об этом периоде его жизни известно из лагерной переписки с Валентиной Михайловной. Лосев сполна испытал муки богооставленности и в камере-одиночке внутренней тюрьмы Лубянки, и в битком набитой сырой палатке Свирского лагеря Белбалтлага: «… такое отсутствие радости, ласки, молитвы, такая оставленность и безблагодатность…», «Не есть ли это ликующая победа злых сил над нами, а вовсе не какой-то промысел Божий?…», «Я лишён благодати уже давным-давно, и нет надежды на её возвращение». Будучи с детских лет приобщённым к церковной жизни, заключённый Лосев оказывается полностью отлучённым от неё: «Но позвольте, что же это за религия — без таинства, без наставления, без постов, без всякого элементарного указания на внешнее присутствие религии?» Ему, глубоко верующему человеку, трудно тем не менее смириться с посланным Богом испытанием: «…Бог требует отдать всякое, хотя бы простейшее понимание происходящего, и волей-неволей приходится его отдавать, ибо Христос выше и дороже понимания жизни и самой науки. Но, Боже мой, как всё это безрадостно! Как Ты, Господи, отнял у меня всю ласку жизни, как лишил радости подвига и утешения в молитве! Как презрел всю мою многолетнюю службу Тебе в разуме и поклонении святая славы!».

И всё же, несмотря на приобретённую в лагере тяжёлую болезнь глаз, которая позже приведёт к полной слепоте, на бессмыслицу лагерной жизни «в бестолковости и азиатчине распоряжений, порядков, «обычаев», и «устоев», он находит в себе силы написать: «Знаю и то, что страдания мои нужны миру и мировой истории… что всё это осмысленно и что я должен быть только послушным и смиренным». И наконец: «Благословляю жизнь, благословляю все свои страдания, и — благодарю за всё!.. Думаю, что всё во благо и что всё кончится великим, лучезарным концом».
Однако испытания не закончились с выходом Лосева на свободу и возвращением в Москву, в родной дом. Он остаётся в опале, с ним предпочитают не иметь дела; ведь его клеймил Каганович на съезде партии, ведь сам Максим Горький, процитировав на страницах «Правды» и «Известий» фразу Лосева: «Россия кончилась с того момента, когда народ перестал быть православным» и т.д., назвал этого профессора «малограмотным», «безумным» и вообще советовал ему «повеситься». Он оказывается под гласным надзором партийных идеологов, и они устанавливают рамки, в которых допустима его научная деятельность; на занятия философией и богословием наложен строгий запрет. До конца своих дней Лосев будет лишён возможности осуществлять своё, названное им самим предназначение: «Восславлять Бога в разуме, в живом уме». Труды, ранее им изданные, запрещены; те, что находятся в рукописях, увидят свет лишь после его кончины. Всякое, неосторожно вырвавшееся слово, попавшаяся на глаза бдительному редактору подозрительная фраза из работы, выполненной в «дозволенных» рамках, могут стать поводом для нового ареста. Будучи уже в весьма преклонном возрасте, профессор Лосев в минуту откровенности обронил: «Не знаю, может быть, теперешние кусачие выпады тоже ведут к высылке». Действительно, ведь официальное решение о реабилитации Лосева будет принято лишь через несколько лет после его ухода из жизни.
Возвратившись из заключения, Лосев уже не застал в живых о. Давида и всегда ощущал — при всех своих огромных знаниях — неудовлетворённую потребность в духовном наставнике. Через много лет он скажет: «…Раз не посылается мне наставник — то уж, значит, надо так. Это дело духовное. Но я сам не ищу. Если будет мне послан — другое дело… Может быть, после моей смерти понадобится». Послушание монаха Андроника продолжается, и с ним рядом монахиня Афанасия. Представление об их монастыре в миру может дать выдержка из письма, которое Лосев отправлял супруге из лагеря: «Мы с тобой за много лет дружбы выработали новые и совершенно оригинальные формы жизни, то соединение науки, философии и духовного брака, на которое мало у кого хватит пороху и почти даже не снилось никакому мещанству из современных учёных, людей брачных и монахов. Соединение этих путей в один ясный и пламенный восторг, в котором совместилась тишина внутренних безмолвных созерцаний любви и мира с энергией научно-философского творчества, это то, что создал Лосев и никто другой, и это — то, оригинальность, глубину и жизненность чего никто не сможет отнять у четы Лосевых». Но когда Алексею Фёдоровичу исполниться шестьдесят, Бог призовёт к Себе Валентину Михайловну, и дальнейшее послушание придётся нести ему одному.
* * *
В миру Лосев оставался почтенным профессором, окружённым учениками-аспирантами. Он — непревзойдённый знаток Платона и вообще всей тысячелетней эпохи античности. Впрочем, он так же досконально знает и Средневековье, и европейское Возрождение, и всю западную философию. И вообще по эрудиции с ним некого поставить рядом. Поражает воображение и плодотворность его научной деятельности: несколько сотен статей, десятки монографий, наконец, многотомная «История античной эстетики» были написаны, вернее, «наговорены» Лосевым (ослепнув, он вынужден был диктовать) за последние тридцать лет его жизни! При всём этом он не находит достойного признания в пронизанных партийной идеологией высших научных кругах: его имя не найдёшь среди академиков и даже членкоров, перед ним закрыты двери МГУ, да и само издание работ оказывается не простым делом (подчас приходится бороться за каждую строчку с подозревающими крамолу редакторами). Профессор Лосев считает себя «сосланным в ХХ век».
Но наедине с Богом он — монах, во всём усматривающий Его волю. Лосев способен погрузиться во время учёного заседания в священнобезмолвие умной Иисусовой молитвы (в давние времена он обучался ей у афонских монахов), осенить себя незаметно для собеседников мелким крестом под пиджаком против сердца. Весь трагизм этой беспримерной жизни выражен в словах 80-летнего Лосева: «Моя церковь внутрь ушла… Я вынес весь сталинизм, с первой секунды до последней на своих плечах… И у меня не отчаяние, а — отшельничество… Как Серафим Саровский, который несколько лет не ходил в церковь». Основанием его неиссякаемой веры, неподвластной разуму, остаётся тайна: «…Вера начинается тогда, когда Бог — распят. Бог — распят! Когда начинаешь это пытаться понимать, видишь: это тайна». Но тогда объяснение находит и основа поведения верующего: «…Христианское смирение не есть ничтожество, это упование на вечное спасение».
Когда вокруг начали происходить серьёзные изменения, и слово «Бог» вновь стали признавать именем, а не понятием, Лосев уже преодолел 90-летний рубеж. Но он всё ещё находит силы для откровенных бесед со своими учениками и почитателями. И становится предельно ясным, что слепой, чувствующий иссякание жизненных соков старец всё так же ясен умом и твёрд духом. Вся история остаётся для него ареной встречи человеческой воли, направляемой несовершенным разумом, с Божественным промыслом: «Ты хочешь стать на место Божие и овладеть всеми планами божественного мироуправления! Это никому не дано» Любовь Бога к человеку всеобъемлюща, но проявляться она может в самых жестоких испытаниях, необходимых для его вечного спасения: «Что ни есть, то к лучшему. Да-да. Только это не пошлое такое самодовольство, а это трагическое христианство». В православии Бог доступен верующему через живое общение с Ним, чего нет в протестантстве: «Протестантизм — тоже религия, тоже общение, но — общение в понятиях… У нас общение с Богом может быть и через прикосновение (к иконам), вкус (при причащении), обоняние (ладан), слух, зрение — все чувства». Особый смысл приобретают церковные таинства: «Таинство определяется тем, что мы исповедуем абсолютную бесконечную личность, абсолютный идеал — Христа, Его воплощение здесь, на Земле. Общение человека с абсолютной личностью — Богом и есть таинство… В православии Бог есть крещение, исповедь, причастие, молитва — всё это таинства. Наш Бог доступен для общения»… Так, сочетая до последних дней заботы о делах мирских — научных с духовными наставлениями и прославлением Имени Божия, завершил свой земной путь выдающийся подвижник земли русской…
В глубине Ваганьковского кладбища в скромной оградке две могилы. Каждый год 24 мая служат над ними панихиду по монаху Андронику и монахине Афанасии. Они ушли в вечность, оставив живым свою веру.
Газета
«АЛФАВИТ»
№37 (44), сентябрь 1999
Тайна профессора Лосева
Трудовое перевоспитание 38-летнего московского профессора Лосева, приговорённого решением коллегии ОГПУ к 10 годам лагерей, началось на лесосплаве у холодной Свири в октябрьскую непогоду. Через две недели он заработал ревматизм, затем третья по счёту врачебная комиссия учла, наконец, давнюю болезнь глаз профессора и признала его инвалидом. Ему даже предоставилась возможность выбрать себе работу, весьма подходящую для философа, привыкшего размышлять в уединении, — посменно сторожить лесоматериалы, разгуливая вдоль реки то днём, то ночью. Позади осталось 17 месяцев пребывания во внутренней тюрьме Лубянки (из них четыре с половиной — в одиночке), изнурительные допросы и оглашение сурового приговора. Но именно здесь, в сырой, битком набитой по ночам людьми лагерной палатке, к нему пришла надежда на скорый возврат к письменному столу. Надежду, правда, ещё не раз побеждало отчаяние…
12 декабря 1931 г. заключённый 2-го отделения Свирлага Алексей Фёдорович Лосев пишет Валентине Михайловне Лосевой (своей Ясочке), заключённой Сиблага: «… нам предстоит ещё большой путь. Я только что подошёл к большим философским работам, по отношению к которым всё, что я написал, было только предисловием…». Можно лишь догадываться о грандиозности замыслов профессора, ведь в упоминаемое «предисловие» входит целых восемь книг, изданных им в 1927 — 1930 годах! Содержание этих трудов не только не согласуется с марксистско-ленинской философией, но, по существу, противостоит ей, они наполнены глубокими идеями синтеза науки, религии, искусства.
Не пройдёт и двух лет, как Лосев действительно возвратится к своему письменному столу в квартире на Воздвиженке и снова его Ясочка будет рядом. Но… ни одной строчки не дадут опубликовать опальному профессору целых 20 лет. Функционеры ЦК ВКП (б) даже очертят границы его научных интересов: ему предписано отныне заниматься лишь античной эстетикой и мифологией, не вступая в пределы философии.
Под угрозой физического уничтожения Лосева вынужден принять навязанные ему правила игры. Даже получив после смерти Сталина возможность публиковать свои новые работы, он больше не пытается бросать прямой вызов власти. Как-то уже в весьма преклонном возрасте Алексей Фёдорович в минуту откровенности обронил: «Не знаю, может быть, теперешние кусачие выпады тоже ведут к высылке…» Профессора не покидает ощущение зыбкости своего положения. Это и не удивительно: официальное решение о реабилитации А. Ф. Лосева появится лишь …через 6 лет после его кончины. Труды, изданные им до ареста, остаются под запретом: к рукописям, написанным им сразу после возвращения из заключения, он сам больше никогда не обратится, упрятав их подальше «в стол». Ему навсегда перекрыт доступ в Академию наук; он не допускается к преподаванию в стенах своей alma mater — Московского университета. Дозволено лишь учить латыни первокурсников пединститута…. Но, несмотря на духовный вакуум, Лосев с головой уходит в работу. Он готовит аспирантов, принимает экзамены, борется с подозревающими крамолу редакторами своих работ, всегда находя опору в беззаветно преданной Азушке (Азе Алибековне Тахо-Годи), с которой связал свою жизнь после кончины в 1954 г. Валентины Михайловны. По окончании вынужденного молчания (то есть когда ему уже минуло 60) Лосев опубликовал около 500 (!) научных работ, включая несколько десятков монографий, по эстетике, мифологии, античной культуре, теории литературы, языкознанию и, главное, монументальную, 8-томную «Историю античной эстетики». Даже окончательно ослепнув, он продолжает надиктовывать новые и новые строки. Казалось бы, сделано всё, что в человеческих силах, и даже больше. Но на 95-м году жизни, за несколько месяцев до кончины, Алексей Фёдорович произнесёт в отчаянии: Нет, ничего не сделано, ничего не успел сделать!.. Погибла жизнь…» В чём причина столь неожиданной самооценки?
Из лагеря 40-летний Лосев, не зная ещё о скором освобождении, пишет жене, только что возвратившейся в их родной дом: «Почему хочется и мыслить, и писать, и говорить другим, общаться? Потому что я чувствую себя на манер беременной женщины, которой остаётся до родов несколько часов. Меня охватывают спазмы мыслей и чувств… жаждущих родиться и стать живыми организмами, продолжающими свою сильную и бурную жизнь вне меня, объективно, на людях, в истории. Но если уже заранее становится известным, …что своих книг я не могу написать, так как погубил зрение, …а если напишу, то не смогу их издать по невежеству и слепой злобе людей, — спрашивается: что делать дальше и куда девать свои неродившиеся детища, как осмыслить явную бессмыслицу — для меня — такого существования? Ответ один: пусть его осмысливается само, как хочет! Философ должен сохранять спокойствие… Пусть его „оформляется“, как хочет…»
Лосев действительно так и не издаст до конца жизни ни одной книги, в которой его собственное мировидение получило бы целостное философское оформление, стало достоянием общественного сознания. Может быть, это и явится истинной причиной его отчаяния и сетований накануне ухода?..
В 1990 году Аза Алибековна обнаружила в архиве Лосева объёмистую рукопись под названием «Самое само», которая, видимо, была написана учёным вскоре после возвращения из лагеря. Через 4 года работа была опубликована в одном из сборников лосевских трудов, но до настоящего времени не привлекла пристального внимания научных кругов, не говоря уже о широкой общественности. Очень жаль… Лосев выдвигает идею: всякая конкретная вещь хранит непостижимую тайну. Вещь можно назвать, изобразить, дать ей миллион определений, ткнуть в неё пальцем или мысленно представить, но всё это лишь попытки выразить её абсолютную индивидуальность — «самое само», которое, увы, остаётся вне пределов наших мыслей и чувств. Стало быть, и ответить на вопрос: «Что это такое?», имея в виду абсолютный смысл вещи, просто невозможно. И это вовсе не признак невежества, а всего лишь «учёное незнание». Пусть «самое само» конкретной вещи остаётся сверхмыслимой тайной. Зато можно совершенно точно утверждать, что одна вещь отличается от другой, стало быть, основой смысла должно быть различие. Но ведь в любой вещи все её различия слиты, соединены. Выходит, что такое соединение различий и является необходимым условием существования смысла вещи. Точно так же проявляются вовне и все различия, присущие одной вещи в сравнении с другими, и при этом выражается её абсолютная индивидуальность — «самое само». Такое выражение, в котором смысл внутреннего и внешнего совпадает, — не что иное, как символ. Символическая реальность открыла Лосеву путь к осуществлению его юношеской мечты: «примирить в научном мировоззрении все области психической жизни человека — науку, религию, философию, искусство и нравственность».
Жизнь приучила Алексея Фёдоровича молчать о главном. Иногда это было молчание не гонимого властями учёного, а верного священным обетам отшельника (за год до ареста Лосев вместе с Валентиной Михайловной принял тайный монашеский постриг, о чём стало известно лишь после его кончины). Впрочем, сдерживали профессора и вездесущие охотники до чужих мыслей. Как-то в откровенной беседе на замечание о своей замкнутости он ответил: «Давно замкнулся. Потому что я когда-то выступил, а навстречу только клевета, использование моих мыслей. Делали на мне карьеру, многие…»
Но в одном интервью в год своего 90-летия он решается предложить итоговый императив: «… у меня есть одна… формула. Она гласит, что и сама действительность, и её усвоение, и её переделывание требуют от нас символического образа мышления…» Разве это не попытка заявить открыто, что сама действительность символична и познавать её нужно по-новому? И что же, отнеслись к этому заявлению со всей серьёзностью? Стало оно предметом обсуждения в Академии наук или хотя бы послужило началом острой дискуссии в центральной прессе? Ничего подобного… Ниша, предоставленная правящим режимом профессору Лосеву, всегда была ему тесна, но вне её он мог восприниматься советским «бомондом» со своими «мифом», «числом», «именем», «личностью», «смыслом» скорее в качестве юродивого, но никак не пророка. А ведь его теория открывала чудеса, не снившиеся не только авторам «безумных идей» в физике, но и самым «крутым» современным фантастам. Одно лишь смысловое соединение, осуществляемое вне пространства и времени, позволяет человеку ощутить свою истинную причастность к Вечности. Куда до него жалкой виртуальной реальности, создаваемой нынешней компьютерной техникой!
Итак, начала нового научного мировоззрения были заложены в нынешнем столетии, но так и не стали в нём достоянием человечества. Не случайно Лосев считал себя «сосланным в ХХ век». Он не успел передать нам из рук в руки свою главную тайну, но и не унёс её с собой. Она продолжает и сегодня ждать своего часа.
Материалы нулевых годов двадцать первого века
ПОРТАЛ
информационно-аналитической службы
«Русская народная линия»
08.07.2010
Православные начала научного мировоззрения в свете учения Алексея Лосева о символической реальности
Доклад на конференции «Христианство и наука»
VIII Международных Рождественских образовательных чтений
27 января 2000 года
От редакции. Предлагаем вниманию читателей текст доклада члена культурно-просветительского общества «Лосевские беседы», автора РНЛ С. В. Гальперина, представленный слушателям в рамках конференции «Христианство и наука» на VIII Международных Рождественских чтениях, проходивших в 2000 году, поскольку, на наш взгляд, он не утратил своей актуальности. Тем более, что в сборник материалов Чтений доклад не был включён.
Ныне здравствующим поколениям выпала редкая участь — встретить смену тысячелетий, исчисляемых от Рождества Христова. Само по себе это уже налагает на каждого верующего некую ответственность. У тех же, кто готов в эту пору свидетельствовать от имени ранее ушедших из земной жизни, она многократно выше. Я беру на себя такую ответственность, свидетельствуя здесь и сейчас от имени православного русского мыслителя Алексея Федоровича Лосева (в монашестве Андроника). Эту благородную, хотя и нелегкую миссию мне приходится выполнить, чтобы помочь лосевскому наследию реально войти в духовный общественный потенциал. При жизни Лосев был лишён возможности в полной мере «восславить Бога в разуме, в живом уме»1 — так он сам назвал своё земное предназначение. Его путь открытий-прозрений в годы наивысшего творческого подъёма был прерван (это случилось в 1930 г.) арестом и жестокими репрессиями, применёнными к нему как к непримиримому идеологическому противнику отрицающего Бога режима. Создав целостное учение о выразительно-смысловой символической реальности, сам автор был лишен возможности завершить его оформление и тем более опубликовать: сократив срок наказания Лосева, власти, тем не менее, запретили ему впредь заниматься философскими и богословскими проблемами. Вынужденный ограничить сферу своих научных интересов, он стал широко известен своими работами в области античной эстетики и мифологии, языкознания, литературоведения. Но даже сохраняя видимую лояльность господствовавшему режиму, опальный профессор осознавал зыбкость своего положения до конца жизни. Действительно, официальное заключение о реабилитации А. Ф. Лосева появилось лишь в марте 1994 года, то есть почти через шесть лет после его кончины.
До настоящего времени отношение к Лосеву остаётся неоднозначным как в среде философов, так и в богословских кругах. Как член культурно-просветительского общества «Лосевские беседы», посвятивший последние десять лет изучению лосевского научного наследия, я высказываю субъективное, однако, на мой взгляд, достаточно аргументированное убеждение. Собранные воедино и опубликованные после кончины Лосева «ранние» труды, как и высказывания последних лет жизни, позволяют чётко обозначить его позицию. Разработанные Лосевым начала абсолютной диалектики и принципы абсолютной мифологии, восходящие к Триединству Св. Троицы и божественности Абсолютной Личности; творчески развитый православно понимаемый неоплатонизм; глубоко осмысленная философия имени, продолжающая традиции православного энергетизма; провозглашённое и многократно подтверждённое равноправие алогического и логического — основа синтеза веры и знания (список можно продолжить) выражают неизменную верность автора разработок Священному Преданию Восточной (Православной) Церкви. Именно это прежде всего и позволяет говорить о сегодняшней востребованности лосевских открытий, когда Россия, вовлечённая в водоворот гибельных событий, начинает искать спасение в православной вере.
Смятение духа и брожение умов потрясает не только Россию. Мы оказываемся свидетелями всеобщей сумятицы мыслей и поступков, нарастание которой угрожает самому существованию человечества. И это происходит на фоне невиданного роста знаний и впечатляющих достижений науки на пути неуклонного прогресса. Однако человек не религиозный, сугубо светский, всё яснее замечает весьма неприятную закономерность: изменения в природе и обществе, вызванные использованием новых знаний, происходят гораздо быстрее, нежели накопление именно тех знаний, которые позволили бы предвидеть результаты этих самых изменений. Следовательно, наиболее важных знаний как раз и недостаёт. В итоге человечество всё чаще оказывается во власти слепых, весьма губительных сил, вызванных им самим по незнанию. Волна за волной на страны мирового сообщества, стремящиеся жить «по науке», накатываются кризисы — от экологического до нравственного. Никакими фундаментальными открытиями в естествознании, стократ выверенными рекомендациями социальной психологии, самыми оптимистичными прогнозами, подкреплёнными всей мощью математического аппарата и новейшими информационными технологиями, от них не избавиться. Вот и выходит, что главной причиной несчастий, обрушивающихся сегодня на человечество, является именно кризис знаний — кризис гносеологический. История развития мысли не раз выявляла ложность и несостоятельность целых учений. Драматичность нынешнего положения в том, что сложившаяся система знаний сама не признаёт своей несостоятельности, потому что живёт верой в свою самодостаточность. Сделать это можно и нужно лишь с позиций ортодоксального христианства, то есть православия. И тогда сразу же становится ясным, что общественное сознание в странах христианского мира, где эта система формировалась, глубоко вовлечено в прельщения разума, некогда отпущенного в свободный полет. Божья воля, о которой толкует Священное Предание, для него — вымысел, а общественная воля, которой он лишь и готов подчиняться вот уже несколько веков, — реальность.
Эта воля проявилась в период формирования секуляризованной (обмирщённой) новоевропейской, протестантской культуры, в которой разум стал независимым, автономным, и заключалась она в стремлении к удовлетворению насущных потребностей человека (именно её и выразил Фр. Бэкон, заявив, что истина и полезность — одно и то же). С позиции православия это не просто игнорирование Св. Предания, где единство и гармонию мира в Боге выражают Его имена: Истина-Добро-Красота, но и возведение греха в идеал. Подмена имени Бога понятием «полезность» выявляет продолжающуюся отвращённость человека от Бога. Обращённость его к удовлетворению насущных потребностей, как к главной жизненной цели, означает, что дух его паразитирует на душе, душа — на теле, а тело становится паразитом самой природы, сколько бы человек ни воображал, что познаёт её и преобразовывает. Вот отчего благие намерения, подсказываемые разумом, раз за разом оборачиваются злом, а реальная жизнь, действительность оказывается отчуждённой от благородных замыслов, даже если они подкреплены самыми точными расчётами и безупречным информационным обеспечением.
Многократно воспетый поэтами свет европейского Просвещения на поверку оказывается всего лишь отражённым, подобно холодному лунному свету, порождением человеческого разума. В нём отсутствует то, что присуще солнечному свету — выражение животворящего начала. Неспроста и сама теория познания, соответствующая ему, создавалась как теория отражения. Сегодня высвеченная им картина мира сводится к многообразию явлений (феноменов), описываемых системой понятий и определений. Наука предлагает верить в реальность всякой вещи, если она находится в пределах применимости соответствующих ей понятий или математических моделей, не без самодовольства называя такую реальность «онтической» («όντως» /гр./ — по правде, на самом деле). Принципы своего подхода наука пытается (и не без успеха) распространить и на иные сферы общественной жизни.
Альтернативой онтической реальности является реальность символическая, и возврат в неё разума — единственный путь к спасению человечества от грядущей деградации и вырождения. Речь о возврате идёт потому, что христианская культура до своей секуляризации целиком пребывала именно в символической реальности. Направления, по которым шёл от неё отрыв разума в западном христианстве, легко определить, вспомнив английский эмпиризм, французский материализм, германский идеализм. Что же касается православного мира, то здесь картина совершенно иная: стержнем самобытной русской философии остаётся мистический символизм — от Григория Сковороды до Павла Флоренского. Конечно, плоды европейского Просвещения дошли и до России, породив зловещую секулярность, и уже в нынешнем веке воинствующий материализм попытался вытравить даже память о главном направлении отечественной мысли, сохраняющей святоотеческие традиции. Но и тут профессор Лосев, надеясь быть услышанным и понятым хоть на краю могилы, решается обнародовать свой итоговый императив: «У меня есть одна… формула. Она гласит, что и сама действительность, и её усвоение, и её переделывание требуют от нас символического образа мышления». 2 Развёртывание этой формулы приводит нас к стройному всесторонне разработанному учению о символе как вездесущей универсальной форме выражения внутреннего во внешнем и о символической реальности как самостоятельной выразительно-смысловой сфере, являющей собой саму действительность.
Ещё в ранней юности Лосев сформулировал для себя задачу «примирения в научном мировоззрении всех областей психической жизни человека: науки, религии, философии, искусства и нравственности». 3 Как видите, речь пойдёт о научном мировоззрении, то есть опять-таки о позиции человеческого разума. Но она не имеет ничего общего с описываемым выше оторвавшимся от своих истоков помрачённым гордыней разумом. Здесь сами помыслы обращены к Богу, и, стало быть, человеческий ум мыслится как неотъемлемая часть образа Божьего, воплощённого в человеке. И обращаться следует к мысли самого Бога, которая как-то преломляется человеческим разумом. Таковы святоотеческие традиции, следуя которым, известный православный просветитель нашего века Вл. Лосский утверждает: «Бог, сотворяя, мыслит творение, и эта мысль придаёт бытию вещей его реальность… Божественным словом мир вызван из своего небытия, и есть слово для всего существующего, слово в каждой вещи, для каждой вещи, слово, которое является нормой её существования и путём к её преображению». 4
Эту истинную норму существования вещи и открыл Лосев, изложив результаты своего откровения в незавершённом труде «Сáмое самó», увидевшем свет лишь через шестьдесят лет после его создания. Автор здесь, кстати, даже не упомянул, что всякая вещь хранит тайное, сокровенное слово (логос). Но в подходе Лосева сомневаться не приходится: именно на такое утверждение другого православного философа-просветителя Вл. Эрна он сослался в своём раннем очерке «Русская философия», 5 опубликованном в Цюрихе ещё в 1919 году. Уже тогда Лосев твёрдо стоял на том спасительном для человеческого разума пути, который открывало Священное Предание Восточной (Православной) Церкви. Вместо рационализации христианства, начатого схоластическим богословием Римской Церкви и завершённого протестантством, в православии осуществлялась христианизация ума — насыщение мысли тайной, которая есть не скрываемый секрет, а свет неистощимый. Лосев говорит о ней так: «…Она ощутима как тайна, без всяких надежд на разрешение, но зато со всяческой надеждой на оплодотворение ею любых проявлений разума и смысла вообще». 6
Подход Лосева прост и понятен: всё существующее таит в себе начало, непознаваемое для человека, поскольку его мышление имеет предел. Оно начинается лишь с полагания бытия — первого утверждения: «эта вещь есть». Бытие самой вещи мыслится как множество её свойств, значений, определений. Но ведь она к ним не сводится — вещь прежде всего именно она сама. Определить абсолютную индивидуальность вещи — значит утерять её как предмет определения. Стало быть, абсолютная индивидуальность вещи, — «сáмое самó», — остаётся вне мыслимости, оказывается выше мыслимости. То же можно сказать и про «одно» — абсолютную единичность, которая мыслится лишь как «одно сущее», то есть сама по себе не есть ни то, ни то и ни это, следовательно, требует полного отрицания — апофатичности.7
К чему же приводят эти умозаключения Лосева? Конечно же, к непостижимому для человеческого разума, всеохватывающему добытийному единоначалию, которое в христианском вероучении именуется Богом-Отцом и по-разному воспроизводится в различных областях постигаемой человеком действительности: в философии — это категория Первоединого; в материальном мире — точка; в математике — единица; в антропологии — личность; в искусстве — первообраз и т. д.
Теперь обратимся к тайне, которая проявляется на самом пределе мышления — к тайне рождения смысла (Лосев называет её «тайной первого зачатия мысли»).8 В нашем уме она возникает одновременно с полаганием бытия конкретной вещи. Что же происходит в действительности? Вместе с утверждением: «эта вещь есть» рождается множество её смысловых возможностей, интерпретаций, которые выражают наше понимание этой вещи, то есть связаны с нашим житейским опытом, знаниями, воображением, стереотипами, интересами и. т. п. И это всё? Конечно, нет. Лосев решительно заявляет, что любая конкретная вещь независимо от разума человека обладает собственным смыслом, который рождается вместе с ней. Он включает в себя прежде всего то, чéм именно эта вещь отличается от всех других, то есть различие как категорию. Но ведь сами по себе различия вещью не являются. Они становятся ею лишь в своем слитом единстве — в тождестве. Стало быть, первозданный смысл вещи — тождество её различий, единораздельность, которая относится не только к отдельной вещи, но и ко всем вещам, составляющим мир: смысл соединяет их во вселенское цельнораздельное единство.
Вот мы и встретились с прямым проявлением вечной тайны рождённого Слова (Логоса), в Котором сотворён мир и всякая вещь в нём, и Который знаменует Ипостась Сына, уходящую в присносущую тайну Божества. Для научного мировоззрения, опирающегося на православный фундамент, это, конечно же, смысл, но не тот, который в нынешней ортодоксальной науке «человек мыслящий» обнаруживает в глубине собственного существа, а тот, который открывается как мировая гармония Всеединства и Всеразличия. В осмыслении философском Лосев соотносит его с категорией Бытия.
Но если цельнораздельное смысловое единство вещи — естественная норма её существования, то что же представляет собой само это существование? И здесь мы встречаемся ещё с одним проявлением неисповедимой тайны, которое Лосев соотносит с категорией Становления и представляет как непрерывно-сплошную текучесть. Любая вещь находится в непрерывном изменении — она становится, хотя мы и воспринимаем её как ставшее. Таким образом все видимые и невидимые изменения относятся к становлению. Это и есть суть существования всякой вещи. В картине мира, выработанной нынешней системой знаний, каждая вещь тождественна себе самой в пространственно-временнóм бытии. Это отражено в законах формальной логики и как раз соответствует онтической реальности. Но если исходным способом существования является непрерывно-сплошная текучесть, то сами пространство и время оказываются лишь формами становления. И эта их формализованность сразу же выявляется в подобном древним апориям Зенона физическом парадоксе Лосева, избавляющем от пространственно-временных условностей: движение с бесконечной скоростью есть абсолютный покой. Это действительно так: точка, движущаяся с бесконечной скоростью, в любой момент времени пребывает в любом месте своего пути, следовательно, — покоится. Ссылаясь на этот логически неопровержимый довод в течение целых 60 лет, Лосев, в отличие от Зенона, вовсе не пытался критиковать обманчивую видимость, а по существу, приглашал осваивать совершенно новый, открывшийся ему мир (на это приглашение до сих пор так никто и не откликнулся).
В работе «Сáмое самó» Лосев предпринял краткий историко-философский экскурс, где показал, что именно интуиции чувственно или мысленно воспринимаемой текучести бытия стали основой формирования главных мировых культур. И теперь мы ясно видим, что христианское благовестие выразило эти интуиции в имени третьей Ипостаси Св. Троицы — Духе Святом, Который дышит, где хочет. Но это вовсе не означает полной неопределённости Его проявления, и основы научного мировоззрения тому подтверждение.
Лосев обнаруживает в становлении нарастающее осуществление абсолютной единичности, которое появляется вместе с полаганием бытия. Так возникает основа математики — числовая последовательность натурального ряда. Но это же означает вместе с тем и исхождение бесконечно повторяющихся бескачественных актов полагания. Ясно, что источник бытия и становления общий. Но столь же ясно, что первозданный смысл не может быть источником становления, хотя одному без другого никак не обойтись. Становление оказывается средством осуществления смысла. В смысловом соединении, обеспечивающем целостность вещи, непрерывно-сплошная текучесть направлена всегда извне вовнутрь, а в создающем выразительность вещи смысловом различии она же направлена изнутри вовне (Лосев называет её здесь эманацией). На уровне научного мировоззрения всё это полностью подтверждает правоту отцов Восточной Церкви, утверждавших: «Дух Святой исходит от Отца чрез Сына» и одновременно доказывает полную несостоятельность догмата «филиоквы» Западной Церкви, расколовшего христианский мир в начале II-го тысячелетия Р.Х.
Вообще принципиальные отличия научного мировоззрения, создаваемого Лосевым, от того, что сформировала новоевропейская культура, станут понятны, если сравнить пути богословия Восточной и Западной Церквей, потому что сами корни познания обнаруживаются именно здесь.
В мистическом опыте Восточной Церкви Бог-Троица познается в Своих отношениях к тварному, в икономии — в Божественном действии: акте сотворения, промысле, миссии во времени Сына и Св. Духа. В Божественном раздаянии энергия исходит от Отца и сообщается через Сына Святым Духом. Целью познания при этом становится соединение с Богом — обожение. От созерцания Троицы в каждой из Её Ипостасей можно перейти к попытке созерцать Её в Ней Самой. По терминологии восточных отцов это и есть истинное «богословие», доступное лишь мистическому откровению.
У римских отцов путь был совершенно иным: к Лицам они шли от единой Божественной сущности. При этом на первый план выходила проблема познания отношений: отношений Божественной сущности к Лицам, отношений между самими Лицами, что потребовало использования отвлечённого, абстрактного логико-понятийного аппарата. Для Восточной Церкви эта проблема сводилась к наличию ипостасных свойств: отцовства-рождения-исхождения. Отец — начало единства; Сын и Дух Святой — Его Слово и Его Дыхание. Что же касается Божественной сущности, то в Предании Восточной Церкви вообще нет места для её богословия и мистики. И в то время как в западнохристианском мире развивалось схоластическое богословие, а философия — мирская наука, используя тот же формальный аппарат, становилась его продолжением (а по существу — вырождением, поскольку здесь и Бог стал понятием), в восточном христианстве мистический опыт богословия, опирающийся на произносимое слово, достиг своей высшей ступени — исихазма (священнобезмолвия). Разница, как видите, существенная.
Таким образом Божественное действие изначально находится в центре православного мистического опыта. Бог открывает Себя в Своих энергиях — вечно изливающемся преизбытке непознаваемой Божественной сущности.
Что же выявится, если сопоставить упоминаемые выше «сущность» и «энергию» в современном научном подходе и в осуществлённом Лосевым?
В онтической реальности сущностный анализ служит основой понимания. Сущность неотрывна от явления (феномена) — она и есть явление, оформленное в качестве системы понятий. Наконец, сущность вещи совпадает с её смыслом (по Аристотелю, это её «чтойность»). Таким образом, вам совершенно ясно, что такое «сущность»: содержательность этого понятия, доставшегося нынешней науке от римских отцов в наследство, неоспорима.
Теперь последуем за Лосевым в реальность символическую — двуплановую, рельефную, в отличие от онтической — плоской. Увы, здесь нельзя ответить, что же такое «сущность» сама по себе, зато Лосев разворачивает целый веер её фундаментальных проявлений:
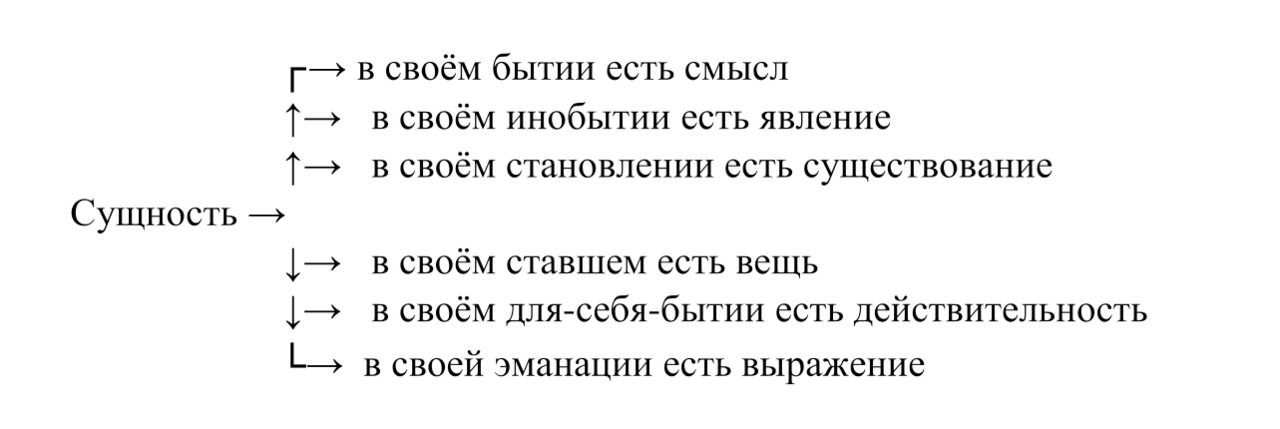
Так работает наследие отцов Восточной Церкви.
Обратимся к энергии. Вершиной постижения реальности для науки сегодня служит знаменитая формула Эйнштейна E = mc2, проявляющая тайну перехода материи в энергию. Между тем сам термин «энергия» вошёл в научный обиход лишь во второй половине прошлого века. До этого важнейшую динамическую характеристику с подачи открывшего её в механическом движении Лейбница именовали «живой силой». Нетрудно предположить, что «энергия», обозначавшая у Аристотеля принцип становления смысла, стала «своей» для учёного мира, когда он окончательно уверовал в тождество сущности явлений с обнаруженным человеческим разумом их смыслом.
А что же Лосев? Рассмотрение широко используемого им представления об энергии смысла (энергии сущности) позволяет утверждать, что он придерживается аристотелевой трактовки энергии. Но столь же ясно, что для самого Лосева корни этого представления — в православном богомыслии о присутствии непознаваемого по Своей сущности Бога в Своих энергиях. Познавательный потенциал, таящийся в энергии смысла, поистине неисчерпаем.
Общеизвестно, что человечество обязано христианству представлением о личности. Однако в самом христианском мире развитие этого представления оказалось весьма драматичным. В римском богословии Ипостаси (Лица), выражавшие всю личностную полноту, были сведены к отношениям. Затем, после Реформации, для философствующего ума вполне естественным стало расчленение целостной реальности на мыслящий дух и природу-механизм. И конечно, сам мыслящий дух со временем превратился в абсолютизированную человеческую личность. Она и сформировала научное мировоззрение «под себя». Согласно ему жизнь как способ существования организма, а затем и сознание как высший уровень психического отражения, возникают на этапах эволюции природы, которая осмысливается в целом как пространственно-временнόе бытие вещества с различной степенью упорядоченности.
Не таков путь православного осмысления. Предание Восточной Церкви свято хранит апофатичность Божественной Личности, и, следуя ему, самобытная русская философия воспринимает в категории Личности всё существующее. Поэтому в символической реальности Лосева всякая часть несёт на себе смысл целого, которое, следовательно, оказывается организмом, а сама всеохватывающая жизнь — не что иное, как становление. Смысл может не только выражаться вовне, но и соотноситься с самим собой, а это и есть, по Лосеву, сознание. Поскольку всякая вещь обладает собственным смыслом, она становится обителью и для сознания, уровень которого связан с уровнем её структурной организации (у человека оно приобретает характер самоосознанности). В основе такого (перевёрнутого по сравнению с изложенным выше) мировоззрения — бытие личности, а не вещества.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.