
Бесплатный фрагмент - Опалённые войной
Истории из жизни

К 80-летию Великой Победы
Великая Победа… За этими словами — четыре года крови, боли и несгибаемого мужества как на фронте, так и в тылу. Четыре года, которые навсегда изменили судьбы миллионов людей. Сегодня, спустя восемь десятилетий, мы вновь вглядываемся в те «сороковые роковые», чтобы услышать голоса ушедших и понять, какой ценой добывался мир.
Этот сборник — не просто рассказы о войне. Это живые свидетельства того, как любовь спасала в кромешном аду, как матери теряли сыновей, жёны — мужей, но находили силы бороться, как дети, вчерашние школьники, становились плечом к плечу со взрослыми ради победы над фашизмом. Как люди, прошедшие плен и оккупацию, выжившие в нечеловеческих условиях концлагерей, сохранили в себе человечность.
В каждой истории правда. Горькая, как пепел сожжённых деревень, и светлая, как майский рассвет 45-го.
Мы публикуем эти истории в год 80-летия Победы, чтобы память не стала формальной датой. Чтобы, перелистывая страницы, молодые читатели почувствовали: война — это не «где-то и когда-то». Это — про нас. Про всех, кто дышит этим мирным небом. Потому что эхо войны продолжает Бухенвальдским набатом звучать в следующих поколениях: «Люди мира, будьте зорче втрое, берегите мир!»
Помните. Читайте. Передавайте дальше.
Ясна Малицкая

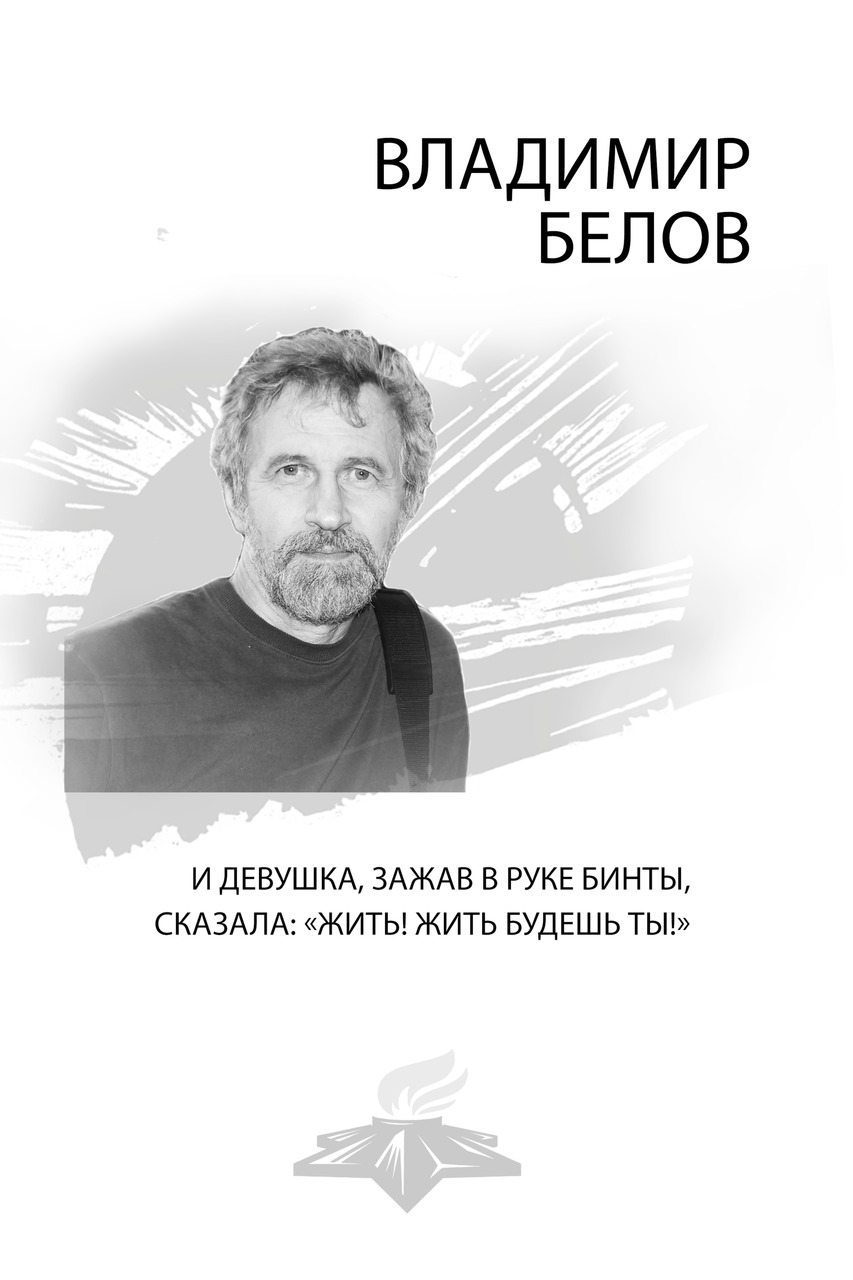
СУДЬБЫ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ
Моим родителям, Фёдору Михайловичу и Зое Владимировне, посвящается.
— Внимание! Говорит Москва! Передаём важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, в четыре часа утра, без объявления войны германские вооруженные силы атаковали наши границы во многих местах, подвергли бомбёжке наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и другие…
Голос Левитана летел над Москвой. Толпы ошеломлённых, растерянных людей стояли под репродукторами и жадно ловили каждое слово. Набатом прозвучало:
— Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!
И люди верили, что так и будет. Готовы были брать в руки оружие и идти на фронт, работать за себя и за тех, кто отправился на передовую. Верили в силу Красной Армии, верили, что она остановит врага и погонит фашистские полчища прочь с родной земли. Но войны одной верой не выигрывают, у неё свои законы, и покатила она безжалостные жернова от Кольского полуострова до Черного моря, ломая жизни и судьбы людей.
Какое-то время Москва ещё жила по-довоенному. В театрах были аншлаги. На стадионах играли в футбол. В парках слышались звуки фокстрота «Рио-Рита». Но спустя неделю начали вводить карточки на продукты. Через две недели москвичи увидели кинохронику, где горят советские деревни и города, где у разрушенных домов лежат тела женщин и малолетних детей, расстрелянных фашистами. Ровно через месяц Москва подверглась первой бомбардировке и воочию увидела пожары, руины домов и трупы под завалами.
* * *
Москва готовилась к обороне. Десятки тысяч москвичей отправились на строительство оборонительных рубежей. Работали женщины, студенты и подростки. Они рыли противотанковые рвы, сооружали блиндажи и артиллерийские гнёзда. Столица изменила лицо: на улицах строили баррикады и устанавливали противотанковые ежи. Окна домов заклеивали крест-накрест полосами бумаги. В подвалах обустраивали бомбоубежища. Дежурили расчёты зенитчиков, наготове стояли заградительные аэростаты.
На площади Свердлова 30 июля выставили на обозрение немецкий «Юнкерс», сбитый 25 июля на подлёте к Москве. Нескончаемая людская река текла по площади, впервые москвичи видели так близко поверженного врага, который нёс им смерть и горе. Девушка с непокрытой головой и полными ненависти глазами, помогая себе локтями, пробивала путь поближе к самолёту. Она так хотела подойти вплотную к этой хищной птице и плюнуть ей на крыло, но уткнулась в широкую спину.
— Гражданочка, дальше нельзя, — сурово произнёс повернувшийся к ней милиционер и широко расставил руки, сдерживая таких же любопытных. Хотел уже отвернуться, но взгляд остановился на девушке.
— Зоря? Не может быть…
Девушка подняла глаза.
— Сеня… Вот так встреча! — прошептала она потрясённо.
Она бы, наверное, замерла от неожиданности, но со всех сторон толкался, напирал народ, и она, чтобы не упасть, ухватилась за широкий милицейский ремень. Ей уже не интересен был этот ненавистный самолёт. Сеня! Сенька Крюков!
С детства они были знакомы по-соседски, потом вместе бегали в сельскую школу, правда, в разные классы. В деревне их звали шутливо женихом и невестой. Но судьба внезапно развела их, когда Зоря уехала жить к отцу в Москву. Они не виделись два года. Ни писем, ни весточки не было с тех пор. И вот нежданная встреча. Да где? В самом центре Москвы!
— Зорюшка, милая, ты только не пропади, только не пропади, — сбивчиво твердил радостный Семён. — Меня скоро сменят здесь. Мне так много надо тебе сказать, так много…
Взявшись за руки, они шли по улицам и говорили, говорили. Семён рассказывал, как вступил в Бригадмил (бригады содействия милиции), как был направлен на милицейские курсы, когда ему исполнился двадцать один год. Зоря рассказывала о своей жизни в Москве: про окончание школы, про ОСОАВИАХИМ, где проводились занятия по противовоздушной обороне, про то, как обивала пороги военкомата в первые дни войны, а с началом бомбёжек вступила в комсомольско-молодёжный отряд и теперь, во время налётов, дежурит на крышах, тушит зажигалки.
— А помнишь, помнишь? — смеясь, перебивали они друг друга, вспоминая очередную проказу из детства. Но оба молчали о главном.
Семён уже не раз собирался признаться, что разлука лишила его покоя, но никак не находил нужных слов — таких, чтобы сразу было понятно, как сильно он любит её.
А сердце девушки каждый раз замирало от волнения, когда её друг замолкал и глубоко вздыхал, собираясь сказать что-то важное. По Стромынке пересекли Яузу, свернули налево на Потешную, миновали больницу имени Ганнушкина.
— Мы почти пришли, — грустно сообщила Зоря, — вон мой дом.
Семён помялся.
— Через два дня мне на фронт. Я записался в истребительный батальон. Будем бить врага! — на одном дыхании произнёс и с надеждой спросил:
— Зорюшка, придёшь проводить?
Девушка замерла на месте, а в голове молоточками застучали вопросы: «Почему? Почему? Как же так? Мы только нашли друг друга!»
— Ну, конечно, мой хороший, — прошептала Зоря, испугавшись своей смелости, и уткнулась ему в грудь. Маленькая серебристая пуговка нагрудного кармана царапнула щёку.
— Я обязательно приду!
Семён обнял её за плечи и прижался подбородком к шелковистым каштановым волосам. Отступать больше не было сил.
— Я люблю тебя, Зорька! — прошептал он и скинул неимоверный груз с плеч. В полный голос, поднимая голубей с соседних крыш, прокричал в пустоту улицы:
— Я люблю! Люблю!
Зоря вспыхнула от этих слов:
— Сумасшедший! Не кричи, люди услышат!
— Пусть слышат! Пусть все знают, что я, Семён Крюков, тебя, Зорьку Коршунову, люблю-ю-ю!
А Зорьке и самой в этот миг было всё равно, что услышат. Пусть слышат, пусть знают, что она любима и сама любит. Она подняла глаза, в которых плескалось счастье, и уже открыла рот, чтобы признаться Семёну, но его ладонь нежно прикрыла губы.
— Не спеши, моя хорошая. На войне всякое случается. Ничего не говори — я верю, у нас с тобой всё ещё впереди.
Открылось окно на втором этаже, и густой прокуренный голос незлобно ругнулся:
— Что разорались, как коты мартовские? Первый час ночи, а у них любовь, понимаешь.
— Бежим! — Зорька потянула Семёна за гимнастерку. — Это наш сосед сверху, вредный мужик. Теперь отцу доложит. Ох, что теперь будет?
Они стояли за углом дома под старой липой, прижавшись друг к другу. От этой близости, от огня вскипающих чувств забыли о предстоящей разлуке, забыли, что где-то далеко гибнут люди на фронте, что по ночам звучат сигналы о налётах и с неба сыплются бомбы, что война — это страх, боль и смерть. Хотелось только притормозить неумолимый бег времени, хоть на минуту, хоть на мгновение, чтобы ещё чуть-чуть побыть вместе…
Её ладошка скользнула из горячей руки Семёна.
— Через два дня, — напомнил Семён, — в восемь. Малая Московская, дом 9, там не ошибёшься, школу издалека видно — четырёхэтажное кирпичное здание среди деревянных бараков.
Не в силах больше сдерживать слёзы, Зоря отвернулась. На углу она обернулась:
— Я найду тебя, Сёмушка!
Дверь молча открыл отец. Зоря знала этот взгляд исподлобья, это молчание не сулило ничего хорошего, но в груди уже горел огонь решимости и непреклонности. Всё! Хватит! Она сама хозяйка своей судьбе. Так же молча скинула парусиновые тапки, протиснулась между отцом и древним шифоньером, отгородившим угол комнаты, и присела на скрипучую кровать. Отец шагнул за ней:
— Ты де была? Нощь на дворе, мать извелась. Ну, Зорька, смори! Вот сыму ремень и…
— Отец, охолони, — вмешалась мать, — какой ремень? Она ж не девка сопливая уже.
— Кто он? Кто таков? — допытывался суровый родитель.
— Уже доложили? Да Семён это! Наш, деревенский. Мы два года не виделись, а послезавтра он на фронт уходит. Я пойду его провожать! — твёрдо заявила Зоря.
— Сенька? — переспросил отец. — Крюковых будет?
— А вы, папа, никак забыли, кто это? Сейчас, поди, не здесь бы сидели, — всхлипнула Зорька.
Отец замер на мгновение, плечи опустились, голова поникла, и весь он стал похож на глубокого старика.
Нет, он ничего не забыл. Разве забудешь, как в тридцать пятом году пришлось бросить крепкое хозяйство, дом, семью и бежать в Москву из родного села Бачурино, что в Тульской области. В одночасье, ночью, без документов. Сколько мыкаться пришлось по Москве, пока троюродная сестра по матери, занимавшаяся тёмными делишками, пристроила в каморку в полуподвальном помещении. А если бы не Сенька…
…Тогда он вернулся с мельницы домой поздним вечером, голодный и усталый. Пока умывался, Варвара, жена его, собрала на стол.
Не успел ещё окунуть деревянную ложку в чугунок с похлёбкой, как кто-то настойчиво постучал в окно.
— Кого это на нощь глядя принесло? Ну-ка, Зорька, глянь с крыльца.
Зорька, как была босая, так и выскочила на крыльцо.
— Кто там?
— Зорь, не пугайся, это я, Семён.
— Сенька, ты сдурел? Папаня дома, — защебетала Зорька. — Уходи давай, а то попадёт нам обоим.
— Скажи отцу, дело важное к нему, — оборвал её юноша.
Скрипнула дверь, и на пороге появился сам хозяин.
— И шо за дела такие важные? Не сватать ли Зорьку пришёл? — хохотнул отец. — А ты, девка, ступай! Нече тута уши греть.
Хлопнула дверь — и Сенька сразу затараторил:
— Дядька Герасим, бежать вам надо, завтра поутру по дворам пойдут, раскулачивать будут. Отец сказывал в соседнем колхозе, кто побогаче, всех враз арестовали, скотину на колхозный двор погнали. Мягкую рухлядь, зерно, сено — всё со дворов. Топоры и вилы, и те забрали.
— Да, погодь ты! Не тарахти. Сказывай, откель знаешь?
— Сам слышал, актив у нас в избе заседал. Порешили завтра и начать.
Герасим посмотрел с недоверием на Сеньку.
— А шо ты ко мне прибёг?
— Да разве я не понимаю? Какой из вас кулак? Вы же сами, как проклятый, с утра до вечера, на мельнице. И старший ваш, Санька, помогает. Мы уже и забыли, когда он гармонь в руки брал. Всё на мельнице да на мельнице пропадает. Да какой же вы кулак? Бежать вам надо, бежать.
— Слухай, паря! Тя нихто не видал?
Сенька помотал головой.
— Давай-ка, ноги в руки и бегом отседова. И шоб ни одна душа не прознала, шо ты здеся был. Дуй!
Сенька метнулся к плетню, легко перемахнул в огород и скрылся в темноте.
Герасим постоял на крыльце в нерешительности, окинул взором двор, где темнели силуэты хозяйственных построек, и с горечью махнул рукой:
— Эх! Пропади усё пропадом…
Зашёл в избу и с порога окликнул сына:
— Сашка, вставай, запрягай каурую.
Варвара охнула:
— Да что стряслось-то? Война, что ли?
— Хужее, мать! Не дадут житья, мироеды. Ох, не дадут… Собери нам с Сашкой одёжу да харчей дня на три. Бежим мы, мать. В Москву подамся, тётка может пригреет.
— Ой, горе-то какое! — запричитала Варвара. — Да куда же вы? А хозяйство? А я с девчонками? Ой, горе-то, ой, горе…
— Да не хнычь! Хозяйство, говоришь? Завтра усё прахом пойдёт, усё под чистую отберут.
— Шевелись, давай, — подгонял Герасим жену, увязывая в одеяло вещи. — А вас с девками опосля заберу, как угол какой найду.
Зорька суетилась, помогая матери. Младшая сестра, Райка, жалась к матери, не понимая происходящего и мешая Варваре собирать в дорогу мужиков. Вбежал Сашка и зачерпнул ковшом воды напиться.
— Батяня, готово! — утирая губы, промолвил сын.
В избе все притихли, и только где-то в углу за печкой раздавалась тревожная песнь сверчка. Варвара сняла со стены старую потемневшую икону и сунула в узел.
Герасим прижал к груди Зорьку с Райкой.
— Ну, присядем на дорожку.
Все расселись по лавкам. Варвара утирала слёзы платком и безостановочно шептала молитву. Герасим поднялся.
— Пора.
Он обнял жену, утер ей слёзы.
— Не горюй, мать! Люди добрые не дадут пропасть. А про меня сказывай, во Мценск отправился, по делам, скоро вернётся. Усё, пошли…
Только спустя два года Герасиму удалось привезти семью в тесную комнатушку в полуподвальном помещении, пропахшую кожей и сапожным клеем. Сашка к тому времени уже подался на Север за длинным рублём и ни слуху, ни весточки не подавал, а Герасим сапожничал в будке на Преображенке.
Он всё помнил…
Не глядя на Зорю, отец тихо произнёс:
— Иди, дочка! И Райку возьми. Проводите парня. На святое дело идёт. Пущай крепче бьёт проклятых супостатов.
Помолчал с минуту и добавил:
— Скажи ему, Герасим не забыл! Герасим усё помнит…
* * *
Ранним утром, лишь только солнце позолотило крыши, Зоря с Раисой выскочили из тесной комнатушки и устремились к парку «Сокольники». Дорога предстояла длинная, и они боялись опоздать. Райка едва успевала за старшей сестрой, в который раз переспрашивая про Семёна. Ей всё было интересно:
— А он тебе нравится? А ты ему? А вы уже того… целовались?
И сама заливалась ярким румянцем смущения. Зорька только отмахивалась от сестры. Она была уже там, рядом с любимым. Только бы успеть, только бы увидеть!
Миновали Лучевой просек, пересекли железнодорожные пути — и вот она, Малая Московская. Высокое кирпичное здание было видно издалека. К нему с обеих сторон тянулись люди. Зорька запаниковала: столько людей, вдруг не найдёт. Оставила сестрёнку на углу школы, а сама пошла челноком сквозь толпу, запрудившую школьный двор. Она крутила головой по сторонам, искала взглядом синюю милицейскую фуражку. Прошла по двору раз, другой. Сердце бешено колотилось в груди: «Где ты? Где ты?» С крыльца школы какой-то военный просил провожающих отойти подальше и дать место для построения. Отчаявшись, со слезами на глазах, Зорька пошла к сестре. Райка стояла с молодым человеком, он был в короткой светло-коричневой куртке на молнии с широким поясом, такие называли «хулиганка», и в брюках в тон куртке. На голове широкая кепка, в ногах вещмешок.
— Семён? Ну, конечно, он, только в штатском!
Зоря бросилась к нему, оттесняя сестрёнку в сторону. Им так много надо было успеть сказать, объяснить, они не находили слов и только глядели друг на друга. Перед неминуемой разлукой взгляды были красноречивее слов.
Они так и простояли молча, пока со школьного крыльца не раздалась команда:
— В колонну по четыре, становись!
Зашевелилась толпа, смолкла гармошка, оборвалась недопетая частушка, послышался женский плач. Зорька держалась за рукав Семёна, шла рядом и говорила:
— Сёмушка! Папка велел сказать, что всё помнит. Он ничего не забыл. Понимаешь, Сёма? Помнит. Он так и сказал — всё помню!
Словно это было самым главным сейчас. Семён прижал Зорю к груди, поцеловал в губы. За спиной сестры стояла Райка. Её широко раскрытые глаза были полны детского восторга, тревоги и слёз. Этот взгляд тронул сердце Семёна. Он ободряюще кивнул:
— Не унывай, Раюха! Вернусь с победой!
Вскинул вещмешок за спину и встал в строй. Колонна медленно тронулась со школьного двора. Семён оглядывался и искал в толпе провожавших знакомое лицо. Такое милое и знакомое лицо. Мелькнула её косынка у ворот ограды. Стараясь перекрыть голоса толпы, он закричал:
— Зоря! Жди меня! Я обязательно вернусь!
Зорька утирала слезы на щеках и долго махала рукой вслед колонне, тающей в конце улицы.
Домой шли не торопясь. Каждая молчала о своём. Зоря корила себя, что не нашла правильных слов, что не рассказала о своём чувстве, которое зародилось ещё в деревне, когда они были совсем ещё детьми, которое не прошло, а только притихло на время, чтобы вспыхнуть с новой силой при встрече. И как это несправедливо — встретиться спустя годы и вновь расстаться. Райка радовалась за сестру. Помнила, как та плакала в подушку, когда папка забирал всю семью в Москву, не дав попрощаться, а они с Семёном встретились здесь. Какие они красивые и счастливые! Она завидовала сестре, уж больно Семён был хорош. Высокий, стройный, сильный. И любит. Её фантазии разгулялись не на шутку.
— Ну и что, что старше меня? Подумаешь, всего на девять лет. Ой, что это я? Он же Зорьку любит.
Она украдкой посмотрела на сестру — не догадалась ли, не прочла ли по глазам крамольные мысли?..
* * *
Вскоре от Семёна пришла долгожданная весточка. Герасим не сразу отдал Зорьке серый листок, свёрнутый треугольником, заставил поплясать. Она читала письмо, а вся семья собралась за столом и выжидающе глядела на трясущиеся руки, на горящие глаза и счастливое лицо. Первой подала голос Варвара:
— Что пишет? Не томи, дочка.
— Мать, погодь, она сама не своя щас, — усмехнулся Герасим, — вишь, как светится.
Райка пыталась заглянуть в листок, но сестра прижала его к груди. Немного пришла в себя, продолжая улыбаться и никого не видя. Только одно поняла из написанного: жив её Сёмушка, жив родной! Прочитала второй раз.
Варваре не терпелось:
— Ну? Не томи, рассказывай.
— Всё хорошо. Ещё не на передовой, — рассказывала Зоря. — Пока окапываются, готовятся встретить врага и бить нещадно. Всем передаёт большой привет. Желает здравствовать.
— И всё? — удивилась Райка.
— Для тебя — да! — отрезала сестра, пряча треугольник под подушкой. — Остальное тебя не касается. Это личное.
* * *
С истребительным батальоном, сформированным в 270-ой московской школе, Семён попал в 13-ую Ростокинскую дивизию народного ополчения. Времени на обучение военным и тактическим навыкам катастрофически не хватало, но все горели одним желанием — задержать врага, остановить стремительное наступление на Москву.
По приказу Верховного Главнокомандования 26 сентября дивизию преобразовали в 140-ую стрелковую дивизию и включили в состав регулярных войск. В начале октября заняли позицию Северо-Западнее Вязьмы, где вступили в бой с основными силами 3-й танковой группы армий «Центр». Немцам удалось 7 октября замкнуть кольцо, и в Вяземском котле оказались четыре советских армии Западного и Резервного фронтов. В течение недели, уже в окружении, дивизия на своём участке сдерживала наступление фашистских войск. Вчерашние студенты и учителя, музыканты и художники, рабочие и служащие сделали всё, что было в их силах, чтобы остановить врага.
К вечеру 12 октября командование приказало сжечь машины, взорвать пушки и неизрасходованные снаряды, и каждой дивизии выходить из окружения самостоятельно, после чего сложило с себя полномочия. Начался хаос.
Семён брёл с остатками взвода, среди таких же замерзших и голодных солдат, оставшихся без командиров, по Смоленскому шоссе на восток. Не побеждённая, не сдавшаяся врагу армия превратилась в толпу. По колонне ветром пронеслась весть — какой-то полковник сказал, что фронт прорван, что надо уходить по просёлку левее шоссе и там можно вырваться из окружения. Люди воспряли и ринулись влево, не разбирая дороги. Уже промерзшая земля была довольно ровной. Кавалерия перешла на галоп. Пехота прибавила шаг. Кто-то побежал — и разом хлынуло людское море. Всеми овладело только одно желание — вперёд! Несмотря ни на что, не жалея себя — вперёд! Вдруг с правой стороны, где виднелись крыши деревеньки, просвистела и разорвалась мина. За ней вторая, третья. Собачим лаем залились пулемёты, затрещали автоматы. Голова колонны замерла на миг, повернула и понеслась назад, оставляя в чистом поле тела погибших и раненых. Семён бежал. Он не знал, куда и зачем, просто бежал со всеми вместе. Холод и голод, разрывы и свист пуль парализовали волю. Спина впереди бегущего танкиста в черном комбинезоне стала путеводной звездой в этой смертельной гонке. Вспышка, грохот. Ударная волна опрокинула Семёна на землю…
Сознание возвращалось медленно. В голове гудел паровозный гудок, а перед глазами летели искры. Тело качалось, словно на полке плацкарта. Ноги и руки затекли. Семён с трудом поднял голову и огляделся. Никого. Медленно встал и, опираясь на винтовку, побрёл на звуки канонады.
Уже вечерело, впереди показались крытые соломой крыши. Он просидел в перелеске до темноты, высматривая, нет ли немцев. Далеко за полночь осторожно пробрался к крайнему дому и постучал в окно — из последних сил. Держаться на ногах он уже не мог.
Вышедшая на крыльцо женщина с трудом втащила солдата в дом. Сняла с него сапоги, шинель и форму. Укутала в старый овчинный полушубок, устроила на полу.
Семён проспал весь день и проснулся, когда за окном опять стемнело.
— Ну, наконец-то! Выспался?
Семён недоумённо озирался. Выстиранные гимнастёрка, галифе и портянки висели на верёвке. У печи грелись сапоги. Пожилая женщина ставила чугунок на стол.
— Как звать-то тебя?
— Семён.
— Есть, поди, хочешь? Давай за стол.
Семён скинул полушубок — оказалось, он спал в исподнем.
— Не смущайся, Сеня, — кивнула хозяйка. — Вон, на лавке штаны приготовила… Ивана моего… Тоже воюет где-то.
Хозяйка утёрла выступившие слёзы.
Когда Семён, обжигая руки, расправился с картошкой в мундире, в дверь постучали. Он вскинул глаза на хозяйку и, опрокинув лавку, кинулся к винтовке. Клацнул затвор. Ствол упёрся в грудь вошедшему офицеру с тремя «шпалами» в краповых петлицах.
— Молодец! Не теряешь бдительность.
Семён вытянулся по стойке смирно. Правая рука потянулась к виску и застыла на уровне плеча.
— Правильно, к пустой голове руку не прикладывают, — пошутил гость и опустил руку Семёна.
— Здравия желаю, товарищ капитан госбезопасности! Разрешите представиться…
— Вольно, боец. Давай-ка мы с тобой попросим хозяюшку самоварчик на стол организовать. Марь Степанна, для меня кружка найдётся, а?
Пришедший снял шинель и по-хозяйски уселся за столом. Достал из кармана полотняную тряпицу с парой кусков сахара.
— Да, ты садись. Сейчас под чаёк и познакомимся, и решим, как дальше воевать будем. Выходить в одиночку из окружения, не зная расположения противника, — так себе вариант. Может быть, и повезёт, а скорее всего, нарвёшься на патруль в какой-нибудь деревушке. И что? Примешь бой? Убьют или в плен возьмут. Неизвестно, что ещё лучше будет. Как думаешь?
Семён молчал.
— Молчишь. Значит задумался. Есть другой вариант. Остаться здесь, в тылу врага, как боеспособный отряд. Наносить внезапные удары, устраивать засады, не давать покоя оккупантам ни днём, ни ночью. Костяк отряда есть и пополняется теми, кто сейчас бродит по лесам, кто готов защищать Родину с оружием в руках. Ты готов?
Семён вытянулся по стойке смирно.
— Так точно, товарищ капитан госбезопасности! Да я голыми руками буду давить, зубами рвать…
— Ишь, орёл какой. Голыми руками будет, — усмехнулся офицер. — А винтовка тебе для чего? Ведь не бросил.
Так Семён оказался в партизанском отряде.
* * *
15 октября 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление №801 об эвакуации столицы СССР г. Москвы в г. Куйбышев. Документ довели лишь до исполнителей, но их оказалось так много, что весть разнеслась по городу, как пожар в степи. Утром 16 октября не открыли метро. Не ходили трамваи, не работали булочные. В городе началась паника, ползли слухи, что через два дня немец будет в Москве. Хлопали выломанные двери магазинов, откуда мародёры тащили всё, что попадало под руку. По шоссе Энтузиастов, среди толп людей с тележками, баулами и рюкзаками медленно ползли Эмки и ЗИСы, нагруженные никелированными кроватями, коврами и шкафами. Все двигались в одну сторону — на восток.
Зорька возвращалась домой после ночного дежурства. Во дворе стояла запряжённая в подводу лошадь. Сосед со второго этажа торопливо грузил узлы, перины и чемоданы. Вышел его сынишка с самоваром в руках.
— Пап, мамка сказала, не оставит. Забирай.
Мужчина взял самовар и указал на пионерский галстук на шее сына.
— А ну, снимай эту тряпку! Кончилось ихнее время.
Увидав Зорьку, он с издёвкой спросил:
— Ну, что, кулацкое отродье, дождались? Теперь немчуру хлебом-солью встретите? Ух, недобитки проклятые.
— А что же ты на фронт не пошёл? Не старый ещё. Защитил бы нас, — не сдержалась Зорька, проходя мимо.
— Ах, ты! Да я… — задыхался от гнева сосед. — Да я в Гражданскую…
— Знаю, знаю. На продовольственных складах пузо наедал.
— Ах, ты, тварь!
Но Зорька уже шмыгнула в подъезд, быстро пробежала вниз по ступенькам и захлопнула за собой дверь. Герасим был дома. Она бросилась к отцу:
— Ну, почему? Почему так? Почему люди такие бессердечные? Сейчас сосед опять пристал. А на улицах что творится? Магазины грабят, аптеки. Норовят урвать побольше. Кто колбасу тащит, кто водку. Враг у порога, а они бегут из города. Ну, почему?
Герасим обнял дочку.
— Эх, родная моя! Мы и не такое видали. Усё пройдёть, поверь. Вишь, как усё закипело. Вот пена и поднялась. Ты, коды бульён варишь, пену сымашь? То-то! Людишки энти и есть пена. Зато глянь, каков бульён будет. Такой, шо германец ошпарица.
— Пап, а почта была?
Герасим, пряча глаза, вздохнул. Зоря поняла, что опять письма от Семёна нет.
— Уже месяц нет весточки. Пап, неужели?..
— Не смей, доча! Шоб и мыслей таких не было! Тяжко на фронте, вот и некода писать. Нет похоронки — значит жив! Ты пиши ему. Даже ежли не получит, сердцем прочует.
Панику в Москве удалось остановить. Вновь запустили работу трамваев и метро, магазинов и предприятий. Глава Мосгорисполкома Василий Пронин обратился по радио к москвичам с речью и закончил словами: Москва была, есть и будет советской!
В ноябре немцы стояли у самого порога Москвы. Аэродромы, с которых вылетали бомбардировщики, приблизились настолько, что сигналы воздушной тревоги звучали буквально минут за пять до атаки.
Ровный и монотонный голос диктора вещал на всю улицу:
— Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!
А за окном уже нарастал тревожный гул. Герасим подхватил дежурный узел с тёплой одеждой и поторапливал детей:
— Бегом! Не копайтесь! Летять, супостаты проклятые. Мать, дверь запри!
Все выскочили во двор. По кругу, насколько хватало глаз, взметнулся забор белых столбов, прожекторы рыскали по небу. Гул перешёл в грохот. У набережной на Яузе отрывисто лаяли зенитки, им вторили спаренные пулемёты.
— Стойте! — прокричала Зорька. — До убежища не успеем. Возвращаемся. Там хоть какая-то защита.
Вернулись в свою комнатушку. В темноте пристроились к несущей стене. Где-то рядом прогремел взрыв. Тряхнуло сильно. Звякнула посуда. Годовалый Валерка захныкал на руках Варвары. Зоря кинулась к двери, Райка за ней. Мать заорала:
— Куда? Герасим, не пущай!
Дочки вырвались на лестницу и, перепрыгивая через ступеньки, устремились на крышу. Зорька деловито надела плотные рукавицы, лежавшие в ящике с песком, и схватила щипцы с длинными ручками, готовая бороться с зажигалками. Самолёты сбрасывали зажигательные бомбы в кассетах, которые раскрывались в воздухе и поджигали всё в радиусе 150 метров. Они не взрывались, как крупнокалиберные, а подпрыгивали, лопались и плевались зажигательной смесью во все стороны. Райка впервые оказалась во время налёта на крыше. Она задрала голову вверх. Темное небо резали белые лучи прожекторов, воздух гудел авиационными моторами, ослепительно сверкали трассы пулемётного огня. Точно град, барабанила шрапнель зенитных снарядов по крышам домов. В городе кое-где уже поднимались языки пожаров. Ей стало страшно, она прижалась к сестре. Зорька протянула ей щипцы:
— Держи! Не думай, а хватай зажигалку и сбрасывай с крыши. Пусть там догорает.
— А ты?
— Я уже наловчилась, руками справляюсь.
Над головами среди шума и разрывов просвистел пикирующий бомбардировщик.
— Райка, берегись!
Сорокакилограммовая зажигалка пробила крышу и замерла на чердаке. Зоря ринулась за ней. Райка смотрела в пролом и видела, как взорвалась бомба, расплескав горючий наполнитель во все стороны. И на сестру…
Похоронили Зорю на Преображенском кладбище. Герасим ходил чернее чёрного. Райка замкнулась, не разговаривала ни с кем, лежала на кровати, уткнувшись в подушку. Самой сильной оказалась мать. Она была убита горем, оплакивала свою кровинушку, но понимала, что на руках годовалый сынок и она должна сохранить его. Командирским голосом, которого домашние никогда не слышали от неё, Варвара приказала мужу заняться подготовкой к зиме и заготовкой дров. Райке поручила брата, чтобы был накормлен, напоен и спать уложен. Сама отправилась на рынок, прицениться, что по чём.
Вернулась домой к вечеру. Валерка мирно сопел на кровати, Райка домывала пол в комнате. Увидев мать, она вытерла руки и прильнула к ней. Варвара погладила дочь по голове.
— Поплачь, родная, поплачь.
По её щеке скатилась горькая слеза.
— Не держи в себе. Слёзы, они такие… Они помогут…
Райка заревела в голос, мать крепко прижимала её к себе.
— Плачь, дочка.
С улицы пришёл Герасим. В руках держал ржавую трубу.
— Смори, мать, чё нашёл. Дымоход будет. Теперя печурку сложу.
Варвара махнула рукой, увела Райку в отгороженный угол и усадила на кровать. Подложила подушку под спину. На простыне остался треугольник серой бумаги — единственное письмо Семёна. Варвара тяжело вздохнула. Райка взяла в руки письмо, посмотрела на мать и прошептала:
— А Семён так и не узнает, что случилось. Может быть, и его уже нет…
— Да что ты говоришь? Зорюшка наша веру не теряла. Так и твердила, что не погиб. Может раненый, может в плен попал, но живой. И ты верь. Ты напиши ему. Пусть знает, что его ждут. Только про Зорю не пиши, не надо. Вернётся с фронта, тогда всё и узнает. А сейчас не надо. Пусть воюет.
И Райка писала. Писала по-детски наивно. Вспоминала о том, что в Москве 7 ноября на Красной площади прошёл парад, что началось контрнаступление и фашистов отогнали от столицы. Рассказывала, как отец сложил маленькую печурку, а дымоход вывел в окно, что жизнь в Москве не замирает, даже показывают новый фильм с Ладыниной в главной роли со смешным названием «Свинарка и пастух». В зоопарке работает «Уголок Дурова», а накануне Нового года в магазине Зоокомбината продавали волнистых попугайчиков, таких симпатичных. В центре на площадях и бульварах продавали новогодние ёлки, а на рынке подешевела картошка и на карточки к празднику выдавали пшено, селёдку и даже мясо. Но все её письма возвратились обратно с пометкой «Доставить невозможно».
* * *
Весной советское наступление остановилось. Врага отбросили от Москвы на 100–250 километров. В конце апреля партизанский отряд, в котором всю зиму воевал Семён, с боем вышел с оккупированной территории в расположение частей Западного фронта. Всех подлежавших мобилизации отправили в Москву, где формировали пополнение для фронта. Семён отправлялся на Воронежский фронт в составе 12-ой истребительной бригады. Он ходил за командиром и просил разрешения отлучиться на пару часов.
— Товарищ капитан, мне только повидаться с любимой и тут же вернусь. Более полугода не виделись. Ни писем, ни весточки. Уже и похоронили, наверное.
— Крюков, как же ты мне надоел уже!
Капитан посмотрел на часы.
— Ладно, беги! Только помни, к шести часам не появишься — дезертир. Не обессудь.
— Спасибо, товарищ капитан! Я мигом.
Степан помнил этот дом, старую липу, в тени которой прятались они с Зорей в тот день. Она здесь! Её глаза, её тепло, её шелковистые каштановые волосы… Вот сейчас он спустится по ступеням, постучит в дверь — и его Зорюшка отворит…
Дверь открыла Варвара.
— Здравствуйте, Варвара Яковлевна. Это Семён Крюков.
— Семён? Да что же ты стоишь в дверях? Проходи, соколик!
Варвара суетилась, двигала стулья, усаживая гостя, принималась протирать стол.
— Я тебя сейчас чаем напою. Где же ты пропадал? Зоря писала тебе, писала, всё без ответа. Ну, давай, рассказывай.
— Да, нечего рассказывать. Окружение, потом партизанский отряд…
Семён оглядывался, искал глазами Зорю. Только маленький Валерка, раскрыв рот, глядел на него.
— А где она? У меня времени совсем нет. Мне бы её повидать.
— Зоря? Так нет её… — ответила мать и отвернулась, пряча слёзы. — Не дома она.
— А когда вернётся?
— Да кто же теперь знает?
Райка, сидевшая за шифоньером, вцепилась зубами в руку, чтобы не закричать.
— По весне мобилизацию объявили на сельхоз работы… В колхозы подмосковные… Вот она… где-то там.
Семён достал сложенный треугольником листок и поднялся.
— Передайте Зоре. А мне пора. До свидания, Варвара Яковлевна.
— Опять на фронт? Храни тебя Господь.
В спину перекрестила Варвара. Лишь только закрылась дверь, Райка подскочила к матери.
— Мама, почему вы ему ничего не рассказали? Как так можно?
— Эх, доча, да лучше пусть не знает и воюет с верой и надеждой. А то с отчаяния полезет под пули и сложит буйную голову почём зря.
Райка выхватила письмо из рук матери и юркнула к себе за шифоньер. Развернула листок и начала читать:
«Здравствуй, моя ненаглядная Зорюшка! Спешу сообщить, что жив и здоров, даже не ранен. Прости, что так долго не давал знать о себе. Так сложилось. Попали в окружение, а потом примкнул к партизанам. Знаешь, что давало мне сил выдержать весь этот кошмар? То единственное твоё письмо, которое я успел получить. Я зачитал его до дыр и выучил наизусть. В холод оно согревало, с ним забывал о голоде. Оно не давало уснуть в дозоре и поднимало в атаку…
Слёзы не дали дочитать до конца. Она закусила губу, чтобы не закричать от боли и жалости. Почему, почему нельзя жить в мире и счастье? Почему с мясом отдирают от сердца самых близких и любимых? За что? Кому это надо? Нет, она должна что-то делать! Нельзя опускать руки. Она за сестру будет писать Семёну на фронт. Пусть думает, что Зорька его ждёт и любит. Пусть письма дадут ему сил справиться со всеми невзгодами, пусть защитят от пуль и снарядов.
Постепенно боль отпустила, и Райка успокоилась. Дочитала письмо до конца. Она удивлялась, сколько теплых слов находил Семён, с какой нежностью обращался к сестре. Сможет ли она писать нечто подобное? Откуда рождаются такие слова? Но она не отступит, должна справиться. Ради Зори. Ради Семёна. Ради их любви.
Прошла неделя, а Райка никак не могла написать письмо. Получалось бледно, скучно и без эмоций, как параграф в учебнике. Она рвала лист и начинала снова.
— Опять не так! — в сердцах сокрушалась она, и клочки бумаги опадали на пол.
Через десять дней пришло письмо от Семёна. Оно было не таким пылким, как оставленное Зоре, и совсем короткое. Извинялся и просил не обижаться за то, что пропал на полгода. Сожалел, что не довелось увидеться на этот раз. Райка так же коротко и сдержанно ответила, что всё понимает и зла не держит, а будет ждать и надеяться на встречу.
Полетели с фронта и на фронт бумажные птички, сложенные в треугольники. Письма Семёна становились теплее и ласковее, и Райка порой стала забывать, что пишет он не ей, а сестре…
* * *
Однажды вечером Герасим вернулся с работы в сапожной мастерской и увидел неоткрытый треугольник.
— Слышь, мать, а шо это Сёмка всё Зоре пишет? Почитай год прошёл, как… Неужто, так и не знает?
— Какая тебе разница? Не знает и ладно. Спокойнее будет. — ответила Варвара.
Утром отправила Герасима на работу, а сама взялась за дочку.
— Что ты парня морочишь? Нет уже Зорюшки нашей. А он всё пишет и пишет.
— А вы, мама, забыли свои слова? Кто меня научил? Вы же сами сказали, что пусть лучше не знает. Вот и не знает.
— Ох, дочка! Он, поди, про любовь пишет. А ты чем отвечаешь, обманом?
Райка покраснела, схватила перетянутую бечёвкой стопку учебников и убежала в школу. На уроках сидела за партой, смотрела в тетрадку и ничего не видела и не слышала. Она была где-то далеко на линии фронта, где Семён в обнимку с автоматом, возможно именно сейчас, в минуты затишья между боями, писал письмо со словами любви. Но не ей. Вся любовь, которую примеряла на себя, была адресована сестре. Вдруг Семён никогда не простит эту ложь? Эти мысли терзали сердце и душу. Райка снова и снова не решалась написать всю правду и покончить с этой игрой, в которой увязла. Но едва заметная искра уже теплилась внутри, согревала и дарила надежду, что когда-нибудь, после войны, Семён поймёт и простит её. И снова летели письма на фронт, убеждая молодого бойца, что Зорюшка его любит и ждёт.
Семён к тому времени уже стал сержантом и командовал взводом разведки. Много раз ходил со своими бойцами в расположение врага, изучая систему обороны противника. Трижды взвод устраивал ночные вылазки на вражеские позиции на южном берегу Дона, обращая фашистов в бегство, и возвращался с трофеями без потерь. Сержанта Крюкова представили к награде орденом «Красной Звезды».
В блиндаже топилась железная печурка. На столе коптил фитиль самодельной лампы из артиллерийской гильзы. Семён привалился к бревенчатой стене, перевернул планшетку, послюнявил химический карандаш и принялся за письмо. Ему хотелось поделиться радостью с Зорькой — не каждый день вручают ордена!
Карандаш стремительно бегал, мелкие буковки, строка к строке, покрывали листок, губы совсем посинели, а ещё так много надо было успеть рассказать. Орден — не главное. Семён строил планы на послевоенное время, в котором будет он вместе с Зорей и детишками. Никак не меньше троих, а лучше пятерых. Как славно они заживут большой семьёй. Как дом будет наполнен светом и детским смехом. Как они будут счастливы и никогда не услышат свиста пуль и разрывов снарядов…
Райка смеялась от счастья и обливалась слезами, когда читала письма Семёна. Ей так хотелось верить словам про большую семью, про светлый дом. А в голове настойчиво стучало — не твоё, не твоё счастье…
Она зачастила на Преображенское кладбище к могиле Зори. Подолгу стояла перед холмиком, словно просила совета у старшей сестры — как мне быть, как поступить? Просила прощения, сама не зная за что. Она не подозревала, что в душе поселилось новое, неведомое ей чувство, о котором читала в книгах, о котором мечтала ночами, которое пришло. И что теперь делать, она не знала. Махнув рукой на все страдания, Райка отчаянно бросилась в реку по имени Любовь. Она пообещала сестре, что будет любить Семёна за двоих, что будет жить и за неё тоже. Если ему нужна только Зоря, она станет для него Зорей. Больше никаких сомнений!
Опять на фронт полетели письма, полные тепла, нежности и любви.
Война перевалила экватор. К концу 1943 года от Беларуси до Чёрного моря по всей линии фронта советские войска перешли в наступление. Семён уже дослужился до старшего сержанта в 158-й стрелковой Лиознинской дивизии. Дважды был ранен и возвращался в строй. Получил медаль «За отвагу».
26 марта 1944 года солдаты 2-го Украинского фронта стремительно форсировали реку Днестр и на полосе шириной 85 километров вышли на реку Прут, где проходила государственная граница СССР. Москва отметила это событие — 320 орудий салютовали 24 раза.
Восьмого июня в районе деревни Синьково Витебской области Семён со своим взводом принял бой с диверсионной группой противника. Фашисты скрытно пробрались к траншеям. В окопы полетели гранаты, застрочили автоматы. Запоздалый сигнал «Тревога» утонул в яростной рукопашной схватке. Лязг металла и стоны. Хруст сломанных костей и отборный мат. Безумные глаза и дикие вопли. В этом кровавом месиве не было мыслей — только инстинкты. Выжить и убить. Семён мёртвой хваткой вцепился в горло фрицу, тот уже хрипел и закатывал глаза. Но вдруг в его руке грохнул Вальтер. Семёна обожгло, ослепило, и он рухнул на грудь чуть живому противнику…
* * *
Райка рывком села в кровати. Опять приснилось страшное, от чего просыпаешься в холодном поту и не помнишь увиденное. Только липкий ужас застилает глаза, не даёт вздохнуть полной грудью и парализует волю. За окном забрезжил рассвет. Было слышно, как дворник Муртаза гнал метлой последнюю опавшую листву.
— Уже осень кончается, — подумала Райка, — а писем с фронта нет. Сны эти непонятные… Неужели случилось то страшное, о чём не хочешь думать, но оно сидит внутри тебя? Сеня, родненький, что с тобой? Отзовись, пожалуйста!
Слёзы отчаяния бежали по щекам. Райка уткнулась в подушку и тихонько завыла. Подошла Варвара, присела рядом и обняла дочку. Погладила по голове.
— Я в церковь схожу, за упокой свечечку поставлю.
Райка встрепенулась.
— Не смейте, мама! Слышите? Жив он! Я сердцем чую!
И убеждая скорее себя, чем мать, продолжила:
— Не мог он погибнуть, не должен! Он Зорьке обещал вернуться.
Семён не погиб. Тот роковой выстрел немецкого фельдфебеля попал в нижнюю челюсть и сломал её в нескольких местах. Начался долгий путь по госпиталям. Язык едва шевелился, говорить и глотать не получалось. Во рту железная шина зафиксировала обломки челюсти. Ему страшно было видеть в зеркале своё изуродованное лицо.
«Кому я нужен такой? — думал он с безысходной тоской. — Ладно мать, она любого примет. Хромого, глухого, немого. Лишь бы живой был. А каково молодой и красивой девушке быть? Нужен ей урод, которого дети пугаться будут? Конечно нет. Закончится война, придут парни с фронта и найдёт Зорька себе мужа покраше меня. Мне теперь одна дорога — в деревню, к матери с отцом. Руки целы, а работа в колхозе найдётся. Проживу как-нибудь».
Только никак Семён не мог написать Зорюшке, что не вернётся к ней и не надо его искать. Ему казалось, что так будет лучше, пусть думает, что сгинул где-то без вести.
Летели дни, шли недели. Заканчивался декабрь. В Москву постепенно возвращалась мирная жизнь, оживала предновогодняя суета. В парках бегали лыжники, на катках сражались хоккейные команды. В саду «Эрмитаж» устроили «Ёлку Победы» для детей. Люди верили, что грядущая весна станет победной, что Новый год принесёт мир в дома.
Райка исхудала, осунулась, выглядела старше своих семнадцати лет. Неизвестность судьбы Семёна мучила, становилась невыносимой, и она твёрдо решила отправиться в родную деревню — уж если погиб, то родителям точно сообщили. Герасим с Варварой ничего поделать не смогли, смирились. Герасим напутствовал дочь:
— Поди, забыла усё? Свой-то дом узнаешь? Напротив, по праву руку через три хаты Крюковы и будуть.
— Не беспокойтесь, папа. Язык до Киева доведёт. Люди добрые подскажут.
На третий день под вечер, замёрзшая и голодная, Райка наконец добралась. Война не обошла стороной село. Почти два года оккупации прошло, прежде чем фашистов погнали на запад. Она не узнавала улицы. Колокольня Троицкой церкви была разрушена. Тут и там вместо домов торчали обгоревшие печные трубы. С трудом Райка нашла хату Крюковых. В окне едва теплился свет. Она поднялась на крыльцо, стряхнула снег с валенок и постучала в дверь. Скрипнул засов, и в проёме показалась девушка.
— Чего надо? — насторожённо спросила, разглядывая гостью.
— Я дочка Коршуновых. Может, помните?
В сенях появился хозяин.
— Это Герасима, что ль? Ну, заходь, неча на морозе топтаться.
Райка прошла в горницу. Знакомый с детских лет и почти забытый дух деревенского дома, лёгкий запах дымка натопленной печи вперемежку с ароматами кислых щей, квашеной капусты и парного молока вскружили голову.
— Проходь, не стесняйся! Да к печке, к печке. Скидавай пальтушку и спиной к тёплому. Грейся.
— Спасибо, дядя Миша!
Райка окинула взглядом комнату. За столом сидели мать Семёна, Катерина, старшая его сестра Нюрка, которая первой встретила Раису, и самая младшая, Настюха, Райкина ровесница.
— Здравствуйте всем! — произнесла Райка и не смогла отвести глаз от чугунка, над которым в тусклом свете коптилки, сделанной из стреляной гильзы сорокопятки, поднимался пар отварной картошки в мундире. Катерина скинула овчинную безрукавку и протянула Райке.
— Садись за стол. Поди голодная?
— Тётя Кать… — только и промолвила Райка, кутаясь в старый заношенный мех.
Обжигая пальцы, схватила из чугунка картофелину, шлёпнула кулаком, разрывая кожуру, и принялась жевать. Все молча глядели на неё. Первым подал голос Михаил.
— Ну, сказывай, как Москва? Как Герасим с Варварой? Каким ветром тебя принесло?
— Москва стоит, что ей сделается? Родители привет вам шлют, живы-здоровы.
Затаив дыхание и боясь услышать страшную весть, задала свой главный вопрос:
— А Семён… пишет?
— Чё-то не пойму… — насторожилась Катерина. — Зорька, кажись, должна постарше быть?
Она вгляделась в девушку:
— Никак Райка?
Райка не смогла лгать. Со слезами на глазах рассказала всю правду и про Зорю, и про себя, и что уже полгода нет писем от Семёна.
— Что с ним, тётя Кать? Живой? — с надеждой глядела она в полные слёз глаза матери.
— Ранетый. С самого лета по госпиталям скитается. — Катерина утирала слёзы. — В голову ранетый. Ни есть, ни пить не могёт. Не говорит совсем. Токма письма пишет.
Но Райка уже не вслушивалась. Жив её любимый! Живой!
— Да где же он? В каком госпитале?
— Писал, в Москву повезут.
— Я найду его!
Новый 1945 год Семён встретил в санитарном поезде по дороге в Москву. Устал он от госпитальных палат, не хотел ехать, просил домой отпустить. Но главврач настоял:
— Дурак ты, Крюков! Помнишь, каким тебя к нам привезли? Мычал, как телок. А сейчас? «Мама» говоришь? Хлеб жуёшь? То-то! Езжай, там тебе и красоту на лице наведут.
Семён поехал и не пожалел. Через месяц занятий с логопедом язык во рту ожил. Пусть шепелявил беззубый рот, но слова были понятны. Какое это было счастье! Не сидеть немтырём, а просто выговаривать слова. Соседи по палате говорили:
— Семён, шёл бы ты в курилку со своими разговорами.
Семён не обижался. Он не мог молчать. Шёл в курилку и там рассказывал одни и те же байки в десятый раз.
В феврале декабрьское письмо из дома наконец догнало Семёна. Прислала Настюха. Поздравляла с Новым годом, передавала приветы и пожелания скорейшего выздоровления, делилась деревенскими новостями. В последних строках она рассказала про Коршуновых, что Зоря геройски погибла ещё в 41-м, а писала письма ему Райка. Семён скомкал листок. Затем расправил и перечитал снова.
— Не может быть… Нет! Этого не может… Только не она…
Он замкнулся и умолк. Не докучал своими разговорами медсестрам и санитаркам. На вопросы отвечал кивком головы или односложно. Мучила бессонница. Лишь только закрывал глаза, как перед ним вставала стена огня и там, в этом беспощадном огне, она. Его любовь, его Зорюшка. Разве уснёшь? Он вставал с постели и до утра бродил по больничным коридорам. Вспоминал те заветные серые листки с аккуратными строчками слов, которых ждал каждый день, которые давали ему силы и бесстрашие в бою — железную броню от вражеских пуль. Какая броня, когда писала малолетняя девчонка? Почему обманывала? Зачем?
Мысли путались. Он спрашивал себя, искал оправдания ей и понимал, что письма были дороги ему и помогли выжить в огне войны. С теплом в сердце вспоминал, как тогда, в 41-ом, она пришла вместе с Зорей проводить его. Распахнутые глаза, детская наивность и бьющий через край восторг от осознания себя взрослой — такой он её и запомнил.
* * *
Райка с ног сбилась в поисках Семёна. Госпитали были разбросаны по всей Москве, не в каждый пускали, не везде откликались на просьбы. Чтобы добиться нужных сведений, она училась распознавать людей: кому на жалость надавить, с кем пошутить, на кого прикрикнуть. Заводила знакомства с санитарками и через них наводила справки. Часто слышала:
— Не отчаивайся, Раиса. Ведь живой, найдётся.
Однажды ей посоветовали:
— С таким ранением должны были в отделение челюстно-лицевой хирургии отправить. Ты сходи на Шаболовку. Найди Хавский переулок, госпиталь там. Говорят, лучшие специалисты в Москве, целый институт.
— Мама! Мама! — с порога радостно кричала Райка. — Я нашла его! Он на Шаболовке в госпитале. Ранение тяжёлое, но врач сказал — динамика положительная. При хорошем уходе, два-три месяца и выпишут.
— А ты самого видала? Про Зорьку сказала?
— Нет… испугалась. Только с врачом поговорила. А Семён… Как в глаза ему смотреть? Я не знаю.
— Ох, Раиска, — покачала мать головой. — Вишь, какую кашу заварила.
— Сама заварила, сама и расхлёбывать буду! — буркнула Райка и юркнула за шифоньер.
Райку приняли на работу санитаркой в тот самый госпиталь, где лечился Семён. Он сразу узнал её. Видел, как этажом ниже убиралась она в палатах и кабинетах врачей, мыла полы в коридорах и туалетах, ухаживала за тяжёлыми больными. Он исподтишка наблюдал за ней и понимал, насколько дорога она ему стала.
Райка же после смены решительно подходила к двери его палаты и каждый раз не решалась войти. Боялась, что не найдёт слов, не сможет объяснить, а он не поймёт и не простит обмана. За дверью на госпитальной койке Семён прикрывал изуродованный подбородок одеялом. Ждал, что Райка войдёт, и боялся, что увидит его безобразное лицо…
* * *
Предчувствие Победы пришло в Москву с Первомаем. С городских зданий убрали маскировку, восстановили уличное освещение, отменили режим затемнения. Сводки с фронта сообщали о взятии Берлина. Вся страна жила ожиданием.
Вечером 8 мая несколько раз по радио передали, что в виде исключения трансляция будет продлена до четырёх утра.
Райка осталась после смены и не пошла домой. Госпиталь затих, но не заснул. Казалось, что время остановилось. Все понимали, ради какого сообщения не закончилось вещание. Все ждали…
В 2 часа 10 минут прозвучали позывные.
«Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Война окончена! Фашистская Германия полностью разгромлена!»
Голос Левитана утонул в криках «Ура!». Волна ликования пронеслась по этажам и выплеснулась на улицу. Врачи, медсёстры, раненые — все обнимались, целовались. Всеобщий восторг, смех, светлые слёзы радости на лицах, и горькие — от потерь. Заиграла гармонь. Кто-то пустился в пляс, увлекая молоденькую медсестру. В этой круговерти Райку подхватили чьи-то руки и закружили в танце. Мелькали счастливые лица, деревья с молодой листвой, белые халаты, пустые скамейки, растянутые меха гармошки. И только одна мысль билась в голове — войне конец! Победа! Райка неистово хохотала, а по щекам струились слёзы, в которых собралась вся боль четырёх лет проклятой войны.
И вдруг — глаза напротив. Немигающий взгляд, полный противоречивых чувств. Радость и скорбь, удивление и восхищение — всё смешалось в глазах Семёна.
— Зорюшка… — едва слышно прошептал он. — Как же ты похожа на неё!
Райка замерла на мгновение и бросилась ему на шею.
— Сеня, войне конец! Ты понимаешь? Победа!
Она целовала его в щёки, в нос, в ещё не зажившие шрамы на подбородке. Семён прижимал её к груди.
— Да, да! Победа! Наша победа!
Минутный порыв прошёл, и повисла неловкая тишина. Семён разжал руки. Раиса отступила на шаг и опустила глаза. Оба понимали, что пора объясниться. Но как начать, как распутать этот клубок? Молча стояли друг против друга, а вокруг гремела музыка, пелись песни, и счастливые улыбки озаряли майскую ночь.
— Рай, не уходи…
Семён взял её за руку и повёл за собой сквозь бушевавшую весельем толпу.
Они просидели на лавке в дальнем конце госпитального сада и проговорили до самого утра. Райка просила простить её за то, что не рассказала о гибели Зори, что писала от её имени. Застенчиво пряча глаза, рассказала, что сама не заметила, как прикипела к его ласковым и таким трогательным письмам. Семён часто перебивал и иногда называл её Зорюшкой. Он благодарил за поддержку, рассказывал, с каким нетерпением ожидал каждую весточку, как перечитывал их раз за разом, как они согревали в холода, что они были родничком чистой воды среди боли и смертей окопной жизни, что без этих писем уже не мыслил себя.
— А знаешь, Сень? Я почти четыре года жила чужой жизнью, с чужим именем. Теперь, когда война закончилась, когда всё открылось, я мечтаю о настоящем счастье. Чтобы муж уходил на работу, а не на фронт. Чтобы дом был наполнен светом и добром. Чтобы тишину нарушали не сигналы тревоги, а задорный детский смех.
— Зо… — Семён смутился. — Рай, извини. Я по привычке. Всё будет! Обязательно! За то и воевали.
Райкины глаза наполнились влагой. Неужели это на всю жизнь? То, что Зоря навсегда будет между ними?
— Я понимаю, — ответила она с грустью в голосе и встала. — Пойдём, мне на смену заступать…
* * *
В начале августа Семёна выписали из госпиталя с инвалидностью и освобождением от воинской обязанности. Про возвращение на службу в милиции пришлось забыть по состоянию здоровья. Съездил в родную деревню, повидался с отцом, матерью и родными. Вернулся в Москву на поиски работы. Специальности нет, инвалидность есть — никому не нужен гвардии старший сержант запаса.
За закрытой дверью с табличкой «Начальник отдела кадров» гремел голос Семёна:
— Крыса тыловая! Что значит не можешь принять? У тебя мальчишки безусые за станком стоят, а мне места нет?
— Это я — крыса тыловая? — тучный седовласый мужчина поднялся из-за стола. С плеч упала шинель без погон. Пустой левый рукав гимнастёрки был заправлен за ремень. — Я руку на фронте оставил, а ты мне — крыса тыловая? Да я, не смотри, что руки нет. Зубами фрицев грыз бы. Я всю блокаду на Синявинских высотах, там и рука осталась.
Семён отвёл взгляд от пустого рукава:
— Вы это, извините. Погорячился.
— Да, и я хорош, не сдержался. Вот что, Крюков Семён Михайлович, — посмотрел в документы кадровик, — слышал, в метро набор объявили на курсы помощников машиниста. Метро строится, новые станции открываются. Люди нужны. Сходи, попытай счастья.
Семён сгрёб со стола документы, поблагодарил и вышел из кабинета.
Вечером он был у Коршуновых:
— Герасим Владимирович, Варвара Яковлевна, добрый вечер. А Рая дома?
— Здравствуй, соколик. Проходи, проходи, родимый, — суетилась Варвара. — Сейчас чаёвничать будем.
Герасим хлопнул по плечу Семёна, подтолкнул к лавке:
— Сидай, паря. А Райка у соседки, ща вернётся. Ну, сказывай, как дела?
Семён посадил Валерку на колени:
— По кочкам, по кочкам. В ямку — бух!
Валерка хохотал, а Семён продолжал:
— Дела идут. На курсы приняли, учиться иду. Через четыре месяца буду составы в метро водить.
— Покатаешь нас с Валеркой? — с порога поинтересовалась вошедшая Райка.
— Конечно! По кочкам, по кочкам. В ямку — бух!
— А жить иде собираися? — продолжал допытываться Герасим.
— Ну, чего пристал? Всё тебе знать надо, — проворчала Варвара, расставляя стаканы. — Где да как. Давайте чай пить.
Все расселись за столом, разлили кипяток по стаканам.
— Я не просто так спрашивал, — Герасим повернулся к гостю. — Поди с Мытищ, где угол сымаш, до учёбы добираться не ближний свет?
— Зато дешевле, чем в Москве, — ответил Семён. — Как на работу примут, переберусь поближе.
— Ну, да… Ну да, — задумчиво протянул Герасим. — А знаш, Семён, перебирайся к нам. Денег с тебя не возьму. Мать, ты как, не против такого постояльца?
— Да, конечно! Нечего по чужим углам мыкаться. Потеснимся. Зимой теплее будет, — улыбнулась Варвара.
Семён долго отказывался. Но когда и Райка, умоляюще глядя в глаза, прошептала: «Останься!» — он капитулировал.
* * *
Первая послевоенная зима быстро пролетела. За эти месяцы многое случилось. Семён отучился и был принят на работу в депо «Северное». Он признался Райке, что полюбил её, и сделал предложение. Не раздумывая, она согласилась. Родители молодых были не против и только порадовались за них.
Как-то погожим весенним вечером он поджидал Раису у ворот больницы:
— Сеня? Что ты тут делаешь? — удивилась девушка.
— Да, вот… решил встретить, прогуляться…
— Ну, пойдём.
Они не спеша пошли по переулку в сторону Шаболовки. Райка рассказывала, как прошла смена, что палаты не пустуют, что врачи творят чудеса, исправляя следы ранений. Семён, казалось, её не слушал. Вдруг он остановился, повернул девушку к себе лицом и заговорил:
— Рай, послушай. Только не перебивай. Давно надо было сказать, но я думал… со временем как-то само утрясётся… успокоится… забудется. Хочу забыть. Стереть прошлое. Чтобы чистый лист. Не получается.
Он перевёл дыхание, глубоко вздохнул и продолжил:
— Зорюшка не отпускает. Я не могу забыть. Я, иногда забывшись, тебя называю её именем.
Семён отвёл глаза. Райкино сердце замерло. Она глотала свежий, наполненный запахами молодой листвы воздух, а на грудную клетку давил камень прошлого. Она знала, что этот разговор рано или поздно должен был состояться. Перед ней тоже маячила тень сестры и вселяла сомнения — а имею я право на чужое счастье?
— А знаешь, Сеня, Зоря со мной всегда. Она во мне живёт. И с этим ничего не поделать. Ни забыть, ни прогнать — невозможно. Это любовь. Она похожа на вишню. По весне распустится, оденется белым цветом, а поздние заморозки вмиг загубят или ветер разгуляется и поломает ветви. Да мало ли что ещё может случиться? Молния ударит. Но с корнями, что под землёй, — Райка приложила руку к груди, — мы ничего поделать не можем. Они остаются живыми и из них вырастут новые деревья.
Летом они расписались. Свадьбы никакой не было. Пришли в загс, оформили документ о бракосочетании. Когда Раису спросили, будет ли она менять фамилию, она ответила:
— Да, и имя тоже.
Семён удивился, но виду не подал и вопросов не задавал. Так Райка стала Зорей Герасимовной Крюковой.
По дороге домой она шла под ручку с мужем, гордо подняв голову, и думала о том, что больше не будет между ними тени прошлого, что она будет любить Семёна в два раза больше: за себя и за сестру. И пусть он не будет пугаться, называя её Зорюшкой.
А Семён восхищался женой. «Это сколько же силы было спрятано в этом хрупком теле, чтобы отказаться от себя, от имени? Сколько любви хранит её сердце?»
Они прожили долгую жизнь. Трудную, но счастливую. Их любовь не пропала и не остыла с годами, она дала новые всходы. В семье родились дети — девочка и два сына. Выросло красивое и крепкое семейное дерево, которое дало новые плоды. Уже выросли внуки, уже подрастают правнуки, а любовь Семёна и Зори, зародившаяся в тяжёлые годы войны, до сих пор питает и даёт силы новым поколениям, и пока о них знают, пока помнят, дерево не погибнет. Оно будет цвести и плодоносить!

ЭХО ВОЙНЫ
Каждая война — это камень, брошенный в воды потока времени. Спустя десятилетия эхо Великой Отечественной войны достигает нас, наших детей, внуков, правнуков.
Сколько бы ни минуло лет с той поры, мы продолжаем читать книги, смотреть фильмы, спектакли о войне. По-прежнему проникновенно звучат песни военных лет и стихи поэтов-фронтовиков, многие из которых не дожили до победы. По-прежнему трогают душу мемуары людей, на долю которых выпала блокада, эвакуация, оккупация. Война глядит из тумана прошлого сквозь памятные альбомные фотографии, боевые награды моих близких, оброненные в беседе недомолвки, случайные встречи, полузабытые воспоминания детства…
Этот калейдоскоп воспоминаний можно сравнить с окнами, в которых вспыхивает свет. Поднимаешь голову — и высвечивается очередной эпизод, опалённый войной. Сколько таких эпизодов проходит через жизнь каждого, рождённого в советском союзе человека…
Открываю альбом детских фотографий и вижу себя, сидящую на деревянной качалке-самолете и сжимающую руками штурвал. На фюзеляже за моей спиной звезда и надпись «СССР». Наше послевоенное поколение росло не со сказочными персонажами, как это происходит сейчас у современных детей, мы играли в настоящих героев войны. В моей группе детского сада были свои «маршалы»: Жуков, Москаленко, Малиновский. Имена их были у всех на слуху, мы гордились ими, хотели быть похожими на великих героев. Про это сейчас тепло вспоминать…
Что знаем о войне мы, родившиеся после ее окончания?
Мой дед Натан, переживший кошмар тех лет, продолжал читать военные книги, которые множились на его полках, но сам не хотел говорить о войне. Это было слишком тяжело. И мы не спрашивали. Война сама напоминала о себе ежедневно, ежечасно…

Разбираю мамины документы и натыкаюсь на архивную справку, полученную через Красный Крест. Справка свидетельствует об эвакуации в город Горький Быстрицкой Наны Натановны. Это моя будущая мама. В июне 1941 года она окончила 7 классов и еще занималась в балетной школе. В эвакуации она продолжила учиться и пошла работать в госпиталь. Хрупкую девочку сначала не хотели брать на работу, но она сумела настоять.
Потянулись тяжёлые рабочие будни, девушка заботливо ухаживала за своими подопечными. Когда она балетной походкой с развернутыми в третьей позиции ступнями и судном на вытянутых руках шла по госпиталю, раненые бойцы улыбались. Ее прихода ждали, больничная атмосфера изменилась. И по прошествии какого-то времени начальник госпиталя сказал: «Благодаря этой девочке наш госпиталь поднял голову». Мама на всю жизнь запомнила эти слова. Она воспринимала их как награду за свое посильное участие в общем народном деле помощи фронту и вклад в будущую победу.
Много жизней унесла война, оставив после себя вдов и сирот. Брат моей бабушки Поляков Леонид Ильич, как директор завода в г. Ефремове, имел бронь, но добился, чтобы его отправили на фронт. Он был убит в бою 11.12.1942 г. у деревни Хреновая Смоленской области. На моей книжной полке стоит том Книги Памяти, в котором содержатся сведения о нём всего в восемь строчек — годы жизни (1903—1942) и очень маленькая фотография, единственная сохранившаяся в семье. У него остались вдова и двое маленьких детей. Его сын Шура (Александр Леонидович Поляков) назвал своего сына в память об отце Леонидом.
Как-то Шура специально приехал ко мне и с порога, как-то очень взволнованно-вдумчиво, произнес: «Я стал старше моего отца! Эта мысль меня не отпускает. Алка, ты понимаешь, я старше своего отца!» Это боль утраты снова догнала его. Я подумала, но вслух не произнесла: «Как хорошо, что ты успел родиться до того, как твой отец ушёл на войну. Ты есть в этой жизни».
Рядом с Книгой Памяти на моей полке — «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, хранившаяся у меня со школьных времен. При взгляде на неё у меня всплывают воспоминания одной из моих бабушек, тёти Любы, которая в войну работала врачом в госпитале. Часто она брала с собой на службу сына-подростка Юру, который ухаживал за ранеными и особенно заботился о летчике без рук и ног, садился рядом, прикуривал ему «Беломор» и помогал страдальцу затягиваться. Тётю Любу очень любили, она лечила не только лекарствами, но и вниманием, добрым словом. А позже, когда я рассказала ей, что в школе мы читаем «Повесть о настоящем человеке», то услышала от неё: «Этот лётчик, Алексей Маресьев — мой пациент, с моего участка».
Я тогда подумала, что мы живем среди героев, просто не знаем об этом.
Даже простые случайные встречи могут повлечь за собой истории, опалённые войной. Примерно в 2015-м году моего мужа, как человека, хорошо знающего старую Москву, попросили помочь туристу из Франции отыскать один дом в районе Арбата. Турист хорошо говорил по-русски, и вскоре к неожиданности обоих выяснилось, что они хорошо знают друг друга! Турист оказался никаким не французом, а соседом Володькой. Более полувека назад они оба жили рядом, в одном дворе.
И встала за этой встречей горькая военная история.
Отец Володьки, дядя Петя, как все его звали, вернулся с войны безногим калекой. Его жена была рада, что он остался живым, семья была дружной. Он был умный, начитанный, много занимался с сыном, вкладывал в него свои знания. Даже в таком состоянии, с ограниченными физическими возможностями, дядя Петя умел зарабатывать, был опорой семьи. Все соседи его уважали.
У него был сильный красивый голос. В дни, когда в Большом театре шли оперы, он добирался до сквера у театра и ждал окончания представления. Когда зрители выходили, он начинал петь арии так, что люди заслушивались. Ему щедро подавали деньги. Но однажды он предупредил жену, что может исчезнуть и что искать его не надо. И… он действительно исчез. Жена ничего не смогла о нем узнать и вскоре умерла от горя. Володя остался один. Соседи и близкие люди присматривали за ним, помогали, кормили.
Володя хорошо учился, а ещё выступал в детском творческом коллективе. А когда ему предложили поехать на гастроли во Францию, он согласился, но обратно домой уже не вернулся. Да и не к кому было ему возвращаться. Он повзрослел, вступил в иностранный легион, воевал в Алжире. Жизнь его сложилась вполне удачно. Но неясная судьба отца не давала покоя все эти годы. И как только стало возможным, он приехал в Россию, чтобы узнать об отце правду. И выяснил, что по принятому сверху решению, калек-инвалидов, как неприглядные следы войны, отправляли на Валаам. Там его отец и окончил свои дни.
Сейчас Валаам — популярная туристическая зона. Экскурсоводы рассказывают, какие хорошие условия были созданы для калек, как хорошо их кормили, несмотря на голодное послевоенное время, показывают могилы с их именами. На переписку, видимо, был запрет, так как письма оттуда к родным не приходили.
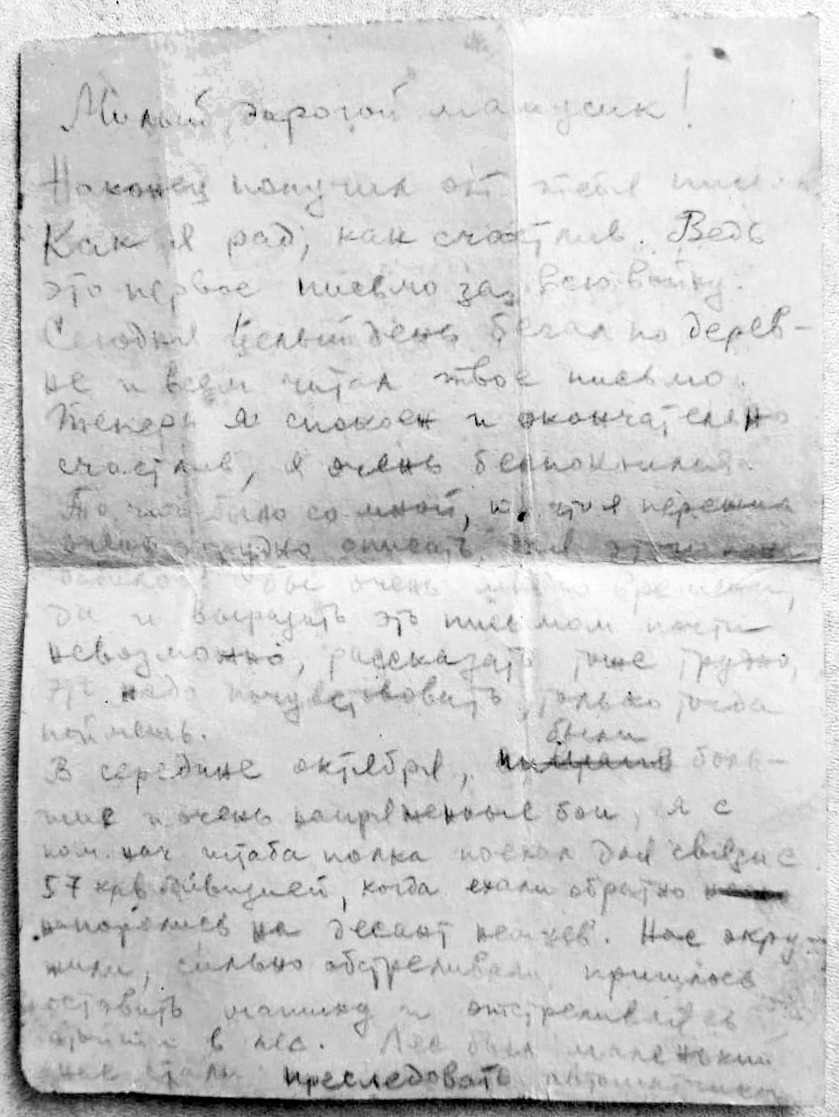
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.