
Бесплатный фрагмент - О песне. Песня как текст
Культурологические очерки
Песня как текст
Введение
Данная работа представляет собой логическое продолжение вышедшей вышедшей в 2013 году книги «Песня как социокультурное действие». Основной исследовательский пафос вышеназванной книги заключался в том, чтобы отойти от более привычного и казалось бы самоочевидного подхода к песне как к законченному произведению и сместить акцент на анализе процессуального аспекта ее культурного бытия. Увидеть в ней не застывшую данность, а движение, жизнь. Тогда становится необходимым рассматривать ее не изолированно, а в живом контексте и связях, во взаимодействии со своим иным. Помещая растение в гербарий, мы останавливаем процесс его жизни, засушиваем, а главное, вычленяем из естественной среды, разрываем связи. Это дает возможность во многом разобраться и многое понять. Но существует и прямо противоположный путь, открывающий существенно иные возможности. Путь наблюдения за ним в процессе его жизнедеятельности и, соответственно, в совокупности существенных для этой жизнедеятельности связей. И описания этих процессов, создания моделей, построения теорий…
Это и определило основной предмет: песня предстала как деятельность людей, как социокультурное действие. Растворился ли при таком подходе текст? Конечно, нет. Но он оказался включенным в систему иных связей и стал лишь моментом (хотя и чрезвычайно важным) значительно более широкого процессуально-динамического потока. В общесистемном смысле речь идет о моменте стабильности, устойчивости в потоке развития, в динамике, в движении, в изменчивости.
Значение и функции этого момента стабильности в значительной мере определяются особенностями изучаемого культурного феномена. Так, форма бытования песни, сам способ ее существования в культуре предполагает такое «разделение труда», когда существует некий «центральный элемент», соединяющий всех субъектов, включенных в общий процесс. Этот «центральный элемент и есть то, что можно назвать «песня как текст». Наличие такого «центрального элемента» является практически необходимым по двум причинам. Во-первых, он несет в себе качество стабильности, а во-вторых, обладает статусом «объективно существующего предмета», вещи.
Человеческая практика сама выделяет из себя как потока действия и наделяет устойчивой и опредмеченной формой то, что все мы знаем под именем «произведения», а иногда и под именем «текста». Об отношении этих двух понятий нам еще предстоит подробнее поговорить. А пока нам важно подчеркнуть лишь то, что некий важный момент процесса становится устойчивым опредмеченным элементом системы.
Когда бытование песни предполагает работу профессионалов — в поэта-песенника, композитора, аранжировщика, певца, хора, музыкантов оркестра, дирижера…, роль опредмеченного устойчивого элемента (текста) оказывается исключительно высокой. Но существует немало и иных примеров. Среди них есть весьма древние, идущие из глубокой архаики, но и немало современных. Момент устойчивости в них может быть сколь угодно минимизирован. Он может быть и как бы незаметным вовсе (например, в так называемых устных формах бытования). Но он не может полностью исчезнуть. Он продолжает существовать хотя бы в качестве «текста-невидимки». И всегда найдется исследовательская процедура, которая поможет его выделить и описать — «поймать».
Мы уже видим, что противоположность песни-действия и песни-текста относительна. Также, собственно, как противоположность движения и покоя, устойчивости и изменчивости, вариативного и инвариантного. Эта относительность весьма разнообразно, подчас неожиданно, проявляется себя в сфере искусства. Обратимся к вещам, казалось бы, очевидным. Например, к тому факту, что существуют виды искусства, чьи произведения предстают перед нами в неподвижности, в статике — скульптура, живопись, архитектура… А есть и такие, где произведение постепенно развертывается перед нами во времени — театр, кино, музыка… Деление искусств на временные и пространственные имеет прямое к этому отношение.
Но это противопоставление справедливо лишь до определенного момента. А точнее сказать, до тех пор, пока произведение искусства рассматривается, так сказать, «само по себе», вне взаимодействия с человеком, появление которого «сразу смазывает карту будня». С материально-предметной точки зрения скульптура, стоящая в музее, и зритель, рассматривающий ее, представляют собой две разные сущности, два самостоятельных объекта, но пересекшиеся в какой-то момент времени в одном месте. С духовной же точки зрения они — единое целое. Между ними замкнута «цепь», по которой циркулируют «духовные токи». В результате такого взаимодействия начинает преодолеваться исходная статичность произведения. Оно постепенно раскрывается перед нами и эта постепенность раскрытия уже означает процессуальность. Но и этим дело не заканчивается. Образ все более и более наполняется самыми разнообразными характеристики, среди которых значительный вес имеют динамические, относящиеся в движению, к жизни, к характеру. Так, взаимодействуя с портретом, мы начинаем ощущать и понимать, какова походка у изображенного на портрете человека, как он дышит, как движется, как мыслит и чувствует… Получается, что «статическое» произведение несет в себе динамический образ.
Аналогичным образом, песня-действие и песня-текст, будучи противоположностями, несут в себе моменты друг друга. Песня-действие, как и большинство человеческих действий, включает в свой состав использование устойчивых, стабильных элементов, среди которых особая роль принадлежит музыкальным и поэтическим текстам. В свою очередь, песня-текст, несет в себе, часто в «свернутом», в снятом виде основные моменты песенного действия. И в этом нам еще предстоит разбираться. В этом, собственно, и состоит одна из главных исследовательских задач данной работы.
Насколько эффективным или неэффективным окажется решение данной задачи, во многом зависит от исходных установок. Здесь очень важным оказывается способ построения понятийного аппарата — главного теоретического инструмента, с которым исследователь подходит к своему объекту. Фундаментальным вопросом, при этом, оказывается выбор универсума, в который исходно включается основное понятие исследования — «культурный текст» (= «текст культуры»).
Этот выбор в значительной мере определяет предмет исследования. В нашем случае можно говорить о выборе лишь с оговорками, причем, с очень серьезными оговорками. Понятия «песня как текст» и «песня как факт культуры» нисколько не отрицают друг друга, скорее предполагают, дополняют. Говоря о первом, мы неминуемо приходим ко второму. И наоборот, — говоря о втором, мы рано или поздно (будучи последовательными) придем к первому.
Но последовательность шагов все же имеет немаловажное значение. Это что-то вроде порядка сборки. Существуют системы, которые нужно собирать (или выращивать) в определенном порядке. В нашем случае мы стоим перед необходимостью продолжить работу, уже начатую в книге «Песня как социокультурное действие», где в качестве универсума выступала система культуры, рассматриваемая, преимущественно, в динамическом аспекте. В частности, были сделаны определенные шаги по разработке понятийного аппарата, а также предложены некоторые модели, с помощью которых мы пытались анализировать некоторые достаточно существенные культурные феномены. Теперь, переходя от песнедействия к песнетексту, мы исходим из того, что эти два предмета не просто тесно связаны между собой, но представляют собой органическое единство, а еще точнее, две стороны одного и того же явления. Эту связь необходимо теоретически зафиксировать и осмыслить. Стоит ли доказывать, что сделать это будет гораздо труднее, если рассматривать песнедействие и песнетекст в разных универсумах.
Этот аргумент является основным (хотя и не единственным) в пользу того, чтобы попытаться и дальше работать в выбранном уже логическом ключе. Это означает следующее.
— Универсум остается прежним
— Максимально используется уже выработанный понятийный аппарат
— Понятие «песня-действие» (песнедействие) не выносится за скобки, но продолжает оставаться в круге наших исследовательских интересов, занимая в нем по-прежнему значимое место.
— Большая часть рабочих моделей, с помощью которых мы исследовали наш прежний предмет, продолжают использоваться нами. Они будут развиваться и дополняться новыми. Но и те, которые были представлены в книге «Песня как социокультурное действие» будут рассматриваться под новым углом зрения, раскроют свой потенциал с новой стороны.
Основания для такой преемственности в общем-то очевидны. Ведь речь не просто идет о двух предметах, и о попытке построить две основные модели — одна динамическая, другая статическая. Эти два предмета неразрывно связаны друг с другом и как бы пронизывают друг друга. Песня как действие в значительной своей частью представляет собой действие с текстом, с помощью текста, относительно текста, по поводу текста… Соответственно, важнейшие элементы песни-действия сохраняются в качестве объекта нашего исследовательского интереса, но рассматриваться они будут с иной точки зрения. Несколько упрощая, можно сказать, что, рассматривая все это как текст (или как элементы текста), мы будем стараться этот текст прочитать.
В этом состоит взаимодополняемость двух подходов, представленных в двух книгах. И это же позволяет надеяться и на то, что их содержание также окажется сопоставимым и дополняющим друг друга.
Эмпирический материал, на который мы будем опираться во второй книге, относится к тому же кругу явлений, что и в первой. Это отечественная песня преимущественно двадцатого века. Причины такого выбора следующие. Во-первых, это дает нам возможность взглянуть на одни и те же культурные феномены под разными углами зрения, использовав разные, но взаимодополняющие подходы. Это позволит получить значительно более объемную и целостную картину. Во-вторых, песенная культура этого исторического периода развития нашей страны исключительно богата, и не только песнями как таковыми, но и разными способами отношения к песне, использования песни, взаимодействия песней и с помощью песни. Песня этого периода обнаруживает еще и исключительное функциональное богатство. И в-третьих: хотя песенный материал эпохи достаточно хорошо известен, далеко не полностью изучено то самое функциональное богатство песни, о котором мы только что упомянули. То же можно сказать и о зашифрованных в этих песнях смыслах, о том, что не лежит на поверхности, что спрятано в глубине.
Как пел Утесов: «У меня есть сердце, а у сердца — песня, а у песни — тайна, хочешь — отгадай». Хотелось бы отгадать. Это непросто, но мы попробуем. Подталкивает к этому не только большой научный интерес этого предмета. Тайна песни — это ведь еще и тайна сердца, сердца страны, духа эпохи, из которой вышли многие из нас, духа который еще не выветрился. Так что, это и наша, не до конца разгаданная тайна.
Как было сказано, книга «Тесня как культурный текст» является своего рода встречным дополнением к вышедшей ранее работе «Песня как социокультурное действие». Это находит свое выражение, в частности, в композиции материала. В книге «Песня как социокультурное действие» изложение начиналось с глав, посвященных общетеоретическим и методологическим вопросам, а затем шли главы, где рассматривались более конкретные вопросы и примеры различных типов социокультурного действия, связанных с песней (песенных культурных практик). Здесь мы поступим наоборот. Начнем прямо с анализа наиболее значимых, наиболее характерных и емких культурных явлений и посвятим этому значительный объем текста. И лишь после этого перейдем к выводам, обобщениям и попыткам построения теоретических моделей. Мы можем себе позволить двигаться таким образом, ибо опираемся на уже проделанную работу, на теоретические положения и выводы, представленные ранее.
Есть и другой смысл того, что мы обозначили как «встречное» движение. В первой книге мы на множестве примеров видели своеобразное превращение текста в действие. Попадая в систему (а можно сказать — в поток) культурных практик, песня сама становилась частью этого потока, реализуя скрытый в ней динамический потенциал. Но есть и превращение обратное, причем, происходящее в то же самое время. Песня как несущий культурные смыслы текст, входя в потоки культурных практик, начинает наделять («заражать» и «заряжать») этими смыслами все элементы и моменты этих практик, превращая их в большой текст — гипертекст, и становясь одним из элементов этого гипертекста. Текст превращается в действие (или обнаруживает его в себе), а действие в свою очередь обнаруживает в себе все основные качества текста и само становится текстом. Именно на этом, втором аспекте взаимного превращения мы и сосредоточим теперь основное внимание.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕСНИ
Как было сказано во введении, свое движение мы начинаем не с теории. Кое-что в плане формирования понятийного аппарата и построения абстрактных моделей уже было сделано в первой книге («Песня как социокультурное действие»), а с описания и предварительного осмысления конкретных культурно-исторических песенных феноменов. В каком порядке мы будем это делать, с чего начнем? Мы будем двигаться в хронологическом порядке. Но сделаем это с одной оговоркой. Наша работа не ставит своей главной целью описание истории развития песенного жанра в нашей стране. Прежде всего нам необходимо найти и проанализировать разные типы песенных культурных текстов, разные формы реализации песней функции «быть культурным текстом».
Такие примеры, как нам кажется были найдены. В каком порядке к ним обращаться? Как расположить? На этот вопрос можно было бы отвечать по-разному, исходя из разных оснований. Мы выбрали самый простой и очевидный способ — в хронологическом порядке. При этом обнаруживаются и некоторые элементы исторической логики, высвечиваются определенные исторические связи. Тем не менее, мы не считаем возможным предъявлять данную работу в качестве собственно исторического исследования. По той простой причине, что мы выбирали лишь некоторые, наиболее яркие по нашему мнению, образцы. Именно это и определяет главный смысловой акцент книги как теоретический. Что касается логики исторической, то она, не будучи главным предметом, как бы «просвечивает» в серии анализируемых культурных феноменов.
На стыке времен
Здесь мы рассмотрим примеры того, как песня реагировала на такое масштабное историческое событие прошлого века, как революция. Воздействие подобных событий, даже в том случае если они происходят относительно быстро, как правило, носит долговременный характер. Поскольку период их исторической подготовки, так сказать «вызревания», достаточно долог, постольку и песня способна их как бы «предчувствовать» заранее. И, предчувствуя, так или иначе реагировать. Помимо «предчувствия» есть еще и «реагирование изнутри», то есть с позиции тех, кто непосредственно вовлечен в это историческое действие, активно или пассивно, творя его или занимая страдательную позицию. Наконец, можно говорить и о весьма долгом последействии события. Ближнее последействие может, в частности, выражаться в попытке продлить историческое мгновение, пролонгируя особое революционное состояние духа, или, напротив, испытывая фантомные боли от пережитых потерь. Затем происходит «укладывание» события в систему исторической памяти, формирование предания, легенд, мифов…
Прежде всего нас интересует, как отразились в песне те или иные элементы общественного умонастроения, связанного со сменой исторических эпох, столкновения мировоззрений, систем ценностей и пр. Для кого-то это было актом ухода чего-то дорогого и привычного, для кого-то моментом прихода новой жизни и связанных с этим надежд. Обращаясь к временам столетней давности можно, в частности, попытаться со всей возможной полнотой восстановить картину происходящего тогда в сфере песенного творчества: кто и что пел, какие исполнители, авторы, стили, направления пользовались наибольшей популярностью и т. д. Однако возможна и иная постановка вопроса: какие голоса из того далекого времени дошли до дня сегодняшнего, оказались услышанными, вплелись в песенное многоголосие современной жизни? Кто и почему сейчас слушает этих певцов и их песни? Что в них слышат и как могут понять их наши современники? Этот второй подход ближе именно к культурологической проблематике, ибо здесь мы фактически ставим вопрос о культурном диалоге эпох. О диалоге, происходившем тогда и происходящем сейчас.
Если поставить вопрос о том, какие певцы и какие авторы, начавшие свой творческий путь незадолго до революции, приблизительно в годы гражданской войны, сохраняют (или восстановили) свою актуальность в наши дни, чьи песни звучат в репертуаре разных исполнителей и узнаются с первых нот и с первых слов, то два имени мы должны будем вспомнить в первую очередь. Это Александр Вертинский и Борис Прозоровский. Конечно же мы вспомним и других — Юрия Морфесси, Изу Кремер, Надежду Плевицкую… Но поставить рядом с Вертинским и Прозоровским по степени вовлеченности в современную культурную жизнь мы вряд ли кого-нибудь сможем. Хотя бы по этой причине начнем именно с них.
Для примера возьмем известный романс «Мы оба лжем»
(Муз. Б. Прозоровского, сл. Б. Тимофеева
За этой конкретной и сугубо частной жизненной ситуацией отчетливо просматриваются и более общие установки мироощущения. Если попытаться охарактеризовать пространственно-временные характеристики картины мира (хронотоп), то первое, что буквально бросается в глаза — явное доминирование временного аспекта хронотопа. Основное внимание обращено на время и его отношение к жизни человека. Проблема, которую время ставит перед человеком не нова: все проходит, и к этому фундаментальному факту нужно так или иначе относиться.
Что касается пространства, то оно, как таковое, здесь как бы и вовсе отсутствует. Во всяком случае, романс о нем умалчивает. Никаких характеризующих его категорий в словах романса нет. Оно «просачивается» в содержание текста лишь косвенно, через указание на предметы и действия, которые существуют во внешнем пространстве:
1) встреча, 2) голос, 3) руки, 4) волосы, 5) цветы и их лепестки 6) ложь (грустная игра).
Однако встречи эти происходят неизвестно где, т. е. пространство никак не определено. Голос, руки и прядь волос здесь имеют значение не столько материальных предметов, сколько символов ценности, которая уходит в прошлое. Внутреннее пространство предстает более наполненным:
1) нежность, 2) мираж, 3) любовь, 4) осознание лжи, 5) понимание необходимости окончания прошлого, «застрявшего в настоящем», 6) страх разлуки, 7) привязанность к атрибутам ценного прошлого — знакомому голосу, ласковым рукам, к родной пряди пепельных волос.
Внешнее пространство и его содержание все более поглощается пространством внутренним.
Ведущая характеристика времени — неизбежность ухода настоящего в прошлое; тогда как остатки прошлого в настоящем — всего лишь мираж, «медленная тень». Позиция субъекта высказывания — сам момент перехода настоящего в прошлое. При этом настоящее — не вполне настоящее, содержательно оно наполнено «застрявшим в настоящем» прошлым. А вот момент перехода в прошлое (момент потери) проецируется в будущее: «И всё же нас страшит угрюмый час разлуки…». Настоящее, таким образом, растягивается на неопределенно долгое время, что и составляет драматургическое зерно, внутренний конфликт, проблему. Слово «навеки» («навеки потерять») как бы впускает в описываемую ситуацию тему вечности, тем самым намекая на ее универсальный, вечный характер.
Обратим теперь внимание на предметный состав картины. Сюда входят час как единица времени, а также день, свидание, мираж, воспоминания, любовь, тень, ложь, знание, понимание, игра, прошлое, разлука, голос, руки, прядь волос, цветы, лепестки, аромат, красота. В этом составе только три предмета обладают материальной вещественностью: руки, прядь волос и измятые цветы с их лепестками. Остальные — час и день (как единицы времени), свидание, мираж, воспоминания, любовь, тень, знание, понимание, игра, прошлое, разлука, голос, аромат, красота — суть предметы невещественные. Что касается рук, пряди волос и цветов, то их вещественность также не вполне безусловна, она подвергается сомнению и как бы «истаивает». В этом направлении «работают» несколько факторов. Во-первых, общий контекст, в соответствии с которым эти предметы перечисляются в качестве подлежащих забвению, их необходимо «потерять», как бы это ни было «жутко». Они, можно сказать, уже уходят в прошлое («тонут» в потоке уносящего их времени).
Во-вторых, определения, связанные с этими предметами. Ласковые руки — это не столько руки как части материального человеческого тела, сколько знак ласки и памяти о ней. Прядь пепельных волос окрашивается дополнительными смыслами слова «пепельный». Ведь пепел — это то, что остается после сгорания вещи, то есть ее фактического исчезновения. Кроме того он ассоциируется с сединой — этим спутником неизбежной старости. Цветы брошены и измяты, лепестки мертвы. Аромат их по природе эфемерен, а красота — последняя (можно сказать, «прощальная»). Реальность таким образом буквально дематериализуется на наших глазах, развоплощается. Предметность не только дематериализуется. Она погружается в стихию времени, где каждый ее элемент становится знаком времени, отсылая к разным его аспектам и складываясь в единый образ медленного ухода настоящего в прошлое.
Предметный ряд максимально сливается с хронотопом, подчеркивая и усиливая его основную направленность. Какие атрибуты сообщает предметам текст песни? Воспоминания — призрачные (как мираж), любовь — угасшая, цветы — измятые, лепестки — мертвые… Все это усиливает идею неизбежного ухода. В этом смысловом контексте время (настоящее, уходящее в прошлое) и вещи, уносимые в прошлое вместе с настоящим, становятся как бы неразличимыми, сливаются в нечто единое и нераздельное. То же самое происходит с ценностями. Ценности становятся значками времени, а время — главной уходящей ценностью. Все ценности распределены во времени, а время ценностно окрашено.
Есть здесь еще и отношение двух (любивших когда-то друг друга) людей. Имеется ли хоть намек, на какие-то противоречия или хотя бы расхождения между ними? Ничего подобного мы не видим. Царит полное единодушие. Эта пара обозначается словами «мы оба». Оба одинаково лгут, оба знают, оба играют, оба понимают, и оба неопределенно долго продолжают лгать, знать, играть и понимать… Между ними продолжает оставаться полное единство, которое только усиливается тем, что оба находятся в одной и той же ситуации и при этом понимают ее и относятся к ней абсолютно одинаково. Создается впечатление, что воронка уходящего времени засосала не только их ценности и их чувства, но и саму их субъектность, способность к поступкам. И в этом качестве они — одно. Раздвоение и конфликт разворачивается не между ними, а внутри. В каждом, с одной стороны, живет сожаление об уходящем и желание его сохранить. С другой стороны, в каждом существует понимание невозможности этого и необходимости «отпускания» прошлого.
Кроме этой ситуации, мы из словесного текста песни не знаем ничего ни о ее участниках, ни о месте действия, ни о времени. Благодаря такой «расконкреченности» сама реальность происходящего истончается, становится предельно условной и как бы призрачной. Зато с категорией времени происходит нечто противоположное — время структурно усложняется, наполняется разнообразными внутренними отношениями, его грани окрашиваются чувствами, смыслами, и оно, кажется, уже может претендовать на то, чтобы стать главной силой и основной реальностью, диктующей свои условия.
Настоящее, прошлое и будущее сложно переплетены. Уже первая строка первого куплета помещает нас на грань между прошлым и настоящим: «Как прежде, нежностью полны часы свиданий». «Как прежде» — обращение к прошлому, взгляд в прошлое из настоящего. «Полны часы свиданий» — это настоящее. Полны нежностью, как прежде. Фактически, это означает, что полны тем, что пришло из прошлого. Можно даже сказать, полны прошлым. Они этим полны, а значит для чего-то иного места уже нет. Вторая строка — «И видимся с тобой мы каждый день». С одной стороны, речь идет в настоящем времени. Но выражение «каждый день» означает, что некоторое действие, происходившее в прошлом, происходит в настоящем и, по всей видимости, будет какое-то время происходить в будущем. Это — сцепление или склеивание времен. Следующие две строки — «Но это лишь мираж былых воспоминаний» и «Любви угасшей медленная тень» вновь устанавливают связь между прошлым и настоящим, как бы строят мост. И по этому мосту происходит движение в обе стороны. «Мираж былых воспоминаний» — это то, что движется из прошлого в настоящее, тогда как «медленная тень» — образ того, что уползает отсюда куда-то вдаль (все дальше в прошлое). Любовь уже ушла (угасла), а ее тень все еще медленно уходит.
Отношение прошлого и настоящего видится здесь, с одной стороны, зыбким и мерцающим, а с другой, многослойным, сотканным из разных нитей, по которым импульсы бегут то в одну, то в другую сторону. Мы находимся в точке соединения времен, но эта точка постоянно вибрирует.
Второй куплет в определенном смысле разворачивает нас в сторону будущего: «И всё же нас страшит угрюмый час разлуки». Однако этот взгляд в будущее из настоящего (а можно сказать, из прошлого, застрявшего в настоящем) «страшит». Причем, страшит такое грядущее событие, которое означает не что иное, как момент отделения прошлого от настоящего («угрюмый час разлуки» — это ведь еще и расставание с привычным и дорогим сердцу прошлым). Так идея прошлого проникает в мысль о будущем. Далее наша мысль рикошетом отскакивает от этого будущего, пролетает сквозь неопределенное во времени «вдруг» («так жутко вдруг навеки потерять») и вновь погружается в привычное, родное прошлое («знакомый голос твой, и ласковые руки, и пепельных волос родную прядь»). В этом куплете мы продолжаем раскачиваться во времени, но амплитуда увеличивается: в первом куплете происходило качание между прошлым и настоящим, во втором — между прошлым и будущим.
Третий куплет не приводит к разрешению внутреннего противоречия, но «перерабатывает» его, переструктурирует и, как говорится, раскладывает по полочкам. В первых двух строках звучит решимость признать и принять свершившееся: «Пускай любовь прошла, промчалась без возврата, пусть брошены измятые цветы». Заметим, что «объективная реальность», которую лирический герой мужественно признает, есть не что иное, как процесс, совершающийся в его собственной душе, в его внутреннем мире. Никакой другой «объективной реальности» здесь просто нет. Условно говоря, одна часть души борется сама с собой по поводу происходящего в другой ее части. Помимо этого, появляется еще одна часть, которая совершает умиротворяющую рефлексию с помощью эстетического созерцания происходящего: «Но в мертвых лепестках так много аромата, так много в них последней красоты». С одной стороны, уход настоящего в прошлое приравнивается к смерти («в мертвых лепестках»), но с другой стороны, в самой смерти обнаруживается своя красота и прелесть.
Так формируется весьма детализированный культурный образец особого умонастроения, особой «настроенности души», обеспечивающей готовность принять любую потерю, не выходя из состояния эстетического созерцания, и парадоксальным образом испытывая при этом эстетическое наслаждение.
Все три куплета находятся в системе линейного времени с его направленностью движения из прошлого в будущее. Но над этой линейной направленностью уже нависает тенью (а может быть, просвечивает изнутри?) самозамкнутость кругового времени. В сложном переплетении и спутанности временных нитей уже видится какая-то паутина, из которой трудно выбраться. Припев это предчувствие делает явью. «Мы оба лжем, и оба это знаем, какая странная и грустная игра, ведь мы давно так ясно понимаем, что кончить прошлое пора!» Таким образом, к общей сложности временного рисунка прибавляется еще и чередование линейного и кругового времени. То обстоятельство, что акцент на круговой аспект времени приходится на припев, а линейный — на куплеты, лишь подчеркивает и усиливает их поляризацию, ибо припев структурно соответствует идее постоянного возвращения, тогда как куплеты содержат момент обновления, двигают сюжет песни вперед и вперед. Впрочем, к культурологическим аспектам взаимодействия музыки и слова в мы еще вернемся.
Попробуем теперь сравнить с романсом «Мы оба лжем» другой, еще более популярный романс Б. Прозоровского.
«Караван», (Муз. Б Прозоровского, сл. Б. Тимофеева)
Уже в первой строке — «Мы странно встретились и странно разойдемся» — мы можем видеть целый ряд уже знакомых по предыдущему романсу элементов картины мира. Вот некоторые из них.
— Непосредственное соединение прошлого («встретились») и будущего («разойдемся»).
— Их смысловая и ценностная поляризация благодаря противоположности не только по смыслу, но и по эмоциональной нагрузке.
— Их смысловое и ценностное объединение, благодаря повторению слова «странно», которое сообщает и прошлому и будущему (и тому, что в них происходит) это важное здесь качество — странность.
— Странность связана с иллюзорностью, призрачностью. В одном случае «это лишь мираж былых воспоминаний», в другом — «это был мираж» и «но это призраки».
— «Странно разойдемся» звучит как предсказание, как констатация неизбежности, того, что обязательно должно произойти. При этом встреча и тем более расставание людей не может не осознаваться в качестве их поступков, того, что они сами по своей воле делают. Возникает противоречие свободы и неизбежности, того, что «я делаю» и того, что «со мной происходит». Примерно так: «неизбежно случится так, что я это сделаю». Что-то вроде античной идеи рока, но только лишенной драматического напряжения и переведенной в план спокойного и даже несколько расслабленного созерцания.
— Это свое собственное неизбежное, хотя и свободное действие субъект как бы отстраненно мысленно наблюдает и оценивает как странность. То есть, субъект осуществляет и отстранение, и остранение по отношению к самому себе и своим действиям: «то, что я делаю — странно, но так уж происходит».
Такой пример построения картины мира, предъявленный словесно, артикулированный и, более того, спетый (воспетый), становится влиятельным культурным образцом способа мировосприятия. Следующая строка акцентирует внимание на предъявляемом в качестве образца способе отношения к такого рода неизбежностям.
Если сравнить этот романс с предыдущим («Мы оба лжем»), то увидим здесь тот же мотив спокойного принятия неизбежности прощания с уходящими в прошлое ценностями. «Мы странно встретились и странно разойдемся» — такова реальность. «Улыбкой нежности роман окончен наш» — образец эмоционального отношения, соответствующего этой реальности.
То, что отличает этот романс от предыдущего, — это несколько более сильная акцентировка антиномии реальности и кажимости. Здесь припев посвящен в первую очередь именно этой идее. А неизбежность ухода всего ценного в прошлое преподносится как неизбежность того, что любой мираж когда-нибудь рассеется. Жизнь здесь — томительная пустыня, где время от времени возникают призрачные видения «далеких, чудных стран». После их ухода остается синева неба — атрибут томительной пустыни.
Легкость неизбежного расставания связана не только с пониманием призрачности всех ценностей, но и с усталостью. В романсе «Мы оба лжем» об усталости впрямую ничего не сказано, зато там ясно обрисована ситуация, которая, затягиваясь на неопределенно долгое время, неизбежно вызывает утомление, усталость, а ее прекращение может оказаться облегчением. В романсе «Караван» собственно караван и берет на себя роль носителя усталости: «и вдаль бредет усталый караван», — звучит в конце каждого припева, как главное резюме.
Таких «песен усталости» мы можем найти немало. И в большинстве из них обнаруживается примерно такая же картина мира с таким же хронотопом. Вот пример более поздний, но очень близкий по духу. Песня, которая начинается со слова «утомленное», и которое большинство людей узнает по этому слову —
«Утомленное солнце, (Муз. Е. Петербургского, сл. И. Альбека)
Пример типичен. Хронотоп, который здесь предстает перед нами, характерен, прежде всего, тем, что время по своей значимости решительным образом доминирует над пространством, как и в предыдущих примерах. Последнее здесь — не более чем место действия. А вот время приобретает значение едва ли не главной действующей силы, чуть ли не главного действующего лица. Прошлое столь же отчетливо преобладает над будущим. Даже момент действия — условное настоящее — оказывается смещенным в прошлое, а настоящее становится его «медленной тенью».
Действует время, а не человек, который просто обнаруживает себя в некоторой его точке, «философски» принимая как данность все его (момента) определения. Он принимает конечность всего, что для него ценно, с чем ему неизбежно предстоит прощаться. Бороться против этого бесполезно. Грустноватое резонерство — вот все, что можно себе позволить. «Виноваты в этом я и ты», а значит, — никто конкретно. Да и не вина чья-то тут является причиной, а сама неизбежность окончания всего.
«Утомленное солнце» означает утомленный день — утомленный отрезок времени. День утомлен, и он не против своего окончания. Он уходит (то есть, умирает) без сопротивления, нежно с морем прощаясь. Но если заходящее солнце символизирует уходящий день, а никуда не уходящее море — бесконечность времени, то получается, что конечное прощается с бесконечным, привычно и спокойно: «расстаемся, я не стану злиться». Опыт спокойного расставания, безмятежного отпускания от себя (в прошлое) того, что дорого — едва ли не центральный опыт, который содержит в себе незамысловатый текст этого танго.
Таким образом, там — усталый караван, тут — утомленное солнце. Все имеет предел, все «устает» когда-то. И отдых, уход вдаль или в прошлое (здесь это суть одно и то же) есть не только неизбежное зло, но и неизбежное благо. Если пришла окончательная усталость, то разумнее всего «улыбкой, нежностью роман окончить наш». Так и утомленное солнце прощалось с морем — «нежно».
Здесь уточним, что «усталость», о которой идет речь, не имеет отношения ни к физической, ни к психологической или даже моральной усталости — явлениях бытового порядка. Есть еще усталость значительно более рафинированная, можно сказать «философическая усталость» как черта общего взгляда на мир, как особенность общего идейного настроя. Человек — носитель такой усталости — может поддерживать отличную физическую форму, быть в тонусе, сохранять общительность, остроумие и утонченный гедонизм. Такая усталость позволяет легко и с «улыбкой нежности» заканчивать любой роман. Даже роман с жизнью.
Странность, призрачность и усталость приобретают статус фундаментальных характеристик бытия, превращаясь из характеристики лишь внутренней жизни человека в атрибут общей картины мира. Усталость бытия изгоняет из картины мира категорию будущего. «И, взгляд опуская устало, шепнула она, как в бреду: «Я Вас слишком долго желала. Я к Вам… никогда не приду». (А. Вертинский «Мадам, уже падают листья»). Эти строки дарит нам еще один намек на интересующее нас умонастроение — усталость желать.
Это «никогда» не пугает того, кто познал «философию усталости». «Вы плачете, Иветта, что песня не допета, что это лето где-то унеслось в мечту», — обращается к кому-то с нежным упреком Вертинский. (А. Вертинский. «Танго «Магнолия»). Понимающий неизбежность «нежного прощания», не протестует и не плачет. Иветта, судя по всему, не понимает; Вертинский же понимает очень хорошо. И в другом месте он споет: «Я поднимаю свой бокал за неизбежность смены, за ваши новые пути и новые измены…» (А. Вертинский. «Прощальный ужин»). Уходящее настоящее часто находится в центре внимания. Именно для него подбираются самые выразительные метафоры: «дымок от папиросы взвивается и тает, дымок голубоватый, призрачный, как радость в тени мечтаний…» («Дымок от папиросы». Музыка И. Дунаевского, слова Н. Агнивцева). Умение находиться в этом моменте, правильно его переживать и даже эстетски смаковать — особая мудрость жизни.
Романс Б. Прозоровского на слова Б. Тимофеева «Огни заката» (само название очень хорошо вписывается в обсуждаемую тему) раскрывает эту мудрость несколько подробней, включая в ее «рецепт» некое подобие активной позиции.
«Огни заката». (Муз. Б. Прозоровского, сл. Б. Тимофеева)
Здесь философия правильного расставания, правильного принятия неизбежности излагается и артикулируется более подробно постольку, поскольку в тексте подразумевается два лица, занимающие две позиции по отношению к происходящему, две (в общем-то традиционные) роли: Учитель или Наставник и Ученик. Ученик — тот, кого называют «мой мальчик», Учитель — женщина, надо полагать, и несколько старше и опытнее. В этом отличие данного романса от «Танго Магнолия», где роль Учителя принадлежит мужчине. Другое отличие в том, что «гуру расставания» не ограничивается пассивным принятием неизбежного, но предлагает мужественно идти ему навстречу: «В любви не надо ждать огней заката, пусть наше чувство будет нами смято».
И еще один любопытный штрих. В третьем куплете появляется не только мотив будущего, но и географическое пространство, правда, в метафорическом контексте: «Скоро осень придет, а за нею зима, видишь, в небе летят вереницы… Это к югу несутся свободные птицы, это наша любовь отлетает сама». Улетающие птицы — метафора уходящей любви? Это так, но лишь с одной стороны. С другой стороны, не секрет, что любовь, отношения полов и все, что с этим связано в культуре выполняет роль универсальной метафоры самых различных отношений, что позволяет формировать целостную картину мира. И это большой вопрос, о чем здесь поется — об уходящей любви, или об уходящем времени, в вместе с ним и об уходящей жизни…
«К югу несутся свободные птицы» — к югу значит вслед за уходящим теплом, то есть за уходящим настоящим, за уходящей жизнью в прошлое. Таким волшебным свойством лететь вслед уходящему времени обладают здесь птицы. Птицы вообще обладают способностью воплощать собой наши мечты. И если мечты устремлены в прошлое, туда же устремляются и птицы.
Пройдет немного времени, и песенные птицы массово полетят навстречу будущему.
Это потом. А пока доминирует умонастроение «нежного прощания», осознанной неизбежности окончания и исчезновения всего, где настоящее — мираж, а жизнь — медленное умирание, где умение расставаться с привычным, желанным, а, в конечном итоге, с самим собой, оказывается едва ли не главным элементом искусства жить. Это умонастроение наполняет собой многие песни А. Вертинского. И даже «Доченьки», песня, которая, казалось бы совсем о другом, да и написана значительно позже заканчивается словами: «Мне споют на кладбище те же соловьи!».
Хронотоп медленного прощания с настоящим и взгляд на мир сквозь призму «философии усталости» связаны друг с другом. Но в каждом конкретном случае их относительные веса могут меняться. Что-то выходит на первый план, что-то уходит в тень.
Рассмотренные нами примеры, а также многие другие близкие им по духу песни, генетически восходят к традициям русского романса. Однако в чем-то существенном уходят от этих традиций. Обратимся к одному очень известному примеру.
Отцвели уж давно хризантемы в саду
(Муз. Н. Харито, сл. В. Шумского).
Здесь также в центре внимания находится время и связанная с ним коллизия настоящего и прошлого. Также как и в разобранных выше примерах, некая ценность безвозвратно ушла, оставив лишь воспоминание. Однако обнаруживаются два не менее существенных отличия. Во-первых, между тем, что было и тем, что есть — большой разрыв. Момент медленного ухода настоящего в прошлое, таким образом, отсутствует. Во-вторых, как следствие, нет и мудрого, нежного отпускания настоящего в прошлое. Вместо этого мы видим незыблемую верность памяти, ставшей как бы ступенькой к вечному. Появился конфликт внешнего и внутреннего: то, что на внешнем плане распалось окончательно, на плане внутреннем продолжает сохраняться в неизменности. Существует множество известных романсов, где прошлое удерживается в памяти и как бы сохраняет готовность к новой встречи с ним в новом настоящем:
Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло…
…
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, —
И то же в нас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..
(Ф. И. Тютчев)
За эту стойкость памяти приходится расплачиваться, когда грустью, когда болью.
Не встречал бы вас, не страдал бы так,
…
Это различие, если вдуматься, серьезно. Речь, по сути, идет о двух противоположных способах отношения ко времени и к неизбежности превращения настоящего в прошлое. Но и то общее, которое их объединяет, не менее существенно — главное противоречие обнаруживает себя как драма времени. Основная направленность — взгляд из настоящего в прошлое. При этом какие-то важные ценности уходят в прошлое. В качестве жизненной стратегии в одном случае предлагается мудрость спокойного расставания, а в другом — верность памяти, верность чувству, которую можно понимать и как верность себе. Внешняя реальность изменчива и непрочна (хотя это еще не «мираж» и не «призрак»), зато реальность внутренняя, в частности, человеческая память, прочна и незыблема.
Стоит обратить внимание на связь трех структур: хронотопа, иерархии ценностей и эмоциональной организации личности. В одном случае имеется достаточно твердое и устойчивое настоящее, с позиций которого вспоминается нечто важное, ценное и давно прошедшее. Это не делает его менее важным и менее ценным. Напротив, со временем его ценность и важность обнаружилась лишь с еще большей отчетливостью. Мир меняется, но человек остается верен себе, своей памяти, своему чувству. И это он хранит, не собираясь отпускать в прошлое. Остается неизменной также сила и яркость чувств, их вечная свежесть. И все это воспринимается как ценность.
Там же, где в центре внимания оказывается медленная тень уплывающего в прошлое настоящего, где внешний мир колышется как мираж, обнаруживая свою иллюзорность; там и всякая привязанность обесценивается как всего лишь заблуждение, что-то вроде приятной галлюцинации. Свежесть чувства сохраняется лишь на краткое время. Тогда и верность памяти оказывается лишь пустым упорством в заблуждении. А вот полу-ироническая рефлексия помогает не застревая в привязанностях двигаться дальше. Здесь уже нет сильных чувств, философическая усталость управляет всем строем души. Зато рождается особый эстетический настрой — способность видеть красоту умирания и тления: «Но в мертвых лепестках так много аромата! Так много в них последней красоты!»
Мы коснулись лишь двух песенных хронотопов, делающих отчетливый акцент на времени и на том, что с ним связано, а пространственный аспект бытия как бы отходит на задний план. Время связано с идеей изменения, а значит окончания чего-то одного и прихода чего-то иного. Это изменение может быть желательным или нежелательным, оно может происходить по воле людей или «по воле рока» (в силу объективной необходимости). Но во всех случаях оно является существенным, а значит, связанным с ценностями, с одной стороны, и с эмоциями, с другой. По-видимому, именно это обстоятельство и «выталкивает» во многих случаях временной аспект на первый план. Во многих, но далеко не во всех, как мы еще убедимся. Пока же рассмотрим еще один вариант хронотопа, где время остается на первом по значимости месте.
«Трошка». (Муз. и сл. Н. Тагамлицкого)
Эта известная песня из репертуара П. Лещенко представляет для нас интерес как пример «деформации» хронотопа, его искажения, как в кривом зеркале, которое обладает свойством увеличивать одни части отражаемого предмета и одновременно уменьшать другие. Что-то подобное здесь происходит с временем. Будущее сокращается до минимальных размеров: «Эх, пропью все деньги, до гроша!», «Погулять хочу я эту ночь!». До размеров предстоящей ночи. Пропить «все деньги до гроша» за одну ночь означает здесь вложить в эту ночь всю энергию своей жизни, а дальнейшее не имеет значения и как бы вовсе не существует. Вся прошлая жизнь также теряет свое значение. Зато последние события вырастают по своей значимости до гигантских размеров, заслоняя собой все остальное. Сверх-значимым становится настоящее, каждый миг которого акцентируется очередным ударом бубна. Зарядить его максимальной энергией, утонуть в нем, как в проруби — основное стремление героя.
А вот и «родимое пятно» того хронотопа, который мы видели на примерах более старых романсов, где на внутреннем плане сохраняется то, что подверглось разрушению на внешнем: «Зарубить ведь мог я милую, ах, разлюбить мне милую невмочь». Правда здесь это противоречие переходит в сильнейший надрыв, который находит свое разрешение в пьяном угаре и в соответствующем ему сужении сознания до пределов одной ночи и далее до пределов одного мига. Время превращается в своеобразную воронку, засасывающую в водоворот мгновения как длительность, так и ценность жизни.
Песен с подобным хронотопом в репертуаре Петра Лещенко можно найти достаточно много. Если «Трошка» является собой жесткий пример, то есть и значительно более мягкие варианты.
Например, «У самовара»
«У самовара». (Слова и музыка Ф. Квятковской)
«Маша чай мне наливает» — это настоящее. «А взор ее так много обещает» и «Вприкуску чай пить будем до утра» — это будущее. Идея отказа от «цепляния» за прошлое находит свое предельное воплощение — прошлое в тексте песни отсутствует вовсе. Можно лишь догадываться, что описываемая ночь — не первая, проводимая таким вот образом. И не последняя. Многократное повторение одних и тех же слов создает образ многократного повторения одних и тех же событий (одной и той же ситуации). Время зацикливается, замыкается в круг, что, по сути, означает также и уничтожение будущего. И это уже существенное отличие данной песни от предыдущей. И здесь, и там время стягивается к настоящему, как бы впрессовывается в него, а настоящее, напротив, — растягивается, становится длиной в ночь. Но в «Трошке» все еще присутствует «роковое» событие, разрубающее линию времени на «до» и «после». Само же это событие помещается в ближайшем прошлом. В песне «У самовара» время не разламывается на две части, а стремится замкнуться, стать круговым. И это уже нечто существенно иное, к чему мы еще вернемся. Пока же заметим, что это замыкание времени в круг здесь еще не дано с непосредственной очевидностью, не проявлено и не акцентировано.
* * * * *
Все разобранные до сих пор примеры песенных хронотопов обладают рядом существенных общих признаков, среди которых безусловное доминирование времени и исключительное внимание к неизбежности ухода (перехода, превращения) настоящего в прошлое. Сейчас мы рассмотрим один исторический тип песни, где, с одной стороны, обнаруживается хронотоп, обладающий всеми указанными особенностями, но, с другой стороны, на этой основе выстраивается совершенно иная иерархия ценностей. Речь идет о революционной песне. Во многих отношениях она является собой полную противоположность всему тому, что нам демонстрировали прежние примеры. Однако это не просто нечто другое, это нечто симметрично противоположное. А симметрия — форма сходства.
Общего действительно много. Это — безусловный акцент на времени и акцентуация неизбежности прощания с настоящим. А вот ценностное отношение ко всему этому принципиально иное. Прямо противоположное. Основная ценность переносится в будущее. Прошлое — мучительный кошмар. Неизбежность ухода настоящего в будущее — это не то, с чем приходится смиряться, а то, что является самым желанным событием, точкой приложения всех сил и чаяний. Поэтому настоящее целиком посвящается титанической попытке вырваться из объятий прошлого и прорваться в будущее. Попытка требует мобилизации всех сил. Цена за этот прорыв может быть, практически, любой, сколь угодно высокой. Как правило, «ставка больше, чем жизнь». В этом смысле, хронотоп революционной песни являет собой инверсию хронотопа старого романса. Счастливое состояние из прошлого переносится в будущее. Настоящее здесь также обладает значением радикального разрыва, точки разлома. Иррациональная верность идеалам прошлого сменяется столь же иррациональной верностью идеалам будущего. «Ветры времени» и в том, и в другом случае противоположны устремлениям человека — «дуют в лицо». В одном случае, они закрывают возможность возвращения в счастливое прошлое, в другом, — предельно затрудняют движение в будущее. В первом случае спасительной оказывается сила памяти, во втором — сила воли (страстного разума): «Кипит наш разум возмущенный…».
Трактовка настоящего также обнаруживает удивительную симметрию. В хронотопе романса настоящее — момент уже наступившего будущего. В хронотопе революционной песни настоящее — момент уже проклятого, но все еще никак не заканчивающегося прошлого. Причем, не просто момент, а момент кульминационный, накопивший в себе все напряжение прошедшего времени, всю боль, всю ненависть и всю энергию воли. Но, и в том, и в другом случае, настоящее имеет обыкновение длиться неопределенно долго.
Решительное отрицание прошлого не имеет ничего общего ни с нежным прощанием, ни с верностью воспоминаниям. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног», или «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…» — таковы классические образцы этого мировосприятия.
Здесь необходимо сразу оговориться: сказанное не означает, что таковы все без исключения революционные песни. Это не так. Но внутри революционной песни созрел и выкристаллизовался именно такой тип, где такой именно хронотоп служит базисом соответствующей картины мира, системы ценностей и эмоционального настроя. Этот тип очень важен и очень интересен. С романсом «уходящего времени» он образует особую смысловую пару, подобную полюсам одного магнита. Вот лишь некоторые особенности этой пары.
Начнем с общих характеристик этих культурных феноменов, с их сходства.
— Акцент на временном аспекте хронотопа. Пространственные характеристики не имеют сколько-нибудь существенного значения. Иерархия ценностей неразрывно связана с временем, ценности так или иначе распределены относительно времени, привязаны к временным характеристикам. Отношение к времени является эмоционально насыщенным, и, практически, нет такого чувства, такой эмоции, которая не была бы связана со временем.
— Доминирование линейного времени. Особая значимость идей неизбежности и необратимости, связанных с асимметрией времени. Этому соответствует особое внимание к необратимым событиям, к необратимости как таковой.
— Настоящее — точка «разлома». Прошлое и будущее наполняются противоположными смыслами и ценностями. Это делает настоящее, с одной стороны, сверх-значимым, с другой, — сверх-ценным. В ряде случаем, настоящее растягивается, пролонгируется, становится как бы щелью, зазором, куда просачивается круговое время.
— Все внешнее заметно уступает по своей значимости (ценности) всему внутреннему — памяти, чувству, идее, мечте и т. п.. Это обстоятельство вполне соответствует особому акценту на время, о котором было уже сказано, ибо во внутренней реальности человека значимость времени исключительно высока, тогда как о внутреннем пространстве мы можем говорить лишь в переносном значении.
— Важной стороной (быть может, следствием) этого переноса внимания на внутреннее, является аскетический отказ от внешней стороны жизни ради внутренней. Прибавим к этому отказ от настоящего ради памяти о прошлом, в одном случае, или ради мечты о будущем, в другом случае. Далее следует идея отказа от всего уходящего (преходящего). Но, поскольку, таковым является практически все в человеческой жизни, то неизбежным логическим следствием оказывается и отказ от жизни. Во всяком случае, ценностный отказ, отказ на уровне мироощущения.
— Эстетизация смерти и ее атрибутов, наделение ее положительным ценностным значением не является в этом контексте удивительным или странным. И романс и революционная песня, хоть и по-разному, достаточно ясно и недвусмысленно выражают эту тенденцию. В одном случае отказ от жизни есть результат свободного принятия неизбежности утраты всех ценностей, готовность к любым утратам. В другом случае — свободная решимость отдать жизнь за нечто, превышающее ее по своей ценности. Но интонируется и звучит это совершенно по-разному. Достаточно сравнить «но в мертвых лепестках так много аромата» и «как один умрем в борьбе за это».
— Аскетизм революционный и аскетизм эстетский бесконечно далеки друг от друга. Но лишь с одной стороны. С другой стороны, они не только приближаются друг к другу, но и совпадают друг с другом. Это — та парадоксальная точка, где голодный и пресыщенный могут наконец понять друг друга.
Это были черты сходства двух культурных феноменов, как они предъявили себя в песенном творчестве. Теперь об отличительных признаках. Укажем всего два, но зато очень важных. Во-первых, в одном случае позитивной ценностью является прошлое, в другом — будущее. Во-вторых, личностное начало, человеческое «я» вытесняется и его место занимает всесильное и все разрешающее и оправдывающее «мы». Если вдуматься, то такая замена является завершением того «великого отказа», о котором мы здесь, фактически, рассуждали. И если это так, то «революционная психология» предстает перед нами как доведенный до предела декаданс.
Картина мира классической советской песни
В тридцатые годы прошлого века в нашей стране сложился и быстро завоевал доминирующие позиции новый тип песни, которую мы будем называть «классическая советская песня». Своим хронотопом, утверждаемой системой ценностей и эмоциональным строем она заметно отличается от всего того, что было нами рассмотрено в предыдущей главе.
Начнем с одного очень известного и очень характерного примера — с «Песни о встречном» Д. Шостаковича на слова В. Корнилова.
Здесь нет почти ничего из того, что мы видели раньше — ни тихого прощания с дорогим сердцу прошлым, ни сохранения в душе верности былым привязанностям, нет и «угарного» забвения в экстазе растянутого на целую ночь мгновения… Нет и ужасов прошлого, цепи которого призывает сбросить революционная песня, а значит, нет и рокового разрыва времени на прошлое и будущее. Но кое-что важное от революционной песни здесь есть — устремленность в будущее. «Ауру» будущего несут такие слова и образы, как утро, встающее солнце, молодежь (настоящая и будущая), ветер, дующий в лицо — атрибут движения вперед.
Не менее, если не более важным является центростремительный характер всеобщего движения. Здесь все важнейшие элементы картины мира движутся навстречу друг другу. Причем, и в пространстве, и во времени. Их встреча понимается как радость. Встреча нового дня, встреча человека с солнцем, рекой и ветром, встреча человека и страны, страны и нового дня, встреча отцов и молодежи, молодежи сегодняшней и молодежи завтрашней… Элементы встречного движения видим мы и в мелодии: первая и вторая фраза движутся навстречу друг другу, образуя своеобразную симметрию движений. То же самое — две первые фразы припева.
Отношение направлений движения требует уточнения. Однонаправленная устремленность всех элементов картины мира не имеет положительной перспективы, ибо картина в этом случае неизбежно «схлопнется» в коллапс. Встречным по отношению к движению в сторону некоторого центра будет движение от центра. Тогда оба направления уравновешивают друг друга и картина начинает пульсировать как огромное сердце. Если присмотреться к тексту песни внимательней, то мы увидим, что каждая нечетная строфа, соответствующая мелодии запева, делает смысловой акцент на встречном движении в первоначальном смысле этого слова, то есть на движении к центру. Каждая четная строфа косвенным образом указывает на противоположное направление, на движение, исходящее откуда-то, от какого-то центра. Таковы образы пробуждения: «Не спи, вставай, кудрявая», «Страна встает со славою» значит пробуждается, распрямляется, подымается. «Со славою» — образ славы, в конечном итоге, из этого же ряда, ибо слава исходит и распространяется в разные стороны. Два этих вектора встречаются в повторяющихся в каждом припеве строчках — «Страна встает со славою на встречу дня». Будущее конкретизируется — это начинающийся день. Оно приближается, почти сливаясь с настоящим. Но будущее это повторяется ежедневно (ежеутренне). А это уже черта кругового времени. Таким образом устанавливается равновесие, гармония, столь важная и характерная черта классической советской песни.
«Паровозный» характер оркестрового сопровождения (что довольно типично для многих образцов классической советской песни) создает образ стремительного движения, прошивающего и соединяющего огромные пространства. Этот «паровоз» советской песни стал символом соединения не только пространств, но и времен. Его бег — это одновременно и бег времени, и бег сквозь время, и, разумеется, бег сквозь пространство. Это — действие собирания многого в единство. И здесь уже теряется различие между пространством и временем. Движение, скорость — то, что пронизывает и соединяет. Но в этом соединении все же доминирует пространство, ибо пространство — форма совместного существования (сосуществования). Пространство объединяет. И в таком всеохватывающем и все объединяющем контексте само время превращается в особого рода пространство.
Образ паровоза, летящего в будущее возник еще в начале 20-х годов. «Наш паровоз вперед лети, в Коммуне остановка…»… Эта песня была написана в 1922 г. (авторство с точностью не установлено). Образ-символ паровоза в ней сформулирован лишь в словах. Его еще нет в музыке: песня представляет собой достаточно редкий тип марша на три четверти. Паровозные ритмы и интонации (прежде всего, в оркестровой партии) появятся позже и надолго займут прочное положение в советской песне.
Немало таких песен написал И. Дунаевский. Правда, большая их часть приходится на послевоенные годы.
1938 г. — «До свиданья, девушки» на слова Л. Левина,
1945г. — «Ехал я из Берлина» на слова Л. Ошанина,
1946 г. — «Пути-дороги» на слова С. Алымова,
1949 г. — «Дорожная» на слова С. Васильева,
1950 г. — «Московские огни» на слова М. Матусовского,
1954 г. — «Утренняя песня» (из кинофильма «Веселые звезды») на слова М. Матусовского, «В Москву» на слова В. Лебедева-Кумача, «Пишите нам, подруги» на слова М. Матусовского.
Образ собирания (и во времени, и в пространстве) в единое целое жизни человека, людей, страны создавался не только в «паровозной» песне. Панорама огромного целого могла создаваться и другими средствами, среди которых, как правило, присутствовала идея движения. Это, например, может быть движение плывущей лодки.
«Лирическая песня» (Муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача).
В этой песне также объединяются два типа движения — движение поступательное, скольжение лодки по воде, и движение обнимающее, не столько физическое, сколько психическое, смысловое (жест), которое передается и через перечисление всего окружающего, и словами «мы любим, мы вместе», и напоминанием о суточном цикле («багряное солнце идет на закат») … При этом движение становится состоянием, длящимся неопределенное время: «Часов не считая, плывём и поём, хорошо нам плыть с тобой вдвоём»!
Едва ли не самым важным образом движения в песнях того времени был человеческий шаг, как правило, не пешая прогулка отдельного человека, а коллективное шествие, марш, так сказать, поступь миллионов. Именно марш — та кузница, где выковывается великое «Мы». Примеров тому мы найдем огромное множество. Вот один, из числа самых известных и самых характерных.
«Марш энтузиастов», (Муз. И. Дунаевского, сл. А. Д, Актиля)
Где и когда имеет место то, о чем поется в этой песне? Формально, в границах СССР в тридцатые годы прошлого века, а на уровне эмоционального смысла (пафоса) — везде и всегда. И при этом здесь и сейчас. Такой хронотоп является не просто энтузиастическим, но и экстатическим в полном смысле этого слова. Такой же всеобъемлющий пафос мы найдем и в известной «Песне о Родине» из кинофильма «Цирк».
«Песня о Родине». (Муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача)
Припев:
Широка страна моя родная,
Обратим внимание на то, что песня эта начинается с припева, который, таким образом звучит и в начале, и между другими куплетами, и в самом конце. Это приближает форму песни к рондо (что, между прочим, означает «круг» фр. Rondeau — «движение по кругу», «круговой танец»). Это, во первых, придает словам и музыке припева большую утверждающую силу, а во-вторых, замыкает общую картину (и пространство, и время) в круг — действие в равной мере и ограничивающее, и преодолевающее границу.
Сочетание этих слов с видеорядом, где герой и героиня шагают рука об руку в большой колонне демонстрантов, неся плакаты и флаги, создают некий обобщенный образ Человека, который как хозяин проходит «от Москвы до самых до окраин». Он и движется, и пребывает. И везде он находится как бы одновременно.
В этом хронотопе доминирует пространство, оно является, так сказать, главным организующим принципом и главной действующей силой. Время подчиняется логике пространства и само становится дополнительным измерением пространства, «опространствливается». При этом, естественно, окончательно утрачивается его роковой ореол. Движение времени воспринимается исключительно в позитивном ключе. Сдвиг в эту сторону происходил и раньше. Вчитаемся в текст известной песни из раннего репертуара Изабеллы Юрьевой «Саша».
«Саша», (Муз. Б. Фомина, сл. П. Германа)
Да, здесь тоже говорится о чем-то хорошем, что прошло, здесь также обращаются к памяти. Но чувство утраты отсутствует, ибо нет незаполненной пустоты. «Сквозь поток людской всплывают в памяти порой…» некие приятные образы прошлого. «Как много в жизни ласки, как незаметно бегут года». Вместо нежного прощания с прошлым — ласковые волны настоящего. А будущее не сулит иного. Напротив, — «Жизнь кипит кругом. И нам ли думать о былом. Ведь не стареем, а молодеем мы с каждым днем». Прошлое не просто уходит, а вытесняется новым, чем-то лучшим, идущим из будущего.
В песне «Саша» это опространствливание не стало еще доминирующим принципом миросозерцания, как это предстает в классической советской песне. Здесь круг вещей и круг событий становятся по сути единым кругом, единым принципом гармонического сосуществования многого и разного.
При «опространствленном» взгляде на жизнь настоящее не уходит, но занимает отведенное ему место на «карте бытия». Ценности не привязываются ни к прошлому, ни к будущему. Они распределяются в пространстве, и если в песне ничего не говорится о «враждебных», «чуждых пространствах», то распределяются по умолчанию равномерно. Настоящее из точки на оси линейного времени превращается в пространственную бесконечность, вмещающую бесконечность вещей и явлений, существующих в одновременности. Точка, обнимающая бесконечность.
Это «пространство Бытия» выходит за пределы физического, геометрического (математического) или географического. Это пространство гармонически сосуществующего и взаимодействующего разнообразия. В частности, разнообразия профессий. Практически, все профессии находили свое отражение в песне. Находил в ней отражение и Человек, посвятивший себя той или иной профессии. Песня же становилась при этом лишь отчасти образом такого человека, будучи в значительной мере его проектом, его культурной программой. И в этом смысле — особым, весьма важным и характерным вариантом культурного образца.
Таким образом, опространствливание песенной картины мира не ограничивалось тем, что пространство становилось особо важным аспектом миросозерцания и на нем делался особый акцент. Гораздо важнее то, что само время приобретало признаки пространства особого рода. И не только время. Пространство становилось способом осмысления любого значимого разнообразия. Вспомним знаменитый образ фонтана «Дружба народов», на ВДНХ. Пространственная (круговая) структура этого фонтана как таковая предъявляет идею гармонического разнообразия — единства — национальных республик Советского Союза.
Мы уже упоминали о значимости типа «паровозной» песни. Заметим теперь, что описание быстрого движения поезда в пространстве сопровождается описанием того, что «пребывает» в этом пространстве, то есть сосуществует в одновременности, образуя нерасторжимое единство. Вот характерный пример такой песни. Тот факт, что она была написана уже после войны, не уменьшает ее выразительности в качестве образца песни данного типа.
«Дорожная», (Муз. И Дунаевского, сл. С. Васильева)
Змеится под колёсами стальное полотно,
Без устали, без устали смотрю, смотрю в окно.
Классическая советская песня являет собой удивительный образец гармонического соответствия всех элементов смысловой структуры — картины мира и лежащего в его основании хронотопа, иерархии ценностей, общего строя чувств. Заложенное в ней мироощущение опирается, с одной стороны, на исторические реалии эпохи, с другой стороны на принятый обществом и активно утверждаемый всеми средствами миф. Сложившаяся в довоенный период (в тридцатые годы двадцатого века), она еще долгое время продолжала оказывать влияние — когда явное и очевидное, когда скрытое, требующее для своего обнаружения специальных исследований — на песенное творчество последующих поколений. Можно без преувеличения утверждать, что в довоенный период сложилась особая парадигма, оказавшая влияние на всю последующую историю жанра.
Недвусмысленное акцентирование идеи пространства в картине мира позволил снять многие «проклятые вопросы», которые время ставит перед человеком. Но есть и иные, дополнительные способы «обезвреживания» времени. Например, такой, когда в центре внимания оказывается закономерная череда событий, обнаруживая соответствие происходящего порядку вещей. Есть известные выражения, отвечающие этой идее: «все идет своим чередом», «все возвращается на круги своя» и т. п. Нередко эта закономерная череда событий оформляется в виде замкнутого цикла, и тогда время замыкается, становится круговым, что опять-таки приближает его к пространству.
Один такой пример когда-то знали все, да и теперь знают многие:
«Песенка о стрелках». (Муз. И. Дунаевского, сл. В. Лебедева-Кумача)
Человек оказывается встроенным в надежный механизм наподобие часового, определяющий и гарантирующий правильный ход событий. И это — достаточная основа для оптимизма. В этом небольшом тексте указывается целых два таких временных круга — часовой и годовой. Но это лишь метафора, за которой угадывается нечто большее — универсальное устроение жизни человека, общества, страны, всего мира, наконец. Ведь историческое будущее научно предсказано и потому гарантированно. Наличие такого хронотопа не зависит от того, «о чем» песня. Вот пример песни о любви и о весне, в которой, тем не менее, выстраивается картина закономерного хода событий, нерушимого «объективного» порядка (порядка, заметим, благого), в который счастливым образом встроена человеческая жизнь.
«Все стало вокруг голубым и зеленым» Муз. Ю. Милютина, сл. Е. Долматовского)
Все стало вокруг голубым и зеленым,
В ручьях забурлила, запела вода,
Приход весны — проявление неизменного закона природы, живущей в ритме своего годового цикла. «Теперь от любви не уйти никуда» означает, что и человек, и его чувства подчиняется этому же ритму. И здесь вновь возникает идея единства — на этот раз единства человека и природы, а также единства внешнего и внутреннего пространств человеческого бытия.
«Хотелось бы мне отменить расставанья, но без расставаний ведь не было б встреч» — это тоже некий объективный закон жизни, дающий основание относиться к расставаниям спокойно и даже радостно, ибо за ними обязательно будут встречи. Примерно так тема расставаний трактуется во многих советских песнях. Вся человеческая жизнь подчиняется ритму какого-то большого доброго механизма. Этот механизм абсолютно разумен и абсолютно надежен, что позволяет жить с ощущением счастливой уверенности в будущем. Такова и вся атмосфера фильма «Сердца четырех».
Добавим к этому лишь то, что вышел он на экраны весной 1941 года…
Таков основной хронотоп советской классической (довоенной) песни. Эта, казалось бы, абстрактная вещь — пространственно-временная структура картины мира — оказывает существенное влияние не только на картину мира в целом, но и на систему ценностей, утверждаемую песней, а также на общую культуру чувств, ею выражаемую и транслируемую. Данный хронотоп как нельзя более соответствует ценностям гармонии и единства, согласия многих и разных, поддержки и взаимодействия. Например, идея «братства», столь важная в то время, и идеал коллективизма как нельзя лучше укладываются сюда. И этот хронотоп надежно защищает сознание людей от того, что так или иначе связано с образами отчуждения, одиночества, индивидуализма и т. п. Пространство классической советской песни едино, в нем нет и намека на какую-либо внутреннюю расколотость. Но есть граница между Здесь и Там, между Мы и Они, между Наши и Чужие. А Чужие — это Враги. Но Они пока далеко, по ту сторону границы.
Соответственно и культура чувства, в частности, культура экспрессии исполнительства, «работает» исключительно на созидание. В ней нет никаких «разрушительных», вносящих дисгармонию, элементов. Иными словами, она находилась в полном соответствии с базовым хронотопом и его смысловым ядром.
Расколотая реальность
В книге «Песня как социокультурное действие» песне военных лет было уделено определенное внимание. Но явно не достаточное. Какие-то весьма существенные моменты были упущены, какие-то гипотезы не сформулированы. Сейчас я предполагаю некоторые из этих изъянов восполнить.
Прежде, чем перейти непосредственно к теме настоящего очерка, еще раз вернемся к характеристике используемого подхода, каковой является не музыковедческим, не филологическим, не психологическим в привычном смысле этих понятий. Скорее, культурологическим. Состоит он в том, что мы песню берем не отдельно, не как самостоятельное художественное произведение, у которого мы анализируем язык, приемы… короче говоря, отношение формы и содержания. Мы берем песню как часть большого песенного множества, которое мы условно назвали «песенным кластером». У этого кластера существуют внутренние и внешние связи. Последнее — это, прежде всего, то, что мы назвали «песенным сообществом» — множество людей, которые с этой песней связаны и которые с помощью этой песни устанавливают какие-то свои отношения, налаживают связь друг с другом.
И здесь то для нас возникает третий элемент, который стоит за этим кластером и этим песенным сообществом — это определенная картина мира. В этой картине мира мы выделили в качестве предмета особого внимания «хронотоп», то есть, некоторую пространственно-временную структуру картины мира, которая как бы подразумевается песней. Как правило, она, находясь где-то за скобками, постоянно присутствует и характеризует не столько каждую отдельно взятую песню, сколько весь песенный кластер. При этом совершенно не обязательно, чтобы все песни этого песенного кластера в одинаковой мере эту составляющую содержания нам репрезентировали. Могут быть такие песни, которые берут на себя основную тяжесть, основную функцию в построении этого хронотопа. Другие песни могут в большей степени концентрироваться на системе ценностей или чем-то еще.
Хронотоп, как правило является важным элементом того содержания песни, которое не предъявляется в явном виде, но присутствует в нем на правах пресуппозиции, т. е. того, что, не будучи явной частью сообщения, предполагается как условие его адекватного понимания. Он остается в тени, но действует оттуда весьма эффективно. Как существенный элемент культурного текста хронотоп является культурным образцом, служащим построению соответствующей картины мира, образцом, «работающим» на выработку определенного типа миросозерцания. Изменившиеся исторические условия могут поменять «заказ» на те или иные свойства картины мира. Песня чутко реагирует на такого рода «заказы» и мы можем видеть это в том числе и на изменениях, происходящих с хронотопом.
Характеризуя советскую классическую песню, мы не обошлись без того, чтобы постараться выделить и описать наиболее характерный для нее хронотоп, рассматривая его как фундамент для построения целостной картины мира. Сделав это, мы просто обязана теперь поставить вопрос о том, что произошло с этим хронотопом, когда началась Великая Отечественная война, повлияло ли это грандиозное событие на песенную картину мира, и если да, то как? В книге «Песня как социокультурное действие» мы затронули проблему песни военных лет, но хронотопа специально не рассматривали. Теперь же восполним этот пробел. И начнем, что вполне естественно, с песни А. Александрова, на слова В. Лебедева-Кумача «Священная война», которая, фактически, открывает новый период развития советской песни — песню военных лет.
Она была написана и исполнена в самые первые дни войны. С первыми ее словами начинается процесс формирования новой картины мира и соответствующего ей нового песенного хронотопа. «Вставай, страна огромная» — здесь по-прежнему мощно действует интегрирующий взгляд на страну, охватывающий ее как единое целое. Но тут же появляется и существенно новое. Во-первых, страна берется не просто как целое, а как живое, одушевленное целое, к которому человек (хор) обращается с призывом — «вставай».
Это переносит всех участников песенного действа в мифологическое пространство. А сами слова приобретают значение, близкое молитве или заклинанию. Собственно, страна — это и территория, и народ. И в этом втором смысле слова песни выражают обращение народа к самому себе. (Заметим, что первое слово этой песни («вставай»), положенное на интонацию восходящей кварты как бы отсылает к другой широко известной в стране песне, начинающейся с того же слова и с той же интонации — «Интернационалу»).
Во-вторых, роковое событие кладет предел прежнему состоянию «предустановленной гармонии» и «неизбежного счастья». Время вновь становится стреловидным, но стрела времени теперь расколота.
В-третьих, «вставай на смертный бой» означает неопределенность будущего. Определить его должны сами люди, их воля, их способность быть субъектами исторического процесса. Это значит, что будущее перестает быть однозначно (объективно) предопределенным, оно «раскалывается» на альтернативные варианты. Какому варианту быть, решается здесь и сейчас.
Раскалывается не только время. Раскалывается мир, в котором теперь одновременно существуют и яростно борются две сферы:
Как два различных полюса,
Во всём враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они — за царство тьмы.
С войной пришла иная реальность, возникло иное мироощущение, сложился другой песенный хронотоп. И в нем образ расколотого пространства-времени занял прочное положение. Сравним слова двух известных песен.
«Темная ночь», (муз. Н. Богословского, сл. В. Агатова.)
«В землянке». (Муз. К. Листова, сл. А. Суркова)
Эти две разные песни формируют, по сути, один и тот же хронотоп. Пространство расколото на две сферы. Одна большая сфера — отчуждена. Там — смерть, ночь, холод, свист пуль…. Другая сфера — сфера жизни представлена двумя «островками» относительной безопасности. Один островок здесь, другой далеко-далеко, по ту сторону территории смерти. Эта внешняя топография дополняется внутренней, где силы души — любовь, верность, вера, умение ждать — соединяют два далеких островка в одну территорию жизни, иррациональным образом спасая ее от вполне материальных угроз.
Есть песни военных лет, где нечто подобное происходит с временем. Внутри «большого» времени, заполненного войной, возникают маленькие островки тишины, покоя, радости… Соловьи (Музыка В. Соловьёва-Седва, сл.: А. Фатьянова), «Вечер на рейде» (муз. В. Соловьева-Седова, сл. А. Чуркина, 1942 г.), «На солнечной поляночке» (муз. В. Соловьева-Седова, сл. А. Фатьянова, 1943 г.), «В лесу прифронтовом» (муз. М. Блантера сл. М. Исаковского, 1942 г.), «Случайный вальс» (муз. М. Фрадкина, сл. Е. Долматовского, 1943 г.).
Песни, написанные после окончания войны, обнаруживают, прежде всего, направленность на восстановление прежней целостности мира, на преодоление той «расколотости» бытия, которую принесла война. Восстановление целостности часто происходит с помощью движения в пространстве. Это движение имеет, помимо прочего, символическое значение акта восстановления прежнего, утраченного во время войны состояния. Сравним две песни, где это движение происходит в диаметрально противоположных направлениях, но его символический смысл, тем не менее, остается единым
«Дорога на Берлин», (Муз. М. Фрадкина, сл.. Е. Долматовского).
«Ехал я из Берлина», (Муз. И. Дунаевского, сл. Л. Ошанина).
Эти песни являются прямым ответом на расколотость хронотопа военных песен, актом возвращения того, что было отчуждено и воссоединения того, что было разделено. К ним относятся и такие, как «Вернулся я на родину» (муз. М. Фрадкина, сл. М. Матусовского, 1946,), «Где же вы теперь, друзья-однополчане» (муз. В. Соловьев-Седой, сл. А. Фатьянов, 1947 г.). Последняя интересно еще и тем, что она соединяет ценности мирной жизни с ценностями военного времени (однополчане, воинское братство).
Послевоенное восстановление страны означало и восстановление мироощущения, восстановление хронотопа. Потому-то и стали вновь появляться песни «обнимающие» просторы Родины, где она предстает как огромное могучее целое. Сюда относятся и уже названные выше «паровозные» песни И. Дунаевского: «Пути-дороги» на слова С. Алымова (1946 г), «Дорожная» на слова С. Васильева (1949 г), «Московские огни» на слова М. Матусовского (1950 г.), «Утренняя песня» (из кинофильма «Веселые звезды») на слова М. Матусовского, «В Москву» на слова В. Лебедева-Кумача, «Пишите нам, подруги» на слова М. Матусовского (1954 г.). Как мы понимаем, не только мчащийся поезд создает необходимый собирающий жест. Это может быть движение по воде: «Домой, домой! Над бухтой чайка вьется, опять волна вскипает за кормой» («Домой, домой» (муз. И. Дунаевского, сл. М. Матусовского, 1954 г.). Это, конечно же, может быть полет:
«Летите голуби». (Муз. И. Дунаевского, сл. М. Матусовского)
Здесь не только полностью восстанавливается гармоническая целостность хронотопа советской классической песни, но появляется и нечто новое. Пространство мира и света не ограничивается уже просторами страны, а стремится за ее пределы, обретает глобальность. Так что было бы неверным сводить все важнейшие процессы, происходящие с песней (и ее хронотопом) в послевоенные годы лишь к восстановлению довоенного мироощущения. О полном и буквальном восстановлении речи быть не может, ибо опыт войны имел огромное значение, исчезнуть бесследно он не мог. После войны происходило и восстановление разрушенного войной песенного мира, и зарождение совершенно новых процессов. Но это уже совсем другая история.
* * * * *
До сих пор мы рассматривали связь хронотопа прежде всего со словами песни. Теперь попробуем обратить более пристальное внимание на музыкальную ее составляющую, хотя и словесный текст не будем упускать из виду.
Музыка песни, сколь бы простой она ни казалась, в исследовательском плане является предметом весьма сложным. Попробуем хотя бы кратко эту сложность охарактеризовать.
Для начала договоримся, что музыка — и мы не должны от нее этого ожидать — не призвана дублировать смысл слов. Она может дополнять, оттенять, поддерживать, открывать какие-то неожиданные грани… В конце концов, она может выступать в оппозиции к смыслу слов. Как бы выступать неким анти-тезисом. И создавать на этой основе что-то качественный новое.
Кроме этой смыслообразующей функции у музыки есть и другая функция, не менее важная. Я бы ее назвал так: обеспечение процесса передачи и присвоения смысла. То есть, текст (хотя и не только он) передает смысл, а музыка создает ряд условий, при которых этот смысл полнее усваивается. Во-первых, происходит энергетизация слова и расстановка эмоциональных акцентов. Второй очень важный момент — это структурирование текста. Дело в том, что у музыки тоже есть своего рода синтаксис — музыкальный. Музыкальная линия по-своему членит тот отрезок времени, на котором живет песня. Но членит его не так как словесный текст, а по несколько иным принципам. Здесь и деление на части и иные отношения — субординация, координация и пр. Иногда результаты членения (словесного и музыкального) совпадают, а иногда не совпадают. Возникает некий аналог «второй грамматики». Текст попадает в эту музыкально-грамматическую среду, которая расставляет иные акценты, порождая второй смысл.
Теперь еще один очень важный момент. Музыка выступает чем-то вроде «фермента», то есть «катализатора», который усиливает, ускоряет процесс взаимодействия слова (смысла текста) и человека. Как можно усилить химическую реакцию? Можно подогреть раствор, тогда она будет быстрее идти. А можно добавить катализатор, она тоже будет быстрее идти. Подогревание, мне кажется, можно сравнить с тем, что песня, как правило, живет в человеческом сообществе. Способ песенного действия и служит этим «подогревом». Когда я в одиночестве слушаю песню, все-таки она не так глубоко и полно мною осваивается, как если бы я слушал ее в определенной группе людей… А тем более, если мы ее вместе поем.
А фермент, катализатор — это сама музыка. Есть целый ряд авторов, на чье мнение я сошлюсь в связи с этим. Это, во-первых, Выготский «Психология искусства», который в свою очередь ссылается на Льва Николаевича Толстого. На его рассуждения по поводу «Крейцеровой сонаты», где он пишет, что музыка — «великая и страшная сила», ибо она не к чему-то зовет конкретному… Она может быть и не к чему и не зовет, но она высвобождает те скрытые в подсознании энергии, которые до того момента дремлют. А музыка их выпускает наружу и они начинают действовать в нас». И в этом, собственно, состоит функция катализатора.
А если говорить о смысле, который передает музыка, то я бы здесь выделил три основных аспекта. Схематически, а значит упрощенно. Это, во-первых, миметический (от греческого слова «мимесис» — подражание). Музыка, как и все другие виды искусства, чему-то и как-то подражает, хотя это быть может и не столь очевидно, как в иных случаях. Объекты подражания — это звуки природы (живой и мертвой), это физическое движение, это интонации человеческой речи, это человеческий жест, это, собственно говоря, и некоторая внутренняя динамика души, движение эмоций и так далее. Это то, что музыка может как бы моделировать, воспроизводить, рисовать… И мы это воспринимаем осознанно или неосознанно, каким-то образом вступаем в резонанс и тоже начинаем переживать те процессы, образы которых музыка нам несет.
Второй момент — знаковый. Его в каком-то смысле проще отслеживать. Это — наделение интонации каким-то дополнительным ассоциативным смыслом, который не связан с самой интонацией каким-либо существенным подобием. Например, так называемые жанровые признаки. Если мы слышим звуки колыбельной, то это для нас помимо прочего знак некоторых ситуаций, где колыбельная может звучать. (Хотя, с другой стороны, есть основания говорить о том, что темпо-ритм и мелодический рисунок колыбельной подражают усыпляющим интонациям убаюкивания и ритмичным движениям укачивания). А если мы, например, в опере «Иван Сусанин» слышим мазурку, то также понимаем, про что речь. В данном случае это работает как знак. Есть много случаев, когда композитор специально пользуется такого рода знаками. Например, в увертюре П. И. Чайковского «1812 год» звучит и «Марсельеза» и «Боже, царя храни» и ряд других известных мотивов, которые в контексте сразу выстраивают определенную смысловую систему.
На основе этих двух аспектов вырастает естественным образом третий аспект — символический, который складывается постепенно. Происходит медленный отбор интонаций, обладающих каким-то естественным семантическим фоном и закрепление за ними уже более конкретного (знакового) смысла. Здесь таким образом соединяются и элемент подобия, и элемент условности, конвенциональности. Здесь возникает и некий рациональный момент (потому что композиторы могут этим сознательно пользоваться, а слушатели, которые в теме, это очень хорошо улавливают, понимают…) и, вместе с тем, момент иррациональный, эмоциональный, бессознательный.
Борис Асафьев, который в свое время ввел в оборот понятие «интонационный словарь эпохи», исходил из того, что музыка — это искусство интонируемого смысла, что главными элементами, несущими для нас этот смысл, являются интонации. Интонацию, вообще говоря, он строго не определил. У нас, в частности, нет четкого алгоритма, как эти интонации вычленять, поэтому интонацией можно считать все, что угодно — и ритмический рисунок, и гармоническую последовательность, и мелодический оборот… Асафьев здесь не оставил даже намека на формализацию. Но он запустил слово. Очень искусительное такое слово — «словарь». И нам, конечно, хочется заполучить этот самый словарь. Ведь, если есть словарь эпохи, то давайте этот словарь составим. Однако сделать это бесконечно сложно.
У него был не менее великий, хотя и менее известный для широкого круга людей единомышленник — Болеслав Леопольдович Яворский. И вот он-то как раз известен, помимо прочего, попыткой сконструировать этот самый интонационный словарь. Он обращался к музыке Баха и, прежде всего к такому его сочинению, как «Хорошо темперированный клавир» и доказывал на основе своих исследований, что это не просто программное произведение, а настоящая «энциклопедия смыслов», в том числе и нравственных смыслов той эпохи и того круга людей, среди которых жил Бах. Здесь Яворский действительно мог опираться на такой интересный сюжет, который связывает с эпохой Баха и последующей эпохой времена гораздо более ранние, восходящие к так называемому грегорианскому хоралу и еще раньше.
Кратко этот процесс можно описать так. Католическая церковь совершает регулярные богослужения и для этого использует какую-то музыку, которая ограничена определенными стилистическими рамками. Это должна быть одноголосная мелодия, без лишних скачков, без каких-то ритмических сложностей… Такая музыкальная аскетика. Церковные музыканты этот словарь черпали прежде всего из фольклора. Какого фольклора? Европейского? Такого общеевропейского фольклора не существует. Есть итальянский, есть французский, Есть немецкий… А по сути, действуют местные границы, локальная привязка фольклорной традиции еще более узкая. Но существовал, наверно, какой-то фильтр, который позволял из этого разнообразия впитывать только те интонации, которые «подходили». То был, так сказать, фильтр номер один.
Был и фильтр номер два. В шестом веке папа Григорий великий предпринял определенные усилия по организации всего этого множества. Были собраны и канонизированы те интонации, те попевки, те музыкальные элементы, которые естественным образом откристаллизовывались. То есть они уже и раньше стихийно отбирались, а здесь они отфильтровывались и откристаллизовывались, так сказать, по второму разу. И возник так называемый григорианский хорал. Это была долгая традиция, действовавшая по всей Европе. Одни и те же интонации постепенно закреплялись примерно за одним и тем же кругом смыслов. Этот круг смыслов постепенно становился все уже, все конкретнее, достигая почти знакового уровня определенности.
На этой основе в свое время выработался протестантский хорал. Протестантский хорал был той естественной средой, где «варилось» творчество Баха. В данной культуре этот «интонационный словарь» был в действительности очень близок тому, что мы вкладываем в это понятие. Те люди, которые это исполняли и те, которые слушали, очень хорошо понимали смысл определенных интонаций. Они, можно сказать, знали «про что» это. Даже, если это и недостаточно выразительно исполнялось, люди знали данный ход и понимали его значение. Это был действующий словарь, что особенно важно. Для Баха это был тоже действующий словарь и он его реально использовал. Не только в кантатах, не только в страстях, но и в инструментальной музыке.
Другое дело, что этот словарь начал постепенно изменяться. Прежде всего, музыка Баха долгое время была в забвении. Ее заново открыл для Европы и для всего мира Мендельсон. Это был 19 век, эпоха романтизма. Надо понимать, что в музыке Баха в эту эпоху и публику, и музыкантов привлекало нечто иное. И когда ее слушали, интересовались не столько этими конкретными смыслами, сколько музыкальной красотой, общим эмоциональным строем, музыкальной логикой и т. д. Тем, что восхищало, поражало воображение, на чем можно было строить музыкальный язык и двинуть его развитие дальше…
Можно ли сказать, что символы эти были забыты? Забыты в каком смысле? В том смысле, что соответствующие формы стали мертвыми? Забытые — значит ли мертвые? Или человеческая культура в чем-то подобна человеческой психике, где есть память оперативная, а есть и долговременная? И есть нечто, что для нас не актуально, непонятно, о чем мы можем и не подозревать, но в некоторый момент оно вдруг просыпается?
Обращаясь к этой теме, мы наталкиваемся на множество сложных вопросов. Какое это может иметь отношение к современному исполнительскому искусству? Как это относится к современному слушательскому процессу? И относится ли вообще как-нибудь? Работают ли эти символы? Ведь и простой человек и профессионал могут этим просто не интересоваться. А вот современная песня — она каким-то образом соотносится с этими вещами? С этим словарем? Сказать, что никак не соотносится потому что, во-первых, это было давно, и во-вторых, что это было далеко от России тоже не верно. Есть здесь общая подоснова — фольклор, у которого есть универсальные корни.
И как с этим может соотноситься современное композиторское творчество?
Против исследования на эту тему сразу возникают предварительные возражения. Ведь для того, чтобы такой словарь сложился, нужны условия. В частности, длительное эволюционное развитие. В России же с этим были проблемы. И нужен, конечно, некий ограниченный тематический круг, ограниченный интонационный состав, чтобы все сложилась, высокая степень канонизации и постоянная включенность в ритуальную или бытовую практику… И все же имеются факты, на которые стоит обратить внимание.
Давайте мысленно перенесемся в наше отечественное «бардовское» движение. В нем были представители разных профессий, в том числе и музыковеды. Один такой профессиональный музыковед — Владимир Фрумкин, написавший статью, которую представители движения хорошо знают. Статья называется «Откуда прилетел голубой шарик?». Речь идет о песне Булата Окуджавы «Девочка плачет — шарик улетел». Автор стоит на принципиальных позициях: авторская песня кажется простой, а на самом деле это сложный объект, вполне достойный профессионального музыковедческого интереса. И вот он со своим музыковедческим, скрупулезным подходом решил поработать с данной песней.
Первое, что он обнаружил, это то, что внутри данной песни «запрятан» мотив, который впрямую относится к тому самому интонационному словарю, которым занимался Яворский. Правда, это мотив особого рода. Он неоднократно использовался в творчестве многих композиторов — Моцарта, Верди, Рахманинова, Листа, Берлиоза и других. Это так называемый «Dies irae» («День гнева»): «Этот день превратит века в пепел».
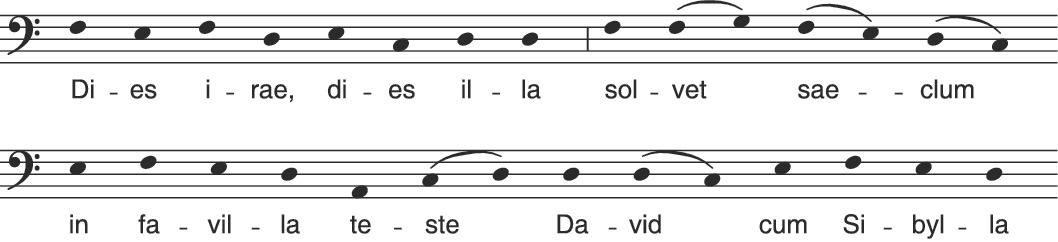
По сути, именно первые восемь нот данного примера являются тем самым прочно вошедшим в культуру и почти всегда узнаваемым музыкальным символом. Собственно, этот мотив и имеет в виду Фрумкин.
Заметим, что к нашему более общему разговору о хронотопе это также имеет прямое отношение; ведь представление о конце света также включает в себя определенный хронотоп. Это — особая картина мира, где пространство и время занимают очень важное место.
Вот как об этом пишет автор статьи:
«Мелодия песни необычно сдержана и лаконична. Вырастает она из краткого, плавно восходящего мотива, который трижды повторяется, но каждый раз — на ступеньку ниже. Этот восходящий мотив из двух звуков и его нисходящие повторения отчетливо слышны, если сосредоточиться на главных, опорных звуках мелодии. ..
Для читателя-немузыканта: опорными становятся те звуки мелодии, которые попадают на сильные доли такта. Они слышнее, весомее других и поэтому образуют основу мелодии, ее каркас. Линия опорных звуков этой песни впечатляет четкостью структуры и упрямой логикой движения — плавными уступами, неуклонно — все ниже и ниже. Интересно и другое: в этом виде мелодия «Голубого шарика» обнаруживает явное родство с одним из мотивов, сложившихся в музыке XVI–XVIII веков, в эпоху барокко, породившей таких гигантов, как Бах, Гендель, Пёрселл, Вивальди. Вспомним один из инструментальных шедевров Генделя — «Пассакалию» из Седьмой сюиты для клавесина. Она написана в форме темы с вариациями. Опорные звуки темы — абсолютно те же, что и в «Песенке о голубом шарике»!
Простая последовательность звуков представляет собой важнейший культурный символ. Фрумкин убежден, что этот мотив, примененный здесь Окуджавой, быть может и несознательно, тем не менее работает. Он создает дополнительный, теневой смысл, который мы не сознаем. Но этот теневой смысл как бы комментирует смысл, передаваемый словесным текстом. В свою очередь, словесный текст комментирует смысл, данного теневого музыкального символа. Символ комментирует текст песни, а текст песни комментирует символ. В этой статье Фрумкина есть две идеи, имеющие для нас особое значение. Первая идея состоит в том, что кажущаяся простой песня является на самом деле весьма сложно организованной смысловой системой. И потому представляет большой интерес для научного исследования. И второе — практика показывает, что какими-то ветрами эти элементы достаточно древнего интонационного словаря все-таки сюда проникают.
И обнаруживается это не только на примере песни «Девочка плачет». Возьмем известную песню «Дороги» (муз. А. Новикова, сл. Л. Ошанина).
При внимательном рассмотрении легко обнаруживаем «следы» «Dies irae».

На верхней строчке у нас расположена мелодия песни, а на нижней — опорные звуки. В качестве таковых взяты те, что приходятся на сильную долю такта. С одним лишь исключением — в пятом такте мы выделили звук фа, который, хотя и не приходится на сильную долю, зато повторяется дважды, что, согласитесь, также является средством подчеркивания.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.