
Я был счастлив
(Автобиографические повести)
От автора
Этой книгой я открываю серию «Автобиографические повести» в трёх томах. Первый том в трёх книгах. Первая о детстве, отрочестве и юности. Вторая об учёбе в Омском общевойсковом военном училище. Третья — беседа с тобой, потомок.
Второй том о детстве и юности жены Светланы и о нашей службе в военных округах.
В третьем томе продолжаю рассказ о моей семье после увольнения из Вооружённых Сил СССР.
На восходе лет
(Том 1)
Книга 1. Три мира
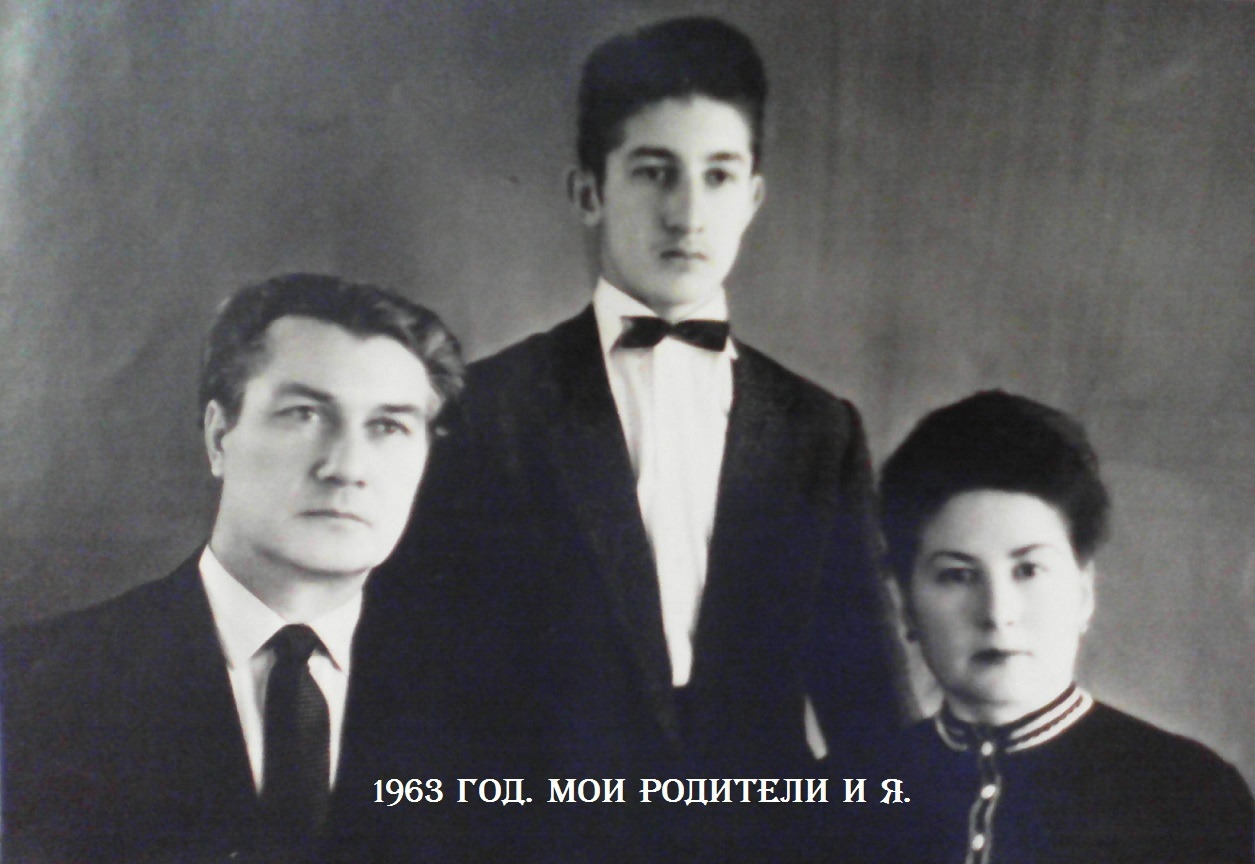
Однажды рождённое не умирает, оно совершенствуется с перерождением. Автор
От автора
«На восходе лет» — трилогия, созданная из книг «Три мира», «Курсанты», «Письма потомкам».
«Три мира» — первая книга литературно художественного произведения создана из воспоминаний о моей жизни в трёх мирах — детстве, отрочестве, юности. Каждая глава этой книги начинается с рассказа о каком-либо случае имевшем место в моей жизни или явлении, виденном и пережитом мною. Есть немного фэнтези, но оно перекликается с реальностью, бывшей в моём прошлом. Особое место в книге я уделил окраинам Барнаула и реке Обь середины 20 века. Рассказал о жизни детей и подростков послевоенного периода, о тяжёлой жизни их матерей (отцов почти у всех моих товарищей не было), в период карточной продуктовой системы с нищенской зарплатой и постоянной нуждой в самых необходимых для жизни вещах и продуктах питания. Показал суровую действительность жизни моих сверстников в холодных и мизерных (6—8кв/м) комнатушках деревянных бараков, ту реальность, которая была явью и обыденностью для большинства россиян послевоенных лет.
«Курсанты» — вторая книга трилогии написана на основе моих воспоминаний о службе и учёбе в Омском высшем общевойсковом командном дважды краснознамённом училище имени М. В. Фрунзе. Отдельные факты и случаи я усилил вымышленными диалогами, но сами эпизоды из моей курсантской жизни не фэнтези, ирреальны лишь фамилии.
«Письма потомкам» — третья книга автобиографической повести. В ней я рассуждаю о сущности жизни и предоставляю потомку возможность мыслить вместе со мной.
Трилогия плод моих раздумий и воспоминаний, в ней изложены лично мои субъективные взгляды на жизнь, без нравоучений и наставлений, поэтому прошу принять её так, как есть.
В фэнтези «Спираль Эолла» я писал:
«Во мне живут две сущности. Первая, тот, кем я осознаю себя сейчас, — человек! Вторая, — память всех разумных существ живших когда-либо на Земле, включая моих кровных предков от праматери до моего отца, — частица Высшего Разума. Человек ли та вторая сущность или была им когда-то? Большая часть её никогда не была человеком, ибо, как понятно из сказанного выше, в неё входит весь разум некогда живших на Земле разумных существ, а мы — люди лишь мизерная частица общего земного разума. Ту сущность — частицу Высшего Разума я назвал Они». Эти строки фэнтези, и эта мысль вымысел! Они — вымысел! Прошу обратить на это внимание! Они — вымысел! Они — мои мысли! Разговаривая с Ними, я как бы выворачиваю себя наизнанку и выношу из себя, не таясь, мои мысли, которые порой хотелось бы забыть или утаить даже от самого себя, а это, поверь, потомок, нелегко.
У тебя возник вопрос: «Зачем я ввёл Их в эту книгу и почему обращаюсь к этим новым Они? Разве без Них нельзя?» Представляешь, ну, вот никак нельзя! Как же я могу без мыслей мыслить? Мыслить без мыслей. Парадокс, не правда ли? Это первое. Второе. Так мне легче говорить с тобой, потомок, донести до тебя мои чувства и переживания, но главное понять самого себя. Третье, как уже сказал выше, вынуть из себя тайное, которое хотел бы скрыть. Так что, уважаемый, в части Они можешь быть спокоен, мои шарики не закатились за ролики, я вполне нормальный, разумный человек, но со своим личностным пониманием бытия. Прошу понять именно это, личностным. Не буду заострять твоё внимание на этом, ибо это и так понятно, но обращаю внимание на то, что эта книга не только этапы моей жизни, но и единство и борьба моих мыслей.
Единство и борьба моих мыслей это мой внутренний мир. Это анализ воспринимаемой мною реальности — событий, фактов, действий окружающего меня мира и принятие решения на основе полученных знаний. Это осознание себя как личности.
Теперь пора определиться с вопросом: «Кто я?» в узкой направленности, т.е. касательно моей нынешней деятельности.
Родственники и товарищи по военному училищу с момента издания моих книг стали называть писателем, но я о себе сужу иначе. В их понятии, правильном с современной точки зрения, я действительно писатель, так как являюсь автором художественной литературы. Я же приму себя писателем лишь тогда, когда буду признан либо писательским сообществом, либо литературными критиками или издательствами.
И последнее. Читая эту книгу ты, потомок, естественно, будешь в чём-то сомневаться, где-то противоречить мне, но прошу понять главное, автор я, следовательно, моя точка зрения по тому или иному вопросу, к событию, отношению к героям, изображённым в моём творении, является главным критерием при оценке произведения, выявлении его идейно-смысловой стороны.
С восходом солнца туман рассеивается — т.е. с каждым днём, совершенствуясь, человек ближе к истине, к пониманию своего существования, к пониманию, зачем дана ему жизнь и разум. В данном случае я отношу это к себе.
Кратко о написании книги
Идея написания книги возникла спонтанно и так, как будто действительно кто-то вложил её в меня. Синопсис и содержание книги были сформированы быстро, предисловие написано в течение часа и на этом тупик. В голове рой сюжетов и мыслей, но нет ясности, т.е. с чего начать первые строки первой главы. Так продолжалось в течение нескольких дней, и я хотел было совсем забыть о книге, но вдруг неожиданно кто-то образно показал всё её движение, от первой до последней буквы.
Не откладывая на потом изложение проявлений в моём сознании, я включил компьютер, и строки стройными рядами стали формироваться в моей голове и ложится в файл. В течение месяца я был полностью поглощён книгой, утром она, днём она и даже во сне она. Перед тем, как лечь спать придвигал журнальный столик к кровати, аккуратно укладывал на нём стопку чистых листов бумаги и рядом клал два карандаша. Так продолжалось ежедневно и как написано выше в течение месяца. От такого физического и морального напряжения сил можно было сойти с ума, но тот, кто водил моей рукой по листам бумаги (написано выше, кто именно — сознание), в один из дней работы над книгой полностью закрыл её от меня. В голове не шевелилось ни единой мысли, полнейший застой. Так продолжалось неделю или дней десять, сейчас точно не могу вспомнить, могу лишь сказать с долей вероятности, что отдых моей голове устроили Они (мой разум), чтобы в ней не закатились «шарики за ролики». Такие многодневные перерывы в написании книги происходили как по расписанию, иногда бездействие длилось месяц и более. Затем сознание вновь водило моей рукой по клавиатуре компьютера. Первоначальный вариант книги был закончен 14 декабря 2005 года. Я облегчённо вздохнул, побездельничал неделю и решил перечитать книгу. Прочитал. Написано отвратительно. Решил отредактировать и редактировал до 9 сентября 2006 г. В октябре 2006 года я с женой покинул город Барнаул и на пять лет переселился в город Яровое. Прибыв в Яровое, вновь перечитал книгу, посмотрел на себя со стороны и сказал: «Не можешь, не берись».
Период жизни в Яровом был полностью застойный, как и следующие семь лет после возвращения в Барнаул. В эти застойные неполные двенадцать лет я очень редко возвращался к книге, отрывал её, писал несколько страниц и закрывал. Не скажу, что полностью забросил литературную деятельность. Нет, этого не было. Писал, фантастику, фэнтези, книгу по танатотерапии, размышлял на философские темы. Написал книгу по веб программированию, баннеростроению, несколько заметок по римской истории. Написал несколько рассказов и стихотворений. С большим напряжением моральных и духовных сил заставлял себя не бросать литературную деятельность. В тот период я формировался как писатель, учился писать.
В конце января 2017 года я как обычно сидел за компьютером и, перелистывая страницы сайтов, просматривал новую информацию. Ничто не отвлекало от чтения. Неожиданно кто-то повёл моей головой, строки поплыли, я закрыл глаза и тряхнул головой.
— Пора браться за книгу, — шепнули Они, и я осознал, что безвозвратно потерял несколько лет жизни. Осознал, что мог полностью погубить весь мой труд, и погубить себя, как писателя.
Открыл эту книгу, прочитал, осмыслил и пришёл к выводу, написано неплохо, но требует доработки. Так строка за строкой книга вновь открылась мне. Открывшись, заставила дополнить новыми фактами, событиями и явлениями, когда-то бывшими в моей жизни, когда-то пережитыми мной, в которых жил, казалось бы, не я, а кто-то далёкий, ушедший в небытие.
Труд тяжёлый и работа предстоит длительная, но…
Писать Буду Пока Буду Жив — ПБПБЖ.
Часть первая. Детство

Свой взгляд на мир не имеют только не рождённые! Автор.
Глава 1. Рождение. Первые шаги
В рождении моём моей заслуги нет!
То есть Природы дар!
Его я должен оправдать!
И ей сполна себя отдать!
Я совершенствовать себя обязан, пока живу!
И не внести меня в забвенье никому!
Векам не вычеркнуть моё рожденье!
Бессильны сжечь они мои творенья!
Я жил, творил! Живу и не умру!
Всё познанное мной в себе храню!
Всё созданное мной Природе я дарю!
Автор.
Предисловие
— Каким был мой предок? Что его интересовало? Чем он жил? О чём думал и мечтал? — возможно, думаешь ты, мой потомок если взял в руки эту книгу. Ответ один. Я и сам не знаю. Единственное, чем могу помочь, это рассказать о себе, а ты сам делай вывод. Но прежде говорю:
Не мучай себя мыслями о содеянном относительно человека ушедшего в иной мир. Не кори за своё неуважительное отношение к нему, пока он был жив. Не кори себя в том, что мог сделать, но не сделал для него. Мёртвому это уже не нужно, не нужны ему твои сожаления, а для тебя это уже в прошлом, ушедшее не возвратишь, созданное не исправишь, содеянное не обелишь слезами. Мёртвому — мёртвое, живому — живое! Главное, не отрекайся и не отрывайся от своих корней, помни, кому ты обязан своей жизнью и чти память о них. В старые времена офицер говорил: «Честь имею!» Это значило, что он клянётся своей честью, что никогда и никому не расскажет то, что слышал, то, что поведали ему под честное слово. Офицер, не сдержавший слово чести, изгонялся из офицерского общества, увольнялся из армии и вызывался на дуэль. Особенно это касалось тех офицеров, кто пренебрежительно относился к девушкам и женщинам, кто обманывал их и прелюбодействовал с жёнами своих товарищей по оружию. Эти офицеры, в конце концов, если у них ещё оставалась крупица чести, пускали себе пулю в лоб. Не доводи себя до этого!
Помни, честь превыше всего. Не предавай! Не лги! Не сплетничай! Уважая человека, вызываешь уважение к себе!
Сегодня 3 февраля 2017 года. В 21 час 30 минут возвратился к написанию этой автобиографической повести. Удивительно, именно в этот день, — 12 лет назад, начал писать эту книгу и вот продолжение. Долго же я собирался, но, как говорится, лиха беда — начало, приступил вновь, значит, в этом году напишу её, это уже решено и окончательно! В 2005 году я кое-что уже написал, сейчас буду просматривать, исправлять, дополнять и всё будет ОК. Понимаю, написано мало, крупица того, что прожито за 68 лет, но главное начало, остальное приложится.
Планирую написать два тома.
Первый — «На восходе лет» будет состоять из трёх книг. Первая книга «Три мира» — детство, отрочество, юность. Вторая книга «Курсанты» — служба и учёба в Омском высшем общевойсковом командном Дважды Краснознамённом училище имени Михаила Васильевича Фрунзе. Третья книга «Письма потомкам» — воспоминания о пройденной жизни и наставления будущим поколениям с высоты моих лет.
Второй — «В зените лет» тоже трилогия. Точного названия этим 3-м книгам пока нет, но они о детстве, отрочестве и юности мой жены — Свете, о нашей жизни после окончания мною училища и о пройденных вместе годах жизни.
Понимаю, работа предстоит тяжёлая, т.к. я не великий писатель и слог мой будет кривой, кроме того, не смогу писать в хронологическом порядке, ибо в период работы буду что-то пропускать, затем, вспоминая, возвращаться к прошедшему, а иногда даже забегать вперёд. А вы, потомки мои, уж как-нибудь соберите всё по времени действий самостоятельно, хотя постараюсь не обременять вас. И ещё, доступ к пониманию времени изложения материала буду указывать датой в начале каждой главы, той, когда открыл её первую страницу, т.е. с 2005 года, а не с 2017, когда возвратился к этой книге.
Вот сейчас сижу за ноутбуком и стучу пальцами по клавиатуре, а в голове совсем другие мысли. Стучу и думаю. Сейчас я здесь и жив. Надо мной потолок, на нём люстра с горящей лампочкой. Вечер. За окном меркнет дневной свет, по небу плывут тёмные облака. Во дворе растут деревья до восьмого этажа и на асфальте ряды разнообразных легковых автомобилей, в основном японских автозаводов. Моей старшей дочери Наталии сейчас сорок лет, Оксане тридцать шесть. Внучкам Лене и Кристине двадцать и двенадцать соответственно, внукам Денису и Артёму по семь лет. А о далёких потомках я вообще не имею понятия. Кто они и кем станут, сие мне не будет ведомо никогда, но они будут, значит, прочитают эту повесть моих временных жизненных лет. Значит, я снова проживу мою жизнь, пусть даже в их сознании. От осознания этого мне становится легче писать, дышать, значит, жить.
Никто из нас не знает, что будет впереди. Никто не знает, кто и кем будут его потомки. Тем более об этом не думают молодые. У молодых и мысли молоды. Кого-то мысли уносят в заоблачные дали, где нет ничего кроме таинственной бесконечности, кто-то мечтает о материальном, которое, казалось бы, легко получить, надо лишь протянуть руку, а кто-то не в астрале и не в мечтах. Порой приходится слышать, плыви по течению, довольствуйся тем, что есть. Я с этим не согласен. В моей юности была очень популярна песня: «Мечтать, надо мечтать, детям орлиного племени». Я с этим согласен, но, лишь в лирическом смысле этих слов. Зарывшись в мечты можно потерять реальность. Мыслить, да, но только не мечтать! В мыслях рождаются идеи, а не в мечтах. Мысли можно претворить в жизнь, а, лёжа на диване, достичь желаемого результата невозможно. Надо трудиться и не отрываться от реальности. Мой итог сказанному таков; чтобы не было стыдно перед потомками нужно жить не мечтами, а постоянным трудом над собой.
Вступление. Мои мысли.
После январских морозных дней, когда вновь открыл эту книгу, прошла неделя. Сегодня третье февраля 2005 года, четверг, благо не понедельник, когда, как говорят, всё валится из рук. У меня ничего не валится ни в воскресенье, ни в понедельник, ни в какой-либо другой день, единственная сложность в том, что с трудом заставляю себя садиться за компьютер. Устал от него, но приходится мириться, строчить буковки на клавиатуре не то чтобы легче, чем шариковой ручкой на бумаге, привычнее и слова чёткие, не надо их потом переводить. Помню, когда компьютера не было, писал на бумаге, буквы получались кривые (когда стараюсь, буквы получаются как каллиграфические), потом сидел и вспоминал, что написал (попробуй разберись в каракулях), а всё от того, что когда писал на бумаге, торопился, чтобы не потерять мысль, вот и получаются иероглифы, а не буквы и слова. Сейчас нет смысла писать на бумаге и не только смысла, а и необходимости, так как книги в редакции приходится отправлять в электронном виде, а не стопкой бумаг по почте как в докомпьютерные годы.
Хочу — не хочу, желаю — не желаю, но заставляю открывать Word каждый день, и это благодаря Дюма-старшему, давшему напутствие своему сыну: «Сын, пиши ежедневно, хотя бы одну страницу в день».
Спасибо, Александр, твои слова воспринимаю и на себя! Но вот беда, порой не знаю о чём писать. Не точно выразил свою мысль. Писать знаю о чём, но не знаю, с чего начать. Уткну застывший взгляд на монитор, на красивые буковки написанные вчера и полный застой в голове.
Вот и сейчас, обычная история. Сижу, смотрю на небо сквозь окно, как будто жду чего-то, как будто там, высоко в небесах должны сами по себе плавно струиться строки. Не струятся и не заструятся, в голове они должны рождаться, а не на небосводе.
А за окном зима поёт. Не ворчит и не клокочет, поёт! Пучки солнечных лучей, пробиваясь сквозь голые ветви деревьев, орошают своим сиянием белые сопки сугробов. Тихо, для тех, кто глух, а я слышу звонкие звуки, это солнечные блики, играя на снежном полотне, поют гимн природе, и на сердце становится легко. Мне хочется петь, и я пою, пою внутренним голосом, и моя песня, перекликаясь с песней зимы, поднимает меня над всем будничным, я мысленно воспаряю, и божья благодать разливается в душе. В небесной дали я сливаюсь с солнцем и мысли, о, чудо! беспрерывными строками потекли в сознании моём!
Они пришли!
Не сон ли всё это? Действительно ли Их мысли — мои мысли? Вывод напрашивался один. Да! Я мыслю, значит, это мои мысли, а не чудиков, которых изобрёл в фэнтези.
Они как бурный весенний поток ворвались в меня и стали ложиться в вордовский файл.
Я вспоминал.
В старой части города — на краю обрыва полого спускающегося к рукотворной заводи Оби, там, где и поныне стоит и работает элеватор, зимой после школьных занятий собиралась галдящая ребятня. Цель нашествия ребятни на обрыв была одна — лихой спуск на лыжах. Шум, гам, возня в пышном идеально белом снегу, поглощаемого горстями, доставляли нам неописуемую радость. Мороз не ощущали, он был и не был одновременно! Превращая наши пальтишки в стоящие льдины, мы не чувствовали холода. С наших раскрасневшихся лиц валил густой пар, как из котла паровоза, возможно, он и согревал нас. Но, как бы то ни было, он, или наш ребячий задор согревали нас, холод мы не чувствовали, хотя морозы были сильные, не то, что в нынешнее время. За всю зиму ртутный столбик не поднимался выше двадцати пяти градусов ниже нуля.
Под вечер, вспоминая, кто, где и как упал, со смехом и раскрасневшимися лицами мы шли домой, звеня колом стоящими пальтишками и мохнатыми в мелких ледяных иглах рукавицами. Впечатлений хватало до следующего дня, а если день выпадал на воскресенье, то и на всю неделю.
В один из таких дней, скатившись вниз, я с лыжами в руках вновь вскарабкался на вершину яра и почти головой упёрся в ноги человека. Приподняв голову, я увидел стройного молодого мужчину, одиноко стоящего на краю обрыва.
— Лихо гоняешь! — проговорил он и пристально посмотрел в мои глаза.
Я промолчал, не отводя взгляда от его вдруг улыбнувшихся глаз.
Выждав полминуты, мужчина сбросил с глаз улыбку, сунул руку в карман и, вынув из него конфету, протянул её мне. Яркая и красочная обёртка никогда невиданной большой конфеты ослепила меня.
Помня наставление матери, «не брать никогда и ничего из рук незнакомых людей», я отказался от сладости, хотя очень хотел ту конфету в сказочно красивой обёртке.
После моего категоричного отказа, мужчина приятно улыбнулся и, подхватив меня за руки, помог подняться на косогор.
— Спасибо, — сказал я и, установив лыжи на снегу, просунул в их петли ноги в чёрных валенках. Закончив привычный процесс и оторвав взгляд от лыж, я посмотрел в сторону, где минуту назад стоял мужчина. Его рядом со мной уже не было.
Спускаясь вниз, я не жалел о своём решении отказаться от конфеты, я даже мысленно хвалил себя за того, что хватило сил не взять её.
Что отвлекло меня от спуска, сейчас не могу вспомнить, но ясно вижу, как мои лыжи вдруг внезапно переплелись. Я упал и, взрыхляя руками снег, выбил из него большой кулёк из серой бумаги. И хотя бумага была плотная и абсолютно сухая, под напором моих рук она лопнула и из кулька разноцветными брызгами посыпались конфеты. Конфеты были простенькие — фруктово-ягодная карамель, но в тот момент они показались мне намного слаще, чем конфета предлагаемая мужчиной. Моему изумлению не было предела.
— Кто выронил конфеты? — крикнул я, но все, кто был в это время на всём обозримом мною пространстве, промолчали.
Поделившись находкой со всей ребятнёй, я продолжил катание.
Пятое августа 1948 год.
— Четвёртое августа, — с улыбкой на припухлых губах проговорила Зоя и облегчённо вздохнула.
— Мальчик у тебя, мамочка, и уже пятое августа, пять минут первого, — взглянув на круглые настенные часы, ответила акушерка и через несколько минут после определения всех параметров добавила, — крупный мальчик, 4400 и рост 56 сантиметров. Богатырь!
— Хорошо, если бы ещё был спокойный, — подумала Зоя, вспомнив своего первенца Юрия, доставившего ей немало хлопот своим беспокойным характером.
Юра пока не стал ходить, уж очень был капризный, спал плохо, часто и долго кричал, ел много, но вес набирал плохо, и подгузники часто приходилось менять. Слегка мокрый, сразу в крик. Собственно, зря Зоя так думала, хлопот он доставлял не только ей, но и свекрови. Даже по ночам чаще подходила к ребёнку свекровь, нежели она. Но и Зою можно было понять, почти сразу после первых родов вышла на работу, на одну мужнину зарплату, ноги, конечно, не протянешь, но и сыт не будешь, не говоря уже о том, что надо и в дом и на себя. В военное лихолетье работала в госпитале, потом в заводской больнице через день с утра до вечера, затем в поликлинике станкостроительного сутками дежурным фельдшером.
Свекровь жила с ней в одном доме, помогала растить Юрия, родная мать сразу после родов дочери сказала: «Растить внука не буду, вышла замуж, справляйся сама, а у меня и без того хлопот полон рот». Отказала, и её можно было понять, кроме мужа и взрослого, но одинокого сына, две коровы, куры, огород. Всех надо накормить, напоить, печь в пять утра затопить, пироги настряпать, за стол мужа и сына усадить, на работу проводить. Потом ежедневная рутина и так каждый день.
Феодосии Фёдоровне у сына жилось хорошо, без особых забот, разве что курочек надо было покормить, да обед приготовить, вот и все дела, а с Юрой, пока был в люльке, вообще хлопот не имела, из бутылочки покормит и подгузник раза три поменяет. Хорошо жилось. Юра подрос, в ясли, затем в детский сад пристроили. Вот тогда купила домик в Кармацком, цыплят и козу купила, появились в доме яйца и молоко. Зимой мясо. Огород при доме, в нём малина, смородина, весной картошку посадит, огурцы и помидоры, вот и запасы до нового урожая, — соления, варенье. Лес на окраине деревни, а там ягод разных тьма тьмущая, брусника, ежевика, земляника, калина, рябина, а в охотку можно собрать и ароматной лесной малины и смородины, этого добра целые заросли, вот к зиме уже и мочёная брусника, и пареная калина и настойки от хворей. По берегу реки растёт маслянистая облепиха, она хороша от болезней горла и желудка. Всего вдосталь в лесу, бери дары природы, не ленись, сыт всегда будешь. Грузди и лисички солила в кадке, дети часто навещали мать, всем был припасён гостинец от леса и огорода, но не за гостинцами приезжали к матери дети, главное помочь по хозяйству, огород вскопать, картошку посадить, дом подправить, крышу починить. Слабая женщина разве управится одна с хозяйством, а дети заботливые, одна их растила, шестерых. Мужа, крепкого хозяйственного мужчину, единственного кузнеца на всю округу убили красные партизаны. Сожгли в его же кузне за то, что подковал лошадей колчаковских. Белые заплатили за работу деньгами, красные, после того как он подковал их лошадей, смертью. Одному богу известно как она вынесла всё это. Младшему сыну было несколько месяцев, Василию 2 года, самой старшей дочери Ирине десять лет. Маленькая, хрупкая женщина, а сил на всё хватило. В роду Баевых все такие, жилистые и хозяйственные. У её брата на Кораблике, что рядом с посёлком Ильича хата пятистенок, двор под навесом, две коровы, две лошади, бараны дюжина, а куры, утки и гуси вне счёта. Зажиточный хозяин. Жил и не знал, что надвигаются суровые времена, хрущёвской «оттепели», когда пойдут по деревням, как в двадцатые года, красные агитаторы. Сначала просто агитировали, чтобы отдали скот государству, а потом стали отбирать, оставив на семью одну корову. Киря Баев родственник его, да что толку, не помогло родство с героем гражданской войны. Геройский был юноша. Погиб в 16 лет. Жить бы да жить, ан нет, година такая выпала на его долю. За что только жизнь отдал. Видать за то, чтобы родственников его в светлом будущем обобрали до нитки, чтобы грабила его родную землю всякая…
Беременность Зоя перенесла легко, легко и без осложнений родила своего второго сына.
Уже в послеродовой палате, отдохнув от родов, она мысленно прошла весь путь от своего рождения до сегодняшнего дня, 5 августа 1948 года.
Болела часто, ещё в детские годы врачи определили, что у девочки слабое сердце, родителям рекомендовали не утруждать Зою физически, но по своей внутренней структуре родилась она активной, не могла долго усидеть на одном месте. Бойкая была и подвижная. Не отставала в играх от соседских мальчиков, а среди девочек была заводилой. На забор или крышу сарая первая, в драку с мальчишками первая. Если что не по ней сразу в бой с кулаками, а зимой ещё и валенок был её оружием. Снимет его с ноги и давай понужать им обидчиков. Красивая была девочка, а мальчишки они что, заигрывали неумело, порой грубо, вот и доставалось им от Зои. Не принимала она их грубые ухаживания, вот и лупила тем, что под руку попадётся. А мальчишки, что? Терпели, в драку не ввязывались и не жаловались никому, но синяки на теле и под глазами сами говорили обо всём. Выпытывали у них родители, что да как, а потом шли к Зоиной матери и жаловались на неё. «Вы уж приструните свою Зою, — говорили они Катерине Фёдоровне, матери Зоиной, — забила всех мальчишек. Ну, прям разбойница, а не девочка!» Ремнём родители не наказывали дочь, жалели, сердечко больное, ограничивались внушением, но характер у Зои был вспыльчивый, не доходили до её сознания слова матери и отца, всё повторялось.
В посёлке никто из сверстников не мог тягаться с ней и в заплыве через реку. Обь до середины двадцатого века было величественна, в черте посёлка ширина её более километра. Переплывала её безбоязненно, ни один мальчишка не рисковал с заплывом через реку, да и не каждый взрослый мужчина мог похвастаться тем, что переплывал Обь. А Зое хоть бы что, если на реку, то только с заплывом до середины и обратно или на другой берег полюбоваться жёлтыми полевыми саранками. Бурная была река, с норовом, с водоворотами и сильным течением на противоположном крутом берегу, но Зоя знала, куда надо плыть. Да, и как не знать, если родилась и жила на берегу Оби, если с каждой поездкой за реку на большой деревянной лодке, где отец за вёслами, внимательно изучала все её повадки. Знала все её водовороты и быстрины у крутых берегов.
А однажды пригнула с крыши соседского сарая и угодила прямо в навозную кучу до самых колен, а навоз там уже год прел, горел внутри, температура горения высокая. Благо не в центр кучи угодила, а на край, но и этого хватило, чтобы сжечь ноги. Вскрикнула Зоя от боли, выскочила из кучи и бегом домой. Месяц пролежала в постели с забинтованными ногами, а потом опять взялась за старое, заборы, крыша, бег и прыжки.
Екатерина Фёдоровна в заботах о доме, муж её Иван Михайлович на работе, а в магазин надо, хлеб или соль купить, сахар или муку, да, мало ли ещё, какие продукты нужны, а времени в обрез, надо обед приготовить, в доме порядок навести, скотину накормить, много работы. Здесь Зоя помощница.
Лёжа в кровати Зоя улыбнулась.
— Я дочь партизана! Пустите меня без очереди! — громко в магазине кричала она и покупала продукты без очереди. Ребёнок и есть ребёнок, ну, кто из взрослых будет перечить, хотя в той очереди были и матери и жёны партизанов.
Узнала мать о такой выходке дочери, перестала посылать её в магазин, эту обязанность возложила на старшую дочь Валентину, а та сама скромность, час в очереди простоит и никому не пожалуется на усталость. С тех пор так и повелось, и до самой старости как Валентининой, так и матери. В одном дворе жили до старости Екатерина Фёдоровна с мужем (дедом моим) и дочь её Валентина с семьёй. Валя пойдёт в магазин, по пути и матери купит продукты.
Зоя как вышла замуж за Василия, сразу сказала родителям: «Жить будем отдельно от вас». Родители отговаривать не стали, знали характер младшей дочери, своенравная и своевольная в детстве, женщиной стала волевой. Родители помогли купить дом в ста метрах от своего, так и жили, и врозь и вместе. В этот дом принесла из роддома первенца, в этот дом принесла и младшенького. В этом маленьком доме навела уют. В этом доме всегда было светло.
Не богато жила Зоя с мужем и детьми, за богатством не гналась, да, и какое могло быть богатство в то далёкое послевоенное время. Сыты, этим рады и счастливы. Обед состоял как бы из трёх блюд. На первое наваристый борщ или суп, на второе мясо из супа, на третье кисель из ежевики или облепихи, благо ягод этих было за рекой вдосталь. Было на столе и молоко, и масло, и творог, как-никак у матери две коровы. Пока не отобрал Никита Хрущёв у Екатерины Фёдоровны одну, на все три семьи хватало молочных продуктов. Молоко, масло, творог всегда были на столе. Помню, испечёт бабушка блины, на стол их поставит, а рядом большую тарелку с горячим маслом. Свернёшь блинчик в рулончик и в масло его, в масло, а потом в рот. Масло с губ и на бороду. Сидят все едоки за столом и у всех бороды как на солнышке искрятся. С тех пор много лет прошло, а как вспомню, говорю Свете: «Хочу масло по бороде». Улыбнётся жена, понимает о чём говорю и через час блины и масло на столе. Вкусно, но всё же не то, нет того детского привкуса, а всё от того, что и масло уже другое, не то, что было в моём детстве, бабушкино, из под своей коровки, с добавками оно ныне, с химическими.
Хорошо в деревне, а посёлок Ильича он и есть деревня, дом свой и огород при нём, только в поле колхозное идти не надо, нет поля, река и косогор, и завод кожевенный. На завод идёт работать местный люд и в город, а так, всё как в деревне. Огородом и рекой жили. В огороде овощи, в реке рыба, за рекой травы и ягоды.
Все мужчины в моей большой семье были заядлыми рыбаками. Дедушка — Иван Михайлович мастак ловить килограммовых карасей, отец и дядя Петя — муж Валентины, сестры моей матери, были удачливыми рыбаками в поимке трёх и более килограммовых щук, осётров и стерляди. Поэтому кроме супа куриного или борща на столе всегда была жареная рыба и часто стерляжья уха. Чёрную икру солили кадушками, но в пищу употребляли редко, в охотку, да под пиво, в основном её жарили на большой сковороде. Стерляжья уха, царская уха, наваристая, с жёлтыми кружками жира на поверхности бульона, но за рекой она особо вкусна, когда приготовлена на костре и вода не из колодца, а из реки. Уху в ведре варят мужчины, женщины к этому таинству не допускаются, их дело расстелить на траве полотно, нарезать хлеб, помидоры, огурцы, варёную картошку, разложить перья зелёного лука, яйца варёные и всмятку, тарелки и деревянные ложки. Уха готова, теперь к ней можно допустить и женщин, они разливают её по тарелкам и подают к столу. Варёная стерлядь расположилась по-царски в большом блюде в центре стола. Все берут столько, сколько хотят, но берут одну, две рыбки, приелась, а вот добавку ушицы просят все. Уж очень она аппетитная, ароматная, пахнет дымком и рекой. За столом на траве вся большая семья, большего счастья и не надо. Мужчины после обеда на открытом воздухе беседуют и покуривают табачок, женщины собирают ягоды, щавель и польской лук, а ребятня бегает по полю или купается в тёплой воде. Все счастливы. Над головой мирное небе и войны уже нет пять лет. В марте умер Сталин, но о нём не вспоминают. Достаточно горя, нахлебались его. Хочется просто жить и растить детей!
(За моими плечами 68 прожитых лет, но в памяти до сих пор жив маленький домик, в котором я сделал первые шаги. И хотя того дома давно уже нет, как и всего посёлка Ильича с его кожевенным заводом, память упорно отказывается верить в это. Поехать бы, посмотреть, нет, не хочу, зачем тревожить светлое прошлое, в котором я — шестилетний мальчуган и рядом со мной мои дорогие мать, отец, и брат. И они живы. Не хочу смотреть на поросшие бурьяном пустые улицы, развалины сгнивших домов и родники, бьющие с горбатой спины осыпающегося косогора).
На седьмой день после выписки из роддома родители дали мне имя, Виктор, что подтверждено свидетельством о рождении выданном бюро ЗАГС Октябрьского района города Барнаула 12 августа 1948 года. А на двадцать восьмой день мать вышла на работу.
Из окна маленькой прихожей дома моего детства вижу длинное одноэтажное здание, это заводская больница, здесь работает моя мама. Отсюда она каждые три часа приходит домой и кормит меня. Исполнился год, и меня определили в ясли, посещал их не долго, часто болел, и родители отказались от этой бесплатной государственной помощи, лишь в три года отдали в детский сад. Ясли помню плохо, перед глазами только само здание на вершине косогора, а вот детский сад до сих пор в моей памяти. Помню игры, особенно любил прятки, когда воспитательница прижимала меня к себе, а потом я искал своих товарищей по группе. Я наслаждался её приятным запахом, мне хотелось влиться в него и быть в нём всегда. Воспитательницей была молодая девушка лет двадцати, вероятно в этом возрасте все девушки источают сладостный аромат, от которого не мог устоять даже я, мальчонка трёх лет. Мне нравился запах её рук, спокойный голос и красивые голубые глаза, но запах мамы, конечно, был слаще и глаза у мамы были красивее, а голос, как звонкая песнь серебряного колокольчика.
Более шестидесяти лет прошло с той поры, а поселковую больницу помню отчётливо даже сейчас. Серенькое, неприглядное было здание, но с приходом в неё молодого двадцати трёх летнего главного врача она приобрела праздничный вид. Летом вокруг больницы выросли клумбы с красивыми цветами, а территорию её стал окружать низенький зелёный заборчик из штакетника. Оконные рамы и двери засияли под слоем свежей краски, пол в коридоре больницы и в палатах засверкал как ёлочные игрушки. Больница стала гордостью посёлка, а её главный врач получил заслуженное уважение всех его жителей. Главным врачом была молодая женщина 1927 года рождения — Зоя Фёдоровна Григорьева. Моя мать и она стали подругами на всю жизнь. А я помню Зою Фёдоровну с момента как помню себя и до самой её смерти. Я рос и взрослел на её глазах, и она взрослела и старела вместе со мной. К сожалению, проводить её в последний путь я не смог, её дети — сын и дочь не сообщили мне о её смерти. Известие о её кончине я получил через месяц от своего родного дяди Толи. Сейчас я часто вспоминаю эту замечательную женщину, выросшую без родителей в детском доме, но ставшей прекрасным человеком и чутким врачом. А какие она писала изумительные стихи, не шедевр, но от души. Её постоянно приглашали на все городские и районные мероприятия, дарили подарки и вручали грамоты, а она читала свои стихи. Общественница до самой смерти, которую никогда не ждала и о которой никогда не думала. Она жила активной жизнью до своих последних дней.
В той больнице трёхлетним мальчонком как-то пришлось полежать и мне. Зоя Фёдоровна постоянно навещала меня, успокаивала, когда мне было грустно, а грустно мне было весь тот больничный период. Проснувшись, я подходил к подоконнику и смотрел на свой дом, надеясь увидеть маму или отца, но они были на работе и приходили ко мне лишь вечером, поэтому единственным моим утешителем была Зоя Фёдоровна.
Со слов матери знаю, родился крепышом, а рос плохо. Худеньким был. Помню, ровесники дразнили Кощеем Бессмертным. Тогда мне было обидно это слышать, сейчас я бы с удовольствием стал бессмертным, но не долго, лет до ста, не больше.
Вот по этой причине, своей худобе, я лежал в больнице. Родители хотели выяснить, почему я плохо набираю вес и отстою в росте от своих сверстников. Что они выяснили, не знаю, но поправляться стал. Не стал богатырём, каким мне предрекала быть акушерка, но и не стал пузаном, какими сейчас являются мои сверстники. Я поджар, активен, мой шаг широк и быстр, ум ясен и чист. Если бы был пышкой в детстве, то уж точно неповоротливой глыбой сала сейчас. Слышал, чтобы похудеть, модницы и пышки моего времени специально заносят в свой организм паразитов. Если увидите, что какая-либо модница елозит на стуле, знайте, у неё под хвостом шлея в виде паразита.
P.S. Худенькие, стройненькие девушки, не обижайтесь, это не про вас. Вас Бог одарил стройностью, вам не нужны ни хирургические операции по удалению жира, ни маги и прочие шарлатаны. Вы стройны, прекрасны и пусть вам завидуют все дамы, не следящие за своей внешностью.

В моих семейных альбомах много фотографий, многие из них напоминают о годах ушедших в далёкое прошлое. На одной из них мне года три, не больше, я сижу в воде реки в метре от берега, худю-ю-ющий… ну, прям малёк-вьюнок. Спасибо дяде Пете, фотографировал часто, благодаря ему и его увлечению фотографией моё прошлое будет доступно моим потомкам не только из моих книг, но и из фотографий. Если внимательно, не торопясь просмотреть альбом со старыми фотографиями, можно увидеть и понять как жил я и мои родители, и страна в целом, а это не только история, но и жизнь поколений, которую я не променял бы ни на какую другую, даже на жизнь в царских палатах. Это моя жизнь и она мне дорога. Есть в альбоме фотографии, где мне четыре года. Всего год отделяют трёхлетнего Витю, от четырёхлетнего, а разница огромная. На первой фотографии я былинка, на второй кругленький карапузик. Вот вам и молодой врач, не чета нынешним всезнайкам-незнайкам. Зоя Фёдоровна была настоящий врач, врач с большой буквы!
И ещё раз говорю спасибо дяде Пете за его фотографии. Прекрасный был человек. Как-то в разговоре с ним узнал, что родился он в 1914 году во Владивостоке в семье русского офицера. О своём отце он сказал, что тот погиб в период 1917 — 1920 годов, а при каких обстоятельствах и когда промолчал. Очевидно, не знал. Да, и откуда было ему знать подробности жизни и смерти своего отца, если ему самому было не более шести лет. Был у него брат близнец, потерялись ещё детьми, нашлись случайно. Как-то прибыл во Владивосток его сосед и увидел мужчину очень похожего на Петра Александровича. Сомнений не было, он. Подошёл к нему, поздоровался и спросил: «Что ты здесь делаешь, Пётр». Мужчина удивлённо посмотрел на гостя, разговорились. Оказалось, что мужчина родной брат Петра. Вот так случай свёл родных братьев спустя полвека. О своей матери мой дядя ничего не знал, а может быть не захотел рассказывать. Я так же не знаю, как он оказался в Барнауле, не спрашивал. Не знаю, как встретил Валентину, сестру моей матери. Знаю, что всю войну прошёл от начала до конца, закончил её в Берлине. Артиллерист. Старшина. Хорошо воевал, боевых орденов и медалей десятка два.
И всё же болел я часто и продолжительно. Почему и отчего валилась на моё детское тельце эта напасть, можно сказать как из дьявольской бездны, не знаю и не догадываюсь, но к счастью всегда выздоравливал без осложнений.

Из рассказов матери помню, в два года перенёс сложную операцию. Загноилась правая рука, надулась как подушка. Отчего такая беда свалилась на меня, не знаю, но предполагаю, очевидно, поранил руку, а родители отнеслись к этому, мягко говоря, прохладно. Операция не принесла облегчения. На правом предплечье сделали разрез, выкачали гной, вот и всё лечение. Врачи сказали, что надо удалить руку, иначе умру, но мать решила иначе, сказав хирургу и себе: «Лучше пусть умрёт, чем быть с детства инвалидом. Мальчик, затем юноша и мужчина без правой руки будет не только вызывать сочувствие людей, но и слышать от них горькие слова. И как жить без руки, тем более правой». Решила, забрала меня из больницы, колола пенициллин и лечила народными средствами. Вылечила, рука осталась цела, лишь большой шрам на правом предплечье до сих пор говорит о перенесённой мною операции.
Говорят, что ребёнок не может помнить себя в возрасте года, двух и даже трёх лет, ерунда. Я помню себя прекрасно, не всё конечно, но особо яркие случаи моей памятью запечатлелись навсегда. Помню, как дед Иван, отец матери, вёз меня зимой на санях из городской больницы. Ехали долго, помню снег, вьюгу и боль во всём теле, особенно в воспалённой руке.
Помню дом, в котором жил. Отцовский дом нельзя было сравнивать с дедовским, в котором прихожая казалась мне просто гигантской, но в своём доме, с двумя маленькими комнатками мне было уютнее. Родительский дом был теплее, чем дедовский.
В прихожую из сеней вела массивная дубовая дверь, открыв которую сразу попадал в родное тепло. В дедовском доме тоже было тепло, но оно не насыщало, а лишь грело. Тепло родительского дома пахло мамой и её заботой обо мне, оно обволакивало всё моё тело, и в нём всегда было радостно и уютно. В правый ближний угол маленькой прихожей уткнулась русская печь, на её полке спала бабушка Феодосия, слева стояла металлическая кровать с панцирной сеткой, на ней спал брат Юрий, с неё я любил вывинчивать серебристые металлические шарики. Играл, потом ввинчивал их обратно. Прямо по проходу в простенке между двух окон, закрываемых на ночь ставнями, стол. За этим столом собиралась вся моя семья. За ним мы обедали. Помню отца за ним с бритвой в руке перед зеркалом. Брился опасной бритвой, других не было. Мать перед зеркалом наводила кудри, крутила на папильотки пряди волос, красила губы, выщипывала брови, а затем рисовала их мягким чёрным карандашом.

Помню себя в три года, матери тридцать лет, отцу тридцать пять, брату восемь лет, у нас вся жизнь впереди. Брат в школе, отец с матерью на работе. Бабушка Феодосия у плиты. У меня в руке красно-синий гранёный карандаш, им, сидя за столом, я разукрашиваю картинки, затем откладываю в сторону моё творение и беру в руки юлу. Запускаю её и наслаждаюсь свистом издаваемым ею. У меня есть ещё машинка автобус, но её я оставляю напоследок. Надоесть юла, отложу её в сторону, возьму машинку и пойду во двор или на косогор. Её буду катать по песку, что на склоне косогора близ нашего дома. Есть ещё маленькая круглая балалайка, изрыгающая монотонные звуки при прокручивании её ручки-рычага, но она для самых маленьких и мне уже не интересна, хотя совсем недавно, менее года назад, радостно улыбаясь, я с упоением слушал её однообразные звуки, и они казались мне райской музыкой. Полгода назад в радость была и бабочка на колёсиках. Её я волочил по полу на палочке, она махала крылышками, как будто приветствовала меня. Крылышки разноцветные, с радужными полосками и кружками. Машет бабочка ими вверх — вниз, вверх — вниз и чем быстрее я работаю рукой, тем быстрее движется палочка, тем быстрее бабочка машет крылышками. Долго катаю бабочку на колёсиках, долго наслаждаюсь ею. Сейчас эта игрушка лежит в углу возле моей кроватки, там и лошадка тянущая разноцветную повозку. Лошадку надо было катать, ползая на коленях. Катал, а она ногами перебирала, как будто бежала, и чем быстрее катал, тем быстрее бежала. Лошадка красивая, в крапинку и повозка тоже красивая, с разноцветными пятнышками и полосками, но и она, как и бабочка уже в прошлом. Сейчас мне интересны машинки, танк и удочка.
Откладываю юлу в сторону, беру машинку и выхожу во двор. Двор маленький, метров пять в длину и три в ширину, но мне этого достаточно, здесь я катаю мою машинку, заезжаю в палисадник под высокие стебли золотого шара, при этом губами издаю звук работающего мотора. Вспомнил, у меня ещё был самосвал с откидывающимся кузовом, его брал с собой, когда шёл играть на косогор.
В районе посёлка Ильича косогор песчаный, по нему был проложен взвоз от завода до вершины косогора, крутизна была срезана, что позволило на склоне его и под ним проложить дорогу, а вдоль неё построить дома. Со временем косогор порос травой и кустарниками и это укрепило его. В прошлом остались осыпи и обвалы, но в отдельных местах они всё же происходили, особенно там, где местные жители брали песок для личных нужд и на окраинах посёлка. В отдельных местах из косогора били родники. Один был в дедовском огороде. Вода в нём была очень холодная, выпьешь, зубы сводит, но прозрачная как воздух и вкусная.
Посёлка нет. Завод закрыли, до взвоза никому, никакого дела нет, разрушился он. Осыпи и обвалы свалили дома построенные на склоне косогора, нависла угроза жизни над жителями посёлка, выселили всех, заставили разрушить дома, но на их месте прежние жильцы возвели времянки. Так образовался дачный самострой.
Выше я написал, что на моё неокрепшее тельце часто валилась беды в виде болезней, но это ещё не всё. Кроме болезней я постоянно резал руки и ноги, а из носа почти ежедневно ни с того, ни с чего начинала течь кровь. В народе о таких людях говорят, что они малокровные. Вопрос. Если малокровный, почему последняя кровь истекает из организма, может быть, наоборот, в организме много крови и излишки её выбрасываются? Шутка! Так или эдак, мне от этого лучше не было, физическое состояние от пролития крови не улучшалось. Порезы кровоточили долго, кровь плохо сворачивалась, предполагаю, причиной этого были ядерные испытания на Семипалатинском полигоне. Роза ветров несла на Алтай радиоактивную пыль из Казахстана. Испытания ядерных бомб начались в 1949 году, я родился в 1948 году. Вот такие ядерные пироги довелось поглощать жителям Алтайского края и довольно-таки долго. Помогло ли нам государство? Как бы ни так! Барнаул не вошёл в зону поражения. Государство посчитало, что нам достаточно и пирогов, без чая, в сухую! (Статистическую таблицу по онкологическим заболеваниям в России открывает Алтайский край).
Помню, что бы и как ни порезал или ни поранил, никогда не лил слёзы, тем более не ревел. Не страшился боли. Было больно, но терпел. Так было и в тот день, когда в очередной раз отправился на косогор.
Вдоволь наигравшись под высокими кустами золотого шара, взял самосвал и пошёл в сторону косогора, к песчаному карьеру. Ползая на коленях, грузил в его кузов песок, затем долго и упорно толкал его по импровизированной дороге. Самосвал застревал, я с рычанием вызволял его из ям, доставлял груз до пункта назначения и возвращался обратно. Неожиданно что-то больно укололо правое колено. Встав на ноги, я увидел, что из него струёй бьёт кровь. Рядом со ступнёй лежал окровавленный осколок стекла. Взяв машинку, я побежал домой. Забежал во двор, в это время мать как раз была там. Увидев окровавленную ногу, не стала причитать, понимая, что следом за ней могу разреветься и я. Обработала рану йодом, перебинтовала, на этом и закончилось всё лечение. Шрам, широкая светлая диагональная полоса на правом колене, с возрастом стал ещё больше. Он не тревожит меня, а лишь напоминает о том кровавом эпизоде в моей детской жизни. Порой думаю, если бы не болезни, операции, шрамы, порезы и кровь из носа, помнил бы я моё детство. Конечно, помнил, но только вспоминания были бы тусклыми и размывчатыми, и вспоминать было бы нечего. Яркое было у меня детство и запоминающееся, не менее интересная была и юность, как, впрочем, и все дни моей жизни, о которых постепенно расскажу в этой книге.
Посёлок Подгляденый.
В юности, насколько помню себя, каждую зиму сидел на пенициллиновых уколах. Ангиной болел по несколько раз в году, уши простужал до такой степени, что из них текли гнойные струи, удивляюсь, как только не оглох, а ячмени на глазах были обычным делом, на которые я не обращал внимания, не особо обращал внимание и на герпес. В десять лет на лице появились небольшие язвы, через день они стали источать липкую слизь. От этой слизи язвы стали разрастаться и вскоре всё лицо покрылось волдырями. Мать, чтобы вывести эту заразу, намазала лицо зелёнкой. Так я стал первым с истории земли Фантомасом. Зелёнка иссушила язвы, но на их месте появились коросты, они стали чесаться, а это несло проблему. Чесать очень хотелось, а чесать было нельзя. Болел более месяца, но всё закончилось благополучно, рубцов, шрамов и язв на лице не осталось.
До шести лет я жил с родителями в посёлке Ильича, как он назывался первоначально — до революции 1917 года я не знаю. Знаю точно, косогор, под которым был посёлок, назывался Большой Гляден, отсюда название посёлка Подгляденый. Мы, более позднее поколение, как, собственно, весь народ, называли его кожзавод, а имя Ильича значилось лишь в официальных документах.
Посёлок небольшой, основан ещё, как говорится, при царе горохе, но разросшийся с постройкой кожевенного завода в 1918 году. До революции 1917 года посёлок славился мастерами кожевенного дела. Отличную кожу производили они, шили из неё обувь, куртки и шубы, сапоги и многое другое, без чего не обойтись в хозяйстве. У всех кожевенных мануфактурщиков в городе были свои магазины, в них они и продавали свою продукцию.
Основной достопримечательностью посёлка послереволюционных лет были заводской клуб с огромным памятником Сталину на центральной площади. Каждый, кто входил в клуб сначала попадал в фойе, затем в актовый зал, из него через две двери справа можно было попасть в зрительный зал. После просмотра фильма, постоянно прерываемого из-за плохого качества киноленты, свиста и криков: «Са-по-о-о-жник!» — зрители выходили из клуба через две другие двери на широкую лестничную площадку с высоты которой просматривался весь кожевенный завод. С площадки они ступали на крутые ступени и далее, спускаясь по ним, ступали на улицу, бегущую кривой лентой вправо и влево.
Актовый зал клуба с рядом кресел у левой стены, как и все залы того времени, имел красочную сцену с широким лозунгом над ней, и двумя узкими справа и слева от неё. Вечерами каждое воскресенье со сцены зала играл духовой оркестр, под который танцевала молодёжь, возле сцены была маленькая дверь, за ней библиотека. В фойе клуба справа от входа два маленьких оконце, одно — касса кинозала, другое — буфет, во второе всегда была очередь из молодых мужчин. Из этого оконца, передав скомканные рубли продавцу, они получали кружки с пивом, здесь же они покупали своим девушкам конфеты, больше там ничего и не было.
Второй достопримечательностью было почтовое отделение, которого сейчас уже давно нет, как и всего посёлка, а в то далёкое время она была просто необходима. Почта, двухэтажное здание из брёвен, располагалось рядом с площадью, на скате косогора. На первом этаже жили работники почты. На втором сама почта. Чтобы войти в помещение почтового отделения, надо было подняться по крутой наружной лестнице до тяжёлой массивной двери, с усилием открыть её и перешагнуть высокий порог. А там… за дверью… волшебный запах таинственного мира, каким для меня — ребёнка было поселковое почтовое отделение того времени. Этот терпкий запах сургуча, свежих газет и журналов до сих пор витает вокруг меня. Помню, за стеклом витрины красивые открытки, ради которых я, мальчонка трёх-четырёх лет, преодолевал крутую лестницу. Стоял, смотрел и представлял себя мчащимся на салазках с горы, как мальчик с новогодней открытки. Восхищался московским кремлём с рубиновыми звёздами на башнях. Завидовал девочке с красным галстуком на груди. Невозможно всё вспомнить из моего детства, но эти красочные открытки навсегда остались в моей памяти.
Третьей достопримечательностью посёлка был небольшой базар с двумя прилавками и магазин с двумя отделами. Каждый отдел имел свой отдельный вход. В одном отделе продавали продукты, во втором галантерею. За прилавками базара ближе к обеду появлялись местные бабули со своим товаром. Количество и вид товара зависел от времени года. Летом огурцы, помидоры, редис, лук, ягоды. Зимой соления, в основном квашеная капуста.

Мне четыре года, я живу с родителями в посёлке Ильича, растянувшемся узкой лентой в одну улицу у песчаного косогора. На этом косогоре две крутые тропы, по которым поднимались в гору жители посёлка. В будни рабочий люд спешил по ним на работу, пенсионеры в магазин и на базар. В воскресенье тонкая многоцветная струйка текла к дворцу станкостроительного завода, молодёжь ходила и туда. В том дворце всегда показывали новые фильмы и девушек и парней было больше нежели в заводском клубе. В фойе, как и в клубе, можно было купить кружку пива, за которой, правда, надо было выстоять многометровую очередь, более длинную и широкую, нежели в клубе посёлка.
Фортуна.
Косогор. С косогором у меня много воспоминаний, об одном я уже рассказал. Ещё об одном через несколько строк. В песке на этом косогоре я любил играть, катал машинки, лепил фигурки из песка, здесь этим летом разрезал стеклом колено, но сейчас зима, всё давно забылось. Сейчас одно страстное желание, скатиться с косогора на салазках, промчаться по узкому переулку и стремительно вылететь на главную улицу посёлка.
Взобрался на середину косогора, лёг на салазки головой вперёд и помчался. Дух захватывает, ветер свистит в ушах, и вдаль улетают заборы. Быстро, очень быстро пролетел переулок, обидно, короток спуск, вылетаю на улицу и… по улице понуро бредёт лошадка, везущая сена воз. Притормозить не могу, свернуть в сторону тоже, пролетаю под брюхом у лошади, встаю. Возничий смотрит на меня испуганным взглядом и ничего не может сказать, онемел от страха, а мне хоть бы что. Не успел испугаться, тем более осознать, что произошло и что могло случиться. Поднимаю салазки и снова на косогор. Будь я менее удачливый, не писал бы сейчас эту книгу, погиб под копытами лошади или разбился о сани. На исходе лет понимаю, всё могло произойти именно так, но бог миловал, видать, я был нужен ему, а более для того, чтобы родился ты, мой потомок. Миг промедления со спуском, меньше или чуток больше скорость спуска и не было бы юноши Вити и мужа Виктора, не было бы и тебя. Меня благодарить не надо, благодари свою судьбу, а меня просто помни и не кори.
В марте 1953 года умер Ио́сиф Виссарио́нович Ста́лин (настоящая фамилия — Джугашви́ли). Все ждали начала новой войны, но уже не с Германией, а с нашим союзником в борьбе с фашизмом Соединёнными Штатами Америки. Из разговоров родителей помню, народ горевал очень сильно. Сейчас я понимаю, действительно скорбные лица и настоящие горькие слёзы были не у всех, за глаза многие проклинали вождя, и было за что, но эта книга не исторический трактат, а моя история жизни, поэтому буду писать о моих ощущениях и о том, что слышал и видел.
Я видел красные приспущенные знамёна с чёрной траурной лентой на вершине древка. Такие знамёна висели на административном здании посёлка Ильича, на клубе и на магазинах, висели они и на жилых домах — бараках. На нашем доме такого флага не было, как не было его и на других личных подворьях. Сейчас я понимаю, почему было именно так, а не иначе, не все поминали Сталина ласковым словом. Многим было, за что его не просто корить, а ненавидеть. Будучи ребёнком, я не умел читать по глазам, а под маской скорби видеть реальные мысли людей. Я всё воспринимал всерьёз, отчего и мне было грустно. Я видел слёзы, но не понимал, почему взрослые дяди и тёти плачут. Не понимал, почему тётя, сидя в луже, лупит по ней руками, громко плачет и причитает сквозь плачь. Не понимал, почему на красивых красных знамёнах чёрные ленты. Не понимал, почему на центральной площади посёлка, у мраморного Сталина на постаменте, много народу, и почему все они внимательно слушаю дядю, стоящего на трибуне.
Весна пришла рано. Через месяц после смерти Сталина зазеленела трава, и проклюнулись первые маслянистые листочки. В ночь, на сороковой день после его смерти, ударил мороз, и эти зелёные ростки покрыла чёрная траурная бахрома.
«Что это значило?» — думаю сейчас и не могу найти ответ. Может быть и природа, как весь народ, скорбела по великому Сталину или наоборот, кляла его. Но, как бы то ни было, факт покрытия молодой листвы траурной бахромой имел место.
В тот год фортуна ещё раз улыбнулась мне.
Кого я любил? Родителей, брата, обеих бабушек и дедушку, но мать больше всех. Малышом я буквально по стопам ходил за нею, куда она, туда и я. Она за дверь, я в крик. Ох, и коварная же была эта массивная дубовая дверь. До сих пор вижу её как на яву.
Тот тяжёлый для меня день, очевидно, это было воскресенье, так как родители были дома, я, как обычно начал с игры и посматривал за матерью. Хорошо помню, было ранее утро, весна, мать надевала пальто, собиралась идти в магазин. Отец сидел за столом и читал книгу. Вот мать полностью оделась, подошла к двери, открыла её и вышла. Я как ошпаренный, побросав игрушки, бросился за нею вслед и угодил правой ладонью в щель, просвет между косяком и закрывающейся дверью. Комнату разорвал пронзительный крик. Хотел высвободить руку из щели, но мать ещё сильнее давила на неё. Я уже визжал, вероятно, как резаный поросёнок. Этот необычный визг оторвал отца от книги. Бросив взгляд в мою сторону, он увидел моё вмиг побледневшее лицо и руку, зажатую дверью.
— Зоя, — крикнул он и стремглав кинулся ко мне. Резко толкнув дверь, освободил меня от тисков двери.
В магазин мать уже не пошла. Представляю, что она думала в тот день. А думала она, вероятно, о том, что опять была невнимательна, не доглядела за мной, опять могла лишить меня правой руки, но бог миловал. И миловал ещё много раз. За мою более чем шестидесятилетнюю жизнь я ломал кости рук неоднократно, выбивал плечи, перерубал пальцы правой руки тяжёлой стальной плитой, обжигал ладони огнём и горящим пластиком, резал их бритвой и ножом. Всего не упомнить. Но случай, о котором сейчас расскажу, вспоминается не без содрогания.
После увольнения из армии и переезда в Барнаул устроился на работу в комбинат «Химволокно». Надо было доработать два года по первому списку вредности, чтобы уйти на пенсию в 50 лет. Забегая вперёд скажу, отработал, но на пенсию ушёл в 55 лет. Ельцин сделал «подарочек», украл у таких как я пять лет, подписав указ о прекращении льготы за выслугу лет в армии. До этого указа за службу в армии в течение 12.5 лет давалась льгота при выходе на пенсию, минус 5 лет от 60, возраста выхода на пенсию для мужчин. Чтобы выйти в 50 лет, мне нужно было отработать ещё 5 лет на вредном производстве по первому списку. Три года я отработал ещё в Омске на нефтекомбинате, оставалось отработать всего 2 года. Итого, 5 лет армейская льгота, 3 года вредности в Омске и 2 года вредности в Барнауле, всего 10 лет. Дальше продолжать работу на вредном производстве не имело смысла. Здоровье превыше всего, но первый российский президент был хапуга из хапуг. Обворовал всю страну, когда народ бедствовал. В 50 лет я пошёл в пенсионный отдел, а там мне сказали, что армейскую льготу отменили в сентябре 1997 года. Вот так я ушёл на пенсию в 55 лет, но возвратимся к случаю, который мог резко изменить мою жизнь или даже прервать её.
В один из дней, будучи на работе, я решил для домашних нужд смотать с бобины метров 10 полипропиленового шнура. Бобина с полипропиленом стояла на столе в одном метре от вращающегося вала производственной машины. Подойдя к столу, стал отматывать от бобины шнур, отмотал метров пять, вдруг неожиданно кто-то резко вырвал его из моих рук, обернувшись, увидел, шнур стремительно наматывается на вал. Мне бы отойти как можно дальше от стола, так нет, я решил обрезать шнур. Нож был в кармане. Взяв в руку ускользающий с бобины шнур, приложил к нему нож, он стал стружкой снимать пропилен и через несколько секунд оборвался. Я облегчённо вздохнул. Позднее я понял, что принял неверное решение. Шнур мог перехлестнуть руку и втянуть меня в вал. Я мог лишиться не только руки, но и жизни. И снова рука была правая.
Руки травмировал, ноги травмировал, рёбра ломал, счастье, что с головой всё в порядке, её сильно не разбивал, но, конечно, ушибы были, а вот к голове моей жены липли не только шишки, но и притягивались серьёзные ранения. В детстве, катаясь с горки, она рассекла лоб до крови, шрам остался на всю жизнь, в молодости, задумавшись, ударилась головой об металлический столб, получила сотрясение мозга. В 60 лет налетела на металлический щит, ударилась об его угол, спасли очки. Удар пришёлся на оправу, но с рикошетом на висок. Это только то, что она рассказывала мне, список, конечно, не полный. О своём детстве она сейчас пишет на бумаге, как всё расскажет, перенесу в Word.
В три года я впервые увидел смерть. Наш огород смыкался с озером, в нём всегда было много малька карасей и мелкой плотвы. Здесь же, у берега стояла отцовская лодка, на которой он ходил на рыбалку. С неё и я решил принести домой улов. В огороде в жестяную баночку накопал червей, взял в сарае удочку и направился к лодке. Наживив червя на крючок, забросил удочку, неудачно, крючок впился в мочку правого уха. Не кричал, высвободил его и снова забросил, на это раз удачно. Ждал недолго, поплавок дёрнулся, резко дёрнул и я свою снасть. О чудо, на крючке трепыхалась маленькая серебристая рыбка. Забыв о желании большого улова, снял рыбку с крючка и побежал домой, крепко держа её в ладони. Мать в баночку налила воду, опустила в неё рыбку, моему счастью не было предела. Я долго смотрел на неё, видел её плавники, плавно колышущиеся в воде, и был горд. Теперь я считал себя рыбаком и не простым, а удачливым.
Непоседа по рождению, я долго не мог любоваться рыбкой, меня звали другие игры. Вечером, подойдя к баночке, я увидел рыбку на поверхности воды брюшком вверх. Так впервые я познал, что такое смерть.
Что я любил? Любил свободу действий. Зная мой характер, родители не препятствовали мне в выборе игр и не ограничивали в свободе передвижений. Я играл там, где хотел и ходил туда, куда хотел. За мою непоседливость дед и бабушка называли меня бесёнком. Я мог, не спрашивая ни у кого разрешения, взобраться на косогор к кусту боярышника, залезть на забор, крышу дома или на дерево, взять вёсла от маленькой дедовской лодки и пойти к озеру, чтобы покататься в ней.
Возвращаясь к раннему детству, вновь вспомнил маленький двор родительского дома.
Играя вне дома, я оставлял игрушки во дворе, не предполагая, что их может кто-нибудь взять. А их, оказывается, брал, и не просто брал поиграть, а воровал мой сосед, мальчик — ровесник. Наш двор и огород не имел общего забора с соседями, и этим пользовался маленький воришка. Из окна своего дома он видел всё, что происходило в моём дворе, видел, чем я занимаюсь, знал каждую мою игрушку, как говорится, в лицо. Наверно завидовал, хотя у самого игрушек было достаточно. Сначала исчез самосвал, потом автобус. Я горевал, но даже в мыслях не мог предположить, что злыднем был мой друг-сосед. Узнал о его мерзком поступке много позднее, когда пришёл попрощаться с ним перед отъездом на другое место жительства. Кроме машинок, увидел у него мой любимый танк. Пистолет и двухцветный красно-синий восьмигранный карандаш, оставленные мной в личном шкафчике детского сада, тоже оказались у него.
Зима. За окном завывает метель. Я за столом у окна, рисую маму и папу, они на поляне, на ней цветы, а я рядом с родителями и среди цветов. Над нами голубое небо и яркое солнце. Я люблю лето и умею его рисовать, зима мне тоже нравится, но только тогда, когда она без метели и мороза, когда можно погулять по двору, когда можно сходить в гости к бабушке и двоюродному брату Толе, а вот рисовать я её не умею. Я не понимаю, как можно нарисовать белый снег на белой бумаге, кроме того, у меня и карандаша такого нет, белого. Белых карандашей не бывает, я это знаю точно, так как я никогда, ни у кого не видел такой карандаш. А ещё я люблю новый год, а он бывает только зимой. Мама наряжает ёлку красивыми игрушками, стеклянными шарами, дирижаблями и самолётами, маленькими зверушками из плотной разноцветной бумаги, стеклянными трубочками и стеклянным наконечником на макушке ёлки. Потом мама развешивает на ёлке конфеты в красивых фантиках, особенно я люблю конфеты с розовой начинкой, мама сказала, что они называются «Весна», но без маминого разрешения я не снимаю с ёлки ни одну конфету. Я не понимаю, зачем мама повесила их на ёлку, если их нельзя снять и съесть. Она даёт мне только одну конфетку в день и не больше, а я хочу две, лучше три, а мог бы съесть их сразу все.
В ранние детские годы я не мог осознавать моё рождение, мне казалось, что я всегда был и всегда жил. Я неосознанно познавал запахи и цвета, мне казалось, что они всегда окружали меня. Каждый новый день я воспринимал обыденно, мне казалось, что так было всегда. Но именно так я открывал дверь в таинственный мир жизни. Я рос.
Глава 2. Аромат старины
Возвращаясь в прошлое, не допускай, чтобы разум твой страдал от горьких воспоминаний. Автор.
Март 2005 год.
Последний раз Они (мои мысли) приходили ко мне месяц назад. С тех пор я не приближался к книге даже на сантиметр. Не открывал Word, ибо не было желания писать. И всё от того, что в голове засела мысль: «Никто и никогда не прочитает даже строки их моих откровений». Эта мысль была на протяжении всей первой главы, там она была и вчера, оттого книга писалась тяжело, а сейчас и того хуже, т.е. не пишется вообще. Забылось напутствие Дюма-старшего сыну, вспомнил о нём лишь вчера перед сном и сказал себе: «Хватит прохлаждаться! Пора взять себя в руки! Прочтут — не прочтут, не в этом дело. Смысл жизни в труде и самосовершенствовании, а не в безделье».
Во дворе нашего доме, да, и не только нашего, каждого, сидят кумушки сутками на скамье и «точат лясы», сплетничают, осуждают каждого подряд, выпендриваются друг перед другом и что… Живут? Коптят небо! А всё от чего? От того что заняться нечем. Одним словом — бездельничают! И это жизнь? Нет! Кто-то может сказать: «Они пенсионеры, пусть сидят, отдыхают». В моём понимании; пенсионер должен быть более активен, нежели служащий или рабочий. Вместо того чтобы сидеть и говорить ни о чём работали бы руками и головой — вышивали, вязали или читали книги. Так и руки в движении и голова. Не умеешь вязать, вышивать, от книг устал, иди на природу, наслаждайся её звуками, дыши полной грудью, делай что-нибудь, только не бездействуй.
Подумал я так сегодня утром, и Они пришли. Пришли и сказали: «Ты прав, только в работе жизнь. Пиши, твори, самосовершенствуйся. Но пишешь ты, честно говоря, как-то скучно и сухо. Если взялся за автобиографическую повесть, раскрывайся, в твоём творении должны быть не просто факты, как раз, два, три, а раскрытие образа и характера. Рассказы это хорошо, но этого не достаточно. Ты должен показать потомкам свой характер, своё внутреннее содержание. Показать не только как жил, но и чем, что переживал и чувствовал. Потомок должен чувствовать тебя, быть в тебе, переживать и радоваться вместе с тобой. Раскрыть характер человека на бумаге — трудно, ещё тяжелее раскрыть свой мир, но ты писатель, значит, не только можешь, но и обязан».
Вот такие Они — мысли мои. Что ж, буду претворять их в жизнь.
Это было в прошлом
Велика Россия и, слава богу, ибо не скоро ещё запакуется в асфальт её великое прошлое, хранящееся в старых сибирских городах и сёлах. Смогут ещё наши потомки пройтись по их тихим улочкам и вдохнуть пыль живой старины, вдохнуть не клубы бумажной пыли и рой архивных клещей, а насладиться ароматом таинственного прошлого, пусть где-то сложного и противоречивого, но своего — родного, неповторимо прекрасного. Что увидят они в приземистых деревянных домах, склонившихся как древний дед к земле и вросших в неё до колен, не знаю, но хочется верить, что скажут: «Здесь когда-то бегал мой босоногий дед, и он был счастлив!» Скажут, но, к сожалению, не обо мне. Моё детство уже сейчас скрыто даже от меня. От пыльных улиц, по которым когда-то гонял на велосипеде, остались только названия, а содержимое их растворилось в бетоне и стекле сегодняшнего дня.
А что я хочу!? Перенести мою ностальгию о прошлом на моих потомков, а сам я ностальгирую о детстве моего деда? Конечно, нет, ибо не знаю его и не ведаю по каким дорогам ходил он. О детстве моего деда мне известно не много. Книг он не писал, о себе не любил вспоминать, лишь в редкие минуты отдыха, на мои настойчивые просьбы, бывало, тяжело вздохнёт и скажет: «Работали, Витша, сызмальства. А работа, она и есть работа, что в ней интересного». — Закурит свои любимые папиросы «Север», помолчит и вдруг как-то хитро улыбнётся и начнёт рассказ.
— Как ни говори, детство есть у всех. Вот помню, едем мы с отцом с покоса. Собственно, еду я, на возу с сеном, а отец ведёт лошадь. Ширь бескрайняя, тихо, птицы свиристят, кузнечики стрекочут и по небу облака белые плывут. Красота, как ныне вот, — кивнув на плывущие по небу облака, — и на душе радостно. Лежу на возу и покуриваю махорочку. Дым рукой отгоняю, это чтобы отец не унюхал, не почуял, значит, что курю. Покуриваю, на небушко смотрю. Благодать. Тихо, тепло, птицы треля всякие выписывают, и мне на душе радостно. И слышу, как сквозь всю эту благодать, папаня мой так тихо говорит: «Ваньша, видать деревня скоро. Дымком потянуло, — а потом громко, — Ах ты пострел ты этакий. Спали мне воз, не только уши, зад надеру!» — У меня тут птички куда-то разом улетели, сверчки замолкли, и небушко в копеечку показалось. Думаю, сейчас лупцевать не будет, а домой приедем, поперёд лавки положит, но, слава богу, обошлось, а годов-то мне было всего двенадцать. Пожалел меня папаня, строго поговорил, я зарок дал, курить, мол, боле не буду, и ведь не курил до самой службы в армии.
Много лет прошло с той беседы с дедом моим, а вот вспомнил. Спасибо Им, моему разуму.
Да, я был счастлив! Счастлив, что дышал чистым воздухом и наслаждался прохладой великой реки Обь. Был счастлив, когда, припадая к ней, утолял свою жажду. Сейчас вы рискнёте коснуться её губами? Возможно, да! А сделать хотя бы глоток из неё, — из реки, превратившейся не только в меланхоличную старуху, но и в бациллоносительницу?
Начало XXI века. Деньги пожирают старину, — сметают брусчатник дорог и поглощают деревянное зодчество. Благо есть ещё люди, хранящие нашу живую летопись.
В старом районе города Барнаула до сих пор есть уголки несущие былое, но в моём детстве — первых послевоенных годах, следов седой старины было гораздо больше. Были в нём пыльные, узкие улицы с покосившимися деревянными строениями тяжело несущими печать усталости. На этих улицах были вечные невысыхающие пятна луж и лужиц с запахом тины и несметным количеством дафний. В этих лужах мы — пацаны пускали кораблики, наскоро вырезанные из толстой сосновой коры, а по тёплой, пушистой пыли этих улиц, гоняли на проволочных рогатинах узкие обода велосипедных колёс. В те далёкие годы ближайшие к реке Барнаулке улицы — Приречная, Чехова, Луговая, М. Алонская, Ползунова и Л. Толстого ещё несли на себе части деревянных тротуаров и мостков, а через Барнаулку на улице М. Горького ещё был переброшен старый скрипучий, качаемый ветрами деревянный мост, построенный в 19 веке. Сейчас — в начале 21 века эти улицы ещё узнаваемы, ибо сохранили часть строений конца 19 начала 20 веков, но надолго ли это!? Уже появился план перестройки старой части города, да, что далеко заглядывать, уже сейчас нет того шарма. У слияния Барнаулки с Обью выросли многоэтажки, давно исчез старинный мост, перекроились улицы, а можно было бы из этого района сделать музей под открытым небом, но власть держащим захотелось всё сломать и на обломках старины увековечить своё имя. Им — этим пришлым губернаторам, назначенным Москвой, наплевать на Барнаул, тем более на его старину, они временщики и цель их ясна народу, — пока у власти набить карманы деньгами, а там хоть трава не расти. А до начала 80-х годов прошлого столетия эти улицы, летом утопающие в пыли, поросшие бурьяном вдоль бараков, улицы с крохотными жилыми строениями по обе стороны, имели своё изящество. На Луговой огромными красными глыбами возвышались два больших красивых кирпичных дома, и длинной тощей змеёй полз в жирном месиве грязи, выпучившейся после летнего горячего дождя, барак, построенный как и два его соседа из красного кирпича с выпуклыми буквами — инициалами хозяина кирпичного завода. Эти дома, занимающие большую часть левой стороны улицы от речного порта до улицы М. Горького, были построены каким-то купцом ещё в Демидовские годы. Сейчас уже неизвестно какую смысловую нагрузку несли все эти дома, возможно, один из тех больших домов служил купцу конторой и хранилищем самой ценной части товара, в другом жила его семья, а в узком барачном здании жили семьи его работников, но может быть они были построены совсем с другой целью и чётко выполняли свою задачу, всё может быть, но для чего бы они ни были построены, в советские годы эти здания приспособили для жилья. Дом по Луговой 5, где когда-то возможно жил купец со своей семьёй, внутри был перестроен по типу барака. Ступени со двора, отгороженного от улицы высокими деревянными воротами с калиткой, поднимали каждого ступившего на них в сени, далее в узкий тёмный коридор, по обе стороны которого чёрными пятнами вырисовывались двери, за которыми находились крохотные комнатушки в десять квадратных метров. Таких комнат было пять, в каждой из них ютились одинокие престарелые женщины, кто-то с внуками, кто-то с тяжелобольными взрослыми детьми, а кто-то и без тех и оных.
Дом по Луговой 3, в которой некогда, возможно, размещалась контора, был обустроен по типу дом на три семьи. У каждой семьи был отдельный вход с сенями, в мрачной оболочке которых тёмным прямоугольным пятном вырисовывалась массивная деревянная дверь. С этой двери начинались жилые помещения — две большие комнаты тянущиеся одна за другой. Это были прекрасные жизненные условия по тем временам, когда о хрущёвках никто не имел понятия. (Ругая Хрущёва, мы забываем, что он переселил народ из бараков в благоустроенные пятиэтажные дома). Прекрасные жизненные условия, но только летом. Когда на улице стояла жара по этим комнатам витала прохлада. Зимой в тех квартирах жить было невыносимо трудно, но приспосабливались. Помещения с пятиметровыми потолками и глубокими подпольями невозможно было обогреть, хотя в каждой комнате были печи и топились они углём беспрерывно.
Квартира моих родителей была в этом доме, и у нас, так же как и у наших соседей, было две большие комнаты по шестнадцать квадратных метров каждая. В дальней комнате квартиры огромным колоссом возвышалась печь-труба без плиты. Эта печь предназначалась только для обогрева помещения, но особого жара от неё не было, давала немного тепла, вот и всё её достоинство, тепло вылетало в трубу. Эта комната была самая холодная, но в чунях (валенки без голенищ) на ногах и в свитере жить было можно. Здесь была радиола. Слушали музыку и песни, крутили виниловые пластинки или искали советские музыкальные радиостанции, буржуйские заглушались. Позднее рядом с радиолой отец поставил тумбочку с резными ножками и на неё установил телевизор, «Авангард». Трансляция четыре часа в сутки, новости, один фильм, спектакль или балет, обязательно концерт.
В передней комнате — в правом дальнем углу, по-барски распластавшись, располагалась большая печь с чугунной плитой и духовым шкафом, в котором пекли пироги, парили калину, готовили консервы, тушили овощи и мясо. Летом духовым шкафом пользовались редко, поэтому все основные блюда готовили на электрической плитке, а вот зимой чугунная плита печи почти всегда была раскалена докрасна. В нашей квартире иначе и не могло быть, так как дом, в котором жила моя семья, был построен ещё в царские времена каким-то купцом, и до потолка, как сказал выше, было не менее пяти метров. Обогревался в основном потолок, на уровне груди всегда было прохладно, а по ногам гулял холод. Тепло было рядом с печью, но к ней никто не жался, мы были народ закалённый и 16 градусов внутри помещения это уже жарко.
Рядом с печью стоял обеденный стол, за ним собиралась вся семья во время трапезы. Этот уголок — печь и стол, был самый уютный и тёплый. Здесь протекала жизнь всего семейства — велись разговоры, читались книги, мастерились поделки. Здесь, на раскалённой чугунной плите печи, я до золотистой корочки запекал картофельные кружочки. Это были мои первые чипсы. Куда нынешним до них!? Наши картофельные кружочки были натуральные, без примесей и добавок, и вкус у них был натурально картофельный, а не химический.
Летом печь не топили, и это слегка приглушало домашний уют. Но зимой, когда за окнами свирепствовала пурга, когда ветер свистел под крышей, и мгла приходила в пятнадцать часов, потрескивающая углами печь, вносила в дом покой и умиротворение. Спать ложились рано, рано и поднимались. В десять часов вечера уже в постели, засыпали под тихое ворчание печи и золотистые блики, отбрасываемые ею. К утру печи прогорали, тепло выветривалось из комнат и «выползать» из постели очень не хотелось.
В шесть часов уже на ногах, родителям к восьми на работу, брату и мне к тому же часу в школу. В комнатах включался свет, за окнами тотчас сгущалась тьма. Наскоро одевшись и быстро впихнув ноги в валенки, мы бросали взгляд на входную дверь. За ночь она ещё больше обросла льдом, живо умывались. (Умывание было недолгим, за ночь вода в ведре успевала покрылась тонкой плёнкой льда). Подбросив в топку печи ведро угля, ставили на плиту стальной цилиндрический чайник с изогнутым носиком и усаживались за стол. Наскоро позавтракав, уходили по своим делам.
А за порогом дома вьюжит, снег забивает глаза, и идти надо по узкой тропе меж высоких сугробов. Ходили, не жаловались. Не требовали от коммунальных служб чистой дороги. Такая мысль даже и не рождалась. Жили и радовались жизни. Жили и ждали весну, когда первая капель и хрустальные ручейки пробуждали природу.
Сейчас трудно представить, но в моём детстве я загребал ладонью пушистый снег и с наслаждением ел его. Вкус прозрачного воздуха, чистого неба до сих пор в моей памяти. Слаще было только мороженное, которое все ели прямо на улице, несмотря на морозы. Помню рисунок в отрывном календаре, на котором укутанная в шаль мороженица с лотком, рядом ребёнок в зимнем пальтишке и его мать в шубе. Под рисунком надпись: «Тётя, скажите маме, что мороженное тёплое».
Прекрасно было то далёкое, тяжёлое, холодное, но не голодное время. Карточки на продовольствие давно отменили и тот, кто работал, а работали все, был сыт и обут, пусть не в шелка, но в добротную одежду.
О, где тот сладкий аромат старины! Где сейчас та далёкая страна? Страны нет, как нет и старины! Нет в памяти нынешнего поколения той страны, остались лишь призрачные блики её. Стёрта с дорог старина, даже прозрачные пятна её сегодня затушёвываются какой-то строительной однообразностью.
Сохранила часть своей самобытности и Приречная, но ныне улица почти стёрта, не наберётся и 10 процентов того, что было в моём детстве, а в начале второй половины 20 века она резко отличалась от улиц Чехова и Луговая. На Чеховой и Луговой было много бараков построенных для портовых рабочих, а на Приречной, справа от моста через Барнаулку, пьяными рядами стояли частные дома с покосившимися воротами. Будучи мальчишкой, я никогда не видел жителей тех домов. Кто в них жил, чем занимался, было для меня загадкой и, даже тёмной тайной, а каждой тёмной стороны я сторонился. Всё тёмное казалось мне страшным, а существа, таящиеся в тёмном, представлялись бесами. По этой причине я никогда не ходил по этой части улицы. Левая часть улицы не имела строений. Этот участок казался мне светлым, хотя одна из сторон её скосом уходила к водному полотну Барнаулки, а другая — правая была огорожена высоким дощатым забором, за которым скрывался сам порт с полотном железной дороги, портовым складами, раздевалками для рабочих и баней. Как-то этот забор пробил паровоз и влетел в Барнаулку. Что с ним случилось, тормоза ли отказали, машинист ли зазевался, мне это не ведомо, факт, паровоз в реке, а тендер его полон угля. О-о-о! Вот здесь кое-кто из местных поживился. Охраны паровоза не было и за несколько ночей, пока руководство порта думало, как вытащить паровоз из реки, тендер на треть опустел.
У соседского мальчишки, моего ровесника, бабушка работала в охране и сидела в маленькой проходной. В субботу, когда выпадала её смена, она разрешала нам зайти на территорию порта, где мы тайком, пробираясь вдоль забора, подходили к бане и, открыв её массивные двери, входили в мужское отделение. Баня — кирпичное здание, построенное ещё до революции и когда-то предназначавшееся для других целей, для каких — сейчас невозможно выяснить, да, собственно, нас пацанов это и не интересовало, стояло почти посреди порта, но было неприметно на фоне громоздких складов и разветвляющихся железнодорожных путей. В наружном исполнении здание почти не отличалось от оригинала, так как не были видны следы явных изменений в фасаде, коньке и в стенах, и даже второй вход в баню, выбитый в стене рядом с первым, слегка портивший некогда строгий стиль сооружения, не менял его черты. Внутренняя составляющая здания имела более серьёзные изменения. Явные следы перестройки были видны на несущих стенах здания. Внутренние стороны стен были постоянно сыры, и эта влажность вырисовывала сколы от внутренних кирпичных перегородок. На потолке были видны следы от разрушенной лепнины. В результате всех этих изменений образовалось одно большое пространство с единственной лампочкой на потолке. Это внутреннее пространство было разделено на два равных помещения высокой дощатой перегородкой, по разные стороны которой обустроили женское и мужское помывочные отделения. Перегородка не упиралась в потолок, и сделано это было не из соображений экономии материала, а в целях экономии электроэнергии. Одна тусклая лампочка в мутном плафоне висела над перегородкой, освещая оба отделения.
Женское отделение в конце рабочего дня всегда было заполнено пожилыми женщинами и молодухами с их детьми, а во втором редко раздавались мужские голоса. Мужчины — рабочие порта по каким-то неведомым мне причинам долго в бане не задерживались, да, собственно, мужчин в порту почти и не было. Всю самую тяжёлую работу выполняли женщины. Будучи грузчиками и «погрузчиками», «лошадьми», «лебёдками» и «талями», они носили, перекатывали, поднимали, загружали и выгружали мешки, коробки, ящики, тюки и прочий народнохозяйственный груз. Грузили, разгружали, носили на себе, но при этом всё же оставались «слабым полом». Женское начало даже в этих, рабским трудом униженных душах брало верх. Они оставались чувствительными, слабыми, ранимыми и беззащитными. Пыль и пот на лицах женщин-грузчиц не придавали им шарма, не красили их глаза задорным блеском, не раскрывали в ожидании чего-то таинственного увядающие лепестки их плотно сжатых губ, как не подчёркивала линию талии роба — брезентовые брюки и куртки. Грустили ли замученные безысходностью жизни эти хрупкие женщины? Конечно! Вспоминая свои молодые годы, нередко тяжело вздыхали, но никогда и никому не жаловались на свою судьбу, и хотя жизни у всех были разные, итог ныне был у всех один. Беспросветная нищета! Мечтали ли они? Естественно! Мечтали о светлом будущем, но не о том, что катилось из динамика радио, не о том, что пестрело на страницах всех газет (видя беспросветную нищету они не верили в то будущее), а о семейном счастье, о добром и заботливом муже, о полной чаше на столе. В своих мечтах они видели себя в туфельках на высоком каблуке и в красивом цветастом крепдешиновом платье. В один день видели себя под руку с молодым красивым мужем неспешной походкой прогуливающейся по аллеям городского парка, где каждое воскресенье играл духовой оркестр. В другой раз, сидящей с мужем на скамье в окружении двух — трёх детей, и гордо поглядывающей на одиноких женщин, бредущих с поникшей головой по аллеям парка. Сюжет каждого вымысла был разный, но всё носило одну смысловую нагрузку. Мечтали, мечтали, мечтали и под эти мечты старели — дряхлели их некогда точёные упругие тела, покрывались глубокими морщинами их красивые лица, казалось бы ещё совсем недавно излучающими свежесть и молодость. К сорока годам период грёз исчезал, оставляя на душе горький отпечаток несбывшихся надежд и громкий болезненный крик сердца. В этот жизненный период на смену мечтам приходила грусть и в глазах появлялись горькие капли слёз. Плакали тихо, украдкой, — зарывшись в подушку своей холодной кровати. Все женщины, «рабочие лошадки» порта, были одиноки, одни, потеряв мужей на фронте, становились вдовами, другие, не найдя мужей, плюнув на моральные устои тех лет, рожали и становились матерями одиночками. Эти женщины тянули на себе всё — заботились о своих малолетних детях, помогали престарелым родителям, были участливы к горю подруг. На излёте этого периода грусть уступала место безразличию. Фон этого равнодушия заполняли частые загулы, нередко в компании мужчин с тёмным прошлым. Эти женщины полностью разуверились в светлом будущем как общегосударственном, так и в своём, но таких женщин было мало — единицы из сотен, хотя на фоне тихих, неприметных портовых подруг они казались большинством. Выпив стакан водки, а порой опустошив два — три флакона тройного одеколона, они нередко устраивали разборки между собой. Причины этих разборок, нам — ребятне, были непонятны, но результат был на виду у всех. На виду у всех, потому что ссора переносилась из бараков на улицу, где разгорячённые спиртным женщины, повернувшись друг к другу спиной, задирали подолы пышных юбок и хлестали себя по тощим задам, приговаривая при этом: «Вот тебе! Вот тебе!» Протрезвев к утру, шаткой походкой и с опущенной вниз головой, выходили они из своих комнатушек в бараках и брели в порт, где «тянули лямку» своей горькой жизни.
Загрузив несколько железнодорожных вагонов или разгрузив не менее, перетаскав вместо меринов тяжёлые брёвна, усталые и грязные от пыли налипшей на потные тела, женщины шли в баню, где у входа в неё некоторых из них нередко ждали дочери — девочки подростки. К тому времени, когда я с товарищем входил в мужское отделение бани, они уже мылись, что было хорошо слышно по плеску воды, доносившемуся из-за перегородки. Мужское отделение было уже пусто. Наскоро помывшись, мужчины влезали в свои широкие шаровары и, надев не по размеру большие куртки, уходили домой. Покрой такой мужской одежды для грузчиков был определён ещё в давние времена и носил скрытый, но понятный всем, смысл. В широких одеждах можно было легко спрятать что-либо нужное или ценное, в основном продукты.
Отсутствие мужчин в бане нас не тревожило, даже наоборот — очень радовало, так как предоставлялась возможность пошалить — поплескаться водой, развалиться на банной скамье, т.е. почувствовать себя легко и свободно, но не только это влекло нас в баню, был ещё один интерес, при мысли от которого сладостно щемило сердце. В баню нас влекли маленькие дырочки в перегородке. Эти дырочки приоткрывали нам потустороннюю тайну, манили к себе и кружили наши головы. Эти дырочки распахивали завесу девичьих тайн и позволяли созерцательно познавать их. Сквозь эти дырочки мы с замиранием сердца смотрели на обнажённых девчонок, мывшихся вместе с матерями, и любопытным взглядом изучали все извилины их молочных тел. Ох, как были загадочны эти извилинки, впадинки и бугорки, как прекрасны были девичьи формы, как белы были их тела! Прильнув к дырочкам в перегородке, просверленным неведомо кем, мы долго смотрели на девчонок, а затем уже по пути домой делились впечатлениями. Тела женщин мы не обсуждали, мы просто на них не смотрели, преждевременно увядшие формы тридцати пяти — сорокалетних женщин были нам не интересны.
(«Ну, дед! Ну, хулиган! Ай-я-яй!» — скажешь ты потомок, и будешь не прав. Не дед я был, а ребёнок. Я познавал мир в сравнении, в котором не только я — мальчик, но и девочки. Это естественно, и ничего зазорного в том не было).
Протянувшаяся узким серпом по левому берегу реки Барнаулки, улица Приречная была рассечена на две неравные части широким полотном — улицей М. Горького. Это полотно на своём излёте упиралось в древний деревянный скрипучий мост. Сейчас того моста уже нет, его место занял другой — железобетонный, а, казалось бы, совсем недавно на месте нового моста стоял трясущийся под дождями и стонущий под холодными ветрами мост Демидовских времён. Старики говорили, что тот древний мост якобы был бесовский. Правда то или нет, было то при Демидове или при царе горохе, дело не в этом, а в том, что он из моего детства. Тот деревянный мост был не только достопримечательностью всей нашей округи, он был притягательной силой для нас — ребятни и играл важную роль в жизни Барнаула. Летом, когда бурное весеннее течение реки стихало, когда паводок уходил прочь, пацанва сидела под его тенью и ловила на удочки чебаков и пескарей, а в это время взрослые парни и молодые мужчины сетчатыми черпаками, подобными огромному подсаку, выуживали из реки крупных щук.
В жизни Барнаула мост играл важную роль. По нему круглый год почти беспрерывным потом шли грузовики гружённые песком и гравием, зерном, баками с патокой и прочим народнохозяйственным грузом, доставляемым в порт баржами и железнодорожными вагонами.
Казалось бы, совсем недавно по отполированным до зеркальной глади доскам старого деревянного моста безбоязненно ходили не только взрослые и мы — пацаны, гурьбой перебирающиеся к страшному и всегда манящему обрыву песчаной горы, резко срывающемуся к Оби с головокружительной высоты, но и проезжали машины. И вот того моста уже нет! Нет в сегодняшней реальности, — в нынешнем моём измерении, но в памяти моей он всё ещё покашливает под напором вешней воды Барнаулки и незлобиво поскрипывает на тугие струи молодого ветра взбивающего полотно реки в серую пену.
Помню, помню его старческое покашливание и древнюю прелость тени даже в самый жаркий день, когда ловил под его настилом, попискивающим над головой при каждом шаге ступившего на него человека, мелких рыбёшек.
Барнаулка, страшная была река, особенно весной — в разлив, когда её берега рушились под напором кипящей воды, несущейся в Обь. Ступишь на берег, поминай, как звали! Сильное течение Барнаулки закрутит, завертит, заломает и неминуемо утащит в Обь, а там… Легко можно представить, что там, где противоположный берег казался тонкой зловещей нитью и где под каждой коряжиной налимы. Говорят вкусная рыба, но как подумаю, что она санитар рек, смотреть на неё не могу.
Удили, ходили, и ничто не говорило о том, что мост «бесовский». Ничто не говорило об этом до определённой поры. А произошло вот что.
Как-то в один из тёмных осенних вечеров мы — 8—10 пацанов в возрасте от 10 до 12 лет возвращались с песчаной горы, на которой сейчас проложена дорога, ведущая в нагорный парк. О чём мы говорили, не помню, но, вероятно, о ведьмах и лешаках. Это была распространённая в нашей среде тема, особенно в сумерках. За разговором незаметно подошли к мосту и ступили на него. Дошли до его середины и… Прямо перед нами — на противоположной стороне его, как из-под земли (вернее следует сказать; дощатого настила) вырос, расставив в стороны длинные руки, мужчина в чёрном картузе, таком же тёмном сюртуке и в чёрных штанах, заправленных в хромовые сапоги. Человек постоял секунду, пристально нас рассматривая, затем, пошатываясь, двинулся в нашу сторону. Звука его шагов не было слышно (а должно бы, мост был старый и скрипел даже от лёгкого ветра), как не было слышно и его голоса, хотя, как помнится, он шевелил губами. Миг и вся ватага пацанов резко развернулась и побежала в обратном направлении, но, не сделав и 10 шагов, остановилась, замерла и… Я, шедший впереди, оказался сзади всех, но не побежал. Нет, не оттого, что мои ноги онемели! Просто не побежал и всё! «Что он со мной сделает?! Съест что ли? Не зверь, человек! Пьяный наверно! Лежал, очнулся, поднялся!» — подумал я и увидел, как и все мои друзья, что тот человек как бы из воздуха проявился на пути их бегства. Ватага замерла, затем резко развернулась и кинулась обратно (участок моста, где человек появился впервые, был свободен), но привидение (в этом мы уже не сомневались) снова проявилось на нашем пути, — на месте своего первого появления. Оно, как бы из ниоткуда выросло вновь и, широко в стороны расставив руки, всё так же молча шло к нам.
— Пацаны, не бойся! Нас много! — крикнул я и направился в сторону призрака. Он мгновенно «испарился» в воздухе.
Глава 3. Познание мира
Человек без памяти — пустой кувшин. Автор.
Удивительное свойство имеет моя память. Одно помню, другое нет, чем жил в далёком прошлом помню, что делал вчера, забыл. Иногда думаю, может быть это только со мной, с моей памятью. Хотя, где-то читал, что у мужчин именно такая память, они отметают всё, что считают несущественным, женщины наоборот, помнят даже мелочи, но только ближайшего времени, ушедшее в далёкое прошлое не воспринимают. Поэтому они отходчивые и не злопамятные, и даже прощают измену, не к родине конечно, а к себе. Это как вступление к теме о памяти, а не об отношениях противоположных полов.
1.
Из посёлка Ильича моя семья выехала поздней осенью 1954 года, мне было шесть лет. Сборы были недолгие, сундук с одеждой, скамья, несколько табуреток, две металлические панцирные кровати, комод с бельём, радиола, узел с периной и узел с подушками, деревянный ящик с инструментами, вот и весь небогатый скарб. Так жили все, всё самое необходимое для жизни, отдыха и работы умещалось на телеге.
Поселились в посёлке Сулема, что на окраине города у какой-то дальней родни по отцовской линии. Прожили в том посёлке до августа 1955 года, а в конце этого месяца отцу выделили комнату в коммунальной квартире в большом пятиэтажном доме по проспекту Ленина. Из окна квартиры на втором этаже была видна вся центральная площадь города — Октябрьская и здание под шпилем, где весь первый этаж занимал главный гастроном города. Но отложим в сторону это время и возвратимся в Сулему.
Дом, в котором мы поселились, был обычным деревянным бараком, каких в городе были десятки, а может быть и сотни. От проезжей части улицы он был отгорожен высоким деревянным забором с широкими воротами и калиткой. Барак двухэтажный и несколько жильцов его имели не одну, а две комнаты. Родственники отца жили на первом этаже этого дома и имели две комнаты. Прекрасно помню, детей у них не было, поэтому они, не притесняя себя, выдели одну из своих комнат моим родителям. Я, как вы уже знаете, был спокойным ребёнком, брату было одиннадцать лет, и основное время он проводил в школе, затем за уроками и час-два на улице, так что шуметь и хулиганить было некому и некогда. Собственно, в то время люди были добрее и чтили родственные корни. Помню, в нашем доме всегда было много гостей, но о них дальше.
Осень того периода не помню, зиму частично. Помню, зимой вышел на улицу, а там мальчик моих лет и девочка чуток старше лепили снеговика. Я подошёл к ним, познакомился. Они спросили откуда я приехал и я, не сморгнув глазами, спокойно ответил: «Из Ленинграда». Вот врун, подумал ты, мой потомок. А вот и не врун! Я действительно думал, что посёлок, в котором жил до переезда назывался Ленинград. Дети рассказали своим родителям, что моя семья из Ленинграда, на что услышали ответ.
«Из какого Ленинграда!? Из Подгляденого они!»
(Косогор под которым располагался посёлок назывался Большой Гляденый, вот в народе и прижилось к посёлку название Подгляденый. Позднее, в советское время, посёлку присвоили имя Ильча, не Брежнева, естественно, а Ленина).
Весна 1955 года. Зажурчали ручьи, на дорогах липкая густая грязь, на улицу только в сапогах, а так как их у меня нет, сижу дома. Этот период мне не запомнился, а вот когда земля просохла, благодать! Воля! Свобода! Здесь я уже разгулялся! Здесь все близлежащие улицы были мои. Везде ходил, всё изучал, везде нищета, серость и однообразие. Магазин один на весь район, зал маленький, шесть квадратных метров, не более, народу много, все не вмещаются, очередь начинается далеко за входной дверью. Я с матерью стою в очереди, сюда мы пришли за два часа до открытия магазина. Кто-то ей сказал, что сегодня будут продавать сахар, в одни руки 3 килограмма, нас двое, значит, нам продадут шесть килограммов. Жаль, что отец на работе, а брат в школе, так бы мы купили двенадцать килограммов, но и шесть тоже хорошо.
— Мало, — сокрушается мать. — Да и хватит ли, а то подойдёт очередь, а сахар-то и кончится. Вот обидно-то будет, так обидно!
— Да, — подтверждает её слова соседка по очереди и обе тяжело вздыхают. Каждая думает о чём-то своём, сокровенном.
О чём думает моя мама, я не знаю. Сейчас я предполагаю, что думала она о том, что из шести килограммов не наваришь варенья на всю зиму, кроме того детям нужен не только чай, но кисель, компот, какао.
— Ягод много, и в лесу, и в огороде у матери, — мысленно говорила она, — да толку что?!
На всю семью варенья не наваришь, но бог даст, ещё подвезут как-нибудь, главное, чтобы узнать вовремя, когда.
А мне не до её забот, мне скорее бы к витрине поближе. Может быть, мама купит моих любимых конфет в обёртке «Золотой улей». Фантик красивый, на нём пчелиные соты, а в них золотистый мёд, но сами конфеты, конечно, лучше, они сладкие и вкус у них медовый.
Долго стояли в очереди, несколько часов. Когда подошла наша очередь, солнце уже было высоко над головой. Мать неторопливо достала наволочку и, приобняв меня за плечи, сказала тёте продавщице, что нас двое. Затем разложила на прилавке, густо засыпанном маленькими кристалликами сахара, свой белый мешочек-наволочку.
Я молча стоял рядом и мысленно просил тётю, чтобы она аккуратно ссыпала сахар в наш мешочек, чтобы ни одна крупинка его не упала на прилавок.
Домой пришли уставшие, но в приподнятом настроении, мать счастлива, купила сахар, у меня радостная улыбка на лице. Я знаю, в сумочке у мамы лежит кулёк из плотной серой бумаги, а в нём мои любимые конфеты «Золотой улей». Конфеты, конечно, не мне одному, а всей семье, но я знаю, что ни она, ни отец не возьмут себе ни одну. Конфеты будут поровну разделены между братом и мной. Я обязательно дам одну конфетку маме и одну папе. Для любимых мамы и папы мне не жалко конфет.
Я с наслаждением и долго сосу конфету, жевать, значит, быстро её съесть, а мне хочется растянуть удовольствие. Остальные конфеты я прячу за картину, что наискосок прикреплена к стене возле моей кровати. «На чёрный день» — рассуждаю я, точно не зная, что это такое, но догадываясь. Но чёрный день приходит через минуту после поглощения первой конфеты, затем ещё через минуту наступает второй чёрный день, потом третий и так до тех пор, пока за картиной не остаётся ни одной конфеты. Всё, чёрные дни кончились быстро, как и мгновенно растаяли все мои конфеты. Хожу по комнате и думаю: «Ну, почему конфеты кончаются тогда, когда их очень хочется». Потом я начинаю подозревать, что конфеты закатились в какую-то ямку за картиной и лежат сейчас там, а я даже и не знаю об этом. Мой взгляд загорается, я заглядываю за картину, внимательно осматриваю всё пространство, но за ней только тонкий слой пыли и больше ничего нет. Я тяжело и горестно вздыхаю и с потухшим взглядом отхожу от картины, на которой красивая тётя в чёрной одежде едет в карете. Проходит минута, другая и третья, мой взгляд бегло осматривает комнату и останавливается на машинке. Вскоре, ползая по полу на колеях, я заезжаю с ней под стол, выезжаю на открытое пространство и далее под кровать, при этом рычу, изображая работу мотора моего грузовика.
После обеда я на улице. Во дворе дома напротив, за низким забором из штакетника стоит Вова, с ним я познакомился ещё зимой.
— Пойдём, посмотрим на машины, — подойдя к нему, говорю я.
— На дорогу, где автобусы ходят? — спрашивает он.
— Ага, — отвечаю я.
— А чё на них смотреть. Машины, как машины, ничё интересного, — отвечает он, палочкой рисуя на земле незамысловатые узоры.
— А я один раз видел даже пожарную машину.
— Чё, там чё-ли? — заинтересовано спросил он.
— Ага, — отвечаю я.
— Ну, и ладно, зато мой папа домой почти каждый день приезжает на машине и не на простой, на самосвале. Я даже катался на ней.
Я завидую ему, у него папа шофёр, он Вову на машине катает.
— И вообще, никуда я с тобой не пойду, мы щас с мамой пойдём в магазин, форму школьную покупать.
— Форму, — удивляюсь я. — Тебе всего пять лет и в школу тебе через два года.
— Ну, и чё! Форма всё равно пригодится.
— Ты из неё вырастешь, а потом её выбросят, — отвечаю я, и, более не говоря ни слова, иду в сторону дороги, по которой иногда проезжают большие красивые автобусы. На таком большом автомобиле с мягкими сиденьями я ещё ни разу не ездил, но знаю, летом мама повезёт меня к бабушке, а к ней можно приехать только на автобусе. Я жду это время и в предвкушении того дня иногда прихожу к дороге, по которой мчатся красивые автобусы и другие разноцветные машины.
Подойдя к дороге, я увидел автобус, возле него стояла небольшая группа людей. Они все смотрели на что-то большое, лежащее возле заднего колеса машины. Я подошёл к ним и увидел мужчину лежащего на земле, его голова была намазана чем-то густым и белым.
— Почему у дяди тесто на голове? — подумал я, но не стал спрашивать об этом ни у кого. Я осознавал, что мужчина мёртв, но не знал, как он оказался под колёсами автобуса. Через минуту я шёл в сторону дома.
Второй раз в моей короткой жизни я увидел смерть.
Через несколько десятилетий я вспомнил об этом случае и понял, тестом на голове мужчины погибшего под колёсами автобуса был его мозг.
Сейчас я часто думаю, почему с возрастом укорачивается день. Почему в детстве в течение одного дня я мог до ломоты в руках наиграться с мячом, сходить на рыбалку, накупаться в реке до изнеможения, смастерить змея и запустить его в небо, а сейчас не хватает времени, чтобы закончить что-либо начатое? Уверен, даже великие умы не смогут дать точный ответ на поставленный вопрос. Опосредствованно, конечно, они могут ответить, но полно никогда. Не возьмусь и я за столь большой труд, скажу лишь одно, я хотел как можно скорее понять мир, открыть его, поэтому всё делал быстро, охватывая лишь главное, не отвлекаясь на познанное. Я познавал, что такое хорошо и что такое плохо. Узнавал людей не по их телесной оболочке, а по внутреннему содержания, что давало возможность понять, кто и что из себя представляет. Познавал, анализировал, принимал решение играть или не играть с тем или иным мальчиком, подходить с вопросом к тому или иному взрослому человеку, или сторониться их.

В соседнем с бараком доме, огороженном высоким забором из плотно прилегающих досок, стоял большой как у дедушки дом. Я не знал, кто в нём живёт, так как ни разу не видел его жильцов, да их и не возможно было увидеть из-за высокого забора, но одно я знал точно, за забором был огород. Огород был виден сквозь щели в заборе, об этом мне говорили и старшие мальчики из нашего барака. Как-то, когда в нашем дворе никого не было, они предложили мне сделать набег в огород. Перелезть с ними через забор и сорвать с грядки огурцы. Мне не хотелось показаться перед ними трусом, я согласился, хотя прекрасно понимал, что это воровство. Залез на забор, мальчики стояли и смотрели, не последовали за мной. Одумался и, не спрыгивая в огород, спустился с забора в свой двор, откуда хотел совершить неблаговидный поступок. Ребята стояли и, не проронив ни слова, не укорив меня в трусости, спокойно смотрели на меня. О чём каждый из них думал, я не знаю до сих пор, но предполагаю, что трусом меня никто не посчитал. Часть задуманного ими плана я выполнил, они не выполнили даже и сотой доли его. С тех пор у меня никогда не появлялось даже мысли, чтобы залезть в чужой огород, не говоря о чём-то большем.
2.
В первый класс я пошёл в 1955 году, как и все дети страны советов 1 сентября. К этому времени отцу дали комнату в коммунальной квартире дома на проспекте Ленина. Одной стороной квартира окнами смотрела на проспект, другой во двор.
Широкая прямоугольная прихожая коммуналки, убегая к противоположной от входной двери стене, вливалась в узкий коридор, перпендикулярный прихожей. Правый рукав этого коридора (длинный) вёл в общую кухню, левый короткий к двери, за которой жил молодой мужчина с женой и без детей. Моя семья жила в маленькой комнате, площадью не более 12 квадратных метров. В комнате справа от нашей, первой слева в прихожей, жила одинокая женщина, помню, она была старше моей матери. Напротив нашей комнаты через прихожую была ещё одна дверь, открывавшая вход в самую большую комнату квартиры, в ней жила молодая семья с ребёнком, девочкой пяти лет. С той девочкой мы часто играли в прихожей, в нашей квартире играть было негде, да и в их, вероятно, было мало места для игр. Облик той девочки стёрся из моей памяти, не помню и в какие игры играли, чётко помню лишь одно, девочка была хорошо воспитана, мы никогда с ней не ссорились.
К моим рукам часто «липли» деньги, но я никогда не был их рабом. Есть деньги на жизнь, прекрасно, нет денег, проблема, но решаемая, поэтому никогда не унывал и не впадал в депрессию при их отсутствии. Первую крупную сумму денег, свёрнутую в тугой свёрток, нашёл в брёвнах, её у меня вырвал из рук брат Толя. Отдал деньги своей матери, та приняла, но мою просьбу возвратить мне находку, проигнорировала. В то время мне было пять лет, Толе семь. Поняв, что найденное мне не видать, как своих ушей, я покончил со своими законными требованиями. Отошёл от тёти и вскоре забыл о деньгах. Моей второй находкой была бумажная купюра достоинством в 1 рубль. Гуляя по двору дома на проспекте, я иногда подходил к уличной водопроводной колонке и подолгу смотрел на неё. Меня в ней интересовало всё, особенно мне было интересно, откуда она берёт воду при нажатии на её рычаг. Иногда я нажимал на него, вода тонкой струйкой бежала из изогнутой трубы, мне было радостно, но долго держать рычаг не мог, не хватало детских сил. Отпустив рычаг, с забрызганными ногами, я довольный отходил от колонки и продолжал движение в известном только мне направлении. В тот раз я тоже подошёл к колонке и увидел в маленькой лужице возле неё аккуратно развёрнутую в полный размер серую бумажку. На бумажке красовался шахтёр с отбойным молотком на плече, это был один рубль. Моему счастью не было предела. Находил, но и терял. Поэтому не надо радоваться денежной находке. Каждый найденный рубль отзовётся потерей в десять рублей. Нашёл, не радуйся, не злорадствуй. Нашёл крупную сумму, дай объявление о находке. Твой благородный поступок окупится с лихвой.
— Ах, какой ты правильный! — Скажешь ты, потомок.
— Да! — отвечаю, — но не праведный! Каждый человек соткан из двух цветов, чёрного и белого. А вот какой из них преобладает в нём, зависит от того, у кого, как и в какой среде воспитывался.
Праведников нет на свете и быть не может, ибо каждый человек хотя бы раз в своей жизни согрешил. И как бы ни утешали священники каявшегося в грехе, как бы ни снимали с него грех, они не снимут его, ибо сами грешны. Душа человека до смерти его тела будет носит в себе свой грех, ибо неблаговидный поступок уже совершён и изменить что-либо невозможно. Время ушло, но горечь и боль остались. Придёт время, душа покинет тело, но всё, что накоплено ею за жизнь в теле человека, останется в ней. Душа предстанет перед Высшим Разумом и с неё спросится за все дела её. А со священника, снимающего грехи и раздающего божью благодать, спросится вдвойне, ибо он сам грешен. Не было, нет, и не будет в роду людском человека имеющего право снимать грехи душевные. Грехи с душ людских может снять только Высший Разум после прохождения ею чистилища. Если чистилище не сможет справиться с очищением, душа уничтожается, разбираясь на атомы.
— Не праведный, значит, были в твоей жизни поступки, недостойные высокого звания человек, — утвердительно скажешь ты, потомок.
Честно и с полной ответственность говорю, не было! Я никого не убивал! Никого не предавал! Никого не унижал! Но от мелких проступков, естественно, не был отгорожен ни временем, ни пространством. Если перед крупными, серьёзными противоправными действиями стояла «бетонная» стена моего сознания, то перед мелкими шалостями преград не было. Изредка я всё же приносил моим родителям огорчения. Один или в среде равных мне озорников, шалил, хулиганил, а если ко мне относились предвзято или незаслуженно обижали, давал отпор, но, к сожалению, не всегда. До сих пор не знаю, кто из моего класса был злыднем. Сам что-нибудь натворит, как говорили в то время набедокурит, а потом всё свалит на меня.
3.
В младших классах, с пятого по восьмой, русский язык и литературу преподавала молодая, приятной наружности женщина. Стройная, высокая, красивая, но с отвратительным характером. Оскорбить ребёнка для неё было обычным делом, что, собственно делала на каждом своём уроке. В шестом классе к нам зачислили мальчика по фамилии Индюков. Откуда он приехал, не знаю, суть не в этом, а в том, что однажды она вызвала его к доске, он прекрасно отвечал на все её вопросы, но на один ответил неправильно. Она что-то сказала, он ответил: «Я думал, что»… Она в ответ: «Индюк тоже думал». По глазам униженного ребёнка было видно, что ему стало очень обидно, но, думается, более не за свой неправильный ответ, а за «полоскание» его фамилии. Что мог сделать ребёнок в таком случае? Дать отпор? Нас этому не учили. Нас учили уважать старших, особенно школьных учителей. Но особенно предвзято она относилась ко мне. Русский язык и литература давались мне очень трудно, поэтому я редко получал пятёрку, были и двойки. Помнится, в пятом классе она оставила меня на осень. Нужно было во время летних каникул приходить в школу и выполнять задания по русскому языку. Литературу я кое-как на троечку сдал, а вот с русским была проблема. Она поставила мне двойку за год, вот и надо было её исправить, чтобы перевели в шестой класс. В то далёкое время была установлена практика оставлять неуспевающих школяров на повторное обучение. Таких школьников называли второгодниками. Чтобы не остаться на второй год в одном классе, я ходил во время каникул на дополнительные занятия, что-то писал, что-то читал и что-то отвечал. Итог, перевели в шестой класс. Интересно, чем это я ей так понравился, что она решила оторвать меня от каникул и привязать к себе. Не думаю, чтобы учился на одни двойки. Как-то мать, когда была ещё жива, показала мне тетрадь с моими работами по русскому языку. Она любила хранить старые предметы, напоминающие о прошлом. Так вот, в той тетради не было ни одной тройки, только четыре и пять. И ведь оценки ставила она, так почему же та учительница относилась ко мне, мягко говоря, предвзято? Сейчас я не могу ответить на этот вопрос, а тогда не смог бы ответить тем более. Вспомнил ещё два случая. Первый произошёл на уроке русского языка.
Учительница обратилась к классу: «Дети, кто ответит, сколько букв и звуков в слове»… — и назвала его. Я поднял руки и правильно ответил. Она пренебрежительно осмотрела весь класс и сказала: «Дурак и тот знает, а вы все балбесы». Следующим уроком была литература. По завершении его она дала задание на дом, сказав, чтобы мы написали рассказ по картинам изученного произведения, какого сейчас не помню, суть не в этом.
Задание я не выполнил. На её вопрос: «Почему», ответил, что в учебнике по этому произведению нет ни одной картинки. Её это взбесило, в классном журнале напротив моей фамилии и в дневнике засияла жирная двойка. Мать часто проверяла мой дневник. Увидев двойку по литературе спросила: «За что?» Я ответил, что в учебнике нет картинок, а учительница заставила написать рассказ по картинам произведения, кроме того я сказал, что она назвала меня дураком при всём классе, это возмутило мать, она пошла в школу. Что там произошло, не знаю, но уверен, она разнесла учительницу в пух и прах. Мать была умница, никому не позволяла меня унижать, она умела подобрать нужные слова после которых учительница присмирела и, казалось бы, надолго, но как оказалось до поры до времени. Школа, в которой я учился в описываемый период, была не средней, а восьмилеткой, по окончании обучения всем выдавали свидетельство об окончании восьми классов. В свидетельстве была графа, дисциплина. Так вот, будучи моим классным руководителем, она написала в этой графе: окончил 8 классов при хорошем поведении. Не отличном, а хорошем, а это полностью закрывало дорогу в жизнь. (Всё-таки она была злыднем. Что ей не нравилось во мне, не пойму. Я не грубил, не пререкался, выполнял её требования так, как мог. Не пойму, что она хотела от меня. Своим предвзятым отношением ко мне, полностью убивала желание читать книги, и только благодаря матери я увлёкся чтением. В школьные годы прочитал всю фантастику, что была на полках библиотеки расположенной рядом с моим домом).
По окончании восьми классов решил продолжить обучение не в школе, а в техникуме, это и среднее образование и профессия. Пришёл, показал свои документы девушке — члену приёмной комиссии, она посмотрела их и отказала в приёме, сказав, что им не нужны учащиеся с хорошим поведением. На душе стало пакостно и обидно. Хорошее поведение, значит, ты не человек. Вот такие были критерии оценки личности человека. Хорошее поведение, не отличное, пошёл вон. Подал документы в среднюю школу №1. Здание, в котором она располагалась, стоит до сих пор. Но до этого ещё далеко, несколько лет, а пока я учусь в первом классе.
4.
Вот сейчас сижу перед ноутбуком и перебираю в памяти годы моей жизни, пытаюсь вспомнить хотя бы один случай, за который было бы стыдно, и ничто не приходит на ум. Ну, прям святой! Даже самому как-то неловко. Соврать, что ли, чтобы ты, потомок, не думал обо мне, что я идеальное создание. Не был я никогда идеальным, честным да, но идеальным нет! Я был простым человеком, не выделялся из общей массы людей, не выпячивался, не был рвачом, не стремился к идеалу и вершинам власти. Обещал — выполнял! Просили — исполнял! Естественно, в пределах дозволенного законами и моралью.
Тихо, замри, ещё минута, сейчас, сейчас, сейчас зацеплю… Ещё немного… Есть! Гора с плеч. Вспомнил.
Это было в тот год, когда я пошёл в первый класс. Начальная школа, старое, рассыпающееся от ветхости, здание стояло на проспекте Калинина, на том месте, где сейчас площадка за строящимся зданием краевого художественного музея алтайского края, что на площади Октября. В перемену вся ребятня выходила в школьный двор, кто-то бегал по нему, гоняя либо жестяную банку, либо обломок кирпича, либо какую-нибудь безделицу, кто-то стоял в сторонке и смотрел на эту забаву, кто-то о чём-то секретничал, а кто-то просто «ловил мух», вперив взгляд в небо. Первоклашки, к каким относился я, не принимали участие в этом «футболе», да, нас туда и не допустили бы, это была привилегия мальчиков третьих — четвёртых классов, старшеклассников той начальной школы. Туалет находился здесь же, во дворе, это была небольшая деревянная постройка с двумя отделениями, — для девочек и для мальчиков. Сентябрь и октябрь были прекрасны, тепло, дождей нет, зрители рукоплещут особо ловким пацанам-футболистам. В один из таких дней ко мне подошёл мальчик из моего класса и сказал, что в девичьем отделении туалета лежит пьяная женщина с припущенными трусами. Сказал и предложил пойти посмотреть на неё. Я отказался. Как сейчас помню, моей душе было неприятно. И мальчика с тех пор я стал обходить стороной. Так моя душа не облила себя грязью.
Верна поговорка: «Береги платье снову, а честь смолоду!»
Смысл данной пословицы заключается в том, что честью и совестью нельзя торговать, нужно с первых шагов своей жизни родить в себе чувство ответственности за свои поступки и на этом первом этапе главную роль играют родители. Они должны учить ребёнка не только беречь вещи, но и говорить, что хорошо, а что плохо. Изорвав, испачкав одежду, потеряешь её, но это не великая беда, можно купить другую, уронив честь, запятнав её, не отмоешься до конца своих дней. Я благодарен моим родителям за правильное воспитание. Хотя… Не помню, чтобы отец уделял сколько-нибудь особое внимание Юрию и мне, воспитанием в основном занималась мать, её простые спокойные слова воздействовали на мою психику и восприятие действительности намного более действеннее, нежели бы она кричала. Но кроме матери и школы меня воспитывала улица. Я учился на поступках других, умел правильно анализировать их и принимал верное решение. Это, вероятно, врождённое качество моего разума, не привело к плачевным результатам, в которые попали многие мои товарищи по улице. О них я поведаю в других главах этой книги. Шагая по ним, вероятно, вспомню что-нибудь ещё. Хотя… да, вспомнил ещё один. Мне хотелось знать, из чего состоят девочки.
Первое знакомство с девичьим телом состоялось в период жизни в доме на проспекте, что напротив гастронома под шпилем. Во дворе велось строительство, фундамент был возведён, но стройка затягивалась, поэтому на ней редко появлялись строители. Этим пользовались вся дворовая ребятня. В лабиринте подвальных коридоров, в отдельных местах, не перекрытых плитами, мы играли в прятки или просто сидели на кирпичах и секретничали. Сюда я однажды привёл соседскую девочку и сказал ей, чтобы она сняла трусики, она спокойно сняла их. Я посмотрел на её низ и, ничего не обнаружив интересного, сказал, чтобы надела их обратно. Через некоторое время мы вышли из строящегося здания и продолжили игру вне его территории. Наигравшись, я пришёл домой. Мать спросила меня: «Витя, что ты делал с девочкой?» (Очевидно, когда я был на стройке, она была на кухне и видела меня с ней наедине). Стыдливо опустив взгляд, я промолчал. Уверен, мать всё поняла, но не стала наказывать меня, понимая, что это естественное детское любопытство. Мне же было очень стыдно, я понимал, что совершил плохой поступок, недостойный хорошего, воспитанного мальчика.
Сейчас, на исходе моих лет, мне кажется, что время не идёт, а летит, но с реактивным полётом его вспоминаются давно забытые страницы моего детства. Я не помню, какими были лето или зима, но память с удивительной точностью воспроизводит яркие события отдельных дней той прекрасной поры.
Опять досталось правой руке. Зима. Пришёл из школы домой и, не снимая пальто, первым делом побежал на кухню. Вот дёрнуло же меня пойти именно на кухню, а не в свою комнату. Пришёл и крепко приложил ладонь к открытой спирали электрической плиты, которую мать отключила несколько секунд назад. Хотел согреть руки и согрел. Спираль была черна, но всё ещё хранила в себе огонь. Ожог был очень сильный, отпечаток спирали в виде белой змейки долго оставался на ладони.
Во второй класс я пошёл уже в новую среднюю общеобразовательную школу номер 103, красивое трёхэтажное здание, расположенное на улице Деповской, что по правую сторону от проспекта Строителей, носившего в то время название улицы 21 января.
Мать один раз показала мне маршрут и я, выходя из дома, пересекал улицу 21 января, выходил на улицу Деповскую и через пять минут был уже школе. В 1956 году ходить по улицам, пересекать их в любом месте было безопасно, так как автомобильного движения по ним практически не было, а трамвай ходил и того реже. Обучение в этой школе было недолгим, через месяц отцу дали квартиру в доме на три семьи, поэтому особо вспоминать нечего, разве что два случая. Первый, на перемене я нашёл свой второй рубль, это была третья денежная находка. Второй случай, после звонка об окончании перерыва пошёл не в свой класс, а подошёл к двери, за которой учились дети первого класса. Бесцеремонно открыв дверь, я посмотрел на детей, учительницу и прокричал: «Первоклашки! Первоклашки!»
Накричавшись, стал ждать реакции класса и дождался. Учительница сказала, чтобы я зашёл в класс и встал у двери. Я зашёл, встал и стал глазеть по сторонам, на стены класса, на детей, на свои перетаптывающиеся ноги. Стоял не долго, минуты три, учительница поняла, что своим блуждающим видом я привлекаю к себе внимание её учеников, а не к её уроку. Вот так я поздравил первоклашек. Собственно, меня точно так же поздравили год назад. Такова была традиция и к этому относились спокойно. Как бы то ни было, но я сделал доброе дело, первоклашки на всю жизнь запомнят свой первый учебный день. В свой класс я пришёл с опозданием. Учительница разрешила мне сесть за парту, не спросив, где я гулял.
5.
Мы переехали на улицу Луговую в дом из красного кирпича, построенный ещё в дореволюционные годы каким-то купцом. Дом располагался рядом с портом, по территории которого постоянно куда-то таскал вагоны портовый локомотив. Сюда прибывали баржи груженные песком, щебнем, лесом и другими народнохозяйственными грузами. Порт, одно название, что порт, а по сути, перевалочная база с дощатым забором с одной стороны и водной заводью с другой, называемой Ковшом. Над забором, вблизи проходной, зависала металлическая труба, из которой постоянно тонкой струйкой стекало что-то густое и тёмное. Позднее я узнал, что это была патока, а что это такое и для чего она нужна, я узнал много позднее, когда соседская бабуся попросила меня набрать с бутылку той густой массы. Из слов той бабуси я узнал, что из патоки делают самогон, но не понимал, зачем её наливают из той металлической трубы в машину с большой бочкой, в которой возят воду и в которую ещё и засасывают специальными насосами фекалии из уличных туалетов, а их было столько же, сколько и домов. Тёплых туалетов не было ни у кого. Жили как в средневековье. Однажды я попробовал патоку, она мне не понравилась. А самогон бабуся не предлагала. Я был ребёнок и думал, что самогон это какое-то лекарство.
Переехали в тот ужасный дом и не знали, что будем мучиться в нём 10 лет, но о жизни в нём, как и о самом доме, чуток позднее.
Здесь, в этом глухом районе на окраине города, сотканном из моста через реку Барнаулку, порта и бараков улиц Приречной, Чеховой, Луговой, Мало-Тобольской кипела своя жизнь, где чужим не было места. Но мы переехали, значит, стали своими, хотя никто из моей семьи в порту не работал. Все портовые рабочие жили в одноэтажных бараках. Барак, длинное деревянное строение с покосившейся входной дверью, был мрачен и, казалось, даже пуст. Мрачен, так как его узкий коридор был тёмен во все времена года и круглосуточно, ни одной электрической лампочки не висело не его потолке. Из вечно тёмного не проветриваемого коридора несло сыростью и плесенью. Серые стены в плесени, покрыты паутиной и изъедены неведомыми жуками, исшарканный ногами пол с выбоинами и вмятинами, — таков обычный вид всех бараков того времени. Но не этот наружный облик здания и не коридор барака показывали его убогость, а то, что скрывалось за чёрными дверьми, ползущими косыми рядами по обе стороны мрачного коридора. Пуст, — взрослые на работе, детвора в школе. За этими дверьми, в маленьких комнатах жил рабочий класс страны советов. Одна комната — одна семья. Семья, — одинокая женщина. Кое-кто из одиночек жил с престарелой матерью, лишь единицы имели детей, одного, не более. Из мебели кровать для хозяйки, лавка для ребёнка, стол, два табурета, сундук, чемодан под кроватью и печь, которая грела, и на которой готовили пищу. Убожество и нищета не смущали жильцов барака, они были рады тому, что имели, а имели они лишь каторжную работу, по праздникам бутылку водки, а в будни флаконы с тройным одеколоном. Вот в таких нечеловеческих условиях жил рабочий класс, народ первого в мире социалистического государства, народ освободитель мира от фашизма. Жил, нет! существовал! Существовал в годы войны и после неё ещё 25 лет. Лишь в 1970 годы бараки снесли и всех жильцов переселили в хрущёвки, райские жизненные условия того времени, где в каждой квартире был тёплый туалет, ванная комната, спальня и кухня. Но до того благодатного времени очень далеко, мне ещё восемь лет, значит, есть что вспомнить. Возвращусь сам и введу тебя, потомок, в годы моего школьного детства. Зайду в потаённые уголки моей памяти, вынесу на свет божий период беззаботного счастливого детства, когда не нужно было изучать программирование, когда в первом классе по слогам учились читать: «Ма-ма мы-ла ра-му». Когда весь первый класс упорно выводили палочки и крючочки, а они, капризные «бяки», не хотели ровно ложиться в разлинованные строки тетради по письму. Когда не было шариковых авторучек, когда писали перьевыми ручками, обмакивая пёрышки в чернильницу, и с нажимом выводили каждую букву. Нас учили красиво писать, но не всем это было дано. Я всегда ошибался с нажимом, когда и куда нажимать для меня было проблемой (Ну, не моё это, и что поделаешь. Кому-то дана каллиграфия, а кому-то нет), и буквы у меня не ложились стройными рядами, они гуляли вправо и влево, но кляксы я ставил очень редко, всё-таки старался. Но капли чернил всё же иногда скатывались с пера на тетрадь, и это происходило именно тогда, когда буквы получались красивыми. Обидно, упала, и промокашка была бессильна возвратить красивым буквам первоначальный вид.
Второй класс и третья школа, третья «первая» учительница моя. Меня записали в школу №8, что на площади Свободы. Мать говорила, что когда-то в этом здании размещалась женская гимназия. Школа, двухэтажное деревянное здание было старое, но не носило следы ветхости, его учебные классы были просторны и светлы. В классах всегда было сухо и тепло. На первом этаже располагались учительская и первые пять классов, а у входной двери рядом с тумбочкой на стуле сидела женщина вахтёр, строго следящая за порядком в школе и возвещающая звонком, большим ручным колокольчиком, конец занятий и конец перемены. На второй этаж вела крутая змеящаяся лестница. Поднявшись по ней на второй этаж, мы входили в коридор, по нему десять шагов влево до двери в спортивный зал, исполняющий в праздники роль актового. Направо коридор полз узкой лентой, по обе стороны которой располагались классы с шестого по восьмой. Здесь же был кабинет биологии и кабинет физики. Был ещё подвальный этаж, там были раздевалка и школьный буфет. Вот, вроде бы и всё с внутренним обликом школы, хотя… нет. Школа имела три входа. Парадный, — со стороны площади, второй круглогодичный, — с правого торца здания и третий выходил в пустынный школьный двор, единственной достопримечательностью которого была насыпь, на вершине которой стоял уличный туалет, нервно подрагивающий при каждом его посещении. Заходить в него было действительно страшно, он качался, скрипел и вздрагивал, казалось, готов был поглотить в своей зловонной утробе каждого вошедшего в его нутро. Вздрагивал и я, когда невольно входил в него, боясь провалиться вместе с его стенами в ядовитую пучину. Вздрагивая и кряхтя, он напоминал мне ужасного разбойника, превращённого доброй феей за его злобные дела в гадкое, зловонное существо.
Во дворе мне было спокойно, и хотя он не имел асфальта, был сер и пылен в засуху, давал передышку от уроков, был единственной отдушиной в минуты школьной перемены. В сухую погоду вся детвора высыпала во двор и вела активную жизнь. Мы не стояли в сторонке как девчонки, а бегали, прыгали, короче, «ходили на голове». Носились как угорелые, забыв об уроках и учителях. Мы были детьми и жили своей, насыщенной детством жизнью.
Осенью, когда лили дожди, двор смотрел на нас уныло. Казалось, ему было одиноко без нас, но снять тоску с него мы не могли. Он утопал в густой липкой грязи, по которой никто не ходил даже в туалет.
С первого дня в новой школе учительница посадила меня за первую парту с высокой, стройной, красивой девочкой. Мы подружились. Однажды она, обратившись ко мне, спросила, хочу ли я язык. Я удивлённо посмотрел на неё. Языком оказался корж. Коржи я видел в магазинах, но не знал, что в народе их называют именно так. Их вкуса я тоже не знал, мать никогда не покупала такую выпечку, попробовал, сказал спасибо. Не скажу, что понравился, но огорчать мою соседку по парте не стал. На следующий день она снова угостила меня коржом, так продолжалось месяц или два. Однажды моя подруга не пришла в школу, учительница сказала, что она переехала с родителями в другой город. Горевать я ещё не научился, но в душе стало не уютно. Я быстро сдружился с той девочкой, она мне нравилась за свою открытость и прекрасную душу. Мою новую соседку по парте я сравнивал с ней, но она, конечно, не могла быть ею, поэтому я абсолютно не помню её, хотя сидел с ней за одной партой почти три года. С пятого класса закончилось наше начальное обучение, и весь класс перевели на второй этаж. Кто был моим соседом по парте с пятого класса по девятый, не помню.
С руками у меня нелады до сих пор. Ну, не умею я рисовать, не умею лепить и что-то мастерить тоже не умею. Из-под рубанка выходят кривые доски, а не стройные дощечки и планки. Единственное, что я умел делать на уроках труда, это мухобойки и рубить зубилом металл. И всё же однажды умудрился получить по лепке из пластилина пятёрку. Это знаменательное событие в моей жизни произошло в сентябре 1957 года, на третий год моего обучения в школе. Долгие годы я не мог понять, что такого идеального я создал? За что учительница поставила мне отличную оценку? Мои цветочки с круглыми разноцветными лепестками не шли ни в какое сравнение с тем, что слепили одноклассники. У кого-то были слеплены красивые животные, кто-то сотворил дом с лужайкой, кто-то построил из пластилина самолёт и машину, шедевры с высоты моего детства, а я несколько цветочков на тонких стебельках. Прошли годы, я вспомнил тот урок и понял, что сам того не осознавая, слепил эмблему VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов проходившего в Москве с 28 июля по 11 августа 1957 года. Через несколько месяцев в наш класс пришла новая учительница, мы узнали, что наша заболела, и мы, пять или шесть её учеников, собрав в одну кучку наши пятачки, купили на них баночку яблочного пюре и кулёк конфет. Пришли к ней домой. Наша учительница лежала в постели. Она была так же опрятно одета, но в её глазах я увидел грусть. Так мы с ней попрощались, не зная, что видим её в последний раз. Это была учительница старой школы, в класс всегда приходила в красивом платье с брошью на груди. Её спокойная речь невольно заставляла внимательно слушать всё, что она говорила. К сожалению таких учителей больше нет, это была учительница от бога, женщина из высокообразованной семьи. Мне повезло, я был её учеником, я знал её и этим счастлив. Уверен, её уроки впитались в меня не буквами и цифрами школьной программы, а духом жизни, они как гипнотическая сила влили в меня струю справедливости и честности, что до сих пор несу в себе, к сожалению, моей доверчивостью и честностью пользовались многие, от чего часто страдал.
По окончании четвёртого класса, во время летних каникул в семье моей новой учительницы произошла трагедия. Её сын, отдыхая в пионерском лагере у озера Байкал, утонул.
Неоднократно тонул и я, но мой ангел хранил меня.
6.
Улица. Что нужно ребёнку познающему жизнь? Среда обитания, а это семья, школа и улица. О семье я буду говорить на протяжении всей книги, ибо семья это главный источник воспитания. Школа — источник знаний. А вот улица это и воспитание, и источник знаний. Сила улицы велика. Не забывай об этом, потомок. Указывая своему ребёнку жизненный путь, помни, не только ты, но и улица воспитывают его. Не ущемляй его, но и постоянно контролируй, ибо разум его слаб и поддаётся любому воздействию из вне. Наставляй, но не унижай.
В моём случае улица играла большую, но не основную роль. Здесь я впервые услышал скверные слова и научился сквернословить сам. Здесь я познал вкус вина, а затем и водки. Здесь я учился драться. Здесь девочки со свободными взглядами на жизнь пытались овладеть моим телом. Здесь я познавал добро и зло и мог повернуться к добру спиной, но родители вовремя разглядели отрицательные стороны улицы, и умело отвлекли от её пагубных сторон, смогли направить мой детский интерес в правильное русло. Этим руслом была бабушка в посёлке Ильича, и этому руслу я был рад всегда. Школьные каникулы у бабушки, воскресенье у бабушки. И даже поездка в посёлок с пересадкой на площади Октября, занимавшая много времени, не казалась утомительной. Я ехал к бабушке, и если улыбалась фортуна то сидя на мягком сиденье автобуса, но такое счастье выпадало очень редко. От площади Свободы, что в районе старого базара, до площади Октября можно было добраться только на автобусе первого маршрута, а автобус этого маршрута обычно всегда был заполнен до предела. Это был рабочий маршрут, проложенный вдоль всего города, от старой части города по заводам и терялся в какой-то неведомой дали, до которой я никогда не доезжал. Очередь в автобус соблюдалась, но это не решало проблему тесноты в нём. Вздохнуть полной грудью в салоне автобуса было невозможно. Толпа сдавливала грудь, казалось, ещё миг и затрещат кости, а рёбра вопьются в лёгкие. Люди стояли прижатые друг к другу так сильно, что невозможно было пошевелить даже рукой. Но даже в таких стеснённых условиях пассажиры умудрялись доставать мелочь из карманов и передавать их по цепочке кондуктору, который сидел на возвышении у задней дверки автобуса и которому все завидовали. До площади Октября автобус катил без остановок. За это время все пассажиры становились близкими, собственно так оно и было, ибо многие ехали на работу и знали друг друга по совместной трудовой деятельности. А если сосед, к которому того или иного пассажира прижимала толпа, был не знаком, то это было минутным делом, через сто метров поездки оба становились братьями, лучше если братом и сестрой. Я был школьник и никого в автобусе не знал, и такое братство было мне, мягко говоря, не по душе, но кое-кому это доставляло удовольствие. Особенно молодым ребятам, которых крепко прижимали к девушкам. Парни в этом случае шутили, девушки громко смеялись и с каким-то потаённым умыслом повизгивали. И те и другие становились очень близкими и родными. У некоторых пар складывалась семейная жизнь. Весёлые были автобусы и добрые. Даже зимой сильные морозы растапливались в них. Но в том или ином случае все пассажиры воспринимали давку в автобусе за обыденное явление. Многие успевали познакомиться, поговорить на насущные темы, поделиться новостями и даже послушать стихи какого-нибудь местного стихотворца. Тяжело жили, но весело и не жаловались на судьбу. Все считали, что так и должно быть. Пусть в давке, но в автобусе, а не пешком в пургу, летний зной или под проливным дождём. Хуже приходилось тем, кто жил на отрезке старый базар — площадь Октября. Автобус на этом участке никогда не останавливался, и людям приходилось идти пешком либо до площади Октября, либо к старому базару. Ходили, куда денешься. На работу опаздывать нельзя, хорошо, если лишат премии, а если уволят…
Доехав до площади Октября, я выходил из автобуса и подходил к остановке автобусного маршрута номер два. Занимал очередь. Маршрут двойки был самый короткий из всех маршрутов автомобильного городского транспорта, но ждать автобус приходилось по часу и более, дольше автобусов других направлений. Всё дело в том, что на маршруте номер два работало всего два автобуса и по вместимости они были самые маленькие. Кроме того, один из них постоянно ломался. Вот здесь терпение нужно было иметь огромное, стоять в очереди несколько часов было очень тяжело, тем более мне, егозе и непоседе. Если ехал к бабушке с родителями, приходилось терпеть, если был один, посмотрев на очередь и определив, что пешком доберусь до посёлка быстрее, брал «ноги в горсть» и, насвистывая незатейливую мелодийку из какого-нибудь нового кинофильма, бодро вышагивал по улицам и мостовым. Так было быстрее. Через час я был у косогора. С его вершины был виден почти весь посёлок, остров Кораблик и река до её противоположного берега, и конечно бабушкин дом. Он стоял не на склоне косогора, а на излёте его, в ста метрах от озера. Спуск по крутой тропе, частые падения, если тропа не высохла после дождя и если зима, ожог крапивой и остановка у боярышника, если налились её нежные ягоды. Через десять метров узкий проулок, по которому можно было разойтись встречным людям только боком и вот он бабушкин двор. Во дворе два дома, бабушкин и её старшей дочери Валентины, а у тёти два сына, мои двоюродные братья, первый на семь лет старше меня, он со мной не играет, я малявка для него, а вот второй старше меня всего на два года и мы очень хорошие, дружные братья, хотя и старший брат изредка уделяет нам внимание. Строит из деревянных планок самолёт и запускает его с вершины берёзы, что ветвится в конце бабушкиного огорода. Мы видим, как самолёт скользит по верёвке, и визжим от избытка чувств, затем просим, чтобы Валерий ещё и ещё раз запустил его. Нам что, мы смотрим и нам весело, а ему надо забраться на берёзу, потом спуститься с неё и снова на берёзу и так раз пять. А у бабушки есть мой дедушка, а у дедушки две лодки, на большой я катаюсь только тогда, когда за вёслами дядя или сам дедушка, а вот за вёслами на маленькой красивой зелёной лодке железянке могу быть я или братья. Мы катаемся по озеру или плывём на ней на остров Кораблик, там пышный тёплый песок, там мы загораем и купаемся. Хорошо у бабушки летом. Там много моих ровесников, с которыми я играл в догонялки, ножичек, прятки. Там все были одной большой дружной семьёй. Там из окон лилась музыка, транслируемая по радио, и неслись запахи готовящегося обеда. Из тех окон, высунув голову, кричали молодые мамаши своим заигравшимся детям: «Петька, иди домой картошку жрать!» «Вовка, где тебя черти носят? Суп простыл!» Через минуту всю ребятню с улицы как ветром сдувало. Но улица не долго оставалась пустой, через десять минут вся детвора вновь резвилась на ней.
Моя городская улица резко отличалась от улицы посёлка Ильича, но не строениями на них, а жителями её.
В посёлке каждый мог запросто зайти во двор к соседу, и не только за какой-нибудь надобностью, а просто поговорить о том или ином деле или посоветоваться. Здесь молодухи, сидя на брёвнах, лузгали семечки и, вздыхая, делились со своими подругами девичьими секретами, а если за день до этого ходили в клуб на новый фильм, то обсуждали причёску или платье главной героини фильма. Подражали им, но неумело, причёски делать не умели, красивых тканей не было. Помню фильм «Стрекоза», мне было шесть лет, в этом возрасте я, естественно, плохо воспринимал фильм, но вот песню Марине в исполнении Валентины Упрямовой (главную роль в фильме играла советская грузинская актриса Лейла Абашидзе), запомнил прекрасно. На следующий день почти все девушки посёлка, помнится даже и мать, тихо напевали её, аб-дил-дил-дил-дэла, аб-дил-дил-дил-дэла, аб-дил-дил-дил-дэла, дэлила… Прекрасное, спокойное время без компьютеров, с реальным общением с живыми людьми, а не с виртуальными субстанциями.
На моей городской улице я не видел, чтобы молодые девушки собирались вместе на скамье у ворот, хотя ворота были у каждого дома, были и скамьи возле них. На тех скамьях собирались мы, малышня. Играли в испорченный телефон, веселились от души, беззаботно, иногда к нашим играм присоединялись девчата и ребята из соседних улиц. Жили общей семьёй, порой ссорились, но быстро мирились и выдумывали новые игры. Делились конфетами и бутербродами с маргарином посыпанным сахаром. Если надоедало сидеть, играли в подвижные игры: «Гуси-лебеди», городки, прятки, жмурки, догонялки, а если появлялось немного мелочи, играли в чику или пристенок. В эти последние две игры всех обыгрывал Юра, парень золотые руки. Но этим играм мы отдавались по вечерам, когда уставшие и запечённые под палящим летним солнцем возвращались с пляжа домой. К моему телу загар почему-то плохо приставал, а вот сосед, толстый бутуз Гена уже на второй день после купания в реке был коричневый как негр, все пацаны завидовали ему. Это был странный ребёнок, бывало ни с того, ни с чего выйдет из двора своего дома, увидит меня и налетит как коршун, собьёт с ног и радуется, а я до поры, до времени считал его другом. Однажды я вовремя увидел его бег в мою сторону и пригнулся, он перелетел через меня и упал, больно ударившись о землю. С тех пор он никогда не сбивал меня с ног, но в душе постоянно носил гадкие мысли в отношении меня. Почему? Не знаю. Ничем его не обижал, не унижал, не ябедничал на него, как и ни на кого-либо другого. Как-то, позвав меня к себе домой, показал две пары боксёрских перчаток и сказал, что их ему подарил его отец, которого я никогда не видел, как и его мать. Гена жил со своей бабушкой. Но так это было или нет, подарили их ему или купили, дело не в этом, а в том, что он предложил мне заняться боксом. Откуда он узнал несколько приёмов защиты и нанесения ударов, мне не известно, но те приёмы я усвоил быстро и вскоре частенько наносил ему удары по голове и телу. Он перестал боксировать со мной. Через неделю к нам присоединился Миша Миняйло, доставалось и ему от меня, он злился и при этом ещё больше пропускал ударов по своему телу. Затем к нам присоединились и другие ребята нашей улицы, всех их я крепко дубасил. Вскоре они отказались от боксёрских боёв со мной. Ну, кому понравится ни с того, ни с чего получать синяки, да ещё от меня, пацана, которого считали самым слабым за мою худобу, но я был не худ, а поджар.
Я дружил со всеми, никого не считал врагом, но моей доверчивостью кое-кто пользовался. В основном в этом преуспевали Гена и Миша. Как-то я нашёл на пляже золотой корпус от женских часов и сказал Гене, что сейчас он лежит дома на подоконнике. Через несколько минут Гена предложил поиграть в шашки у меня дома. Мои родители были на работе, я согласился, а вечером, вспомнив о находке, не нашёл её. Поняв, что я незлопамятный и сверх меры доверчивый, Гена как-то сказал: «Чтобы не было дома беды нужно всё найденное выбросить на улицу из окна через форточку». Я внимательно выслушал его и решил выбросить всё, цветные карандаши, зажигалку, колечко, цепочку и другие находки, но, придя домой, посмотрел на своё богатство, и мне стало жалко его выбрасывать. Беды не случилось, и я понял, что Генка обманщик.
Миша не был таким крутым хитрецом как Генка, но однажды он всё же обманул меня, а я считал его своим другом.
— Чем будешь занимать сейчас? — спросил он меня в один из летних дней.
— А ты? — спросил я его.
— Пойду на пески, пацаны с Чеховой приглашали в футбол поиграть, — ответил он.
— Я в футбол не умею играть, на улице никого нет, пойду в сарай, дров нарублю, кончаются.
— Возьми меня с собой.
— Пойдём.
Дрова колол я, Миша ходил по сараю и заглядывал в каждый его угол. Через несколько минут, увидев подсак из лески, сделанный отцом накануне, сказал, что на пляже среди камней много больших налимов, но их можно поймать только сачком.
Меня это заинтересовало, отложив в сторону топор, я попросил его показать мне это место.
Через минуту с подсаком на плече я вышагивал вместе с моим другом в сторону реки.
Подойдя к реке, Миша встал на большой валун, опустил в воду подсак и стал водить им из стороны в сторону.
— Ну, как, есть рыба? — спросил я его.
— Пока нет, — ответил он, — но обязательно поймаем. Ты пока походи по пляжу, может быть, найдёшь что-нибудь интересное.
В этом месте, на золотом песке пляжа красовалось несколько десятков горок радиодеталей, в основном конденсаторов. Когда и кто их сюда завёз, никто из ребятни не знал, но знали об этом взрослые парни, их часто можно было видеть среди этих загадочных куч. Что они искали, мы не знали, собственно, нас это и не интересовало, у нас был другой интерес к этим горкам, мы разбирали большие конденсаторы и извлекать из них серебристую ленту фольги. Часто среди этих куч мы запускали ввысь жестяные банки. Выкапывали в песке ямку, клали в неё карбид, заливали водой и накрывали банкой с маленькой дырочкой вверху и сбоку. Через минуту из дырочки начинал виться дымок, к нему мы подносили зажжённую спичку, газ внутри банки взрывался и она, издав хлопок, поднималась вверх. Забава могла продолжаться несколько часов.
В тот день Миша и я пришли на пески не для этой забавы, мы пришли наловить кучу огромных налимов. Побродив среди горок радиодеталей и не найдя ничего интересного, я пошёл к товарищу.
— Поймал? — спросил я его.
Он жалобно посмотрел на меня и сказал, что огромный налим вырвал из его рук мой подсак и ушёл с ним в глубину.
Погоревав, мы возвратились домой. Вечером я понял, что Мишка обманул меня и сказал об этом отцу. Он ничего не ответил мне, лишь укоризненно посмотрел на меня, очевидно подумав, что я простофиля. Через несколько дней отец сделал новый подсак, которым мы вскоре вытаскивали из воды больших язей и лещей, вылавливаемых с лодки на перемёты.
Я жил в доме номер 3, моими соседями были Гена, Вова Семёнов и Боря, они жили в доме номер 5.
Вова был на два года старше меня и у него были свои интересы, поэтому мы с ним мало пересекались, так, иногда на скамье болтали о пустяках, вот и все наши общие дела. Я знал, что он был болен туберкулёзом, но это не отталкивало меня от него. Я всегда был с ним в хороших отношениях и безбоязненно сидел рядом на одной скамье у ворот его дома. Жил Владимир с матерью и больным дядей, и никто в их семье не работал. На какие средства жили, понятия не имел. Вероятно, на какое-то государственное пособие. Проня, так звали дядю Владимира, был не просто болен, он был, грубо говоря, дурачком, но хитрым. Ежедневно, как на работу ходил в магазин, что располагался в ста метрах от дома, в котором жил, становился слева у двери внутри маленького зала, и выпрашивал мелочь протянутой рукой. Отработав до обеда, покупал дорогие папиросы Беломорканал и возвращался домой, но перед тем как зайти в свою квартиру, производил хитрые манипуляции руками, — прятал заработанную мелочь. Входная дверь комнаты, в которой Проня жил с сестрой и племянником, снаружи была обита кожей, под которой был толстый слой ватина. В некоторых местах кожа была порезана и имела довольно-таки внушительные дыры. В эти дыры Проня опускал всю белую мелочь, а медь отдавал сестре. Однажды мелочи набралось так много, что она образовала новую дыру в обивке двери и посыпалась на пол. Так был найден Пронин клад. Мы, ребятня, посмеялись, удивились его смекалке, а Пронина сестра порадовалась находке, лишь Проня долго горевал. А вообще-то он был добрый малый, точнее не малый, а взрослый мужчина. Проня был старше меня лет на тридцать. Если бы не его больная голова, то он был бы прекрасный человек. Его можно было назвать даже красивым мужчиной. Прямой тонкий нос, красивый высокий лоб, большие карие глаза придавали его лицу какую-то неповторимость, и вот что удивительно, на первый взгляд невозможно было сказать, что у него больная голова. Лишь когда он делал шаги, было видно, что его мозг не может правильно управлять ногами и телом. В пространстве Проня ориентировался хорошо, но его движения были порывисты, неравномерны и ноги слегка отставали от движения тела, казалось, что ещё шаг и подкосятся, и повергнут тело на землю, но он шёл, и я никогда не видел, чтобы падал. И второе, что выдавало в нём слабый разум, — его детский ум и отсутствие нормальной речи. В моём детском понимании жизни, я считал, что Проня был основным добытчиком денег, я думал, что только он содержит семью, но, как выяснилось позднее, это было совсем не так. Его заработок — это пачка папирос Беломорканал, булка хлеба за 16 копеек, которую он нёс домой, крепко прижав к груди, и, как выяснилось позднее, несколько монет. Владимир до совершеннолетия не работал, но на улице не болтался. Чем занимался, я не знал и не знаю до сих пор, но, вероятно, всё же добывал деньги на жизнь. Мать Владимира постоянно находилась дома, лишь изредка выходила на базар и в гастроном. (Предполагаю, что варила самогон, так как печь в комнате топилась круглый год). Жизнь этой семьи, как и всех других, не выходила на поверхность. Конечно, взрослые знали, чем занимаются его соседи, а нам, ребятне, это было абсолютно не интересно. К восемнадцати годам Владимир обучился на электромонтёра и стал приносить домой чистую, а не чёрную зарплату. Через полгода в их семье появился телевизор, стол стал богаче, но главное то, что у Владимира появились лишние деньги, на которые он стал покупать водку, а это грозило бедой. С каждой получки и аванса он приглашал меня в свой сарай, где ровными рядами по-над потолком висели копченые осётры, и предлагал распить с ним бутылку водки. В первый раз я даже не понял, что выпил, водка не обожгла меня и не перехватила горло, я просто взял стакан в руки и большими глотками, как воду, выпил его содержимое. Распитие спиртного продолжалось месяца три, а мне было всего шестнадцать лет. Выпив, закусывали копчёными осётрами и шли на улицу. Домой я возвращался слегка выпивши, но однажды очень сильно. Отец читал книгу, посмотрел на меня, естественно увидел, что я пьян, но не проронил ни слова. Дал мне возможность самому осмыслить мой поступок. Не осмыслил. Продолжал пить водку с Владимиром, а затем и с другими моими уличными пацанами.
Боря — сосед Владимира по бараку был замкнутым мальчиком, и на улице редко появлялся. В гости ни к кому не ходил и к себе тоже никого не приглашал. За восемь лет, что жил рядом со мной я был у него раза два, не более. Боря жил с бабушкой, а она, вероятно, остерегаясь плохих воздействий улицы на внука, считая её началом всех бед оберегала его от неё. Возможно, она была права. Боря не участвовал в наших пацанских забавах, не пил с нами вино, не курил. По окончании восьмилетки поступил в строительный техникум, съехал от бабушки в студенческое общежитие и навсегда исчез из моей памяти.
Гена — тоже сосед Владимира по бараку. О нём я уже рассказывал выше, при желании можно было бы ещё что-нибудь вспомнить, но всё, что вспоминается не яркое и несущественное, поэтому не буду ломать голову над строками о нём.
А вот ещё один мой ровесник — Юра Изместев — чётко укрепился в моей памяти. Он жил вместе с матерью в маленькой комнатке деревянного барака, расползшегося тёмной приземистой лентой по правой стороне улицы, напротив моего дома. Юра был добрым мальчиком и очень обязательным. Если что-то пообещал, обязательно выполнит. А какие у него были золотые руки. Он единственный во всей нашей округе мог сделать всё что угодно, и не просто сделать, а сотворить шедевр. Он постоянно что-то мастерил, но жизнь распорядилась так, что все свои поделки продавал на барахолке, особенно у него красивыми получались клетки для птиц. На мою просьбу сделать мне клетку откликнулся быстро, сделал и ничего не взял в знак оплаты, сделал просто по дружбе, вот и всё. Юра много времени проводил на песках, за Ковшом, там в ивняке он устанавливал свои клетки и ловил в них щеглов. (Самец очень красивый, но молчун, самочка серенькая, чуток меньше воробья, но поёт… заслушаешься). Ловил Юра этих птиц и продавал их вместе с клеткой на барахоле, тем и жил, этим и мать содержал. Друзей Юра выбирал с осторожностью, в дом к себе приглашал только меня и Сергея Яцкова, жившего в доме на углу Луговой и Максима Горького. Удивляюсь, как только тот дом ещё стоял, это была деревянная двухэтажная развалюха. Сергей жил с матерью и отцом в однокомнатной квартире на втором этаже. В квартиру можно было попасть только по наружной лестнице, засыпанной снегом зимой и скользкой после летних дождей. В этом доме на первом этаже, но с торца другой стороны жил с матерью крепкий мальчик, фамилию его помню, звали его Виктор, и родился он 9 мая 1945 года. В пятнадцать лет я подружился с ним и часто был у него в квартире, мать ни разу не видел, но в однокомнатной квартире было всегда чисто и опрятно. Через год он ушёл в армию и больше я его не видел. Из девочек того периода хорошо помню Ларису Голубеву, Таню Бессонову, Аллу, двух Валентин. Когда мне было пятнадцать лет, в ковш причалила баржа, шкипером на ней была молодая, не по годам состарившаяся женщина. Не знаю, была ли у неё квартира в городе или не было, вероятно была, не могла же она жить с детьми на барже после навигации, но так это или иначе, дети всегда были при ней, по крайней мере тогда, когда баржа была на якоре. Дети, мальчик на два года старше меня и девочка старше брата на один год. Брат и сестра появились на нашей улице как-то просто и обыденно, пришли и мы сразу приняли их в свою подростковую семью. Нашего нового друга звали Виктор, его сестру Шура. Спокойные хорошие ребята, я часто был у них на барже, познакомился с их матерью, прекрасная женщина. Через два года после нашего знакомства Виктора забрали в армию, а через год и я поступил в Омское военное училище. С тех пор я не видел Виктора, а вот Шуру, будучи в отпуске после окончания первого курса встретил в автобусе. О! Её невозможно было узнать, нет, конечно, я её узнал, но Шура стала умопомрачительно прекрасна, хотя и в первые годы нашего знакомства была стройна и красива. Но когда она предстала передо мной в лёгком пышном платье, с красивой причёской на голове я просто ошалел, она была принцесса. Больше я не видел Шуру, но о ней знал мой брат Юрий. Как-то он обмолвился, что видел её, и она представилась моей подругой. Юрий сказал, что видел мою подругу и был очарован её красотой. Я промолчал, не поинтересовался, где он её видел и что она поведала о себе. Постеснялся даже родного брата. На моём пути было много прекрасных девушек, многие из них хотели быть моими подругами (это было видно по их отношению ко мне и по их глазам), но я был робок, стеснялся первым признаться в моей симпатии к ним, и они были подобны мне в своей застенчивости по отношению ко мне. Судьба, она готовила мне подарок в Омске. Готовила одну суженую.
Глава 4. Я вспоминал
Отрекаясь от своих корней, не почитая их, обрекаешь себя на забвение. Автор.
Апрель 2005 год.
В городе ещё много снега, но весна уже щекочет глаза хитрыми лучами солнца. Я стою на балконе, курю и думаю: «Почему они всегда хитрые именно весной, а не в какое-то другое время года». Ответ приходит через несколько секунд. Хитрые потому что всегда разные. Сейчас они тёплые, ласковые, а вчера были холодные и хмурые. Какие будут завтра, я не знаю, но они будут, даже если застрянут в облаках. Будут завтра, будут через год и через миллион лет, будут, когда не будет никого и почти ничего, ни человека, ни букашки, ни травинки, ни капли воды. Вот тогда им не перед кем будет хитрить, да и хитрыми они не будут, они будут постоянно грозными и злыми.
Покурил, подумал, посмотрел на окурок сигареты и мысленно сказал: «Бросить бы, да сила воли слаба. И вы ещё туда же, говорите, лезете в голову, как назойливые мухи в тарелку с борщом, нет, чтобы дать рецепт, как раз и навсегда бросить эту нездоровую привычку!» — затем открыл балконную дверь и вошёл в гостиную комнату. Жена кроила новое платье. Весна! Игриво коснувшись рукой её плеча, прошёл в спальню и сел за компьютер.
Подперев левой рукой подбородок, смотрю на строки, струящиеся на экране монитора, и ни одной новой мысли не приходит на ум. Позавчера писалось плохо, вчера отвратительно, сегодня никак! Вертелось только одно: «На шее жбан, а не голова!» Вдруг слышу голос.
— Ку-ка-ре-ку! — это мы.
— Кто такие? Почему не знаю? Покажитесь? — говорю им.
— Не можем. Мы мысли твои и у нас нет тела.
Не сочтите меня, потомки, сдвинувшимся по «фазе», я вполне нормальный человек, с хорошей психикой и в здравом уме. Они — это мои мысли. Почему я обращаюсь к Ним и разговариваю с Ними? Потому что легче писать, когда с кем-то ведёшь диалог. На протяжении всей книги я буду разговаривать с Ними, где-то и в чём-то противоречить Им, а в чём-то соглашаться. Так будет ярче раскрываться не только образ моего мышления, но и характер. А чтобы было понятно, что я разговариваю с моими мыслями, я буду выделять Их с заглавной буквы.
Итак, Они «прокукарекали», я перебросился с ними парой фраз и понял, что на шее у меня не жбан, а голова с мозгами!
— Понятно, что нет тела, и что Вы не тётины, коли шуршите в моей голове, только толку от Вас никакого, как были Вы безмозглые, такими и остались, — проговорил я, отмахнувшись от Них рукой и внутренним Я. Ухмылка скривила мои губы. — Безмозглые мысли! Вот договорился, так договорился! Смехотворище!
— Вот именно, смехотворище. Мысли без мозгов! — согласились Они с моим внутренним Я, чем выдавили из меня громкий смех.
Разрядив внутреннее состояние смехом, я вошёл в один диапазон с моими мыслями и спросил Их: «Вы пришли с рецептом?»
— Ты что, болен? — удивлённо проговорили Они и прислушались к состоянию моего тела. — Вроде бы здоров. О каком рецепте ты говоришь?
— О рецепте изгнания застоя в моей голове.
— Ну, брат… если бы у тебя был застой, то не строчил бы сейчас, как пулемёт, буковками из клавиатуры. Мысли у тебя есть и идеи есть, только не хочешь сосредоточиться. И вообще, ты с ними!
— С кем?..
— С нами, с твоими мозгами, или ты их уже потерял.
— Ничего я не терял, есть у меня мозги. Вы лучше напрягитесь и подскажите, о чём писать, — вспыхнув, резко проговорил я.
— Ладно, ладно, успокойся. Знаем, что ничего не терял.
— Тогда что же Вы так грубо со мной?
— Нам можно, мы твои мысли. Кроме того, как-то же надо тебя растормошить, вынести из состояния застоя.
— Вы не вывели, а взбесили.
— Что-то мы не видим, чтобы ты был взбешён. Сидишь смирненько у ноутбука и бьёшь по буковкам клавиатуры.
— Строчу в надежде что-нибудь вспомнить из моей юношеской жизни.
— Мы зачем к тебе пришли? Поболтать?
— А я Вас и не звал, — ответил я равнодушно.
— Не звал. Звал! Себе-то не противоречь! Если бы ты не мыслил, не напрягал мозги, не вызывал мысли на решение стоящих перед тобой проблем, то и не жил. Мыслишь, значит, живёшь. Не мыслят только нерождённые. Короче, работай, некогда нам лясы точить на бестолковую тему, у нас и без того дел хватает.
— Вот договорились, так договорились, — удивился я. — Какие ещё лясы, где точить и как, и вообще, какие такие дела у Вас, моих мыслей. Вы что, забыли чьи? Вы мои мысли, захочу, выкину Вас из моей головы, и валяйтесь в закутке моей памяти, а потом вообще забуду о Вас. Так что не прыгайте, и не хорохорьтесь, я Ваш хозяин, я хозяин моим мыслям, а не Вы — мысли хозяева моим мыслям.
— Ладно, успокаиваемся, только мы тебе уже пять минут пытаемся открыться, а ты нас заблокировал и не хочешь слышать. Ты, вроде бы, нас слышишь и в то же время не слышишь.
— Ладно, всё, мир. Что Вы хотели сказать? Внимательно слушаю.
— Ты не слушай, а прислушайся к своим мыслям. Мы говорим, что у тебя есть мозги, вспомни, о чём думал, когда писал шестую главу.
— Да, так, о всяком, хотя… постойте, не убегайте. Вспомнил, — радостно воскликнул я, чуть было, не переполошив своим внутренним криком не только мысли, но и оба полушария моего мозга.
Я вспомнил о стрекозе, шмеле и щуках, о двоюродном брате Толе, вновь подло поступившем со мной, о его некрасивом поступке по отношению к своим же соседям. Вспомнил о человеческих костях под обрывом у посёлка Кармацкий, о десятках человеческих черепов и рёбер в парке культуры и отдыха меланжевого комбината. Многое вспомнилось и это радовало, значит, не так и дырява моя память, если за секунду выложила столь богатый материал, лучше сказать, вызволила из закутков моей памяти яркие события юности. Обо всём этом и о том, что ещё выдаст моя память, я буду рассказывать в последующих главах, а сейчас о зимнем походе в лес.
Вьюга.
— Дедушка, я хочу к тебе на печку, — посмотрев на деда, млеющего на русской печи, прилепившейся к широкой стене комнаты, что напротив двух окон, беспрестанно смотрящих на переулок, взбирающийся узкой лентой на косогор, проговорил Витя и, услышав ответ: «Полезай, Витша, коли хошь косточки погреть, места много», — взобрался по широким ступеням на лежанку.
Лежанка, покрытая толстой кошмой, приняв худенькое тело внука, тотчас накинулась на него жаром.
Спину печёт, но он терпит.
— Напросился, молчи, — говорит себе, поворачиваясь со спины на правый бок, затем на левый и снова на спину.
Спину запекло уже через полминуты, Витя снова повернулся на правый бок, полминуты и он уже на левом боку.
Дед молчит, сделал вид, что спит, а сам думает, что дальше будет, как себя поведёт внук.
Молчит внук, лишь сопит, да ворочается с боку на бок, но с каждой минутой его тело горит всё сильнее.
— Дедушка, что-то жарко, — с трудом сдерживая адское пекло, проговорил Витя, и приподнялся с лежанки.
— Мошь спустишься? — сказал дед.
— Нет, — ответил он, стыдясь показать свою слабость, лишь попросил деда постелить ещё одну кошму. — Так не будет сильно жечь, — объяснил он свою просьбу.
Но и две кошмы не решили проблему. Адское пекло, пробив толстый слой войлочного полотна, жалило и кусало его тело. Поелозив ещё минуты три, Витя смирился со своим позором и спустился с лежанки. А ещё через пять минут, уткнувшись носом в мягкую подушку, посапывал под тихое завывание вьюги. Ему снились солнечные искры, играющие в пышном снежном ковре и колючие ледяные иглы пытающиеся затмить их.
— Намаялся, ишь как ногами-то сучит, — взглянув на внука, проговорила Екатерина Фёдоровна.
— А всё-таки молодец наш бесёнок, — откликнулся дед, побеспокоился о нас, а Тольша хошь и старшой, а послабже будет.
— Пошто так? — спросила его жена.
— А он сам сказывал, что не хотел уходить от Трофима. Переночевать, эт значит, хотел у ево.
— Вон оно как? Ты смотри-к, вот тебе и малец.
— Ладно, бабка, давай и мы с тобой спать, штой-то разморило меня на печи.
— Ты, спи, Ваня, а мне ещё тесто надать завести, Витю пирожками хочу побаловать.
— И то дело, — сквозь сон ответил Иван Михайлович и вскоре, как и внук, уткнувшись в подушку, тихо засопел.
— Послабже… нет, Ваня, — разминая тесто, мысленно проговорила баба Катя, — тут дело в другом. Толя он крепче Виктора, только беспечный он, вот и весь сказ. Виктор о нас побеспокоился, домой заторопился, эт значит, чтобы мы не волновались, а Толе было всё нипочём. И ранее я замечала за ним это. Будем мы волноваться или нет, об этом он и не думал, о себе больше пёкся, не хотел во вьюгу идти, вот и вся беда. Надать поспрошать завтра, что да как, как умудрились к такому делу. Да-а-а! — тяжело вздохнула Екатерина Фёдоровна, что-то из них получится.
Поставив бадью с тестом на шесток печи, Екатерина Фёдоровна подошла к выключателю, выключила свет и осторожно, чтобы не потревожить внука, легла рядом с ним на свою кровать.
К утру вьюга утихла. Накормив семью пирогами с мясом, баба Катя спросила внука, кто был зачинщиком похода за реку. Виктор ответил, что оба, и рассказал бабушке о прогулке в лес.
Из рассказа Виктора она поняла, что он и её второй внук Толя перешли на противоположный берег реки по зимнику, и углубились в лес. За играми в лесу быстро пролетело время и они не заметили, как… но давайте войдём в дом деда Ивана и послушаем рассказ Виктора непосредственно от него самого.
— Бабушка, а ты была на дороге через реку?
— Была, внучек, только давно это была, а ноне нет… не была, — ответила баба Катя и, задумчиво посмотрев в окно, вздохнула и тихо произнесла, — снегу-то, снегу-то сколько ныне намело. Опеть деду работа, и что за народ ноне пошёл, никто не хочет ступени рубить в проулке. Все ходют на косогор, ходют, а ступени один дед рубит. Снег-то, о-о-о какой шапкой взялся, на тыне-то скоко ево, ужасть. Опеть по весне погреб зальёт, говорила старому не делай, нет, на своём. Есть ледник и хватит, как будто десять ртов у его. Знай талдычит, дети мол, да внуки есть, так-то оно так, ево правда, так жалко же его, дурня, мается кажный год с етим погребом, а толку-то от ево никакова, всё одно в ледник таскат.
— А ты знашь, бабушка сколько много там сена, вся дорога жёлтая. Лошади телеги тащат и сено с возов по земле волочится.
— И куда потом ево, это сено? — проговорила баба Катя, всё ещё витая в одной ей ведомом мире.
— Ни куда, лежит себе и всё тут. По нему мы с Толей сначала без лыж шли, а уж потом, когда с дороги сошли, это уже на том берегу, лыжи надели и в лес пошли. Эх, баб, ты знашь, как там красиво. Он весь блестит, ну, прям как вот у тебя на тыну, — ткнув пальцем в окно, сказал Витя, — только ещё ярче.
— Красиво небось?
— Ух, бабушка, знашь как красиво, аж дух захватыват. Они, эти искры по снегу бегают и понизу, и поверху на деревьях. Я за одну ветку схватился и на меня как посыпался снег и в глазах даже искры были, вот!
— Да что ты говоришь, — ужаснулась баба Катя.
— Ага, аж в глазах!
— А Толя-то хде был?
— Так он, бабушка фотографировал меня. Я тебе потом покажу. Правда, правда, я не обманываю.
— Верю, верю, дальше-то што?
— Играли, катались, правда, боялся я сильно.
— Чего боялся-то?
— Как чего, рысей. Толя сказал, что в лесу рысей много. Они на деревьях сидят и на всех людей прыгают и загрызают.
— Ужасть-то какой? Ох, ты господи! И что, взапрямь видели? — испугано спросила Екатерина Фёдоровна.
— Не, баб, не боись, не видели.
— Ну, слава тебе господи? — проговорила она и перекрестилась. — Так, што дальше-то?
— Ничё! Поиграли маленько и домой пошли, а когда из леса вышли ветер подул. У меня аж чуть шапку не сдуло. Я её потом подвязал на бороде. Жалко, унесёт, потом маме новую шапку покупать.
— Правильно говоришь, хдешь денег напастись на шапки. Шапки беречь надать!
— Я и берегу, она у меня одна, если бы много было… — задумался, — всё равно бы берёг!
«Старому надать новую шапку справить. Старая-то давно уж облезла. А ведь ходит, молчит. Нет, надать справить! — подумала Екатерина Фёдоровна и, посчитав в уме, во сколько это обойдётся, твёрдо сказала, — завтра и сберём!»
— Потом, бабушка, знаешь, как всё заметелило, ужас! Вот, правда, не вру, ничё не было видно. Мы с Толей друг за дружкой шли и всё равно снег в глаза. Колю-ю-ючии-и-й, аж ужас какой! А потом ещё знаешь чё, совсем ничё не стало видно, вот, правда, совсем ничё! Идём и ничё не видно! А я знашь, бабушка, совсем не боялся. Рыси они спрятались, а ветер он чё, у него зубов нету!
— И то верно! — ответила баба Катя, — а никак заблудились бы.
— А мы ничё, не заблудились, — ответил Витя, — эт потому что огонёк увидели. Сначала-то, конечно, ничё не было видно, а потом увидели. Ну, мы на него и пошли, потом дом увидели. Там дяденька с тётей живут. Они нам чай налили и потом спросили, чьи мы. Толя сказал, что он Шатков, а я, что у бабушки в гостях. Дяденька спросил меня, кто мой дедушка, я ответил, что Тюковин. «А не бесёнок ли ты?» — сказал он и мне как-то стыдно стало. Вон куда уже слава обо мне долетела, аж за реку. Я дяденьке спасибо сказал и стал домой собираться, а он с тётенькой стал уговаривать нас остаться, а я знаю, ты, бабушка волноваться будешь, поэтому надел пальто и вышел на улицу. Я подумал, Толя пусть остаётся, а я пойду. Толя потом вышел, стал меня уговаривать остаться, я нет, к тебе бабушка надо, знаю, волноваться будешь. Потом и он лыжи надел, и мы пошли домой.
— А ветер-то как, утих штоли?
— Не-е-е, когда на реку вышли он ещё сильнее стал, льдинки острые по щекам бить стали. Я одной рукой лицо держал, а другой на палку упирался. Когда туда шли, река короткая была, а обратно какая-то широкая стала. Мы, наверно, как-то не прямо шли, а криво, поэтому и долго. А потому что ничё не было видно. Мы потом ещё когда шли, Толя обернулся и сказал, что огонёк ещё видно и можно вернуться, я сказал, что пойду домой, а он пусть возвертается. А он потом сказал, что зимой по реке волки бегают и могут нас загрысть. Я сильно испугался. Мне себя жалко стало.
А шальная девка вьюга пуще прежнего разыгралась. В круговерть запустила снежное покрывало своё. Всё смешала — землю и небо, и не понятно, где низ, где верх. И нет ей дела ни до мала, ни до стара. То завоет как неведомый зверь, то свистом лихим всё окрест оглушит. Ох, держись, путник, хитра вьюга, может и убаюкать, вечным сном опоить!
Раскрываются полы пальто Витиного на сильном ветру, и не может он понять, толи идёт, толи летит. Ни зги, ни огонька впереди, только вой вьюги и острые снежные иглы в глазах его. И не понятно ему, куда и сколько ещё идти или лететь.
Шли в снежное заречье по зимнику — накатанной санями ледяной дороге через реку, возвращались по неизведанному пути и если бы не слабый огонёк впереди — неизвестно, чем закончился бы поход братьев.
— А потом я огонёк впереди увидел и мы на него пошли. И ты знашь, бабушка, мы вышли прямо на наше озеро, а по нему в проулок вошли, а там, ты знашь, и дом наш уже рядом. Во, как, и никакие волки нас не загрызли.
— О-хо-хо! Бедолаги вы мои милые. Ремнём бить вас надать, эт, штобы не убегали без спросу, куда не след!
— А мы, бабушка, не убегали, куда не след. Мы просто в лес за реку ходили, — ответил Витя и, подойдя к печи, взял в руки валенки.
— Ты эт куда? — встревожено спросила внука баба Катя.
— Я к Толе пойду — рисовать будем.
Глава 5. На пороге отрочества
Чтобы твой разум не страдал завтра, не совершай ошибок сегодня. Автор.
Начальный период жизни каждого человека делится на три основных этапа. На этих этапах за ребёнком нужен глаз и глаз. На этих этапах из ребёнка можно вылепить всё, что пожелает его наставник и родители, что даст школа и среда. Нет мудрого наставника, не уделяют должного внимания родители, улица возьмёт на себя роль воспитателя и наставника. На этих этапах формируется характер человека, его мировоззрение, а в целом его судьба, которую, как говорят, невозможно изменить. Возможно, изменить и нельзя, что заложено в каждого человека при зачатии его, то исполнится, но путь к конечному пункту, предначертанному судьбой, человек выбирает сам и этот путь может быть либо тернист, либо осыпан цветами, либо с плавными поворотами, подъёмами и спусками, либо с крутыми взлётами, падениями и виражами.
О первом этапе я рассказал во второй части моей автобиографической повести, на втором отрезке с 10 до 12 лет остановлюсь в этой главе. Этот период моей жизни запомнился не в плавном течении, а отрывочно, кусками, как будто я вовсе и не жил, а появлялся то в одном месте, то в другом. Возможно, это оттого, что те годы не произвели на меня большое влияние, казались мне незначительными, без ярких событий и интересных фактов, но сие не так. Всё совсем наоборот! Всё в жизни ярко, значительно и важно! Уверен, тот период плохо запомнился как раз потому что был насыщен множеством ярких образов и событий, которые, наслоились друг на друга, как строй падающего домино, слились в одно большое, трудно охватываемое детским умом событие, а сейчас трудно извлекаемое И вот сейчас я должен мысленно возвратиться в тот период и шаг за шагом проанализировать его. Без этого теряется смысл написания всей этой книги. Я обязан вспомнить всё! И я выскребу из моей памяти, ушедшие в прошлое образы, события и действия, а пока небольшое отступление от темы, в котором расскажу всего лишь об одном, но ярко запомнившемся дне из моей отроческой жизни.

Уха на Балдине.
В конце сентября, или в начале октября, сейчас точно не помню когда именно, да, это и не имеет существенного значения, отец предложил мне поездку на рыбалку, сказав, что с ним поедет его друг по работе с сыном, моим ровесником. Я с удовольствием принял его приглашение, надеясь не только хорошо отдохнуть в один из последних тёплых дней осени, но и познакомиться с мальчиком одним со мной лет. В воскресенье, ещё затемно, мы, отец и я, вышли из дома, прошли по своей Луговой улице до площади у старого базара и, сев на автобус первого маршрута, доехали до площади Октября. Город ещё не проснулся, воскресенье, поэтому на остановке было всего два или три человека, что дало нам возможность спокойно, без ожидания своей очереди в длинной череде людей, войти в автобус и проехать весь маршрут, сидя на мягком сиденье. На конечную остановку посёлка Восточный прибыли с первыми лучами солнца. Там нас уже ждали друг отца и его сын, мальчик всего на год младше меня. Забегая вперёд, скажу, подружиться нам не пришлось из-за большой удалённости наших домов. Мы жили в разных концах города, и мальчикам нашего возраста ещё не было разрешено отлучаться далеко от дома. Да, мы и сами в этом возрасте ещё побаивались больших расстояний. Они пугали нас своей объёмностью и таинственностью, кроме того, многие родители часто рассказывали своим чадам о пропаже детей разных возрастов, а мне не хотелось теряться в незнакомых местах большого города, каким казался мне мой Барнаул. Собственно, не только мне, но и всем моим ровесникам, поэтому мы играли в своём районе, в пределах двух — трёх улиц.
Наши игры были подвижны, да, и как иначе могло быть, мы были детьми, а детям свойственна подвижность. Подвижность у меня была, а вот с ловкостью что-то не получалось, особенно в девчачьи игры.
В близких отношениях с девочками у меня был напряг. Не в смысле половой близости, об этом я даже и не думал, а о полной дружбе, когда он и она вместе ходили в кино, вместе слушали музыку, вместе проводили время за чтением книг и игр. Ничего и никогда у меня с девочками не получалось, не от того, что они отвергали мою дружбу, а от того, что я просто им её не предлагал, был сверх меры стеснительный. Я их боялся, хотя… не их, а только одну. Когда она была вместе со своими подругами, я запросто подходил к ней, и просил принять меня в их игру. Девочки всегда принимали меня в свои игры, либо в классики, либо в подпинушку, либо просто поскакать на скакалке. Первое время я ничего этого не умел, если в классики я кое-как научился играть, а в подпинушку со временем даже обыгрывал их, то скакалка мне не давалась. Преодолел я эту напасть упорством, сделал скакалку из куска верёвки и долгими часами вдали от глаз девочек тренировался во дворе своего дома. И вот однажды я перескакал всех девчат на своей улице, хотя… их было-то пять или шесть. Моему счастью не было предела и, казалось, девочки должны были бы меня приглашать в игру со скакалкой намного чаще, нежели раньше, но этого не произошло. Мне подумалось, что они обиделись на меня или им стало стыдно за свои проигрыши, но как оказалось, всё было намного прозаичнее. Первоначально они мне просто поддавались, поэтому я и обыгрывал их, а потом они повзрослели, и их уже интересовала не скакалка, а что-то новое, пока непонятное мне. Вскоре и прекратились наши совместные игры в классики. Место этим играм уступила новая игра под названием «садовник и цветы».
Игра в «Садовника» начиналась следующим образом: все игроки становились в круг, и считалкой выбирался садовник. Примерно такой: «На золотом крыльце сидели, царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, кто ты будешь такой? Выходи поскорей, не задерживай добрых и честных друзей!» На ком заканчивался счёт, тот и был садовником. Садовник становился в середину круга, остальные игроки по очереди называли себя каким-либо цветком и садовник начинал игру словами: «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели кроме… — далее он называл цветок, который ему нравился, тот в свою очередь отвечал словом, — ой!
— Что с тобой? — спрашивал его садовник, цветок отвечал, — влюблён!
— В кого? — вновь спрашивал его садовник.
— В (допустим) розу, — отвечал первый цветок.
Роза ойкала и всё повторялось.
Таким образом, всё всем становилось ясно, кто кому нравился.
О себе. В этой игре мне всегда нравился только один цветок, тот который выбирала Лариса Голубева, а она выбирала мой, но дальше этого не пошло. Как сказал выше, я был очень робок, и эта стеснительность не давала мне понять, что я нравлюсь Ларисе так же сильно, как и она мне. Я ни разу не пригласил её в кино, ни разу не угостил мороженным, не написал ей ни одного поздравительного письма, а она мне писала, и в этом я был уверен, так как прекрасно знал её почерк. Каждый год, вплоть до поступления в военное училище, она поздравляла меня с днём советской армии и с новым годом. Её письма отличались от писем других девочек, поздравлявших меня с этими праздниками, не только ароматом бумаги, но и открытыми словами. Она прямо говорила мне о своей любви, а я молчал.
— Мальчишка и девчачьи игры, — можешь сказать ты, потомок, но что поделаешь, если нравится девочка и хочется быть рядом с ней.
Как написал выше, мне очень нравилась Лариса, и я был готов играть в любую игру, лишь бы она была рядом, собственно так и происходило. Игры устраивала она, а когда её на улице не было, мы, мальчишки, играли в свои игры. Игра в зоску, подпинывание свинчатки на количество раз. Выигрывал тот, кто подпинывал её больше всех, не уронив на землю. Только ногой и без помощи рук.
Свинчатка — это свинцовый диск диаметром 3 — 3.5 сантиметра к одной стороне, которой был приклеен кусочек меха.
Я плохо играл в эту игру и постоянно проигрывал, поэтому редко принимал в ней участие. С мальчишками в основном играл на деньги, в чёт-нечет, в чику (пристенок) и другие.
Когда на улице собиралась вся детвора — мальчики и девочки, играли по правилам принятым девочками. Часто играли в испорченный телефон. Смысл игры заключался в том, чтобы просто посмеяться, разрядиться от энергии, впитанной за день. Игроки садились на длинную скамью (или становились в ряд), первому из них ведущий шептал слово, это слово скороговоркой на ухо предавалось второму игроку, он в свою очередь тоже скороговоркой шептал его на ухо третьему, третий — четвёртому и так до последнего. Слова, естественно, разобрать было невозможно. Потом, начиная с первого игрока, все по-порядку говорили вслух то слово, которое было услышано им. Слова, конечно, были на тарабарском языке, что вызывало у игроков не улыбку, а заразительный смех. После всего ведущий называл правильное слово и все вновь пускались в смех. Часто играли в «Гуси лебеди, но это тогда, когда в нашей среде было много игроков.
В начале этой подвижной игры мы палочкой очерчивали птичий дом (гусятник), в котором должны были жить гуси-лебеди и их хозяин. На другой стороне площадки очерчивали поле, куда птицы должны были прилететь на кормёжку. Между гусятником и полем рисовался круг — логово, в нём жил волк. Далее все игроки становились в круг, и простой считалкой выбирался волк и хозяин стаи птиц, остальные становились гусями-лебедями. После этого все становились на свои места, и начиналась игра. Происходил диалог между хозяином и гусями. Хозяин говорил:
— Гуси, гуси! — говорил хозяин.
— Га-га-га! — отвечали гуси.
— Есть хотите? — спрашивал он.
— Да, да, да! — отвечали они.
— Ну, летите же домой! — обращался он к птицам
— Серый волк под горой, не пускает нас домой, — отвечали птицы.
— Что он делает? — спрашивал хозяин.
— Зубы точит, нас съесть хочет, отвечали птицы.
Хозяину ничего не оставалось делать, как сказать:
— Ну, летите, как хотите, только крылья берегите!
Птицы пускались в полёт, волк выбегал из своего логова и ловил птиц. Выигрывал один игрок-птица, тот, кто ни разу не попал в лапы хищника.
Где та девочка из моей юности, где моя первая любовь сейчас, я не знаю.
Шли годы, я закончил военное училище, нашёл свою любовь в Омске и признался в любви моей нынешней жене Светлане. Эту любовь я не хотел терять, понимая, что она настоящая, а та, далёкая, всего лишь грёзы юности.
Но давайте возвратимся ко дню, когда я с отцом поехал на рыбалку.
День обещал быть чудесным. На небе ни облачка и ветер не тревожил застывшую на деревьях разноцветную листву. Даже флаг на заводском клубе, уснув на древке, забыл о своём предназначении, гордо реять во славу страны. А со сносом памятника Сталину осиротела и главная площадь посёлка. Голым мраморным постаментом, вероятно дожидавшимся нового вождя, она напоминала о недавних торжественных митингах, о величии страны и одновременно говорила о неизбежной тленности всего и всея, и о прахе жившего и когда-либо созданного. Но слава восходящему солнцу! Осветив своими тёплыми лучами угрюмую площадь, оно не дало ей омрачить наши души. Вскоре мы плыли на большой деревянной лодке по Оби на её противоположный берег, туда, где река образовала протоку под названием Балдин.
Прибыв на место, я с новым товарищем отправился на разведку, надо было немедленно обследовать прилегающие к берегу кусты, посмотреть, не остались ли на них ягоды, но ничего кроме дикой облепихи мы не нашли. Успокоившись на этом, приступили к сбору хвороста. Перед тем как отплыть на лов рыбы мужчины поставили перед нами эту задачу. Они сказали, что дров надо много, так как будут варить уху. Уха, от одного только этого благостного звука во рту становилось сладко, и где-то глубоко внутри что-то начинало закипать, урчать и бурлить.
Коли заговорил об ухе, напишу вспомнившийся эпизод из юности, собственно, таких эпизодов было много, сейчас я их просто объединю в один.
Каждый год по окончании очередного класса, я приезжал к бабушке в посёлок Ильича на месяц, а порой и на два. Этот период был самым беззаботным и душевно лёгким во всех отношениях. Он был насыщен приключениями. С ребятами из соседних домов мы пасли скот и взбирались на косогор за заячьей капустой, которую, нарвав, с удовольствием ели. Мы пригоршнями запихивали в рот ягоды боярышника, с нескрываемым наслаждением жевали щавель и дикий лук. С двоюродным братом Толей мы гнали по глади Оби дедовскую лодку железянку, ставили её на якорь у подводной ямы, зная, что там всегда водятся осётры и стерлядь и забрасывали по два перемёта. Максимум два часа лова и в садке три — четыре осётра и десятка два стерлядей. Получив удовольствие от лова рыбы, мы гребли к противоположному берегу, где, причалив к мягкому бархатистому песчаному пляжу, разводили костёр и готовили в котелке уху из стерляди. Никогда не забуду вкус этой царской рыбы. А о самой ухе, наваристой и густой… разговор отдельный. (Читал, что Шереметьевская уха с оттяжками варилась трое суток и восхищала своим вкусом даже царей, но с уверенностью могу сказать, что наша стерляжья уха была не хуже. Возможно, даже лучше, так как готовилась с любовью и на природе у реки под лёгкий шёпот костра).
Божественный запах нашей ухи в содружестве с ароматом костра и золотистый жир на поверхности бульона, вызывали слюноотделение.
Вспомнил, написал, но не для того, чтобы и у тебя, потомок, выделить слюноотделение, а для сравнения. Стерляжья уха — это божественное блюдо, но не менее вкусна была уха и из щуки в «содружестве» с окунями.
Через полчаса густой серый дым от костра, взмывая ввысь, до слёз начинал жечь наши глаза, но мы, жмурясь и оттирая их от слёз, наслаждались запахом костра и, превозмогая жжение, подходили к нему и подбрасывали в огонь хворост. Слизав тонкие веточки, огонь приступил к пожиранию толстых ветвей, плотный серый дым исчез. Вскоре костёр запылал ровным ярким жарким пламенем, и я повесил над ним, на перекладину из толстой ветки, усевшейся на две рогатки, котелок с водой, которую зачерпнул из реки. В воду мой новый товарищ бросил собранные им листики смородины, облепихи, земляники и ежевики. Через несколько минут ароматный запах защекотал ноздри и разнёсся по всей реке. На него, но более от нашего зова о том, что чай готов, причалила лодка с моим отцом и его товарищем. После чаепития мужчины вновь отправились на рыбалку, а я с моим товарищем продолжил осмотр прибрежных зарослей.
Прогуливаясь по берегу реки, я пинал ногой камешки, некоторые поднимал и внимательно рассматривал. Мне очень нравились узоры на камнях и блеск на некоторых из них. Пинал, поднимал и удивлялся тому, как природа могла сделать такое совершенство. Один чёрный камень напомнил мне о моей прошлогодней находке, о которой я тотчас рассказал моему товарищу. Это была необычная и редкостная находка, о которой я, к сожалению, в то время не сказал никому. Почему? Всё по-порядку.
Летом мои родители вместе с родственниками часто выезжали на лодке за реку. Брали с собой и меня. На природе они устраивали пикник, вели разговоры на свои взрослые темы, а я в это время ходил по полянке, наслаждался ароматом цветов, пением лесных птиц, любовался перламутровой раскраской зимородков, и осматривал росшие рядом кустарники и деревья. В руках у меня был маленький топорик, им я срубал тонкие веточки, готовил хворост для костра. Так шаг за шагом подошёл к большому дереву. Осматривая выпучившиеся из земли корни, обошёл его со всех сторон, затем перевёл взгляд вверх и обомлел. Большая чёрная опалина с выпятившимися из неё буграми крупных горелых углей смотрела прямо на меня. Опалина охватывала половину диаметра ствола и находилась на высоте немногим более метра от земли, что давало мне возможность ударить по ней топором. Мне очень хотелось отрубить от неё кусочек угля. Приподняв топорик, я ударил им по самому крупному чёрному обуглившемуся бугру и тотчас мелкие искры в купе с металлическим звуком брызнули из ствола дерева. Внутри всё похолодело. Но не искры и звук металла охладили мой пыл дальнейшего исследования ствола сосны, а скол на лезвии топорика, образовавшийся по моей вине. Надо было срочно что-то предпринимать. Детский ум подсказал, что надо незаметно положить топорик на место, иначе мне достанется на «орехи», так как топорик был дядин, и он им очень дорожил. Пороть, конечно, не стали бы, но поругали бы от души. Не сказав о своей находке, и не повинившись, я так и сделал. А зря. Много позднее я понял, что в стволе был металлический метеорит. Застряв при падении в мощной сосне, он спалил кору, но само дерево не сжег, вероятно, в это время шёл дождь, или, застряв глубоко в стволе, метеорит потерял связь с кислородом и быстро остыл. За найденный метеорит государство платило в то время большие деньги. Этих денег хватило бы купить несколько десятков топориков. Хотя и тот топорик мало пострадал. Скол можно было убрать обычной заточкой лезвия. Об этом случае я рассказал моему товарищу, он живо заинтересовался и спросил, далеко ли то место. Я ответил, что дерево растёт на острове в протоке под названием Кривая, а это очень далеко. Выразив сожаление, и глубоко вздохнув, он пустился в дальнейшие исследования берега и прибрежной растительности. Я последовал его примеру. Вскоре мы забыли о метеорите и просто радовались прекрасному осеннему дню.
К полудню мой отец и его товарищ поймали несколько крупных окуней и щук, на этом решили закончить лов и сварить уху. Подбросили в костёр новую порцию сухого хвороста, почистили рыбу, зачерпнули из реки в котелок воду, подвесили его над костром. Вода в котелке закипела быстро, бросили в неё рыбу, картошку, лук, крупу, всё сразу. Пока варилась уха, нарезали крупными кусками хлеб, достали из рюкзаков миски и ложки. Всё разложили на столе, сделанном каким-то добрым человеком на берегу протоки из досок, прибитых к четырём толстым ножкам.
Осень. Погода непредсказуема. Интернета нет, и что день грядущий готовит узнать невозможно. В прогноз по радио никто не верит, поэтому определяют погоду на день по приметам, но и они часто не дают точного указания.
День медленно полз в свою худшую сторону, темнело, подул порывистый холодный ветер. Благо, что все мы были одеты в тёплые одежды, иначе бы нам несдобровать, не околели бы, но замёрзли основательно и, как результат, очень сильно простыли. Мужчины решили, что продолжать рыбалку не желательно и оставаться на реке опасно. За редкими порывами ветра может прийти ураганный, вот тогда на вёслах через Обь добираться до противоположного берега будет очень трудно. А если буруны с пенными серыми гребнями на крутых волнах… Можно представить, что будет тогда, если не перевернёт, может унести лодку вниз по течению на несколько километров, вот тогда и думай, как выходить из создавшегося положения.
Определив по побелевшим глазам рыбы готовность ухи, отец снял с костра котелок и поставил его на стол, Наскоро пообедав, сложили вещи в лодку и благополучно доплыли до посёлка Ильича. Мужчина со своим сыном, моим временным товарищем, пошёл к заводскому клубу, откуда по старому взвозу в сторону посёлка Восточного вела широкая дорога. В том посёлке он жил, а мы с отцом, поднявшись на косогор по новому взвозу, сели на конечной остановке в автобус и поехали домой. Пока ехали до площади Октября, где у нас была пересадка на другой автобусный маршрут, меня сильно растрясло, в животе урчало, бурлило и клокотало. Вся уха была готова выплеснуться наружу. Я с трудом сдерживал себя, чтобы не запачкать автобус, но стоило ему остановиться на конечной остановке нашего пути, как я стремглав помчался к выходу на передней площадке. Дверь открылась, я ступил на первую ступеньку, но, не дав мне полностью выйти из автобуса, сбивая меня с ног, в автобус устремился новый пассажир, красиво одетый молодой мужчина. Наши пути пересеклись, и в тот же миг тугая струя ухи изверглась из моего желудка, окатив мужчину с головы до пят. Ничего не поняв, он по инерции вошёл в автобус, дверка закрылась, и автобус покатил по маршруту, оставив мужчину в среде пассажиров с лапшой на голове и с содержимым моего желудка на лице и красивом парадном костюме. Мне от этого извержения стало легко, и я уже без буйства живота спокойно доехал до дома на другом автобусе.
Оформил, подумал, сделал вывод.
Отступление от темы оформил, теперь пора и к сути этой главы. Пока писал вышеизложенное, многое вспомнил. Заставил сознание вскрыть потаённые уголки моей памяти. И тут же возник вопрос. Почему всё, что пишу, лезет в мою голову лишь тогда, когда открываю Word? Почему неделями и месяцами, даже годами, не возвращаясь к книгам, абсолютно не тянет их писать? Если конкретно об этой книге, то заставляю себя открыть её по необходимости, чтобы мои предки знали, кем я был, а не судили обо мне по разрозненным фактам, а может быть и вымыслам недоброжелателей, если вообще кто-либо будет судить и вспоминать, в чём очень сомневаюсь. В своих воспоминаниях я стараюсь ничего не скрывать, разве что самое, самое личное, что есть потаённое для каждого человека. Это потаённое, естественно, может раскрыть отдельные черты моего характера, показать, кем я был в отдельные моменты моей жизни, но они не существенны, так как, повторяю, могут раскрыть лишь незначительные черты моего характера. Душевные чувства и острые переживания несу только в себе. Мне бы самому в них разобраться, а уж выносить на обсуждение просто не желаю, так меня многие не поймут или хуже того, осудят. А об ушедших либо ничего, либо только хорошее. А уж что мне уготовано, то уготовано, буду нести свой крест до конца. Итак, о желании писать. Так вот, не открываю книгу, нет желания. Открыл, мысли как круговерть осенних листьев под напором тугих потоков ветра. О чём это говорит. Отдельные учёные мужи говорят, что сознание человека не зависит от деятельности мозга. Его мозг, это всего лишь ретранслятор, точнее аккумулятор-синтезатор, получающий разрозненную информацию извне и соединяющий её в единое целое. И второй вывод отдельных «мудрецов». Сознание не является эпифеноменом мозга, оно имеет энергоинформационную природу.
С первым я не согласен и это окончательно и бесповоротно! Ибо, если согласиться, то можно причислить человека к твари, пусть даже и с мозгами, но не имеющей разума.
Со вторым сложнее, здесь всё тонко завуалированно, и всё же с этим вторым выводом я тоже не согласен. В моём понимании сознание есть эпифеномен структуры мозга. Наш мозг так устроен, что сознание, хотя и является реальным, никак не может влиять на физический мир, поскольку является только производным от функций мозга. А уж об энергоинформационной природе сознания вообще говорить не хочу. По мысли тех «мудрецов» получается, что человек робот, а не личность, работающий по программе извне.
Теперь о том, что навеяло мне сознание. Рассказа не будет, просто отдельные факты.
Факт первый.
Я мог пойти по крутой тропе, но не вверх познания чистого мира, а по наклонной вниз, где из подростка формируется отрицательный тип. Старшие пацаны учили нас, малышню, драке, пить вино, курить, играть в карты на деньги и т. д. Предполагаю, что за всем этим стояли взрослые мужчины, имевшие по несколько ходок в лагеря и тюрьмы. Из нас они хотели сделать подобных себе, но более, полагаю, вырастить из способных мальчиков грамотных, интеллектуально подкованных юношей, дать им образование в высших учебных заведениях и далее влить во властные государственные структуры, а это деньги. К нам приставляли девочек лёгкого поведения, они учили нас целоваться, приглашали к себе домой и без стеснения предлагали ложиться с ними в постель. К счастью я до этого не дошёл, всегда считал, что это не достойно мальчика. Не прилично быть с девочкой в тёмной комнате, тем более, лёжа с ней на диване или в кровати.
Девочек, как и нас мальчиков, воспитывала улица, но если мы долго оставались глупенькими малышами, то девочки взрослели быстро, быстрее нас познавали взрослую жизнь. А познав тайное, пытались вовлечь и нас, своих ровесников ребят в порочный круг. Многие из моих товарищей по улице быстро отдались их власти, а меня от всего этого хранила судьба и оберегала мать.
Факт второй.
Мать умело направляла меня в нужное русло, привлекала к спорту и труду, вовремя отправляла на пригляд к своей матери в посёлок Ильича. Спорт я любил, занимался в секции вольной борьбы, затем в самбо. Не было времени и предаваться безделью. С болезнью отца и призывом брата в армию заботы о доме легли на мои плечи. Принести воды из колонки, что на пересечении улиц Чехова и М. Горького, распилить на козлах бревно двуручной пилой (одному, без помощи извне), и наколоть дров, перетаскать вёдрами в сарай машину угля, чтобы потом этим углём всю зиму обогревалась моя семья. Не берусь утверждать на все сто, предполагаю, нашим углём и дровами пользовались не только мы, но и наши соседи. За все десять лет проживания в одном доме я ни разу не видел, чтобы кто-то из них покупал уголь и дрова и загружал топливо в свой сарай. Сосед Павел Воронец, пьяница и тунеядец, уволенный из армии из-за пристрастия к спиртным напиткам не задерживался долго на одной работе, отовсюду его гнали за пьянство и денег у него никогда не было, а когда появлялись, пропивал. Его семья — он, жена и дочь в основном жили на деньги заработанные его женой Анной, учительницей начальных классов. Второй сосед Пётр, портовый грузчик. Не знаю, были ли в его семье деньги в достатке или хватало их лишь на самое необходимое, не заглядывал в их сундуки, но то, что и он никогда не покупал на зиму топливо, об том пишу с полной ответственностью за свои слова. Их сараи всегда и круглый год были пусты, а печи в их квартирах топились беспрерывно.
И ещё один запомнившийся эпизод того времени.
Факт третий.
Как-то отец купил 20 литров спирта и поместил его в стеклянной бутыли в подпол, туда, где хранились наши соления, запасы картофеля и других овощей. Убывает картофель, убывают овощи, понятное дело, семья. Но куда исчезают градусы спирта, отец никак не мог понять. Меня обвинять он не мог, я был слишком мал, винил в этом старшего сына Юрия, но беспочвенно. Да, я видел, как Юрий однажды взял из бутыля пол-литра спирта, но воду в бутыль он не добавлял. (Позднее, когда разгорелся скандал на эту тему между отцом и братом, Юрий сказал мне, что брал спирт из бутыли всего один раз и воду не добавлял).
В результате бутыль со спиртом перекочевал из подпола в родительскую спальню.
Под нашим домом было одно большое пустое пространство, используемое нашей семьёй для хранения овощей. По этому пространству можно было свободно передвигаться из одного угла в другой, т.е. проникать из своего погреба в погреб соседей беспрепятственно. Разграничительной линией между погребами была невысокая насыпь, через которую спокойно мог перешагнуть любой человек. Отец так и не понял, что его обворовывали соседи. Спирт не мог сам по себе терять крепость. Вот так мы жили и ни о чём не догадывались, и этой нашей беспечностью и доверчивостью пользовались, мягко говоря, хапуги. Уж очень быстро исчезали наши зимние заготовки, особенно быстро таяла куча картофеля. За картошкой в подпол всегда спускался я, и мне было видно, как она быстро тает, но я не придавал этому значения, думал, что она просто ссыхается.
Ссыхался и уголь, и дрова. В мой детский ум не закрадывалось ни единой мысли о том, что кто-то может воровать наш уголь и дрова, а, оказывается, это было. До меня просто не доходило, как это так вот взять и залезть в чужой сарай и пользоваться им как своим. Брать то, что не принадлежит тебе. Не мог уголь ссохнуться, как и сухие дрова не могли уменьшиться в размере, а поленница с ними таяла на глазах.
Выше я написал, что не видел, чтобы кто-нибудь из соседей покупал топливо, а печи у соседей топились беспрерывно, и в них было не просто тепло, было очень жарко, что не могу сказать об уютном теле в нашей квартире, в ней всегда было прохладно и ходили мы по полу только в чунях, валенках без голенищ. Того угля, что перетаскивал я вёдрами в сарай, и дров, что ежедневно колол едва хватало на зимний сезон, а могло бы на три, как минимум. Но, повторяю, я был несмышлёный мальчишка, а родителям было невдомёк, что их обворовывают, так как и за дровами и за углём в сарай ходил только я и родители не видели неестественную убыль топлива. Вот так мы и жили. Родители покупали уголь и брёвна, я один всё это носил и перекатывал в сарай, а соседи пользовались моим детским трудом, а в результате денежными средствами моих родителей.
— И воздастся каждому по его заслугам! Воздастся каждому, кто обидел любого члена моей семьи. — Написал я как-то в книге «Оружие мысли», и воздавалось.
Факт четвёртый.
Пётр утонул в Оби в расцвете сил, а Павел сгорел от водки. Передалось это и их детям. Младшая дочь Петра оказалась бездетной, у старшей первенец погиб в детстве, второй сын вырос без отца и ничего хорошего из него не получилось.
Ольга, дочь Павла, неудачно вышла замуж. Муж оказался алкоголиком, она с ним развелась, а их единственная дочь, выйдя замуж за немца, эмигрировала в Германию. На старости лет Ольга вновь соединилась с мужем, но счастье ей это не принесло. Через год муж заболел и ему ампутировали обе ноги, с тех пор она возле него нянькой.
С тех пор я обратил внимание на один явный факт, те, кто обижал меня и мою семью дорого платили за свою подлость, а если подлость переходила все моральные границы то порой и жизнью. Уверен, это перейдёт и к моим дочерям и их детям.
Такова судьба того человека, скажете вы. Может быть, но более всего другое — нравственный недостаток, противопоставление добру. Я уже писал, повторюсь. Живите честно. Отриньте от себя пороки человеческие — жадность, равнодушие, лицемерие, зависть, жестокость, злобу, хитрость, эгоизм, наглость и тщеславие. Не заставляйте страдать свою душу на исходе своих дней.
Не просите бога о наказании виновного в ваших бедах, не молите его о наказании подлых людей, бог всё видит и накажет виновного по заслугам его помимо воли и просьбы вашей. Хотя… говорят, что проклятие действует, и даже на несколько поколений, но для этого нужно сильно ненавидеть и страстно желать наказания своему обидчику, но зачем проклинать невиновных и даже ещё не рождённых людей, потомков обидчика. Зачем проклинать несколько поколений. Мысль материальна, она обязательно примет реальную форму, но надо помнить и другое, проклиная кого-либо, навлекаешь и на себя беду, но уже не в этой жизни, а в вечной, которая может начаться и в тёмном царстве. Вот тогда и вспомнится всё, что сотворил. Не навлекайте на себя беду, живите мирно и достойно, что о себе, к сожалению, сказать не могу. Я не убивал, но злился и желал бед многим людям, за что прошу прощения у всех, кого когда-либо обидел.
Детство, прекрасное, беззаботное время, наполненное яркими событиями, которые, к сожалению, с годами теряются в памяти, поэтому описываю этот период моей жизни не в плавном течении, а рывками, это как бы течёт река, затем исчезает в подземных коридорах, потом снова выходит на поверхность и так многократно. Собственно, так проходит не только детство, а вся жизнь. Это как в фильме «Джентльмены удачи», в котором Евгений Леонов в роли Евгения Ивановича Трошкина войдя по просьбе милиции в роль своего двойника — закоренелого бандита и безжалостного убийцы по кличке Доцент говорит, притрагиваясь то к одной, то к другой части своей головы: «Здесь помню, а здесь не помню!» Вот и у меня то же, одно помню хорошо, а другое забыл напрочь. О чём забыл, писать не буду, а что вспомнил, воспроизведу в письменах.
Факт пятый.
Удивительно, но в детстве я видел вещие сны (и с годами не потерял эту способность, но стал видеть их реже, и моя мать имела такой дар до конца своих дней).
В 12 лет я видел себя за рулём чёрной «Волги». Проснувшись, я услышал внутренний голос, он сказал, что такая машина будет у меня через 12 лет. Так и произошло, купил чёрную Волгу Газ 21, но в 27 лет, а не в 24 года. И ещё один сон. Снится, что иду по площади Свободы, что в центральном районе города Барнаула и неожиданно проваливаюсь в какую-то яму, потом выбираюсь из неё, но почему-то наполовину промокший. Проснулся, позавтракал и, не придав какого-либо значения сну, пошёл в школу. (Учился в школе №8, стоящей на углу проспекта Социалистического и улицы Пушкина. Ранее в этом здании, построенном в 1870 — 1900 годах размещалась казённая женская гимназия с домовой церковью. В 1941—1945 гг. в нём размещался госпиталь раненых на фронтах Великой Отечественной войны. В этом госпитале некоторое время работала моя мать, закончившая медицинский техникум за год до войны. В настоящее время здания нет, его снесли и на этом месте построили клинику современной медицины «Антуриум»). Под конец последнего урока пошёл сильный ливень, который к счастью был не продолжительный, что дало возможность идти домой не под дождём, но, выйдя из школы, я был поражён размахом ливня. По проспекту Социалистическому нёсся буйный поток воды, это была река, а не ручей и эта река с шумом врезалась в другой поток, несущийся по улице Пушкина. Ждать что-либо я никогда не любил (не люблю ждать и сейчас, стремлюсь всё делать быстро), вот и в этот раз я безбоязненно ступил в ревущий поток и стал спокойно пересекать улицу Пушкина. Передвигаясь в сторону пешеходного тротуара и вздымая вверх серые брызги воды, дошёл до середины улицы и на следующем шаге провалился левой ногой в открытый канализационный колодец. Упал, но к счастью удержался правой ногой на плоскости улицы, а не провалился полностью в колодец, иначе бы утонул. Удивительно, но портфель даже не замочил, все тетрадки и учебники были сухи. Очевидно, падая, думал не о себе, а о сохранности портфеля и его содержимого. И ещё один вещий сон. В 10 лет я видел себя знаменосцем. Проснулся в приподнятом настроении, ещё бы, знаменосец, об этом мечтал каждый мальчишка. Помнится, когда ходил на демонстрации, всегда вставал в какую-нибудь заводскую колонну и просил мужчин, несущих флаги, дать мне понести его. Отдавали не все, но находились такие, кто с удовольствием отдавал мне флаг и я гордо нёс его весь путь, а он был долог и длинен. Уставал, но никогда и никому не отдавал стяг, потом нёс его домой и прибивал к воротам. Каждый праздник на воротах моего дома развевался новый флаг. Так вот, видение себя во сне знаменосцем сбылось. По окончании пятого класса мать взяла путёвку в пионерский лагерь (почему-то она всегда брала на первый сезон), и это была моя вторая поездка. Начало лета выдалось холодное, а у меня были только шорты, ни брюк, ни даже шаровар. Почему меня мать так одевала, не пойму, но дело не в одежде, а в том, что мне это стоило. А стоило это мне напряжением всех моих детских сил. В пионерском лагере меня избрали членом пионерского совета, а совет назначил знаменосцем, и я был нескончаемо счастлив. В один из дней был какой-то праздник, и весь лагерь выстроился на пионерскую линейку, я внёс знамя под звуки горна и барабана на пионерскую линейку и встал рядом с трибуной (где-то в семейном альбоме даже сохранилась фотография). А утро было очень холодное, пасмурное и мне было очень холодно в шортах, благо на мне была кофта, иначе бы околел окончательно, но и того, что выдержал хватило с лихвой. Линейка была долгая, речи, рапорта председателей отрядов председателю совета дружины и её рапорт старшей пионервожатой. Было тяжело и холодно, но я справился с поставленной задачей и гордо держал знамя дружины.
Пионерские лагеря тех времён были в каждой организации, а у заводов тем более. Тяжело жил народ и страна в окружении буржуев, но государство не жалело средств на детей. Путёвки в пионерские лагеря и четырёхразовое питание в них было бесплатное. В лагерях были кружки по интересам, моделирование, судостроение, пение, рисование и многое другое. Бесплатны были и городские кружки. Помнится, я побывал во многих. Несколько дней ходил в кинокружок, руководитель дал даже снять что-то на кинокамеру, потом мы смотрели свои ролики. Записывался и ходил в спортивные кружки, сначала в секцию классической борьбы, затем в самбо. Полгода ходил в морской кружок, где изучал семафорную азбуку флажками, а как-то даже записался в кукольный, привёл меня в него товарищ по классу. Записывался, ходил, но мало где оставался, кроме секции самбо. Всё было бесплатное. Школьное питание для особо бедных семей тоже бесплатное, хотя полноценный обед стоил очень дёшево, на 10 копеек можно было прекрасно пообедать. Не помню, чтобы когда-то был голоден, а поесть любил, особенно мясо.
В нашей семье перед сном было принято желать друг другу доброй ночи. Я всегда говорил: «Мама, папа, спокойной ночи!» Они отвечали мне: «Приятных снов, сынок!» Но однажды я не высказал пожелания. Мать спросила, почему я же желаю никому спокойной ночи. Я ответил: «Вы желайте мне спокойной ночи, а я буду говорить вам приятных снов». Мать удивлённо спросила: «Почему?» Я ответил, что сны мне спать мешают. А ведь действительно, они на самом деле иногда мешают спать, и после них просыпаешься с больной головой.
Я уже говорил, что постоянно ходил за матерью как пристёгнутый к ней хвостик.
И вот как-то стояла она перед трюмо и тихо говорила: «Какая же я страшная стала». Я услышал, стоял как обычно рядом, и проговорил: «Не расстраивайся, мама, ещё страшнее тебя бывают».
Вот утешил, так утешил.
Рассказала она об этом случае на работе одной, та другой и так по цепочке дошло до женщины, которая никогда не видела мать в лицо. Спрашивает она свою собеседницу: «Что, на самом деле она очень страшная?» «Да, ты что, — отвечает ей подруга, — красавица, каких поискать».
Факт шестой.
— Мне самый большой кусок мяса, — беспокойно говорил я матери, когда она разливала по тарелкам суп, и это повторялось постоянно. В конце концов, стоило мне повернуть голову в сторону матери, разливающей суп по тарелкам, как она тут же, не дав мне даже раскрыть рта, говорила: «Знаю, знаю! Тебе самый большой кусок мяса». Я умолкал. Мать ставила на стол тарелки, и я, видя, что в моей самый большой кусок мяса, успокаивался. Каждую косточку обгладывал так, что собаке вряд ли что осталось, благо её у нас не было, иначе бы она сдохла с голоду.
Вообще мать заботилась обо мне, очевидно от того, что я был самый маленький и худенький в семье. Так думаю я, а в действительности она помнила обо всех, никогда не забывала о семье, особенно о детях. Я рос живчиком, не сидел на одном месте, был подвижным и активным, от этого и был худощав. Ну, какой жир может нарасти, если всё время в движении, бегом даже в магазин за хлебом. Всегда бегом, а повзрослев — быстрым шагом. Мать, видя мою худобу, считала, что я был малокровным (действительно у меня почти ежедневно носом шла кровь), поэтому подкармливала меня сливовым компотом с ломтиком лимона (он продавался в продуктовых магазинах в 200 граммовых баночках), и покупала в аптеке глюкозу в ампулах, которую заставляла выпить каждое утро. Компот или глюкоза, не знаю, что подействовало на моё телесное развитие, но стал крепчать и набирать вес. Дело, уверен, было не в пищевых добавках, а в занятии спортом и в физическом труде. Хотя и питание имело большую роль. С каждой получки родители давали мне деньги на большую 1 литровую банку абрикосового компота, который я очень сильно любил. До сих пор помню цену тех баночек с компотом. Первый сорт стоил 83 копейки, второй 78 копеек. По вкусу первый сорт от второго мало чем отличался, разница была в самих фруктах, у первого сорта они были гладкие, крупные, насыщенные сладкой мякотью и без тёмных точек на кожице, а у второго ржавые оспины были на каждом абрикосе и сами фрукты были сжамканные, твёрдые и с жёсткими волокнами в мякоти, но когда в продаже не было баночек с компотом первого сорта, приходилось брать второй. Я был рад и этому. Кроме денег на компот родители часто давали деньги на конфеты, моими любимыми были барбарис и пастила. О пастиле можно говорить бесконечно долго, это было моё второе любимое лакомство, после абрикосового компота. Пастила моего времени это не нынешняя конфета, которую надо жевать бесконечно долго и которая рассыпается при жевании на мелкие не поддающиеся растворению бусинки. 200 грамм пастилы моего времени умещались не в малюсенький пакетик, как сейчас, а в большой кулёк и в этом кульке было не 10 конфет, а десятка два, если не больше. Вот такая она была воздушная, нежная и не просто сладкая, а с изысканным вкусом.
Факт седьмой.
Мне всегда нравились полевые цветы, нравятся и сейчас, только ныне их днём с огнём не найти. Леса вытоптаны, поля утрамбованы колёсами авто, остался репейник и чертополох, да, и того скоро не будет. Исчезли жарки, редко встречаются, по крайней мере в пригородной зоне, подснежники, сон трава, дождь цветы, ромашки. Ковыль и тот растёт не буйными разливами, а мелкими пятнами на хилой бледно-зелёной поросли. Но, ностальгируй не ностальгируй, изменить что-либо уже невозможно. Там, где нога современного человека ещё не ступала, конечно, сохранилась девственная природа, а там, где прошли табуны цивилизованных дикарей, остались лишь пятна кострищ и горы разноцветного мусора.
Каждый год в середине апреля я ходил в лес за цветами. Поход совершал в воскресенье, в остальные дни школа. Выходил из дома рано, садился на трамвай номер два и доезжал до конечной остановки — авторемонтный завод, а там до леса рукой подать. Шёл, насвистывал незатейливую мелодию, любовался проклюнувшими ростками молодой травы, слушал пение птиц.
— Откуда в лесу голубые попугайчики и почему у стволов некоторых деревьев ещё лежит снег? — думал, удивляясь, но через минуту удивление сменялось восторгом. Я ступал на поляну, осыпанную розовыми, белыми, синими, фиолетовыми подснежниками. Много позднее я узнал, что те цветы называются сон трава, но в моём детстве их все называли подснежниками, но как бы они не назывались, они были и радовали глаза.
Я рвал эти цветы, не много, небольшой букетик, клал его в сумку и с радостной улыбкой на губах возвращался домой. Цветы, конечно, маме.
Последний поход за подснежниками запомнился на всю жизнь в мельчайших подробностях.
В маленьком доме на улице Мамонтова, протянувшейся узкой лентой по правую сторону реки Барнаулка жил мальчик Вова. Я был с ним слабо знаком, не знал, кто его родители, не был у него дома ни разу, и особую дружбу не вёл, но он изредка приходил ко мне домой. Очевидно, я чем-то ему нравился, или у него не было друзей. Подробности не знаю. Приходил, родители усаживали его за стол, поили чаем, потом мы что-то мастерили или просто говорили о своих мальчишеских делах. Как-то я ему сказал, что в воскресенье собираюсь в лес за цветами. Вова тоже очень любил свою маму и попросил, чтобы я взял его с собой. Естественно, я не отказал ему.
И вот мы уже в лесу, травка изумрудная, листочки маслянистые на кустарниках проклёвываются, цветов море бескрайнее, красота неописуемая! Идём, солнышку радуемся, цветы в букетики собираем. Не заметили, как к небольшому болоту подошли, а там цветы божественной красоты и разных расцветок, не видывал таких ранее. Ступил на кочку болотную, она закачалась, угрожающе хрюкнула, вмиг чары с меня слетели. Посмотрел на весёлые цветочки, покачал головой, вздохнул горестно и повернулся спиной к болоту.
Вова стоит, глазами моргает и молчит. Какие мысли были у него в голове, не знаю. Только не стал он повторять мой эксперимент. И правильно сделал, а я бесшабашный был, как сейчас говорит молодёжь, безбашенный, т.е. как бы без головы, хотя, естественно, она у меня была и сейчас на своём месте сидит.
Посидели мы с Вовой на травке молоденькой и в обратный путь собрались. Букетики у каждого в сумке лежали.
Вышли на полянку, видим вдалеке деревня, а на окраине её ребята играют с мячом. Играют, ну, и играйте на здоровье. Мы вам не мешаем и вы нам не мешайте. Ан нет, нашёлся среди деревенской пацанвы хулиган. Захотел удаль свою показать, выпедриться перед товарищами. Устремился бегом в нашу сторону, а за ним полтора десятка его товарищей. Бегут, радостные, лица красные, улыбаются. Нас, очевидно, поприветствовать пожелали. Налетела орава удалая на двух подростков и давай приставать к ним, к нам, значит. В той ораве в основном малявки были, но много их, да, они и не буйствовали, стояли в сторонке и смотрели, как их взрослые товарищи к нам претензии высказывают. Почему, мол, ходим здесь, по их территории, почему, мол, разрешение у их не спросили на посещение их леса. Ну, и так далее, в том же духе.
Стоим мы с Вовой, молчим, понимаем, что если задираться будем, бойня пойдёт и нас изметелят. Самые взрослые деревенские пацаны года на два — три старше нас. Куда нам двоим с ними справиться? Бесполезно, поэтому и молчим.
Один из местных увидел на Вове новый картуз, сорвал с его головы и на свою надел. Вова не выдержал такого хамства, в бой ринулся. Пацан деревенский его оттолкнул и побежал в свою вотчину. Вова за ним, но куда там. Не догнал он ворюгу, возвратился, голову опустил, и побрели мы с ним на трамвайную остановку.
Переживал я за Вову, но ничего поделать не мог. А вот стыдно было, не оказал помощь своему товарищу. Домой ехали молча. Утешать я не умел, да, и не было смысла. Возвратить ему картуз я не мог. Приехав, вышли из трамвая. Вова от горя побрёл понурив голову, я склонив её от стыда. От горестных дум забыл даже о сумке с цветами, оставил её в трамвае. Лишь на подходе к дому понял, что руки пусты. Теперь надо было утешать меня, но мне этого не требовалось. Родители никогда не наказывали меня за потерянные вещи, они не стоили того, чтобы травмировать душу ребёнка. На развилке дорог Луговой и Максима Горького наши дороги разошлись. Вова шёл домой без картуза, я без сумки и без цветов.
Через час к нам домой пришёл Вова, а с ним и его мама. Рассказал я ей нашу горестную историю, шлёпнула мама Вову по голове, на этом и закончилась наша дружба. Что послужило причиной разрыва отношений, не знаю. Может быть, Вовина мама сказала ему: «Не дружи с этим мальчиком, он плохой», а может быть что-то другое, гадать не буду. Факт — есть факт. Собственно, я и не переживал, другом Вова мне не был, так, просто знакомый. Хотя… если честно… мой поступок был не из гусарских, в бой вместе с Вовой я не ринулся.
Часть вторая. Отрочество

Мысль рождает следствие! Автор.
Глава 1. Это было
27 мая 2005 год.
Раннее утро. Мои ещё спят, а я уже принял душ и выпил бокал кофе. Последнее время, видимо дело идёт к старости, просыпаюсь в пять утра. Открыв глаза, не млею в кровати и не потягиваюсь, как когда-то в молодости, а сразу встаю и иду в душ.
Пять часов сорок минут, а уже жарко. Выхожу на балкон, он отдушина. Балкон перекрыт и огорожен деревянными рамами со стёклами, но две рамы открыты, и лёгкий прохладный ветерок остужает моё тело. Прикуриваю сигарету и делаю глубокую затяжку.
Курить так и не бросил. Очевидно, уже и не брошу никогда!
Слышу.
— Всё куришь?!
Оглядываюсь назад, никого нет.
— Померещилось! — подумал я и задаю себе вопрос. — Может быть права жена, говоря, что моя психика уехала не в ту сторону?
А в какую, не говорит. Видимо сама не знает!
Отвечает моё сознание, — пришли Они.
— Вы? — говорю я тихо, так, чтобы не разбудить жену, и слышу их утвердительный ответ.
— Мы! Только, почему шепотком?
— Да… тут… такие дела… сказал жене, что говорю с Вами, так она посмотрела на меня, как на умалишённого. С тех пор молчок. Ни слова о Вас и ни звука при Вас.
— Понятно! Да, а зачем ты вообще говоришь?
— А как иначе? — спрашиваю я Их опять шепотком.
— Беседуй с нами мысленно! Ты же слышишь нас!
— Слышу!
— Вот и мы слышим тебя. Мы твои мысли!
— И точно… что это я! Осознаю, что можно говорить мысленно, а шевелю языком.
— Научишься! — утвердительно говорят Они.
— Привыкну! — отвечаю я, и слышу Их слова, удивившие меня:
«Твою жену можно понять, но вот ты ставишь нас в тупик!»
— Я… Вас… в тупик!? — часто заморгав глазами, вновь прошептал я. — Не пойму!
— Это мы не поймём, что ты хочешь. Думаешь об одном, пишешь о другом! В твоей книге нет последовательности. В ней всё разрозненно и путано.
— Вас не было целый месяц!
— Будь точнее! Мы не разговаривали месяц, но контакт не прерывали. Мы всегда были с тобой. Ты что, забыл, мы твои мысли, следовательно, мы не можем покинуть тебя. Твоё подсознание ежедневно принимало нашу информацию, но ты не прислушивался к нему. Поэтому потерял нить связующую главы книги.
— И что теперь делать?
— Писать! Перечитай всё написанное, переосмысли, удали ненужное!
— Но это же…
— Детский лепет?
— Пожалуй, Вы правы! — потерев левой рукой лоб, мысленно ответил я и вспомнил своё первое школьное сочинение, за которое получил трояк с натяжкой.
Ужасно не любил что-либо сочинять. Диктанты более-менее терпел, но изложения, а тем более сочинения были для меня хуже острого ножа, ранившего тело.
— И откуда всё взялось? — думаешь ты, проговорили Они.
— Вот именно! — мысленно ответил я и добавил. — Хотите честно?
— Валяй! — непринуждённо проговорили Они.
— Считаю, работа над этой книгой пустая трата времени. Пусть она будет даже литературным шедевром, её никто не прочтёт! И у меня нет средств, чтобы её издать!
— А как же журналист из Санкт-Петербурга?
— Молчит более месяца!
— Почему?
— Думаю, что мои книги не заинтересовали его.
— Напротив! Заинтересовали и очень, но он решил воспользоваться твоим трудом в своих корыстных целях, за что и был наказан Высшим Разумом. Забудь его! Ищи новые знакомства.
— Легко сказать, ищи! Где я их найду?
— В своём городе! Иди в издательства, стучи в двери, и они откроются! Признание не приходит само по себе, его надо зарабатывать упорным трудом и добиваться доступными методами!
— Идти сейчас? — спросил я Их, но Они промолчали.
Закурил новую сигарету и подумал: «Интересно, как начался этот день — 27 мая, сорок лет назад».
Уважаемый потомок, напоминаю, Они это мои мысли, и весь этот разговор я вёл сам с собой мысленно, для того, чтобы показать тебе ход моих рассуждений, и никто со мной не разговаривал и никаких голосов я никогда не слышал. Это фэнтези, повторяю, для того, чтобы мне было легче вести с тобой, потомок, разговор.
Ниже я написал небольшой рассказ и назвал его «Сорок лет и миг». В этом рассказе я показываю моё детство и пересказываю часть того, что когда-то слышал от моих родственников. Рассказ я облёк в форму фэнтези, так мне было легче вспоминать и писать, а тебе, предполагаю, будет интереснее читать. Рассказ, это моё далёкое прошлое, некогда бывшее реальностью, но, повторяю, с долей фэнтези.
1. Сорок лет и миг.
Кто-то слегка тряхнул моей головой и всё пространство, обозреваемое мной с балкона на пятом этаже, затрепыхалось и, растворяясь, стало медленно уплывать вдаль. Покосившиеся хибары с живущими в них стариками, коттеджи новых русских, строящиеся высотки у приземистого здания железнодорожного вокзала, берёзы и тополя с только что народившимися маслянистыми листками, бор на горе и голубое небо над головой, вскоре совсем исчезли, а следом куда-то поплыл растворяющийся балкон. Через миг я завис в молочном туманном пространстве и на какое-то время потерял реальность бытия. Я не упал на пол, не свалился с балкона, не ударился головой о косяк двери, просто потерял реальность времени и пространства. Бывает так, когда ни с того, ни с чего вдруг голова пойдёт ходуном, что-то в ней вздрогнет, перевернётся, потом заколышется, запляшет, закружится, застится лёгкой светлой пеленой и захочется за что-то ухватиться, чтобы не упасть, а потом всё проходит, и вроде бы ничего и не было, но в этот раз всё было иначе. Очнулся после лёгкого щелчка в голове. Ярких образов, видимых секунду назад с балкона, и самого балкона уже не было, был лишь лёгкий туман, сквозь который просвечивалась серая лента бурной реки, её далёкий противоположный берег и знакомый с детства аромат деревянного настила моста, на котором стояли мои ноги, естественно со всем моим содержимым, а не отдельно от тела. На моих ступнях были домашние тапочки, те, в которых секунду назад я стоял на балконе.
Да, миг назад я был на балконе, сейчас стоял на старом скрипучем мосту из моего детства. На том мосту, где когда-то с группой ровесников почти в упор столкнулся с неведомым «привидением».
— Чудеса! — изумлённо проговорил я, не осознавая, что переместился не только в пространстве, но и во времени.
Перемещение в пространстве меня не испугало, даже как-то позабавило (ну, ладно, сяду на автобус и доберусь до дома), а вот сам мост озадачил. Я знал, что моста, на котором сейчас стою, уже давно нет, на его месте построен другой, железобетонный и вот эта несовместимость уже через минуту привела в замешательство, затем в озноб и волосы дыбом встали на моей голове. Стою, ошалело озираюсь по сторонам, и не знаю, что предпринять.
Проходит минута, другая. Растерянность сменяется тревогой и вот уже ужас медленно, но неуклонно охватывает всю мою сущность.
— Господи! Да я же переместился в прошлое! Я теперь никогда не увижу жену и детей. О боже, что они подумают обо мне?! Скажут, что я их бросил! Сочтут меня предателем! Проклянут меня! О боже, что делать?! — мысленно стонал я, но ничего не мог изменить.
Раннее утро. Озноб по телу усилился, но не от прохлады веющей с двух рек — Оби и впадающей в неё Барнаулки, а от полного осознания действительности, могущей навсегда поглотить меня в себе, растворить в этом прошлом, уничтожить как личность. Пойди, докажи, что ты не «верблюд». Ни документов, ни имени и фамилии, ни жилья, ни прошлого. Ну, какое прошлое могло быть у мужчины на шестом десятке лет, если мне в том времени всего семнадцать.
Обь.
Ближний левый берег метрах в двухстах. На нём ни единого дерева, лишь хилый бледно-серый кустарник и десятка два тонких искривлённых ив, неведомо как пробившихся сквозь нагромождение битого кирпича и куч металла. Когда-то здесь шумел лес, звенели ручьи и пели канарейки. Сейчас этот берег тоскливо смотрит песчаными сопками-чириями, рукотворными оспинами-ямами, свалкой мусора и хилой растительностью на своего брата — правый противоположный берег с серыми островками ещё спящей дикой облепихи, лентой мощных ив и возвышающейся над ней грядой темно-зеленых сосен. На том берегу течение реки бурливое, мощное, кричащее, на этом как сомнамбул, тихо бредущий неведомо куда. Зацветёт облепиха, и во второй половине лета созреют её золотистые ягоды. Они кислые. Куда до них лимону, он покажется сладким после них.
1965 год. Ещё мало в собственности моторных лодок. Даже мужики, живущие близ реки, с завистью смотрят на тех, у кого они есть, а если лодка шарпи или казанка то… но через три года горожане обзаведутся ими и как дикари с выпученными глазами кинутся на облепиху. Облепиха колючая, пока наберёшь горсточку ягод — все руки оцарапаешь. Руки надо беречь, облепишку проще под корень топориком и в лодку. А ягода кислая, скулы сводит, и всё равно царапает руки. За борт её! И поплывут по великой Оби кусты с янтарными ягодами, и через два года её правый берег будет тоскливо смотреть на своего брата — левый берег. Э-хе-хе! Человек, что ты творишь?
Вода в Барнаулке мутная, она весной всегда такая. Течение её бурливое, берега точит. Близко к реке лучше не подходить. Огромные земляные глыбы не редко отрываются от берега и с глухим стоном низвергаются в серую круговерть реки. Часто в эту пучину попадают кошки и собаки, редко кто из них выбирается на берег. Видел, неоднократно видел их вздувшиеся тела уносимые Барнаулкой в Обь. Ну, вот зачем они подходят к реке? Я, пацаном, подхожу, понятно для чего. У меня азарт! У меня страсть! Я с багром подхожу к ней и метаю его в каждую проплывающую деревяшку. Мне не нужны дрова, у меня совсем другой интерес, адреналин в крови кипит, у меня азарт, и от предвкушения скорой борьбы тела и духа с водной стихией пылают глаза. Рядом со мной другие пацаны, мои товарищи. У нас соревнование, кто больше наловит деревяшек, тот везунчик, тот победитель и ему все завидуют. Потом радостные, с горящими глазами мы несём улов домой. Но это мы, а животные, им дрова не нужны, и с высокого берега им не добраться до воды, чтобы полакать её. Так зачем? Не понятно! А если человек, и нет никого рядом… Унесёт Барнаулка того бедолагу в Обь, а там… А там — в коряжинах… налимов как карпов в рыбном магазине моего времени. И они санитары реки.
Плывёт доска, мы разом бросаем в её сторону наши багры. Я промахнулся, быстро выбираю за верёвку мой гарпун, но поздно, Юркино орудие лова поражает цель, но это ещё не победа. Доску надо вытащить на берег, а она сопротивляется, как пятидесятикилограммовая щука. Доска плоская, на неё давит стремительно несущая вода. Давление, напор, упор! Мы помогаем ему. Без нашей помощи Юрку может утянуть в себя река, а там…
По правую сторону Барнаулки несколько приземистых домишек, построенных вероятно ещё при Демидове. Они мрачны, черны и мне, ребёнку, кажется, что за их стенами из толстенных брёвен, изъеденных временем, живут не люди, а привидения, ведьмы и всякая другая нечисть. Далее узкоколейка, ползущая от берега Оби, запруженному деревянными баржами, куда-то вдаль, такую, где я ещё не бывал. Мне, ребёнку 10 — 12 лет идти туда одному боязно, я дохожу лишь до бензозаправки, поворачиваю направо, прохожу мимо деревянных двухэтажных домов, ступаю по второму мосту через Барнаулку и захожу на территорию спичечной фабрики. О! Здесь праздник! Здесь красивые этикетки! Их много и можно брать сколько угодно. Разноцветные рулоны свалены в огромный деревянный ящик, я разворачиваю их и выбираю самые красивые этикетки. Иногда попадаются куски селитры, это ценность, за небольшой кусочек можно выменять у пацанов, что-нибудь нужное, например рыболовный крючок или кусок лески. Потом иду на базар и если есть пять копеек покупаю стакан семечек, если денег нет, собираю куски металла, что валяются возле небольшого завода, что напротив туберкулёзного диспансера и сдаю его в пункт приёма металлолома, благо, он здесь же, рядом. Вот и семечки, купил. Пять копеек не проблема! Прогулка по кругу закончена, я дома. Улица молчит, скучно. Скорей бы праздник. Хоть какой, лишь бы праздник. Тогда весело, тогда улица бурлит. Мужчин на улице нет, их вообще нет, их практически нет, на нашей улице вдовы и одинокие женщины, а с ними веселья мало. Весело с ровесниками, тогда они все, как разноцветный горошек, высыпают на улицу, и мы носимся по ней без устали, прыгаем, дерёмся на деревянных мечах или, сидя на скамейке, рассказываем страшные истории. А вечером смотрим концерт. Его показывают подвыпившие бабы, женщин на нашей улице мало.
— Вот тебе! Вот!
— И тебе, вот! Вот! — визгливо кричат они на всю улицу и, поднимая подолы, хлещут себя кто по тощим, а кто-то по пышным задам в серых панталонах.
Через час сидят эти две кумушки на скамеечке и лузгают семечки. Семечек, как дафний в вечных лужах улиц. Круглый год деревенские женщины торгуют на базаре рыжими зёрнами подсолнухов. Пять копеек стакан. Мужики на семечки не размениваются. На телегах, доверху груженных мешками, приезжают они в город и торгуют картошкой. Мелкая — восемь копеек килограмм, двенадцать крупная, и это по деньгам образца 1947 года. Дорого или нет, судите сами, когда зарплата всего 800 рублей у рабочих, 1200 у инженеров. Картошка рассыпчатая, сладкая, особенно, когда молоденькая, в тоненькой плёночке. Плёнку я не снимаю, она не ощущается, да, и с ней вкуснее.
Стою на мосту. Воспоминания событий давно минувших лет слегка расслабляют и не дают сознанию сойти с ума. А «шарики за ролики» могли бы закатиться от осознания того, что перемесился в далёкое прошлое, из которого нет выхода. Но, слава Великому Разуму, он вывел мой рассудок из оцепенения и позволил ему логически мыслить.
На мне спортивный костюм и домашние тапочки на босых ногах, благо, что тапочки новые, месяц назад купила жена, а не старые — с выпирающими из дыр пальцами. Смотрю на них, низко опустив голову, и думаю, как выбраться из сложившейся ситуации, но ни одна сколько-нибудь дельная мысль не посещает моё серое вещество, «расползшееся» под черепной коробкой. От пустоты в голове, она начинает тихо попискивать, потом скрипеть и вскоре звенеть как пустой металлический чан. Охватив свой «шаровидный отросток» руками, я тряхнул им, внутри него что-то булькнуло и я понял, что он не пуста, а чем-то набит, значит то, что находится в нём пусть не сейчас, но выдаст нужную информацию, значит, я обязательно выберусь отсюда и снова войду в моё пространство и время. Чтобы не стоять как истукан, надо было что-то предпринять, и я решил мысленно войти в то состояние, в котором находился на балконе, но как бы я ни напрягал извилины моего головного мозга, всё было безрезультатно, я не мог вспомнить даже того, как ступил на балкон. Я мыслил и напрягался, я напружинивался и мозговал, но всё было бесполезно. Моё нынешнее состояние, для которого будущее ещё не наступило, пересиливало пройдённое будущее. Всё зримое сегодня, сейчас было явью, а будущее-прошлое нереальным. Сколько времени я находился в таких размышлениях, трудно было определить, я потерял ход времени, а когда очнулся, понял, не надо искать себя в будущем-прошлом, нужно попытаться вспомнить все обстоятельства предшествующие моему перемещению в нынешнюю реальность. Только это, моё новое время могло вызволить меня из своих временны'х пут.
— Так, о чём я думал, стоя на балконе? Надо вспомнить и постараться всё воспроизвести, возможно, я снова окажусь дома, — мысленно проговорил я и, так же как и на балконе, руками опёрся на перила моста.
Опираюсь на них, представляю себя на балконе. Напрягаю мысль, морщу лоб. Барнаулка уже не бурлит, а визжит, как бы насмехается надо мной. Всё без изменений. Снова и снова морщу лоб, напрягаюсь. Безрезультатно! Минута, пять, десять таких упражнений и полное бессилие овладевает мной. Кажется весь мир против меня, он усмехается надо мной и одновременно молчит!
— Что делать? Как быть? Куда идти?
В трёхстах метрах улица Луговая. Звучит громко, — улица! А на этой улице всего-то домов тридцать, из них дюжину домами и не назовёшь, — сараи с печными трубами, но в них живут люди и довольно большими семьями. Печное отопление во всех постройках, — в бараках, в двух кирпичных домах, — некогда складских зданиях построенных каким-то купцом, и в шести добротных частных домах с резными ставнями и с палисадником. Завидовали ли тем, кто жил в тех шести домах? Думаю, нет! Вряд ли они жили лучше тех, кто ютился в сараях и бараках. И всё же те дома жили как-то изолированно. Обособленно жили в них и их хозяева. По прошествии лет помню всех, кто жил в бараках, а тех, кто жил в домах за высоким забором, не помню.
Моя семья и я, — юноша того времени, сейчас ещё спали, — раннее утро. А я, времени будущего, — относительно того, в котором оказался, стоял на мосту и пытался возвратиться в 2005 год.
— Погода обещает быть хорошей! — услышал я за спиной голос и обернулся. Голубыми глазами с мохнатыми ресницами, загнутыми вверх, на меня смотрел мой отец. — Собрался на рыбалку. Лещ, говорят, пошёл! Как, думаешь, не врут?
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
