
Бесплатный фрагмент - На память узелки
Рецензии, эссе, письма
I. 2012 год
О поэзии Сергея Гандлевского
Наверное, чистый лист существует для того, чтобы на нём возникало нечто, не способное испортить ни белизны его, ни чистоты. А это бывает крайне редко. Каждый подобный случай — подарок.
Таким подарком являются для меня стихи Сергея Гандлевского. И как рано, в какие-то 20-ть лет, он стал писать совершенные и при этом абсолютно живые стихи.
Среди фанерных переборок
И дачных скрипов чердака
Я сам себе далёк и дорог,
Как музыка издалека.
Давно, сырым и нежным летом,
Когда звенел велосипед,
Жил мальчик — я, по всем приметам,
А, впрочем, может быть, и нет.
Способность с лёгкостью то удалять, то приближать события, эпоху, себя самого осталась у поэта на всю жизнь. Причём и в поэзии и в прозе. Недаром одно его эссе называется «Blow up» (фотоувеличение).
Чтобы понять почерк Гандлевского, достаточно зарыться с головой в приведённое выше стихотворение 1973 года. В нём есть всё, что характерно для лучших стихов и более позднего времени: раскованность, цепкий взгляд, выхватывающий из окружающего пространства, казалось бы, случайные, а на деле совсем не случайные детали — лишь те, через которые легче объясниться с пространством и с самим собой:
Чай, лампа, затеррасный сумрак,
Сверчок за тонкою стеной
Хранили бережный рисунок
Меня, непознанного мной.
«Сто лет свободы и любви», которыми кончается это стихотворение, ещё не истекли и, хочется надеяться, не истекут никогда. Они есть и в стихах, написанных спустя десять лет, в 1983 — ем.
Возьмите всё, но мне оставьте
Спокойный ум, притихший дом,
Фонарный контур на асфальте
Да сизый тополь под окном.
Тот же цепкий и влюблённый взгляд, что и десять лет назад. Та же способность ощутить «толчок сердечный» от самых простых рутинных вещей, заставив и нас испытать то же самое. И можно ли не почувствовать «толчок сердечный», если обыкновенная кирпичная стена «бежит» вокруг больницы, «худая скомканная птица» (вот ради какой детали стоит тревожить белый лист!) «кружит под небом», женский гомон «плутает», разговор «струится», невнятица «плещется». Не знаю как у кого, но у меня от этих скоростей и этих подвижных глаголов голова идёт кругом. За что я безмерно благодарна поэту.
Перелистнём ещё несколько страниц и, сбросив скорость, пойдём помедленней.
Было бы грустно, как если бы мы шаг за шагом
Хвойной тропинкой взошли на обветренный холм
И примостились бок о бок над самым оврагом —
Я под сосною, а ты на откосе сухом.
Здесь, как и в более ранних стихах, всё предметно, наглядно, но на сей раз поэт медленно переводит взгляд с закатного неба на сосняк, на поляны, на большие озёра, в одном из которых отразился лесной монастырь. Он вбирает в себя всё, что открылось «потемневшему взору» (за который ещё одна благодарность от не напрасно потревоженного листа бумаги). Здесь уже действительно не взгляд, а взор, вбирающий в себя огромное пространство. И снова головокружение. Но уже не от стремительности происходящего, а от беспредельности пространства.
Две-три поляны, сосняк и большие озёра,
В самом большом отразился большой монастырь.
Неужто нет других эпитетов, кроме «большой»? Есть, но они не нужны. Здесь нужен только этот, трижды повторенный в двух соседних строках, благодаря чему возникли глубь и ширь, и высь.
«Было так грустно…, — говорит автор, — да лёгкое сердце забыло». Разве это не пушкинское «печаль моя светла»?
Слова «легко, грустно, маяться» живут бок о бок и в следующем стихотворении и помогают «различить связующую ноту/ В расстроенном звучанье дней!»
«Я жив, но я другой, сохранно только имя». Конечно, другой. Потому и жив. И всё же «праздник всегда с тобой».
«Праздник. Всё на свете праздник/ Красный, чёрный, голубой». Да, и чёрный. Бывает и чёрный праздник, если уметь приподнять этот чёрный цвет и превратить в поэзию. Если превратить в поэзию и «чикиликанье галок в осеннем дворе», и «коммунальный зверинец», и «помойных кошек» которые «с вожделением делят какую-то дрянь».
В одном из разговоров Гандлевский обозвал меня «дитя добра и света». Именно обозвал, потому что в его устах это весьма сомнительная похвала. Я же хочу ему ответить так, как отвечают в детстве: «Сам такой». А иначе откуда эти разноцветные праздники? Откуда строка «зелёным взрывом тополя разбужен»? Откуда призыв «Давай живи, смотри не умирай»? Откуда постулат «Стихи не орудие мести,/А серебряной чести родник»? Откуда эта способность преображать всё, даже не самые аппетитные подробности нашего существования? Разве это не свидетельствует о мИроприятии (пользуясь словом Гандлевского)? А что до «кривой ухмылки» (опять его выражение), то я бы употребила более точное определение — «горькая усмешка», которая только льёт воду на мельницу мИроприятия. Ведь одно дело воскликнуть «Узнаю тебя, жизнь, принимаю/ И приветствую звоном щита», и совсем другое — сухо и буднично перечислять всё, что попалось на глаза: «Пруд, покрытый гусиною кожей, /семафор через силу горит, /Сеет дождь, и небритый прохожий /Сам с собой на ходу говорит». Но перечислять так, с таким обилием точных определений, что становится ясно: автор влюблён во всё вышеназванное.
Иначе он не был бы столь зорок и точен. И действует подобная любовь куда сильнее, чем признание типа «Я люблю тебя, жизнь./ Я люблю тебя снова и снова.» И я, заражённая этим чувством, перечитываю стихотворение в сотый раз и в сотый раз радуюсь тому, что «кружит ночь из семейства вороньих./ Расстояния свищут в кулак». Вот и получается, что во множестве безрадостных стихов Гандлевского вместо «нет», которое он, вроде бы, произносит, звучит «да». И такое «да» дорогого стоит. Гораздо дороже, чем «да» без примеси «нет».
То же самое происходит и в прозе. Я недавно перечитывала его прозу и покатывалась со смеху. Мои домашние с завистью спросили, что я такое читаю. «Трепанацию черепа», — ответила я. «Ну и что ж в этом смешного?», — последовал законный вопрос. И я принялась читать вслух. Теперь уже смеялись все. И когда среди всего этого появляются бесхитростные и пронзительные строки, то они действуют куда сильнее, чем если бы находились среди себе подобных: «Пару лет назад я вычитал у Клайва Стейплза Льюиса рассуждение, от которого у меня защемило сердце. Раз бессмертно только вещество любви, то спасение живности целиком зависит от нас. Если мы действительно любим собаку, кошку, хомяка или черепаху, то тем самым обессмерчиваем свою животину. Без нашего участия звери обречены. Даже если Льюис ошибся, Бог может прислушаться к этому мнению, одобрить его и внести кое-какие поправки в Свое мироздание, ведь Он — творец, а не догматик».
Я бы с радостью продолжила цитату, но обрываю её, чтоб привести ещё одну, без которой нельзя обойтись. Гандлевский пишет о смертельно больной матери, которую он навестил в больнице: «Подавленный её видом, не оставлявшим сомнений, я наспех поцеловал мать и ушёл, почти убежал. И только у метро меня ударило: ведь она наверняка стояла у окна палаты на втором этаже и махала мне в спину…. Маши мне всегда! Слабый, себялюбивый, обмирающий от нежности, заклинаю: ни на мгновенье не опускай руки, на каком бы ярусе мира ты сейчас ни была и чего бы это тебе ни стоило. Пока под твоим взглядом я не обернусь, содрогаясь от рыданий несбыточной встречи». Спасибо за эти строки. И спасибо за то, что они живут среди гомерически смешных сюжетов. И спасибо за способность видеть смешное там, где, как правило, ничего смешного видеть не принято.
И спасибо за блестящий ум. Хотя за это не благодарят. Ум или есть или его нет. Но в случае Гандлевского он настолько очевиден, что о нём нельзя не сказать отдельной строкой и нельзя не вспомнить характеристику, которую дал Пушкин Баратынскому: «Он у нас оригинален, ибо мыслит». Талант редок, но талант + ум — ещё большая редкость.
И спасибо за умение виртуозно менять регистры и с лёгкостью переходить с конкретных, подчас комических событий к метафизике, которая впрочем почти всегда просвечивает у него сквозь любые самые приземлённые реалии. Можно привести уйму примеров. За неимением места приведу один. Вот подросток Гандлевский — на подмосковной базе отдыха. Перед сном он читает Пастернака, которого на три дня дала ему учительница литературы: «И так неистовы на синем / Разбеги огненных стволов, / И мы так долго рук не вынем / Из-под заломленных голов…”. — Я поёжился от сырости казённого белья, предутреннего холода и грозного счастья подступившей вплотную жизни». Наверное, благодаря этому свойству не терять связи с метафизическим, у меня ни разу не возник недоумённый вопрос: «А почему, собственно, я должна вникать в чью-то жизнь? Пускай автор живёт „свою подробную“, а я — свою».
Можно говорить долго, но приходится закругляться.
Хочется добавить одно: пример Гандлевского показывает, что все разговоры об исчерпанности традиционного стихосложения — вздор. Важно только одно — кто это поле возделывает.
Как известно, «талант — единственная новость, которая всегда нова». С талантами всегда и везде напряжёнка, но пока они есть, не будем хоронить ни традицию, ни поэзию, даже если, по мнению Бродского, она нужна лишь одному проценту населения. И, когда я листаю сборник Гандлевского и набредаю на мрачные строки «Каждый сам себе отопри свой ад,/ Словно дверцу шкафчика в душевой», я попадаю — пусть не в рай — но туда, где мне очень хорошо и откуда я совсем не спешу уходить.
Запоздалый звонок
(к 20-летию гибели Юрия Карабчиевского (14.10.1938 — 30.07.1992))
Юра, тебя очень не хватает сегодня. Как, впрочем, и вчера. Не хватает твоей честности, горячности, неравнодушия. Не хватает тебя, потому что сегодня огромный дефицит людей с низким болевым порогом, людей, способных боль других чувствовать так же остро, как свою собственную. Ты был болен и Сумгаитом, и Карабахом и Спитаком. Ты был ранен смертью А. Д. Сахарова. Это всё были события твоей личной жизни.
Ты впустил в себя так много чужой боли, что у тебя в те июльские дни двадцать лет назад, видимо, не хватило сил на свою собственную. И никого из друзей не оказалось рядом, чтобы подставить плечо. Никого не было в Москве: жара, лето. Вернувшись в Москву после отпуска, мы обнаружили в своём почтовом ящике множество твоих записок с одним словом: «Позвоните». Тебя уже не было в живых. Я тебе столько раз мысленно звонила с той поры. Мне столько надо было сказать тебе.
Окликаю тебя и сегодня, чтобы ещё раз повторить, что ты нужен. Нужен друзьям, читателям. Тем, кто любил тебя, и тем, кто мог бы полюбить. Ты нужен, потому что ты из немногочисленной ныне когорты писателей, не столько озабоченных самовыражением и формальными поисками, сколько тем, чтоб пробиться к душе читателя. И тебе это удавалось. Но, к сожалению, хоть тебя и щедро печатали в последние годы твоей жизни, твой полуавтобиографический роман «Жизнь Александра Зильбера» и сборник повестей «Тоска по дому», и блестяще остроумная проза «Всё ломается», и «Незабвенный Мишуня», и тем более стихи, — всё ушло в тень, когда вышла наделавшая много шума книга «Воскресение Маяковского».
При всём своём блеске, эта книга — беспощадная, жестокая и во многом несправедливая. Так нельзя писать о поэте, о чём мы (я и Боря) тебе сказали сразу, прочитав по твоей просьбе рукопись. Печаль в том, что ты согласился с нами гораздо позже, незадолго до смерти. «Мне всё меньше нравятся те, кому нравится мой „Маяковский“», — как-то признался ты. А своей последней весной сказал: «Маяковский тянет меня за собой». «Твой Маяковский» действительно сыграл с тобой злую штуку, намертво привязав тебя к себе. Ведь если кто и помнит тебя сегодня, то чаще всего за «Воскресение Маяковского». Разве ты этого хотел? Но что поделаешь? Твои недостатки суть продолжение твоих достоинств. В твоей излишне категоричной и жёсткой оценке Маяковского «виноваты» всё те же твои прекрасные свойства: неравнодушие, горячность и, в конечном счёте, любовь.
«Потому что любил», — назвала я свою рецензию на переизданную не столь давно книгу «Воскресение Маяковского». Помнишь, когда ты приходил к нам за очередным томиком Маяковского (ты как раз тогда задумал свою книгу), я тебя шутя спросила: «Ты что, телегу на Маяковского строчишь?», ты засмеялся: «Как догадалась?» и рассказал мне, как бредил им всю свою юность.
Да, тебя часто «заносило». Но «заносит» многих. А вот признать свою ошибку, изменить мнение могут единицы. У тебя есть это драгоценное свойство, потому что ты живой. Ты сам в одном из своих интервью сказал: «Человек — явление динамическое, в статике его просто нет. Он должен непрерывно осуществляться, как бы продолжать своё существование». Ты непростительно рано поставил окончательную точку, устав осуществляться. Но я то и дело окликаю тебя, желая узнать твоё мнение о том, об этом. И пусть мы с тобой не совпадём. Куда важнее то, что тебе всё интересно и что ты живой. А ведь жить ещё не значит быть живым. Это не даровое свойство. Оно присуще далеко не всем. Для меня и, наверное, многих других ты и сегодня, через двадцать лет после гибели, жив. Ты говорил, что жить надо там, где после твоего ухода останется луночка, как бывает, когда вырвут зуб.
Луночка осталась, Юра. И не только луночка. Остались твои книги. Хотя где они? Станут ли сегодня переиздавать что-нибудь, кроме скандального «Маяковского»? А мне бы так хотелось, чтоб прочитали твою «Тоску по Армении», твоего печально-весёлого «Незабвенного Мишуню», твой блестящий очерк о Мандельштаме, с которого началось моё заочное знакомство с тобой. Помнишь, я тебе рассказывала, что прочла его в 76-ом году в одном тамиздатском журнале и решила, что автор живёт за рубежом, а потом выяснилось, что мы живём рядом в Тёплом Стане и разделяет нас только пустырь? На мой взгляд, всё, что ты написал, абсолютно современно и сейчас. Но посчитают ли так издатели?
А судьба всё бежит за тобой по следу, «как сумасшедший с бритвою в руке». Через год после твоего самоубийства покончила с собой твоя Света. А совсем недавно скоропостижно скончался твой старший сын Аркан. Это был тот редкий случай, когда я благословила судьбу, что тебя нет на свете. Я помню, как ты однажды сказал: «Не дай Бог пережить своих детей». Впрочем, что мы знаем о постбытийном существовании. А вдруг вы все там встретились. Вдруг они просто хотели поскорее попасть к тебе.
Где-то на земле живёт твой младший сын Дима. Надеюсь, он по-прежнему пишет картины, которые ты так ценил. Помню, как ты шёл с Димкой мимо наших окон, и у каждого из вас была огромная поклажа — картины, которые вы везли на суд какого-то очередного мэтра. Наверное, если я наберу сегодня твой номер 3381729, ответит совершенно чужой голос. Лучше я поговорю с тобой вот так, с помощью этого письма. Как всё-таки важно, чтоб оставались на земле такие люди, как ты. Чтоб можно было крикнуть: «Есть кто живой?», и знать, что кто-нибудь ответит.
Я прожил жизнь, не хуже, чем пытался.
Все выжал из нее и все в ней выжил.
И кончился. И просьба не винить.
И нет меня. Но остаются дети.
Ночь на исходе, утром на работу.
Привычную напялив оболочку,
Я вновь прикинусь теплым и живым.
Мой внешний вид вне всяких подозрений
Ни зеркала, ни взгляды сослуживцев.
Но есть глаза, есть два таких зрачка, —
В которые вошла без искажений
Моя потусторонняя тоска…
Юрий Карабчиевский
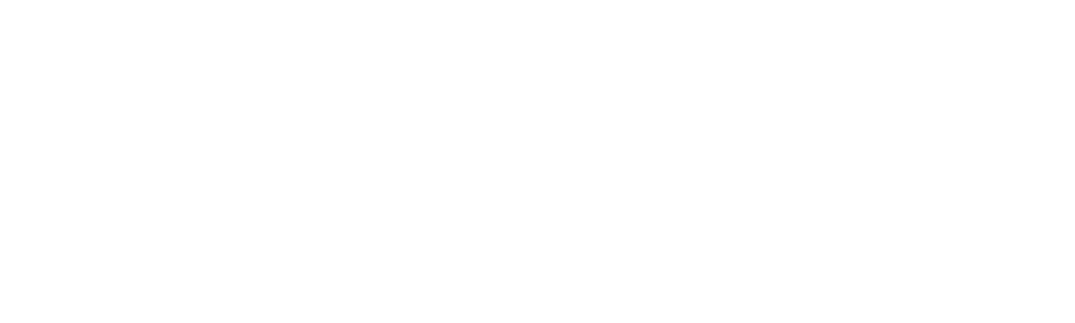
***
Памяти Юры Карабчиевского
Кипень вся июльская, весь жасмин —
На помин души твоей, на помин,
На помин души того, кто устал,
И ушел, отчаявшись, и не стал
Срока ждать предельного. Ах, июль,
Что в тебе смертельного? Горсть пилюль
Да тоска бездонная всех ночей,
Да бессилье полное всех речей.
Лариса Миллер
«Конец света, говорите?» (Лев Рубинштейн, «Знаки внимания»)
Хотите жить лучше и веселее? Читайте новую книгу Льва Рубинштейна «Знаки внимания». Нет-нет, он не дает никаких рецептов и полезных советов, позволяющих улучшить качество жизни. Напротив, он нажимает на все наши болевые точки. Причем анестезией служит сам язык — веселый и игристый, чудесным образом позволяющий легко переносить боль. И не просто легко, а умирая со смеху. «Конец света, говорите? Ну-ну. Даже интересно. Не знаю, кто как, но я еще ни разу не видел…» Таково начало этой книги, состоящей из множества коротких эссе. О чем они? О наших фобиях, предрассудках, заблуждениях, ожиданиях, о нас в мировом контексте и в контексте домашнем. Много о чем. А посыл вот какой: пожалуйста, не ходите строем, сторонитесь толпы, думайте сами. И про конец света не надо. И про мировой заговор не надо. И про инородцев не надо. И, честное слово, есть что любить в этой жизни при любом раскладе.
А иногда и посыла нет — просто забавный эпизод. Кто сказал, что всегда должен быть месседж, вывод, мораль? Ведь потребность в них тоже может быть признаком несамостоятельности и привычки жить за чужой счет. «А при каком общественном устройстве лучше или хуже живется — так это дело сугубо индивидуальное. Кто-то хочет быть свободным, а потому должен быть готов к различным рискам, каковыми всегда сопровождается свобода». На вкус автора этот вариант куда лучше, чем наличие пахана, по которому у нас до сих пор тоскуют. И написано об этом без всякого обличительного пафоса. Пафоса в этой книге нет вообще. Зато есть юмор и, главное, точно поставленный диагноз. Рубинштейн — диагност от Бога. Прочтите хотя бы эссе «Зла хватает» о свойственной нам агрессивности или «После бала» о «застенчивом полумолчании», которым был отмечен недавний юбилей Льва Толстого. «Говорят, что на Толстого до сих пор дуется солидное и влиятельное учреждение, играющее в наши дни роль идеологического отдела правящей партии и именуемое РПЦ. Может быть, и так. А государство, а общество? Ну, видимо, такое у нас состояние общества, что не до Толстых теперь.
А еще автор может рассказать вам о вашем детстве. И неважно, сколько вам лет. Прочтите «Что хотелось бы забыть, но не получается», и вы убедитесь, что это и про вас. Одно странно, что, поставив нашему обществу точный диагноз — «вечный неизживаемый пубертат», автор, умиляясь на те «хорошие лица», что он увидел на недавних митингах и демонстрациях, не задается вопросом: «А не впадаем ли мы в ту же эйфорию, в какую впадали в начале 90-х?» Не нужна ли какая-то основательная, содержательная и понятная загнанным в угол людям социальная программа, без которой все эти протестные мероприятия часто превращаются в веселую прогулку с раздачей автографов? Не является ли такая ничем не обеспеченная эйфория тем самым «вечным детством», о котором автор говорит в своем эссе «В детском мире»? «Эх, птица-тройка! Кем, скажи, ты хочешь стать, когда вырастешь наконец? Да и вырастешь ли? Станешь ли взрослой? А?»
И еще. Так ли уж прав автор, когда утверждает, что нет сегодня никакого падения культуры? Я совершенно согласна, что популярные во все времена эсхатологические разговоры — вздор. Уж сколько раз оплакивали кино, театр, поэзию. Владимир Вейдле вполне доказательно написал работу «Умирание искусства» аж в 1935 году. Да и конец света наступал уже не раз. И все же, все же автор путает умирание культуры вообще, о котором говорить так же глупо, как и о конце света, и очевидное падение культурного уровня в нашей стране, которая, как известно, всегда идет своим путем. Уже давным-давно люди не имеют доступа ни к хорошим книгам, ни к стоящим фильмам, ни к вменяемым телепередачам. Не помню, кто сказал, что человек есть то, что он ест. А кормежка у нас сегодня — не дай бог. Как же культуре не падать? Хотя бы в обморок? Хотя бы на время? Да разве не сам Рубинштейн написал в новелле «Где же ты, моя Сулико?» о бывших старомосковских старушках — давно вымершем племени? Об их забытой нынче русской речи, об их терпимости, достоинстве, особой душевной структуре? Где это все? Только хотела сказать: «Хватит о грустном», как поняла, что веселых тем в книге почти и нет. Разве весело читать эссе «Папина «Победа» о нашей победе в войне? Представьте себе — весело, потому что точно. И очень больно. Тоже поэтому.
Читайте, читайте эту книгу. Вам правда полегчает.
II. 2013 год
«Миллион причин
для счастья»
(памяти Григория Соломоновича Померанца (1918—2013))
Если человек умер, это ещё не значит, что он жил. Факт рождения — не гарантия жизни. Но и смерть не всегда конец. В случае Григория Померанца смерть точно не конец. Без Померанца нельзя обойтись тому, кто хочет что-то понять в себе и в окружающем мире, который, к счастью или к сожалению, не становится проще. У Григория Померанца можно многому поучиться. Ну хотя бы тому как быть живым до самой смерти и даже после неё. Я вообще плохо понимаю, как жизнь решается расстаться с такими людьми. Кто же будет её любить, как Померанц, понимать, как он её тайнопись, и, как он, вникать во все её оттенки? Разве можно отпускать таких людей?
Одно утешает: он многое успел нам поведать, познав самые крутые виражи: войну, Гулаг, ссылку, смерть близкого человека. С нами остались «Записки гадкого утёнка», в которых он, как на духу, «во всём сознался»: и в слабостях своих, и в победах над ними. «Постоянным напряжением, постоянным вызовом была война. Я был счастлив по дороге на фронт, с плечами и боками, отбитыми снаряжением, и с одним сухарём в желудке, — потому что светило февральское солнце и сосны пахли смолой. Счастлив шагать поверх страха в бою. Счастлив в лагере, когда раскрывались белые ночи. И сейчас, в старости, я счастливее, чем в юности. Хотя хватает и болезней и бед. Я счастлив с пером в руках, счастлив, глядя на дерево, счастлив в любви».
Редкое свойство Померанца — обращаться к каждому из нас, впускать в свою душу и быть абсолютно искренним. Ни позы, ни нравоучений. «Бойся того, кто скажет «Я знаю, как надо», — часто повторял Г.С. эти слова Галича. Он знал, как не надо. И это уже очень много. Не надо догм, не надо ненависти к инаким, не надо пены у рта, не надо терять надежду. Ведь всегда есть чем жить и всегда есть причина для счастья. Она есть и сегодня, потому что и сегодня, как в том давнем феврале, когда он шёл на фронт с одним сухарём в желудке, светит февральское солнце и сосны пахнут смолой. Григорий Померанц не учит радоваться. Он просто заражает вирусом радости. «Как можно видеть дерево и не быть счастливым?» Эти слова Достоевского часто звучали в доме Померанца и Миркиной.
Достоевский — спутник Померанца с 1938 года. Он думал и писал о нём всю жизнь. Он хорошо понимал и «смешного» человека и «подпольного». Да и как не понимать, если Померанц сам такой. Недаром же он назвал свою автобиографическую повесть «Записки гадкого утёнка». «Смешной человек потому и смешон, что в уме его теснятся целые вселенные, — пишет Померанц в одном из очерков, посвящённых Достоевскому, — смешным человеком чувствовал себя и Толстой (это видно в его повести „Юность“). Оба величайших русских писателя, очень чувствительные к красоте, с детства были задеты своей собственной грубой и невыразительной наружностью, часами простаивали перед зеркалом, пытаясь придать лицу по крайней мере умное выражение, а в гостиную не умели войти; склонность к созерцанию вызывала рассеянность и неловкость, а сознание своей неловкости и к тому же некрасивости сковывало по рукам и ногам и удесятеряло неловкость». Кому незнакомы подобные переживания? Померанц пишет о писателях и их героях, как о близких и понятных людях. Ему внятны их рефлексии, фобии, их внутренняя борьба. Для него литература, культура — никакая не надстройка, а сама жизнь в её сгущённом виде, квинтэссенция жизни. Потому так тянет читать Померанца. О чём бы он ни писал, он всегда пишет о главном в тебе, в себе, в нас. О Достоевском, Толстом, Тютчеве, восточной философии, истории он пишет так же лично, как о своём собственном выстраданном опыте на фронте, в Гулаге, в любви. Именно поэтому нам так необходимо написанное им. А ещё потому что это строки свободного незашоренного человека, что всегда было и остаётся редкостью.
Как странно и нелепо, что человека, который дома и в литературе и в философии, и в истории, вдруг из этого дома выселяют. Как дико, что человек, которому было так интересно жить, больше ничего не будет знать об этом мире и о любимых людях. А может быть, будет? Но не стоит об этом. Лучше полистать те страницы жизни, которые навсегда останутся в памяти: Григорий Соломонович, прикрыв глаза, слушает стихи или музыку (любимое ежевечернее занятие Зины и Гриши); Г.С. спокойно, без суеты привычно помогает Зине накрывать на стол; раннее утро на даче в Отдыхе, Гриша, как обычно, отправляется на велосипеде в магазин за продуктами. И в этой роли он столь же естествен, как и за письменным столом. А ещё долгие годы у нас дома хранились рукописи Померанца. Ведь мы же десятки лет жили в догутенберговской России, и Г.С. старался держать свои неизданные труды в разных местах, чтоб они хоть где-нибудь сохранились.
В России и впрямь надо жить долго. Авось до чего-нибудь хорошего доживёшь. Григорий Померанц и Зинаида Миркина дожили. Их издали, их узнали и полюбили сотни и сотни людей. К ним тянулись, на их лекции, которые они регулярно читали, приезжали из отдалённых уголков страны. Г.С. успел почувствовать свою нужность.
А ещё они успели пожить в замечательной квартире, которую им помогали обустраивать любящие их люди. Впрочем, им и в хрущёвской пятиэтажке было неплохо. Они и в тесной квартирке с прекрасной слышимостью (из квартиры сверху доносился собачий лай, а из соседней плач ребёнка) умудрялись жить втроём с тишиной. Меня всегда поражало свойственное им обоим сочетание страстности и внутренней тишины. И эта тишина воспринималась, как живое существо, на которое можно даже наткнуться.
В их доме часто звучали стихи. Гриша любил строки Пастернака: «Ты вечности заложник у времени в плену». Но сам-то он умел жить и во времени и в вечности, и никогда ни у кого не был в плену. А 13-го марта ему исполнится 95лет. И свет будет, наверно, ещё более весенний, чем сегодня. Ещё один повод для счастья.
Кино и поэзия
Я вздрогнула, когда прочитала у Бертолуччи, что самый близкий к поэзии вид искусства — кино. Не помню дословно, но мысль передаю верно. Я сама всегда так считала и, полагаю, неслучайно, кончая школу, подумывала поступить во ВГИК на сценарный факультет. До стихов ещё было далеко. Я начала писать их только в 1962 году, кончив иняз. Прочтя у Бертолуччи то, о чём сама думала, решила объяснить, в первую очередь самой себе, что же роднит поэзию и кино. Наверное, прежде всего та стремительность, с которой стрела, пущенная и тем и другим видом искусства, достигает души. И это вовсе не значит, что стремительно развивается сюжет фильма. Разве «Смерть в Венеции» динамичен?
Но все стрелы, пущенные Висконти, достигают цели. А это и крупные планы Дирка Богарта и его незабываемая спотыкающаяся нервическая походка, и тот контраст, который возникает, когда камера, перейдя от Богарта к подростку, останавливается на его покойном гармоничном, соразмерном облике, и показанная с особой тщательностью роскошь отеля, и контрастирующая с ним запущенная и прекрасная Венеция. Фильм движется медленно, а стрелы летят стремительно.
И то же самое происходит, когда смотришь «Сказку сказок» Юрия Норштейна. Опять тот же неспешный темп и то же мгновенное воздействие. Вот так же и со стихами: «Какая грусть! Конец аллеи / Опять с утра исчез в пыли, / Опять серебряные змеи / Через сугробы поползли» (Фет). Впрочем, мне всегда казалось, что для мгновенного воздействия достаточно и первых четырёх слов: «Какая грусть! Конец аллеи…» Причём, душа откликается раньше, чем понимаешь смысл сказанного или увиденного. Во всяком случае, так у меня всегда было со стихами Мандельштама и с фильмами Андрея Тарковского. Особенно с самым из них любимым «Зеркало». Я даже не пыталась уловить смысл происходящего, не заморачивалась временем событий. Меня завораживала сама фактура и звуки: потрескивание горящего сарая во время пожара, отблески пламени, звук льющейся воды, когда героиня моет голову, её загадочная улыбка, её незабываемая поза, когда она курит, сидя на плетне, и смотрит вдаль, надеясь и не надеясь увидеть того, кто ей дорог.
И если бы даже стихи Арсения Тарковского не звучали в этом фильме, я бы слышала их внутренним слухом — настолько стилистика фильма соприродна стихам поэта. Кадры не сменяют друг друга, а соскальзывают один в другой без швов и провисов, как в моём любимом стихотворении «Первые свидания»: «Свиданий наших каждое мгновенье / Мы праздновали, как богоявленье, / Одни на целом свете. Ты была / Смелей и легче птичьего крыла, / По лестнице, как головокруженье, / Через ступень сбегала и вела / Сквозь влажную сирень в свои владенья / С той стороны зеркального стекла». Соскальзывание из строки в строку, из кадра в кадр, головокружительный бег через ступень и даже через лестничный пролёт — вот, что роднит фильм и стихи. А ещё — недоговорённость, уклончивость, отсутствие точек над «и» и жирных мазков.
Это характерно и для фильма Иоселиани «Жил певчий дрозд» и для «Любовного настроения» Вонг Кар Вая, и для «Затмения» Антониони. А, может быть, в ещё большей степени для его же фильма «Профессия — репортёр», в котором переломный, судьбоносный, драматичный момент в жизни героя подан без нажима, на полутонах, когда однообразное жужжанье вентилятора в жалкой и жаркой африканской гостинице значит почти столько же сколько диалог или очередной виток сюжета. В таком кино, как и в стихах, нет мелочей, нет главных и второстепенных членов предложения, важен и крупный и общий план. Причём ни тот, ни другой не кричат о своей значимости и свободно перетекают друг в друга.
В «Сказке сказок» Норштейна прекрасно уживаются все — и кот, который, поплевав на лапу, гасит свечу, и прыгающий через верёвочку бык, и мамаша, скандалящая со своим пьющим благоверным, и мальчик с яблоком, и ворона, и, конечно же мудрый и грустный волчок, дующий на печёную картошку. Вечное и сиюминутное, начало и конец, смешное и трагическое, похоронка и танцплощадка с заигранным танго — всё рядом, всё лёгким касанием, летучим штрихом. «Мы только с голоса поймём что там царапалось, боролось», — сказал Мандельштам. Это верно и для создателей фильма. Хотя и фильмы и стихи бывают разные. «Я знаю силу слов, я знаю слов набат» — то, что я пишу, скорей всего не про такие стихи и не про эпические фильмы, хотя кто знает. Бертолуччи создавал эпические полотна и, говоря что кино соприродно поэзии, не уточнил какое именно кино имеет в виду. Для меня таким фильмом являются прежде всего его «Пленённые» — пронзительный, нежный, безысходный и светоносный фильм, само вещество любви.
Я пишу всё это, как зритель, влюбленный в кино, пробираюсь на ощупь и, рискуя попасть пальцем в небо, вторгаюсь в чужую вотчину. И надеюсь на снисхождение.
А ведь, говоря о кино, можно говорить и о рифме и о ритме. Таковы, например, фильмы Пелешьяна, в которых физически чувствуешь ритм, в которых всё рифмуется: небо с водой, пространство с населяющими его живыми существами. В которых всё звучит, хотя слов почти нет — только шумы самой жизни да иногда музыка.
А «Человек идёт за солнцем» Калика, где мальчик бежит за обручем — это же стихи. Не случайно я, вспоминая этот кадр, всегда повторяю про себя строки Тарковского: «Ты ангел и дитя, ты первая, страница,/ Ты катишь колесо прибоя пред собой…».
«Пучок смыслов» (слова Мандельштама) — вот что ещё характерно как для поэзии, так и для кино. Но самое главное во всём этом то, что пучок стрел, пущенный стихами и фильмом, может пронзить нас раньше, чем «пучок смыслов» (простите, что повторяюсь).
Стихи — кратчайший путь к сердцу. Что-то в этом роде говорил Бродский. То же самое можно сказать про кино. И это удивительно, если учесть громоздкость, неподъемность, кропотливость и длительность процесса. И ещё более удивительно, что фильм, несмотря на всё это, способен сохранить спонтанность, лёгкость, то самое «откуда ни возьмись», без которого не живёт настоящее искусство.

***
Обожаю кино. И особенно это —
Где, согласно сценарию, раннее лето,
Где, тесня темноту, день спешит подрасти,
Где акации самое время цвести,
Где я тоже пока, слава Богу, снимаюсь
В своей роли обычной: над рифмами маюсь.
Маюсь ночью и днем, за столом, на ходу,
То исчезну из кадра, то вновь попаду.
2011
***
A на экране, на экране
И жизнь, и смерть; и слез, и брани
Поток; и лес воздетых рук,
Но нету звука. Дайте звук.
О, неисправная система:
Беззвучно губят, любят немо.
Как в неозвученном кино,
Стучу в оглохшее окно,
Зову кого-то и за плечи
Трясу, не ведая, что речи,
Что дара речи лишена,
И вместо зова — тишина.
1982
***
А кто там притаился между строк?
А кто там меж словами притаился?
А кто там невидимкой притворился,
Сидит и дышит, тихо, как сурок?
И пусть сидит. Нельзя его теснить,
Пугать его, хватать его руками.
Он — то, что строки делает стихами.
Он — то, что ни назвать, ни объяснить.
2012
Звёздам прошлого
1.
Ах, звёзды, красивые, юные, гибкие,
И вы, к сожалению, лодочки зыбкие,
И вас, к сожалению, топит волна,
Которая лишь переменам верна,
Капризному ветру, природным явлениям.
Ужель и для вас всё кончается тлением?
Ужели и вас так легко потопить,
Хоть вы и чечётку умеете бить
И петь, покоряя толпу миллионную,
В ваш голос и облик безумно влюблённую?
Смотрю сохранённое чудом кино,
Как будто бы пью дорогое вино,
Хмельное, шипучее, в искорках, пенное,
Где сладко топить свои мысли про бренное.
2.
Они же ведь ангелы, птицы и дети.
Они же играючи жили на свете.
Они же для нас и плясали и пели,
Сверкали, подобно весенней капели.
Они рвали страсти безумные в клочья,
Страдали жестокой бессонницей ночью.
Когда ж отцвели они, отполыхали,
То крылышком мятым нам долго махали.
2013
***
Ах, чернобелое кино!
Оно цветного многоцветней.
В нём потаённей, несусветней,
Загадочней и высь и дно.
В нём все оттенки и тона —
Анахореты, невидимки.
В нём постоянно в дивной дымке
Любая явь и область сна.
Оно и скрытней и скромней
Цветного. Любит многоточье.
В нём что-то светит даже ночью,
И нет конца игре теней.
2013
«Не рубите человеку хвостик радости!»
(о книге стихов Натальи Ванханен «Ангел дураков»)
До чего же она весело пишет! И до чего же грустно! Как легко переходит из мажора в минор и обратно! Впрочем, именно так поступает сама жизнь, виртуозно меняя лады и регистры. Открыв книгу Натальи Ванханен, я на первой же странице прочла:
Сегодня ночь не глубока
и звезд не полон съезд,
а значит, съест меня тоска
и жить мне надоест.
Но я не дам себя сожрать
до самого конца:
открою чистую тетрадь,
налью себе винца.
И напишу, как мир сердит,
как пуст его объем,
как счастлив тот, кто ночь не спит
и мучается в нем.
Тоска сожрёт, мир пуст, но «как счастлив тот, кто ночь не спит и мучается в нем». Поверить в это помогает и летучий стихотворный размер, который, не давая увязнуть в тоске, заставляет читателя лететь в объятья счастья, притаившегося в предпоследней строчке.
Наталья Ванханен — пограничник. Она отлично чувствует себя на границе веселья и отчаянья, ада и рая. Её ангел — «ангел дураков» (таково название книги) — помогает ей не впадать ни в уныние, ни в эйфорию.
Бездарно, пошло день прожит,
и всё обещанное — мимо.
А в небе крылышко дрожит —
одна шестая серафима.
Вот это крылышко (именно крылышко, а не крыло) и спасает, извлекая из мрака и позволяя нырнуть «в свет многоочитый». «Крылышку», которое к тому же составляет «одну шестую серафима» доверяешь куда больше, чем крылу, а «ангелу дураков», куда больше, чем просто ангелу. Вообще у этого поэта интересные покровители. Например, «старая собачка с седою бородой». Точнее, поэт и собачка держатся друг за дружку: поэт защищает и опекает собачку, а та, в свою очередь, утепляет жизнь поэта.
Сквозь зной и снег, уже который век,
идёт щенка несущий человек —
основа, сердцевина бытия,
надежда мира и любовь моя.
Здесь появились не характерные для Ванханен высокие слова: надежда мира, любовь моя. Но в основном ей удивительно удаётся улыбаться уголками губ и впроброс говорить об очень важных вещах.
Прожитое именье
и прожитая жизнь —
вся сила в ударенье,
за это и держись.
Держись за эту кроху
среди больших зверей,
за всё, что ближе вздоху —
за дактиль и хорей,
за взлёт и два провала,
взлёт и один провал,
и плавай, где бывало,
сам Пушкин проплывал.
Держись за эту качку,
пока ревёт прибой,
за старую собачку
с седою бородой,
что на ступеньках жёстких
проводит белый день
во двориках московских,
где — помнишь? — всё сирень.
Держись за эту кроху, держись за эту качку, то есть за то, из чего состоит жизнь. Я вообще не очень понимаю зачем нужна философия, когда есть мудрая поэзия, чей лёгкий слог проникает прямо в душу. Хотите о бессмертии? Пожалуйста:
Воробей
Не похожий, инакий, иной,
наделённый кликухой обидной,
младший брат, желторотый, дурной,
из себя совершенно не видный.
Ты бессмертен, не зная о том —
голубые, за облаком, дали
на тебя указали перстом,
ибо мертвым тебя не видали.
Ты бессмертен. Галдит вороньё.
Щерит клювы. Меняет обличья…
Помяни нас во имя твое,
яко придешь во царствие птичье!
Наталья Ванханен часто пишет о малых сих: собаках, кошках, птицах. Впрочем, к «малым сим» она причисляет и людей, особенно разных фриков, которые живут несмотря и невзирая. Да ещё умудряются быть счастливыми под защитой своего ангела — «Ангела дураков». А то, что человек у неё из породы «малых сих», очевидно. Ведь он у неё хвостатый:
Не рубите человеку
хвостик радости!
Пусть он машет им, как хочет,
хоть по младости.
Не рубите человеку
хвостик смелости —
пусть его он поджимает
сам по зрелости…
Много всего в стихах Ванханен, но я написала лишь о том, что особенно для неё характерно. Она сама пишет кратко и призывает к этому других: «Давай поубористей, братец».
Но, прислушавшись к этому её совету, я не сочла возможным прислушаться к другому:
Какой-нибудь шут немудрящий
займёт современников прыть,
но если поэт настоящий
не стоит о нём говорить!
Он выйдет из тени не скоро,
открытый далёким мирам,
как ангел под крышей собора,
не видный идущим во храм.
«И окрепнет воздух»
(о поэзии Геннадия Русакова)
Первое, что бросается в глаза, когда читаешь стихи Геннадия Русакова, это отсутствие провисов и вялых слов. Он всегда на коне, всегда побеждает инерцию, всегда выбирает единственно возможное слово. Судите сами:
Стрекозы, бабочки — ремесленное чудо
(слюда и клей, и осторожный шёлк),
придуманное кем-то не отсюда,
но тем, кто в этом понимает толк.
Мне бы не хотелось тыкать указкой во что-то особо понравившееся и всё же не могу не повторить эпитет «осторожный» в применении к шёлку. «ремесленное» в сочетании с чудом. Так и видишь, как некий нездешний умелец колдует над хрупким материалом. А о хрупкости его свидетельствуют сами звуки у, ю,с, ш, л — ускользающие, такие, что губам щёкотно, когда их произносишь.
Не стоит, наверное, стремиться дать полную картину в разговоре о поэте. Лучше покопаться в мелочах. Тем более, что мелочи — это и есть главное в поэзии. А поэзия — это «праздные следы жизни со всем её крученьем и верченьем», вырастающие до вселенских размеров. Поэзия — это свобода обращения с разнокалиберными понятиями, это способность обратиться к Творцу в бытовом контексте:
Творец, запомни нас вот в эту среду,
в Медовый Спас, в четырнадцать часов:
мы тут с женой готовимся к обеду,
и я раздет, как дачник, до трусов.
Поэзия — это способность все повторы превратить в небывалое, невиданное и неслыханное, сотворить из набившей оскомину рутины праздник, способность отбрасывать тень в прошлое и посылать лучи в будущее. Это не программа и не задача поэта. Это его удивительное свойство, которому невозможно научиться и которому не устаёшь поражаться.
Ну а мы, между делом, замесим грядущего тесто.
Запоёт у соседа живущая сольно труба.
Мир — простое и, в сущности, грустное место,
где пузырчато небо, зато тишина голуба.
Где свеченье над садом, осевшие
с хрустом сугробы,
предгриппозное горло, горячая плоть кавуна.
Или раннее утро хорошей метрической пробы,
с переполненным зреньем летящего в лето окна.
Забавно, как негодует компьютер, когда я печатаю строки Русакова. Он то и дело забегает вперёд, пытаясь подсказать мне окончание слова, но, не угадав, возмущённо подчёркивает напечатанное: мол, нет такого слова, нет. Ну откуда ему знать? Он, слава Богу, стихов пока не пишет и понятия не имеет про «живущую сольно трубу», про «пузырчатое небо», «предгриппозное горло», «подсобный воздух», на который можно «опереться». И всё это не прихоть самовыражающегося автора (я, мол, так слышу) а, по определению Мандельштама, «сознание своей правоты». Каждое слово звучит убедительно и кажется единственно возможным.
И вот ещё что. В 2003 году Русаков выпустил книгу, посвящённую памяти жены — поэту Людмиле Копыловой. Книга называется «Разговоры с богом». Именно так — бог с маленькой буквы. Это страшная, бесстрашная, отчаянная, богоборческая, беспощадная к самому себе книга.
Одинокие люди, я вам посылаю привет!
Мы отныне родня, и уже не забудем друг друга.
Позовите меня — у меня никого больше нет.
Я ладони разжал, чтобы выйти из общего круга.
Я у господа бога в стеклянном сосуде сижу,
ничего не умею и галочкой дни помечаю.
Просеваюсь дождями, любимое имя твержу
и не чаю уйти… И не чаю, родные, не чаю.
Стихи в этой книге были такой силы, что, казалось, после этого остаётся только замолчать, потому что лучше всё равно не напишешь. И действительно появлялись подборки, которые были куда бледнее «Разговоров с богом». Но «never say „never“». Русаков снова набрал силу. Мир для него снова в строительных лесах. Творение продолжается, и поэт, как участник процесса, всему даёт имена.
Там ночь дожди на лямке волочёт:
сейчас протащит — и окрепнет воздух.
И мимо окон время потечёт.
И шаткий месяц шевельнётся в звёздах.
«На память узелки»
(о поэзии Александра Тихомирова)
Александр Тихомиров родился в 1941-ом и погиб, сбитый электричкой, в 81-м, немного не дожив до сорока.
Сегодня не сашино время. Но и «вчера» — в 1960е — 70-е было не его время. А значит, он вне времени. Или же все времена — его. Он нужен всегда. Разве могут быть не нужны такие стихи?:
Мир печальный, мир смешной
Я ль избавлю от порока?
Не гожусь на роль пророка —
Мощь не та… Но шут со мной.
Мало ль ходит среди нас
Истинно людей прекрасных —
Очень умных всякий раз,
Даже кое в чём опасных…
Я бы крикнул им — ура! —
Мол, вперёд, друзья, к победе…
Только поздно — спать пора.
Да и, знаете, — соседи…
Эти стихи — на все времена. Они — про нашу сегодняшнюю, вчерашнюю, а может, даже и завтрашнюю жизнь. Вот так безпафосно, с печальной и нежной улыбкой он умеет говорить обо всём. Нежность — это вообще главное сашино свойство. Невольно вспоминаются строки Бориса Рыжего:
Мне не хватает нежности в стихах,
А я хочу, чтоб получалась нежность,
Как неизбежность или как небрежность…
Для Саши Тихомирова нежность — действительно неизбежность. В одном из его стихотворений разговаривают два рабочих старика:
…Слышишь, батюшка — жестянщик?
Слышу, батюшка-печник…
Он и в жизни так разговаривал. «Лапушка» было его обычным обращением. Может, вы думаете, что это не по-мужски? Зря думаете. Никакого сюсюканья не было ни в его речах, ни в его стихах. Даже когда появлялись уменьшительно-ласкательные суффиксы. Почему это происходит трудно сказать. Скорей всего, потому, что ему никогда не изменяли вкус и чувство меры. Он никогда не повышал голос, а тем более не брызгал слюной. И, самое замечательное, что при этом он заставляет себя слушать. А ведь это самое трудное — говорить тихо, но так, чтоб тебя слышали.
Отчего голова поседела?
Вроде б не с чего ей поседеть.
За меня вся родня отсидела —
Так что мне не придётся сидеть…
Из чего эти стихи? Из тихих слов и глагольных рифм, но ничего другого не надо. Всё сказано. Эти строки сродни строкам Клычкова:
Впереди одна тревога,
И тревога позади…
Посиди со мной немного,
Ради Бога, посиди.
Слов мало, но вполне достаточно, чтоб перехватило дыхание. И плох тот мир, который не способен услышать такие стихи. Саша Тихомиров, конечно, хотел быть услышанным и, тем не менее, насчёт мира не обольщался. Недаром же он писал: «Мир печальный, мир смешной…». А поскольку мир всегда смешной и печальный, то стихи Тихомирова всегда современны и всегда своевременны. А тем более сегодня, когда децибеллы шума таковы, что ничего не стоит потерять слух. Сашины тихие стихи могут помочь его вернуть. Так что сегодня его стихи не только современны, но просто жизненно необходимы. А ещё они необходимы, потому что способны вернуть радость от тех вещей, которым стоит радоваться:
Опять пробуждения сладки —
И думать забыл о плохом!
Мороза утиные лапки
Кой-где на асфальте сухом.
Напротив витрин магазина,
На солнце, где вход в ателье,
Прозрачная дымка бензина-
Как барышня в синем белье!
И самая главная новость —
— Всему я так искренне рад,
Как будто не ведала совесть
Страданий, сомнений, утрат…
В талантливом фильме, который сделал Сашин сын Митя по сашиным стихам, один из героев говорит Саше: «Слушай Моцарта и с тобой всё будет в порядке» У Саши Тихомирова и в самом деле моцартианский склад. Он просто не умел жить без улыбки. Пусть печальной, но улыбки.
Утро доброе, берёза, —
Ты прекрасна, словно роза!
После душных, жарких гроз
Над покосом комариным
В небе синем и старинном,
Светит солнышко до слёз…
Вообще он знал с кем быть на ты: с берёзой, с коровой. Короче, с фауной и флорой, для которой он тоже всегда был своим:
Природа милая,
Ну как там соловьи?
Что с розами —
Надеюсь, всё в порядке?…
Он хорошо понимал, что «живущий несравним» и каждый неповторим и существует в единственном экземпляре. Отсюда его чуткость, отзывчивость и внимание к мелочам, которые и есть — главное в жизни.
Во сыром бору-отчизне
Расцветал цветок,
Непостижный подвиг жизни
Совершал, как мог…
Вот в какое интимное окружение поместил поэт высокие слова «подвиг жизни». В этом весь Саша — не греметь словами, не бряцать. Авось, услышат и так. Очень хочется, чтоб услышали. Это теперь нужно не ему, а нам.
При жизни у Саши Тихомирова вышла одна книга «Зимние каникулы». После смерти — две: в1983-ем и в 91-ом. Книга 91-го года хорошо издана, на обложке сашины рисунки, составила книгу сашина недавно умершая жена прозаик Лидия Медведникова, тираж книги 10000, но сдаётся мне, книгу не особо заметили. Тогда шёл вал запрещённых, забытых авторов, бывших сидельцев, эмигрантов. Опять не до стихов. Во всяком случае, не до Сашиных.
Вот писала-писала, но так и не сумела объяснить самой себе откуда берётся обаяние сашиных стихов. Особая доверительная интонация? Да, конечно. Простота и прозрачность языка? Да. Детскость? Мудрость? Юмор? Нежность? Да, да, да. А, может, отгадка в фамилии — ТИХОМИРОВ. Разве с такой фамилией можно писать другие стихи?
Мы часть всего, как рожь, как васильки,
Мы только часть, а целое — закрыто…
Для Бога мы — на память узелки,
А меж собой все будем позабыты.
И хоть страшна забвения пора,
Пусть весь умру, как говорит наука, —
Не слишком много делал я добра,
А вечно помнить зло — такая мука.
Маменькин сынок
(о новой книге стихов Валентина Резника)
У Валентина Резника вышла книга стихов «Будни Бытия». Её трудно читать, потому что на одной странице иногда живут пять, шесть, а то и семь стихотворений. Но, несмотря на такую густоту, её хочется читать, потому что стихи действительно ЖИВУТ, они живые. А это, по-моему, лучшее, что можно сказать о стихах. Теснятся же они, потому что издать книгу стихов сегодня весьма трудно. За неё надо платить, а платить Вале нечем. Он пенсионер. Вот и втиснул в юбилейный сборник (автору недавно исполнилось 75, и это подарок семьи) всё, что считал нужным. И в результате вышло так, что стихи оживлённо общаются друг с другом, спорят, вторят друг другу, поддакивают, возражают. Потому что живые. Но, несмотря на такую густонаселённость, я, к своему изумлению, не нашла в книге одного стихотворения, которое в ней обязательно должно быть. Вот оно:
Я мамину фамилию ношу,
Поскольку ею был рождён в Карлаге,
И потому на гербовой бумаге
Я только ей одной принадлежу.
Как бы я ни был в мире одинок,
Я только с ней, пусть даже мёртвой, дружен,
И мне никто кроме неё не нужен,
Я маменькин пожизненно сынок.
Валя Резник — сирота, детдомовец, слесарь высшего разряда. Но главное — он поэт. И об этом сейчас речь. Не надо искать в его стихах чего-то эдакого: какого-то особого размера, небывалых рифм. Вообще ничего не надо искать. Надо только найти его сборник и в него погрузиться. И если вы ещё не разучились читать стихи, то вас поразит этот голос — то счастливый, то сдавленный и дрожащий от слёз, то гневный, но, как ни странно, всегда молодой. Даже в стихах о старости. И как может быть иначе, если он и в свои семьдесят пять способен сказать, что «снег выпал, как счастливый случай…».
Лучшие стихи Резника достигают цели. А цель — сердце читателя. В наше время подобная цель — анахронизм. Чаще ставят другие цели — напугать, шокировать, заставить говорить о себе любой ценой. А Резник топчет одну дорожку, ведущую от сердца к сердцу и не боится прослыть мастодонтом.
Иногда он слишком декларативен и прямолинеен, но это случается с ним оттого, что ему срочно надо «выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке». Я имею в виду так называемую «гражданскую лирику» (простите за дурацкий школьный термин). Валентин Резник — дитя двух веков, где столько наломано дров, что, хоть и мудрено разобраться в этих завалах, обойти их невозможно, потому что они — завалы эти — становятся частью тебя, твоей судьбы. И разбираться приходится с самим собой, то проклиная время, в которое жил, то объясняясь ему в любви, то не зная как быть с этой любовью-ненавистью.
Я коротаю день короткий
Тем, что по городу брожу
И на прилавок, полный водки,
Без всякой зависти гляжу.
Не поверну проворно ухом,
Коль намекнут сообразить,
Что там какая-то сивуха,
Ещё не то случалось пить.
Ещё и до сих пор во взоре
Печаль, рождённая войной,
Я пил в таких размерах горе,
Что и не верится порой,
Как умудрился не сломаться,
Дожить до нынешнего дня.
Вот вам, ребята, рубль двадцать, —
Опохмелитесь за меня.
Валентин Резник — поэт. Это слово не требует эпитетов. Боюсь, что его книгу не найдут в магазинах и потому хочу дать читателю возможность убедиться, что Резник — поэт. А кто же ещё может сказать «воробей — пернатая дворняга» или «и нет отбоя от небес», или в стихах «России»: «С признаньями к тебе не лез / И в грудь себя не бил рукою, / А просто, как в осенний лес, / Вошёл в тебя и стал тобою…».
Пожалуй, приведу напоследок одно стихотворение полностью:
Л.С.
Вот хожу я из конца в конец балкона
В безрукавке на истёрханном меху,
А напротив долгосрочная ворона
На берёзовом качается верху.
Что, старуха? Как житуха? Как с харчами?
Чем тебе могу я, старый хрыч, помочь?
Ведь у нас с тобой эпоха за плечами,
Отошедшая совсем недавно прочь,
Где рождённый в подозрительной сорочке,
Я всё время что-то строил и ломал,
Ты ж помойные обследовала точки,
Удостаиваясь басенных похвал.
И не надо ничего-то нам от мира,
Только чтобы он от горя не зачах,
Чтобы вечно ты была с головкой сыра,
Ну, и я чтоб с головою на плечах.
«А этого нельзя»
(«Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана»)
Когда я сказала своему приятелю, что вышла книга «Нота», в которой знаменитый альтист и дирижёр Рудольф Баршай рассказывает о своей жизни, мой приятель ответил: «Но я же совсем не музыкален и мало что смыслю в музыке». Я не нашла что возразить. А вот теперь, дочитав книгу, знаю. Эта книга не только о музыке. Она — о музыке в нас. Не только о том, как ставить голос оркестру, но и о том как «ставить» душу. Ведь душу, как и голос, надо ставить. Эта книга о чистоте звука. А звучат не только инструменты — звучит (простите за высокопарность) сама жизнь. И до чего же у неё чистый звук, когда читаешь эту книгу! Впечатление, что тебе дают ЛЯ, как делают при настройке инструмента.
Почему возникает такое чувство? Трудный вопрос. Трудный не потому что не знаю что сказать, а потому что могу говорить очень долго. Я не музыкант, хотя никогда не жила без музыки. Моё музыкальное образование крошечное: я окончила музыкальную школу. Так что я не собираюсь и не в силах обсуждать те драгоценные мысли о музыке, которыми изобилует книга. Я о другом. Есть в русском языке словосочетание — «от чистого сердца». Именно так — от чистого сердца говорит 86-летний Рудольф Баршай о своём детстве, о своих учителях, коллегах, друзьях. И, конечно же, о музыке. Этот чистый звук помогает услышать малейшую фальшь в нас самих. Мне очень нравится английский глагол sound применительно к человеку: «You sound cheerful today». А ведь каждый из нас действительно звучит, вибрирует, как эолова арфа на ветру. Да нет. Если бы — как арфа. Сегодня в моде совсем другой — попсовый звук и дикие децибелы. Но я не собираюсь говорить про «сегодня». Про «сегодня» и без меня достаточно говорят. Лучше послушать Рудольфа Баршая и настроиться на его волну.
Вот как он говорит о Генрихе Нейгаузе: «Первый раз в России исполнялось трио Брамса. Успех у трио был огромный. Аплодисменты не прекращались четверть часа. Генрих Густавович вышел на авансцену и говорит: „Уважаемые товарищи слушатели! Это такая прекрасная музыка — позвольте нам исполнить её ещё раз“. И, конечно, сыграли снова. Он так любил музыку, как будто дышал ею. Он потом в своей книжке написал, что прежде чем заниматься музыкой, надо иметь её в себе, носить в душе и слышать её… И вот что такое любовь к музыке, а не к своему успеху».
Эта книга населена уникальными, штучными людьми. В ней живут Шостакович, Рихтер, Гилельс, Иегуди Менухин. И неважно, слышали ли вы когда-нибудь этих музыкантов, знаете ли музыку композиторов, о которых ведёт речь Баршай. Важно как этот старый и невероятно молодой человек говорит об этих людях и о музыке, какая у него оптика, какой слух, какая душа. Он говорит о полифонии в музыке, а кажется, что о полифонии в жизни. Говорит о гармонии в музыке, а кажется, что о гармонии в душе. Гармония никогда не покидала этого человека, хотя он слышал всю какофонию времени, в которое жил, и страшно страдал от неё. Музыка вовсе не была той нишей, в которой можно было укрыться. Травили Шостаковича, мучили его учеников, травили Прокофьева. Диктат, тупые запреты, директивы. Да что об этом говорить? Об этом говорено-переговорено. Но когда слушаешь Баршая, то видишь всё так близко, как будто смотришь в бинокль. Видишь, как он пришёл к Шостаковичу после собрания, на котором композитора смешивали с грязью, и как они вдвоём сидели за бутылкой. Сидели и молчали. И как, провожая Баршая до двери, Шостакович пожал ему руку и произнёс единственное за весь долгий вечер слово: «Спасибо».
Помня всё до малейших деталей, никогда не прекраснодушничая и сохраняя абсолютно трезвый, лишённый романтической дымки взгляд на мир, на страну, в которой он жил, Баршай остался влюблённым человеком. Влюблённым в музыку, в людей, в саму жизнь.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.