
Бесплатный фрагмент - Моя жизнь и мои путешествия
Том 1

Несколько слов о моей автобиографии
Сообщая публике о своем счастье, я хотел бы сделать несколько замечаний.
Мне было очень сложно написать и издать свою книгу в двух томах. Но сильное желание напечатать свою книгу не позволило мне остановиться, несмотря на все трудности, и я продолжал работать. Я также чувствую, что моя автобиографическая работа предоставит будущим историкам ценный материал, например, нашу историю последних пятидесяти роковых лет еврейской жизни. И это придало мне смелости и энергии, чтобы продолжать заниматься своей работой в течение последних десяти лет. Многие главы книги были опубликованы в различных газетах и журналах по всему еврейскому миру за последние тридцать лет. Я никогда не был из тех, кто выдвигает себя на передний план еврейской общественной жизни, я почти никогда не говорил о себе как об общественном деятеле, культурном деятеле, борце за интересы еврейских рабочих или знамени еврейских национальных интересов. Но в этой книге речь идет о моих исканиях; в своей жизни, своих путешествиях я, ни при каких обстоятельствах не мог избежать «крайностей», но старался писать обо всем, через что я прошел, видел, в чём участвовал и что испытал как человек и еврей, стремясь быть максимально объективным. В описании своих кругосветных путешествий я многое упустил и не включил все побочные поездки. Я сделал это в целях экономии. Надеюсь вернуться к ним со временем. Я также не включил в книгу описания различных интересных персонажей, с которыми мне довелось соприкасаться в Китае, Японии, Йемене, Израиле и Америке. Очень скоро я опубликую об этом отдельную книгу. Я также считаю своим долгом поблагодарить всех, кто помог мне материально в издании двух книг. Наибольший вклад внесли: Еврейский рабочий комитет, Бен Гендель, Ф. Кан, моя сестра Берта Брагинская (Лос-Анджелес), общество друзей Мира, д-р Фокс, Борух Антонов, Х. Айзданский (Сан-Антонио), Джозеф Кляйн (Кантон, Огайо), Б. Зарецкий (Виннипег), Фрида Хаузер, Уиллис Беллман, Альхар Коэн (Монреаль), Идишский культурный совет (Рочестер), Сэм Оконевеский, Эльза Сударская, Regal Art Novelty, Co, и те, кто подписался на мои книги. И, наконец, моя самая теплая благодарность моему родственнику Элиашеву за его самоотверженный труд кассира и сборщика денег, за его личный и прекрасный вклад, а также моему дорогому другу М. Бергеру из Мехико-Сити, который больше, чем кто-либо другой, посвятил себя моей книге, занимаясь корректурой и печатью. Я никогда не забуду его работу.
Ной Мышковский
1469, Фултон Авеню, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.
Несколько слов от переводчика на русский
Я познакомился с книгой Ноя Мышковского (1878 — 1950) семь лет назад. Тогда я изучал историю своей семьи и в архиве ФСБ из следственного дела своего деда узнал, что у его жены, моей бабушки, был в Москве родственник Вениамин Мышковский, которого при Сталине, как и деда расстреляли. Я предположил, что Ной может оказаться родственником Вениамина и попытался, не зная идиша, прочитать эту книгу с помощью Гугл-переводчика. Оказалось, что Ной — старший брат Вениамина, а кроме того в книге, пусть мельком, упоминаются мой прадед Арон, его жена Анна, а также её родители и оба деда. Книга показалась мне интересной, и я надеялся, что в ближайшие годы её переведут на какой-либо европейский язык, но этого не произошло. Тогда я решил заняться этим сам. Я понимаю, что результат моей работы далёк от совершенства, но считаю, что эта книга заслуживает внимания русских читателей, и лучше такой слабый и местами ошибочный перевод, чем никакого. Я также снабдил перевод своими комментариями. В заключение добавлю, что в главу, в которой упоминаются мой прадед и прабабушка, я добавил их фотографию из семейного архива.
Антон Авдеев, 2024 год, Москва.
Глава 1
Мой штетл Мир
Хоть я и родился в Копыле, но до сих пор считаю своим родным городом Мир, так как мои родители переехали со мной из Копыля, когда мне было полтора года. Хотя Копыль с тех лет так и остался мне совершенно неизвестен, в Мире я провёл все своё детство, пока мне не исполнилось семнадцать лет. Все мои воспоминания о детстве и первых годах моей юности связаны с городом Миром, который и по сей день близок моему сердцу. Я помню свой город таким, каким он выглядел шестьдесят лет назад, то есть таким, каким он был, когда мне было шесть или семь лет.
Я хорошо помню главные улицы: Виленскую, Жуховичскую и Мирскую. Я также помню синагогальный двор с холодной синагогой, Бейт-Мидраш и другие маленькие школы и училища и все переулки, идущие от синагогального двора и немного дальше до нового города, где наша городская беднота жила в неописуемых лишениях. Я помню также части города Падал и Юрздике, а также улицы, где жили городские мещане и татары, которых мы называли, по выражению из Пятикнижия, кедаримами. В частности, я хорошо помню нашу крепость, которая в былые времена защищала наш город от нападений иностранных захватчиков. Наполеон разрушил всё вокруг этого военного замка во время своего похода на Москву, и с тех пор от него остались только руины. Но время от времени в нем жили графы и дворяне, которым принадлежал наш городок. Замок представлял собой настоящую крепость, приспособленную для войн Средневековья. Большая крепостная стена с очень толстыми стенами, высотой три или четыре метра, с башнями со всех сторон, построенная широкой рукой и стратегической головой.
Внизу, как говорили, идёт подземная дорога, по которой можно доехать на карете, запряжённой четвёркой лошадей, до Несвижа, лежащего в двадцати восьми верстах от нашего города. Вокруг крепости тянулись тенистые холмы, а чуть дальше текла наша река — Миранка. В замок мы, дети, приходили каждую субботу после ужина погулять. Мы заходили внутрь, бродили по огромным разрушенным залам, карабкались по этажам, шли по широким длинным коридорам, взбирались по «головокружительной лестнице», а затем поднимались наверх по разрушенным стенам, хотя это было очень рискованно. О руинах дети рассказывали друг другу разные истории о «нехороших парнях», которые каждую ночь проводят там свои оргии, о прекрасных ведьмах, о том, как они там соблазняют невинных мужчин и о том какое горе выпадает тому, кто попадётся в их лапы. Они играют с ним, целуют и держат его, пока он не умрет у них на руках. И с большим страхом дети рассказывали, как недавно они поймали охранника и в ту же ночь он умер на руках прекрасных девушек из руин. Мы никогда не ходили там в одиночку, а всегда группами, чтобы ведьмы не имели над нами никакой власти.
Примерно в полумиле от города находился двор князей, которым принадлежал город. В моё время городским священником был старый поляк Фусиато. Он жил там со своим большим домашним хозяйством и десятками слуг. Затем этот двор перешел к новому владельцу города — князю Святополку Мирскому. Этот двор был для нас, детей, очень странным и даже, враждебным царством. Мы боялись туда ходить, потому что, во-первых, боялись смотрителя (охранника), который любил, чтобы мы снимали шапки, во-вторых, мы боялись его больших собак. В городе ходили слухи, что у входа во двор стоит страшный волк с оскаленными зубами и, как только он увидит кого-нибудь вошедшего во двор, набрасывается на него и разрывает на части…
На другом конце села, по дороге к «кедаримовским могилкам» (татарскому кладбищу), находился еще один княжеский двор. Он долго пустовал, а теперь городской судья там, во втором дворе, вершил «правосудие».
Когда мне было шестнадцать лет, я имел «привилегию» работать у него неофициальным секретарем, потому что, как еврей, я не имел права занимать столь высокую правительственную должность. Штетл, как мы его называли, принадлежал Минской губернии. Недалеко от нас находился наш районный город Новогрудок, а в пятнадцати милях от города находилась железнодорожная станция Городея, или Хородзей, как мы ее называли. В городе проживало пять тысяч человек, большинство из которых были евреи. Евреи в основном занимали центр города с рынком, но были распределены и в других частях города, хотя и не в таком плотном количестве, как в центре. Пятитысячное население делилось на три расы: семитскую — евреи, европеоидную — белорусов и монгольскую — татары. Но не все имели равные права. Татары имели много привилегий. Они имели права «благородных» (дворянства), тогда как белорусы имели права мещан, а мы, евреи, не имели никаких прав вообще. Нас только терпели. По вероисповеданию население также делилось на три отдельные группы: татары были магометанами, белорусы были православными, а евреи, естественно верили в Тору Моисееву. В то время существовало три отдельных мира, которые не имели почти ничего общего, если не считать того, что они поддерживали торговые отношения между собой. Самой оживленной частью города была рыночная площадь. Здесь были красивейшие здания, здесь были два монастыря, здесь жили самые богатые евреи, здесь были все лавки и магазины, а по ночам рынок освещался керосиновыми фонарями.
В еврейских районах улицы были заасфальтированы. Однако это не мешало тому, что весной и осенью листьев было так много, что пройти по улицам было невозможно.
Среди самых красивых зданий города были два монастыря и холодная синагога, в которой зимой не молились, потому что она не отапливалась. Также Бейт-Мидраш во дворе синагоги, здания русской начальной школы и католической шестилетней учебной школы, а также дома Каменецких и Левиных. Самым интересным зданием в городе была синагога. Снаружи она производила величественное впечатление огромного здания с высокими и низкими крышами. Окна были высокие и широкие, необычайно красиво украшенные разноцветными стеклами. Над окнами были широкие резные карнизы. Во дворе синагоги с одной стороны располагалась доска для омовения покойных, а с противоположной стороны помещалась шкатулка со старыми порванными книгами. Все это — внешний вид и лоск — производило на меня, как и на всех еврейских детей, сильное впечатление, от которого я до сих пор пытаюсь освободиться.
Как только вы входили в синагогу, вас охватывало святое религиозное чувство. Одного взгляда на необычайно высокий и чудесно вырезанный Ковчег Завета, Биму и на резьбу на двери, ведущей в синагогу, было достаточно, чтобы их запомнили навсегда. Картины и резьба на стенах снизу доверху — в то время они полностью захватывали мое воображение: картинки из Танаха, изображения животных, различных птиц, рыб, даже слона, все в свою натуральную величину. Существовали также различные библейские и фантастические изображения Левиафана, называемого Шур-Хебр, огнедышащего змея.
Теперь я могу сказать правду, что ещё мальчиком, я все время смотрел на эти картинки и не мог от них оторваться… Очень долгое время они питали мое юношеское воображение. (Мой соотечественник — покойный художник и писатель Гецель Чарни — в своем воспоминании о сгоревшей Мирской синагоге очень талантливо описал эту историческую синагогу, ныне разрушенную, как и тысячи других синагог).
Недалеко от синагогального двора находилась всемирно известная Мирская иешива, основанная в 1817 году нашим тогдашним раввином, Ха-Гаоном Давидом Эйзенштадтом. Первым Рош-иешивой стал его сын раввин Моше Абрахам. В мое время главой иешивы был раввин Хаим Лейб, племянник Моше Абрахама. Я до сих пор очень хорошо помню раввина Хаима Лейба. Он был самым уважаемым и видным евреем в городе. Я его инстинктивно опасался, так как мои родители не были набожными, не имели кошерной кухни, и я всегда боялся, как бы он не проклял нас как «святой». И в городе, и в окрестностях на него обращали гораздо большее внимание, чем на нашего раввина Липеля, который тоже имел репутацию в тогдашней Белоруссии. Раввин Хаим Лейб не вмешивался в дела штетла, и полностью посвятил себя управлению иешивой. Он был евреем не этого мира, а совсем другого мира, мира более высокого, благородного и нравственного. Он парил в небесах и двигался только в мире высшей еврейской морали. Он не уходил в себя, и большую часть времени проводил с мальчиками иешивы, которых всегда было у него немало. Они приезжали со всех концов мира: из России, Польши, Галиции, Австрии и даже из Сибири, Африки и Америки.
Иешива представляла собой величественное здание с окнами на все стороны. Внутри было полно скамеек и трибун, на которых были открытые сиденья, а из здания иешивы всегда было слышно пение молодых учеников иешивы. Они звучали победоносно и по мелодии и звуку люди могли узнать, кто откуда приехал, из Литвы или Польши, или из Украины, или с Кавказа. Различной была и одежда мальчиков иешивы, длинные капоты галичан смешивались с короткими куртками литовских и других мальчиков иешивы. Летним днём было чрезвычайно интересно прогуляться по аллеям Мира. Все окна иешивы и частных домов, где пели мальчики иешивы, были открыты, и по всему городу их песни были слышны до самого неба. Складывалось впечатление, что весь этот маленький городок учится и побеждает.
Мальчиков иешивы никогда не называли по именам, а называли по городу, из которого они родом: слонимчанин или волковычанин, краковчанин, люблянин, кобринчанин и так далее.
Но если шестьдесят лет назад еврейская жизнь была погружена в средневековье частично, то наши соседи, татары и белорусы, все еще застряли в глубоком средневековье. Редко татарин мог прочитать или понять язык своего Корана или написать что-нибудь на своем языке. Ещё реже белорусская женщина умела читать или писать. Но все «наши» жители Мира могли молиться и понимать Псалмы. Даже женщины могли заглянуть в книгу переводов на иврит и посмеяться над возвышенными мыслями и красивыми историями. В нашем городе уже были еврейские учителя, врачи, аптекарь, два юриста. Часть нашей молодежи посвятила себя чтению светских книг. Из тех времён я помню братьев Зельдовичей, которые самостоятельно учились не только русскому и немецкому, но и английскому языку. Я помню еврейских студентов Якоба Халферна, Соломона и Фаддея Левиных, Шмуэля Ледера, профессора мнемоники Файнштейна и ученейшую Веру Левину, подругу А. Лесина в его минский период. Продвинутые русские интеллигенты вроде учителя, судьи и священников получали больше удовольствия от общения с интеллигентными евреями, чем со своими единоверцами.
У нас в штетле уже была библиотека, состоявшая из большого набора книг на русском, идише и иврите, сначала в доме Шаи Розовского, а затем в доме Исаака Шварца. Помимо библиотеки, в нашем городке была девушка по имени мисс Федер, которая выписывала еврейские книги, романы, буклеты с рассказами и давала их напрокат своим постоянным клиентам. Потом, когда стали появляться еврейские литературные сборники, она скупала их и давала читать напрокат. Так она распространяла свет и знания в нашем городке.
Также к нам домой приходили русские газеты и журналы, у моего отца была прекрасная библиотека русской классики и переводов европейской литературы.
Тем не менее должен добавить, что читателей книг на русском, идише и иврите в моем штетле в то время было немного, около сорока — пятидесяти человек. Читали в основном женщины, и их любимыми книгами были «интереснейшие» романы Шомера. В общем, прославлялась еврейская жизнь, в которой мы находились в то время. Подавляющее большинство еврейского населения было очень набожным, и все жили по старым еврейским традициям.
У нас в штетле евреи ценились не по богатству, а по учености. «Богатство» человека отошло на второе место.
Синагога была основным местом, где евреи говорили о политике, о том, что хорошо и что плохо для евреев. В таких разговорах жители прислушивались к мнению «учёных евреев», особенно тех, кто знал русский язык.
В нашем районе евреи женились, рожали и отдавали своих детей обучаться частным учителям, а те, кто жил рядом, в городскую Талмуд-Тору. Многие хорошие учащиеся стали руководителями иешив. Уже этим они много выигрывали в глазах остальных.
Экономическое положение евреев штетла было ужасным. Почти восемьдесят процентов еврейского населения не имела достаточного количества хлеба. Христиане заставляли их заниматься сельским хозяйством, но евреи не соглашались на это. Правительство отняло все источники дохода у евреев, и я до сих пор не могу понять, как бедные евреи просто не умерли с голода. У нас были только шинкари, несколько богатых лавочников, несколько ростовщиков, лесные торговцы, лесные служащие и различные еврейские специалисты. В то время как подавляющее большинство лавочников, ремесленников и мелких торговцев зерном могли заработать себе на жизнь, фермеры, крестьяне и евреи с похожими бедственными условиями жили «полноценной» жизнью и никогда не получали полноценной еды. К счастью, царское правительство не препятствовало базарным дням, которые в те времена проводились регулярно.
Ярмарки в городе проводились по воскресеньям и два раза в год. Евреи считали их манной небесной. Тысячи фермеров приезжали из окрестных деревень. Они продавали свою продукцию и на вырученные деньги покупали табак, керосиновые лампы, белье, различные материалы, сельскохозяйственный инвентарь и подарки для женщин и детей. После каждой покупки и продажи фермеры шли в шинки. Евреи готовились к ярмарке за несколько недель до её начала. И все становились купцами. Они занимали несколько рублей и торговали. Купили-продали яйца, сено, зерно, бушель яблок и в кармане что-то осталось. Более богатые люди покупали овец, телят, лошадей и в течение полугода имели доход от этой торговли. Евреи тоже целый год с нетерпением ждали того времени, когда «чужаки» приедут в город со всех окрестностей, потому что тогда у шинкарей и лавочников дела шли очень хорошо. Правда, очень часто появление приезжих заканчивались драками между собой или между христианами и евреями. В таких случаях приходили еврейские крепкие парни и мясники и отгоняли пьяных нападавших. От всех соседних еврейских городков евреи моего штетла отличались благородством и ученостью. И этим евреи всегда хвастались, когда в Мир приходили жители Клёцка, Столбцов, Несвижа или Лашевичей. И мы все действительно гордились тем, что мы миране.

Глава 2
Моя семья
Со стороны матери я никого не знал. Моя бабушка умерла еще до моего рождения. Дедушка когда-то был у нас, но я тогда был ещё совсем маленьким ребёнком, поэтому даже не помню, как он выглядел, и какой он был еврей. Со стороны матери я знал только ее племянников и племянницу, детей ее сестры Тойбе: Ефима (Хаима) Хисина — известного билуйца доктора Хисина, умершего несколько лет назад в Тель-Авиве, его брата Осипа Хисина, известного московского фабриканта, и их сестру Лизу, вышедшую замуж за Мирского студента Шмуэля Ледера и уехавшую с мужем в Америку сразу после свадьбы. Ее муж был известным радикалом здесь, в Нью-Йорке, работал в «Арбетер цайтунг», имел офис в Бруклине и, между прочим, умер пятнадцать лет назад.
Зато я хорошо знал семью отца. Я отлично помню своего прадеда Гирша, писаря из Лашевичей. Это был высокий, широкоплечий еврей, очень красивый. Его прозвали Гирш-писарь, потому что, будучи старостой штетла он записывал все рождения, браки и смерти. В то время он был представителем еврейского населения Лашевичей, и о нем в наших краях ходила следующая история:
Восемьдесят лет назад священник Лашевичей сильно притеснял там еврейское население. Жители Лашевичей собрали большую группу для рассмотрения средств, которыми можно было бы смягчить сердце священника по отношению к евреям, и было решено послать его, моего прадеда, заступиться за них. Когда мой прадед пришел к нему, он сказал священнику:
— Вам платят всякие налоги, берут Ваши расписки, и вот Вы снова хотите ввести новый платеж. Мои евреи находятся в ужасном положении, а вы ещё держите их в страхе.
На это священник с улыбкой ответил:
— Что вы имеете в виду? Почему я должен с ними лучше ладить, когда они распяли Сына Божия Иисуса.
— Господин священник, — ответил мой прадедушка, — интересно, почему Вы так говорите. Вы видно шутите, Вы должны знать, что не мы, евреи Лашевичей, его распяли, а евреи Копыля.
Услышав это, священнику стало стыдно, потому что он сам этого не знал, и сердце его стало несколько мягче.
Сорок семь лет назад, когда я был в Лашевичах на выпускном вечере, его внук Меир отвел меня в синагогу и показал мне живопись, которую его дедушка, а мой прадед нарисовал на стенах. Это были сцены из еврейской жизни в библейскую эпоху. Тогда эти картины произвели на меня сильное впечатление. И это действительно удивительно: провинциальный еврей, который, кроме картинок из Агады и Торы, никогда в жизни не видел других картин, никогда не учился искусству живописи, вдруг становится художником и расписывает стены синагоги картинами, которые производят нужное впечатление. Не знаю, соответствовали ли его картины художественным правилам, но евреи Лашевичей гордились ими, потому что в них на первый план выходили интересные эпизоды библейской эпохи.
Когда мне было шесть или семь лет, мой прадед Гирш-писарь решил поехать в Израиль и приехал к нам, своим внукам и правнукам, в Мир, чтобы попрощаться с нами. Тогда он провел с нами неделю. Из того времени я помню только, что он был очень высокого роста, у него были еврейские грустные глаза и длинная белая борода. Ещё я помню, что он меня слушал и был со мной счастлив. Перед отъездом он подарил мне на память драгоценную медную монету, которую я много лет хранил как зеницу ока.

Он умер в Иерусалиме. Лишь в 1922 году я посетил его могилу, которая находится на Елеонской горе. Уходя оттуда, я подумал, что это был необыкновенно красивый, богатый, интересный человек из былых времён.
Из его детей хорошо я знал только двоих: моего дедушку Рафаила и его брата Израиля. Мой дедушка был самым старшим в Копыле, а Израиль был самым старшим в Лашевичах. Мой дедушка Рафаил всегда был очень скромным человеком, всегда заботившимся об общем благе. Помимо своей официальной должности старосты, он был габбаем в городской Талмуд-Торе, смотрителем сирот и всегда был занят обеспечением бедных детей едой и одеждой. Он разбогател в молодом возрасте, покупая государственные расписки, освобождающие их владельцев от военной службы. Кроме того, у моей бабушки были трактир и гостиница. Он совершенно не вмешивался в дела жены, поскольку был слишком занят общественными делами и не имел времени заниматься даже собственными одиннадцатью детьми. Когда мне было двенадцать лет, я приехал в гости к дедушке. Первые два дня он даже не успел на меня взглянуть. Только на третий день он заметил меня и спросил у бабушки, кто я.
Теперь, пока я говорю о дедушке, я вспоминаю еще одну любопытную историю, которую я должен вам рассказать.
Мне тогда было двадцать, а ему шестьдесят пять лет. В это время я оказался в Варшаве. Однажды его дочь, Ханна Хисин, рассказала мне, что дедушка приехал в Варшаву, и она хочет, чтобы я показал ему город. Конечно, я согласился. Я взял извозчика. Мы проехали по окраинам Кракова, по Уяздовской аллее, были с ним в Мокотово, гуляли с ним по паркам, вместе ели молочную еду в еврейском ресторане, а вечером я повёл его в большой театр, где исполнялась опера «Богема». Театр его удивил. Ничего подобного он не видел. Но как только молодые ребята и девушки начали показывать свои номера, я разозлился на себя, зачем я привел сюда дедушку. Я был совершенно уверен, что он должен быть в полном недоумении, зачем я его привел на такой спектакль, где видишь полуодетых мальчиков и девочек. Мне было стыдно перед ним. Я даже боялся смотреть на него. Сцены в опере становились все хуже и хуже, и я от стыда сидел, опустив голову. Вдруг, дедушка дает мне толчок в бок и шепчет мне на ухо: Ной, ты видишь, здесь играют красивые девушки. Тогда на душе у меня стало легче. И мы сидели спокойно до конца оперы.
Он умер два года спустя. Я уже был частью революции. Однажды я путешествовал со своими коллегами и молодыми еврейскими писателями. После того как мы отсутствовали некоторое время, зашел мой лучший друг Авраам Кастелянский, который работал бухгалтером в бизнесе моей тети, и сказал мне, что дедушка умер. Будучи изрядно пьяным, я ответил ему: «Раз так, приятель, давай еще выпьем!» Видимо, Кастелянский был очень шокирован моей реакцией на смерть деда, потому что он рассказал об этом моей тёте, а она передала это в письме моей матери. Через год я приехал в Несвиж, потому что дедовский дом перешёл к моему дяде Бируше, а мои родители переехали в Несвиж, где стали жить вместе с бабушкой, и заметил, что бабушка несколько сердится на меня. Честно говоря, меня это не сильно беспокоило. Но за несколько часов до моего возвращения в Варшаву она зовет меня в свою комнату, закрывает дверь и спрашивает надломленным голосом и со слезами на глазах: «Правда ли, что я устроил праздник после смерти дедушки?»
Я, конечно, отрицал это изо всех сил.
Я осчастливил ее своим ответом, а тогда она рассказала мне, какой почетной была похоронная процессия дедушки, все магазины в городе были закрыты. В доме не осталось ни одного еврея, даже многие гои шли за гробом. Весь город был в трауре. Среди дедушкиных детей только мой отец обладал многими качествами, унаследованными от него.
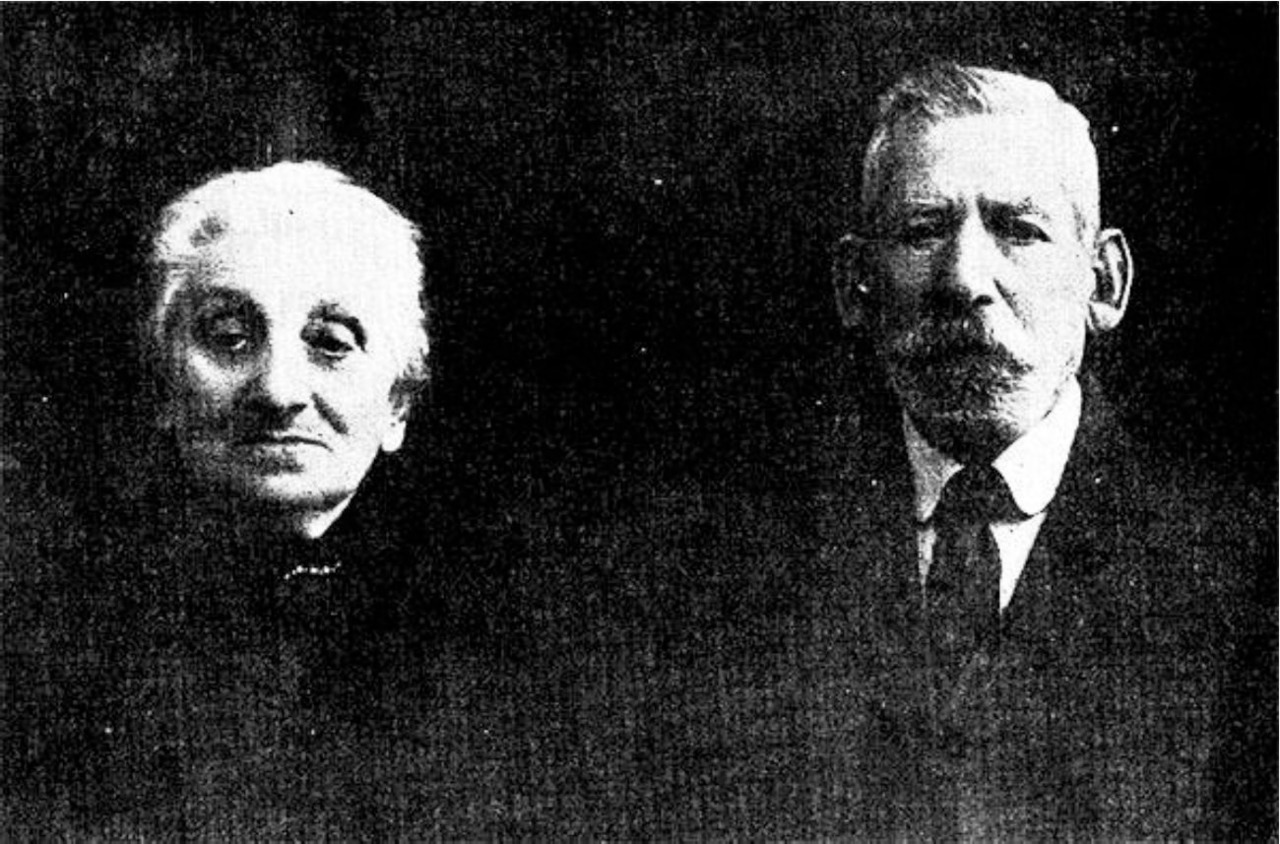
Будучи бывшим учащимся иешивы, он мог хорошо учиться и очень любил светское образование. Он был в полном смысле этого слова современным человеком с горячим еврейским сердцем. Будучи адвокатом, он принципиально никогда не защищал преступника и никогда не признавал суда христианина над евреем. Мой отец говорил и читал на нескольких языках и был большим любителем прекрасной литературы. Он также много писал на идише. Большая работа: «Палестинская эмигрантка» навсегда осталась в моей памяти. Насколько я помню, это было литературное произведение с сильным патриотическим содержанием, в котором он выдвигал идеи Ховевей Циона («Любящих Сион»). Он также писал драмы, комедии и рассказы. Очень часто он читал что-нибудь из своих сочинений матери, нам, детям, и гостям дома. Однако в то время не было идишских периодических изданий и издателей, поэтому он не мог их печатать. Лишь после его смерти, когда мать, которой в то время было уже восемьдесят лет, осталась одна, она, не желая, чтобы все сочинения попали неизвестно куда, сама все уничтожила. (См. статью моей матери: «Из старого Копыля. Воспоминания Сары Мышковской», Jiwobleter, март-апрель 1937 г.)
Из того времени я также почти не помню первую эпоху движения «Любящих Сион» восьмидесятых годов. Помню, как мой отец возился с «кампанией». Он был председателем и секретарём организации в Мире. В нашем доме часто проводились собрания, на которых выступал мой отец. Помню, как в день моего рождения живший в нашем доме «любящий» покинул наш город и вместе со своей семьей отправился в Землю Израиля. Из-за этого в нашем доме стоял гул, все разговаривали и наутро все «любящие» провожали его из города. Тогда я потерял соседа по комнате. Это был странный мальчик, который отправился со своим отцом в Землю Израиля и в своих детских фантазиях я представлял, как мой друг станет пастухом на горах Сиона, и я очень ему завидовал…
В последующие годы отец часто просил у меня нелегальную литературу революционного движения, а когда я ее давал, это было для него очень важно, и, довольный, он заходил в кабинет, закрывал дверь и внимательно читал. Иногда он делился со мной своими впечатлениями и мнениями. По натуре он был мягким, добросердечным и умным евреем. Моя мать была совершенно другим человеком. Она была очень способной и необычайно умной. В практических жизненных вопросах она понимала гораздо больше, чем ее муж. У нее была железная память. Она часто рассказывала нам свои воспоминания о том времени, когда она ещё была двухлетним или трёхлетним ребенком. Она была первой женщиной в Мире, носившей собственные волосы, и первой в городе, у которой на кухне не так строго соблюдалась кошерность (не забывайте, что это было более семидесяти лет назад). Хотя у нее был более твёрдый характер, чем у моего отца, и она лучше понимала различные ситуации, и была более практичной, чем он, она всегда уважала моего отца и считала его выше себя. Моя мама много читала, любила петь еврейские и русские песни и никогда не могла забыть то впечатление, которое на нее однажды, когда она была невестой, произвёл спектакль в еврейском театре Минска. Она была заметной фигурой в Мире, а затем в Несвиже. Женщины приходили к ней со своими тайнами и просьбами, как к хорошей еврейке. Многие мужчины приходили к ней за советом, а самые умные женщины приходили провести с ней время.
У нее было одиннадцать детей, двое из которых умерли в младенчестве, осталось девять: трое мальчиков и шесть девочек. Я был третьим ребенком. Моя мать пережила много трагедий. Но самое страшное для нее было то, что почти все дети рано покинули ее, в шестнадцать — семнадцать лет они уже не хотели оставаться в городе. Какая-то тайная сила гнала их оттуда. Начало положила старшая сестра Тайбеле, уехавшая из штетла в Америку в семнадцать лет. Я и мой старший брат Моше уехали из города через несколько лет. Мы провели некоторое время в Варшаве, а потом также уехали в Америку. Все остальные дети уехали после нас, они тоже уехали в Америку. До свадьбы с ней осталась только наша младшая сестра. Но сразу после замужества она тоже ушла от родителей и поселилась в Минске. Так мать и осталась одна с отцом до старости. После его смерти она оставалась одна более пятнадцати лет. Много лет назад, когда Россия заняла Несвиж, к ней из Минска приехала ее младшая дочь Юдит и увезла ее в Минск. Она была уже стара, больна и слепа. Недавно, после Второй мировой войны, я узнал, что она умерла в Минске одна, брошенная, потому что моя сестра с детьми были эвакуированы вглубь России, не имея возможности взять с собой 93-летнюю мать…
Глава 3
Мое детство
Я точно не знаю, в каком месяце и в каком году я родился. Но официально я родился 18 ноября 1878 года, а это значит, что мне сейчас 69 с половиной лет. Первые четыре года я был больным ребенком. Я страдал от слабых костей. Мою болезнь называли рахитом. Все эти четыре года я не мог ни стоять, ни ходить. В то время я сидел весь день и просто смотрел на мир. Моя мать буквально отдала свою жизнь, чтобы вылечить меня от рахита. Когда местные врачи не смогли меня вылечить, она поехала со мной к известным врачам в другие города. Врачи посоветовали ей сажать меня всем телом на горячий песок. Каждый день в летние недели она несла меня на окраину города и закапывала по шею в песок. Ей также пришлось часто противостоять гойским пастухам и их злым собакам. Тем не менее она не оставляла свой тяжкий труд до тех пор, пока я полностью не вылечился и не смог встать на ноги.
Следующий случай произвел на меня самое сильное впечатление в те ранние детские годы:
Прекрасным и теплым утром я впервые вышел один на улицу, светило солнце и дома тонули в лучах солнца, люди спешили и играли дети. Мне это очень понравилось, и я остановился посмотреть, как играют дети. Они спросили меня, не хочу ли я с ними поиграть. Я, конечно, согласился. Меня отвели во двор дома, и там мы зашли в конюшню, где и играли. Я получил огромное удовольствие от этой игры, потому что впервые в жизни играл с другими детьми.
Год спустя мама отвела меня к моему первому учителю Киве Кугелю. Я также занимался с двумя другими учителями. Я ходил к ним почти четыре года. За это время я узнал об Иисусе Навине, Судьях, Самуиле, и на этом мое старое еврейское образование было почти закончено.
В то время мы жили у Доджена (Давида) — еврея, который писал прошения к российским чиновникам. Он был вдовцом и любил горькие напитки. Он всегда приходил домой очень поздно. Его сын Берл, тринадцатилетний мальчик, уже посещавший русскую окружную школу, стал моим первым учителем русского языка. Вскоре мои родители отдали меня в русскую начальную школу. Во время учебы в государственной школе я учился у двух частных учителей. У учителя Вайнера я учился ивриту и зашел так далеко, что перевел историю «Робинзона Крузо» с русского на иврит. Я также изучал и немецкий язык у немки, фройлен Тец.
Наш дом был самым интересным и продвинутым домом в нашем штетле. Часто к нам приходили судья Борзов, городские врачи, аптекарь, студенты, когда приезжали домой на каникулы. В нашем доме часто говорили о политике, о литературе и о еврейской ситуации в России. Однажды я подслушал горячую новость об убийстве Александра II и потом целую ночь не мог заснуть. Передо мной проплывали образы отважных народовольцев Желябова, Перовской и других. Но больше всего я любил вечера, когда отец читал свои рассказы или слушал роман о жизни в Мире, написанный в то время часовщиком Менделем Циринским. Насколько я помню, он был написан с большим талантом. Его приход и чтение были для меня большой радостью. Моим родителям пришлось расстроиться из-за этого романа. В середине написания романа он уехал в Америку и более того: больше мы о нем ничего не слышали.
В детстве я был набожным и часто ходил в синагогу. Однажды, когда я молился, кто-то принес новость, что в каких-то двух городах Украины случились погромы евреев. Хотя мне тогда было шесть-семь лет, я прекрасно понял, какое тяжелое впечатление произвела эта новость на молящихся евреев. Я никогда не видел такого горя в общине, состоящей из нескольких сотен евреев, даже в своей дальнейшей жизни. Их душераздирающая скорбь навсегда запечатлелась в моей детской душе, и даже теперь я вижу в своем воображении ужаснейшие картины того, как украинские погромщики убивают евреев, женщин и детей.
В то время мой отец был очень занят созданием образовательных курсов для нашей бедной молодежи. Он утверждал в одной из речей, что вся проблема евреев состоит в том, что мы занимаемся только непроизводительным трудом, а лавочников, трактирщиков, шинкарей и коробейников у нас больше, чем нам нужно. Один соперничает с другим, и вырывает у него последний кусок изо рта. Антисемитизм, — утверждал он, — также проистекает из того факта, что мы черпаем своё счастье из запаха на рынке, из ветра. Мы должны открыть в нашем городе ремесленную школу, где нашу молодежь следует учить обрабатывать землю или готовить из нее хороших портных, сапожников, слесарей. Пусть наша ремесленная школа — заканчивал он свои частые проповеди, — послужит примером для соседних городов и поселков, как можно перейти от загрязнения воздуха к производительному труду.
Но он не только агитировал, но и с железной решимостью шагнул вперед к осуществлению своей мечты. Через Еврейское Общество ремесленного труда, находившееся тогда в Петербурге, он добыл для этой цели деньги и также после долгих переговоров в высоких правительственных сферах согласился построить дом для такого учреждения. Однако, когда все было почти закончено, случился крупный экономический кризис, из-за которого все работы были остановлены. Но еще до остановки работ минчане были очень расстроены тем, что такое заведение строится в таком маленьком городке, как Мир, а не у них. Они собрали еще большие суммы, отправили в Санкт-Петербург еще более крупных лоббистов и убедили правительство и Санкт-Петербургское еврейское общество открыть такое же профессиональное училище и в Минске. И вскоре такое ПТУ все-таки открылось в Минске. Можно смело сказать, что открытие в Минске в то время первой ремесленной школы было вдохновлено моим отцом, но мечта отца основать такую школу в штетле не была реализована.
Когда мне было девять лет, в нашем доме произошло событие, которое так на меня подействовало, что в течение нескольких месяцев я ощущал себя взрослым. У нас тогда даже своего дома не было, мы жили в арендованном доме. В, том же доме жил еще один сосед, презираемый еврей из кантонистов — Босс, как он себя называл, — со своей женой-христианкой и тремя взрослыми сыновьями. Вход в наши квартиры был через общий коридор. Однажды на Рош ха-Шана, когда мои родители ушли в синагогу, я остался дома, чтобы присматривать за младшими детьми. Около двенадцати часов дня мать пришла из синагоги домой, чтобы посмотреть, чем занимаются маленькие дети. Но как только она вошла в коридор, христианка и трое её взрослых сыновей набросились на нее с палками и начали избивать. Мать издала ужасный крик, мы, дети, перепуганные до смерти, открыли окно на улицу и начали громко кричать: Они бьют нашу мать». Христианка, услышав крик матери и наши голоса, тут же вместе с сыновьями вбежала в дом, заперев за собой дверь. Тем временем прибежали евреи из общины, уложили мою мать на кровать, затем открыли дверь гойки и выразили ей должное осуждение… Через несколько минут прибежал мой отец в сопровождении двух крепких молодых людей: Хершеля Кажея (дяди Моше Йоны Хаймовича) и Муния Мате Ривса, и вы можете сами себе представить, что произошло дальше. Кантониста в это время не было дома, он как фельдшер разъезжал по деревням вокруг нашего штетла. Но как только он вернулся домой, он снял другую квартиру и уехал из нашего дома вместе с семьей. Потом был суд. Но судья действовал так, чтобы мы могли помириться, и ни одна из сторон не понесла никакого наказания.
И другое событие оказало на меня сильное влияние в юности. Когда мне было одиннадцать лет, к нам приехал особый гость, которого звали «Ефим». Он не смел выйти из дома. Он видимо от кого-то прятался, а нам, детям, велели никому не рассказывать о госте. Он называл мою маму тетей, а папу отцом. Мы, дети, не знали, кто он такой и почему скрывается. Мы заметили, однако, что наши родители относятся к нему с большим уважением и любовью и что все вечера до поздней ночи он пишет на русском языке. Со временем мы узнали, что он был сыном сестры моей матери, что он учился в Москве, что после еврейских погромов в 1882 году он присоединился к движению Билу, покинул Россию и свою богатую жизнь и уехал в Эрец-Исраэль. Там он обрабатывал землю, копал колодцы, прокладывал дороги, был земледельцем, даже приобрел виноградник в семнадцать тысяч лоз, привез туда свою невесту, женился на ней, воспитал детей. Но я не знал, почему он вернулся оттуда. Однако он весьма вырос в моих глазах, когда я понял, что он переписывается с еврейским историком Ш. Дубновым и идиш-русским поэтом Ш. Фругом, чьи творения я пожирал буквально как голодный. Его величие в моих глазах еще больше возросло, когда я понял, что по ночам он пишет книгу «Записки палестинского эмигранта». Позже я также узнал, что он в это время написал еще одну книгу «Заиорданье». Обе книги впоследствии были напечатаны частями в идиш-русском журнале «Восход».
Когда он проводил время в нашем доме, он очень часто рассказывал нам странные истории, и мне очень нравились его рассказы о народе Израиля и арабской жизни. И он говорил о Земле Израиля с такой теплотой и любовью, что у меня тогда возникла мысль, что если бы у меня был шанс в жизни, то первое, что я сделал бы, это перебрался бы в Землю Израиля.
Самое сильное впечатление на меня произвела история о том, как он путешествовал по Земле Израиля: вместе с другими студентами и завершил рассказ, словами: «Когда мы сошли с корабля в Яффе, которая представляет собой порт из камней, мы со слезами на глазах пали на каменные плиты, целовали камни и поливали их своими горючими слезами…».
Чуть позже у нас был еще один гость, брат Ефима Хисина Осип (Иосиф), приехавший из Москвы и проживший у нас больше года. В нашем доме он женился на моей тёте — тете Ханне. Осип Хисин был совсем другим человеком, уже очень далеким от своего старшего брата. В своей речи, в восприятии жизни, в мыслях, в пении, танцах и выступлениях он был типичным русским, пижоном, а не кацапом. В политическом плане для него ничто не имело значения, даже еврейский вопрос. Самодовольный, вечно веселый. Я держался от него на расстоянии и временами даже избегал. Ефим уехал от нас в Швейцарию, изучал там медицину и, получив диплом врача, вернулся в Израиль, чтобы практиковать там среди еврейской и арабской бедноты. В то же время его младший брат Осип отправился в Москву, где он открыл шелковую фабрику и с помощью своего дяди Генделя Хисина, тогда известного человека и филантропа, добился успеха. Его фабрика работала на всю Россию и Польшу и на этой фабрике он очень разбогател.
Я сразу вспоминаю третьего гостя, который очень долго пробыл в нашем доме. Он сказал, что приходится мне двоюродным братом со стороны моей матери, Шмуэлем Шмураком, и в то же время он был племянником нашего широко известного знакомого рабби Менделя. Поначалу Шмуэль жил в доме своего дяди рабби Менделя в Одессе и прямо из его дома приехал к нам в гости 21-летним юношей. Мендель хотел сделать из него полезного еврея и записал его в профессиональное училище «Труд», в котором был директором. Шмуэль всегда любил похвастаться своим старшим братом и всегда рассказывал истории о доме своего дяди. Но лично его никакие вопросы не интересовали, он говорил только по-русски, одевался как тирский немец. Он также женился на второй сестре моего отца, Рошке. Некоторое время он был учителем в нашем городе. А затем преподавал в Барановичах, оттуда уехал в Варшаву, где стал представителем мануфактур Осипа Хисина по всей Польше.
Тем не менее серьезность моего дома почти не мешала мне в играх. У меня было достаточно друзей, с которыми я ходил в лес собирать ягоды, ходил в замок и карабкался там по головокружительным лестницам, ходил на речку купаться и показывать, как далеко я умею плавать. Еще больше мне нравилось сидеть со своими друзья где-нибудь в укромном месте и слушать их истории о демонах, привидениях, духах и… святых евреях.
Дорогие мне детские годы, проведенные в моем штетле Мир, евреи и город, запечатлелись в моем сердце, и эта огромная любовь к моему городу остаётся со мной и по сей день.
Глава 4
Я начинаю читать
Мой отец всю свою жизнь много читал и, если ему что-то очень нравилось, он любил читать это жене и детям. Я до сих пор помню, как мать звала нас в спальню с объявлением: дети приходите к отцу, он почитает: мы шли прямо к нему в спальню. Отец уже лежал в постели, завернувшись в теплое одеяло и держа в руке книгу. Мы тихо входили, садились вокруг его кровати, и литературное образование начиналось. Он читал нам на идише «Черного мальчика» Динезона, «Идиш на Песах» Шацкеса, «Ножик», «Иоселе-Соловей» и «Стемпеню» Шолом-Алейхема. На русском языке он читал нам Гоголя, Пушкина, Лермонтова и Фруга. Из всех книг наибольшее впечатление на меня произвела «Стемпеню» Шолом-Алейхема, хотя еще мне очень понравился «Нос» Гоголя.
Когда мне было десять лет, я уже начал читать самостоятельно. Каждое воскресенье в базарный день приходил русский разносчик со всякими духовными и священными вещами: изображениями святых, иконами, статуэтками, фотографиями, а также сборниками русских светских рассказов и стихов. Моя мама давала мне каждое утро в школу три копейки, я не тратил их на перекусы, а копил все три. За неделю я собирал восемнадцать копеек и каждое воскресенье тратил деньги на буклеты, пока не собрал свою собственную библиотеку буклетов с рассказами. Книг на идише у меня не было, потому что не было таких книг на идише, которые бы подошли мальчику десяти-одиннадцати лет.
Через несколько лет я начал читать более серьезные книги и периодику, как на идише, так и на русском языке. Особо я обращал внимание на русские издания на идише такие как старый «Рассвет», «Восход», «Сион», «День», «Вестник русских евреев» и «Еврейская библиотека». Позже я перешёл к «Дому друзей», «Еврейской народной библиотеке», и «Кол мевасеру» (Голос глашатая). Так я познакомился с произведениями Шолом-Алейхема, Фруга, Бен-Ами, Равницкого и других. В то время я уже прочитал «Дэниэля Деронду» Джорджа Элиота, а также произведения Фрэнцоза, Вассермана, а также книги Леванды.
Вообще мне нравилось читать книги еврейского содержания. А когда я перешел к русской классике, меня очень раздражало, что, когда изображается еврейский типаж, он всегда негативный, по большей части карикатурный, и это сильно охладило мой энтузиазм по поводу создателей и продолжателей русской литературы.
Но наибольший интерес у меня вызывали книги, в которых описаны путешествия, народы и страны. Первым журналом, на который я подписался, был русский «Вокруг Света», который распространялся по всему миру, и с огромным нетерпением я каждую неделю ждал его еженедельных выпусков и каждое первое число — ежемесячных выпусков. Журнал был специально посвящен репортажам о путешествиях и содержал необычайно красивые и яркие изображения всех стран всего мира. Книги я читал со святым упоением и не уставал целыми днями рассматривать иллюстрации.
Еще я каждый день с большим удовольствием читал русскую газету «Новости», которую мой отец получал из Петербурга. В то время в России еврейские газеты ещё не издавались.
Помню также, что у нас дома были две рукописи, переплетённые как книги, и обе рукописи были на идише, одна с чудесным почерком, — роман о еврейской жизни в Новогрудке, написанный новогрудским нотариусом Иоселевским — отцом моего дяди. В рукописи должно быть было страниц триста. Вторая рукопись — жемчужным почерком Менделе «Сплетня». Я играл с этими книгами и подражал их почерку. Я их часто читал, только не очень хорошо понимал. И еще меньше понимал ценность их культурно-исторического значения. Только когда я узнал, что обе книги сгорели во время великого пожара, уничтожившего наш штетл, я очень разозлился.
Дома мы говорили на идише, хотя и называли этот язык жаргоном. Мы никогда не стыдились своего идиша и никогда не гордились знанием русского языка. В нашем доме оба языка были равноправными. Для моего отца русский язык был языком средств к существованию. Официальные документы он писал на русском языке, защищал своих клиентов на русском языке, и подавляющее большинство его клиентов были белорусами. Но когда он попадал в домашнюю атмосферу, он никогда не говорил с нами по-русски, а всегда на идише. Также и в чтении в нашем доме были приемлемы оба языка. Идиш в то время был очень беден, идишская литература ещё беднее и, если мы хотели прочитать научную книгу по серьезному вопросу, нам приходилось использовать русский язык и русскую литературу. И именно поэтому я обнаружил, что читаю на русском гораздо больше, чем на идише. На немецком я перечитал в начале несколько книг и все, больше не читал. С Гете, Гейне и другими немецкими писателями я познакомился по переводам на русский язык.
Глава 5
Великий пожар
Наш штетл часто горел, но прибегали евреи, христиане, татары и своими совместными силами не давали огню распространиться далеко. Раньше сгорали дом или два, и пожар уже потушен. Но когда мне было двенадцать-тринадцать лет, почти весь наш город сгорел, и я хорошо помню этот «великий пожар».
Был летний день. Затем я зашёл к своему дяде Иоселевскому, который, как и мой отец, был юристом. Внезапно зазвонили церковные колокола. Мы поняли, что где-то горит дом. Я сразу побежал к месту, где горело, помогал качать воду и доставлять её к горящим домам. Я бегал от дома к дому и помогал. Тогда мне пришло в голову, что лучше было бы спасти бедные еврейские семьи от их неряшливости и разгильдяйства. Потом я отправился в горящие дома, чтобы спасти мебель и постельное белье внутри. Я трудился так около часа. Потом я услышал, как кто-то сказал, что у холодной синагоги загорелся верх и некому спасти книги Торы. Я сразу побежал в холодную синагогу. Там было несколько евреев, но они боялись войти внутрь. Я вошел в синагогу и услышал позади себя голос: «Мальчик, сначала возьми книги Торы». Я смело пробрался к Ковчегу Завета. В этот момент пришло около шести евреев, и вместе с необычайной быстротой мы спасли все книги Торы. Но огонь становился все сильнее и сильнее. Пламя уже начало охватывать красивые картины на стенах, и от дальнейших спасательных работ пришлось отказаться. Тут меня останавливает какой-то еврей и говорит:
— Ты счастливый молодой человек, ты выполнил много мицвот. Чей ты?
— Юриста Мышковского.
— Вы только посмотрите, как согревает теплая еврейская душа. Здесь ты ничего не можешь поделать. Ваша крыша тоже горит. Беги прямо домой и спасай там, что сможешь.
Я сразу побежал домой и подумал про себя, что уже получил бы нагоняй от отца и кто его знает, думаю, что случилось с моим щенком, с моей книгой, с лампой, которую отец недавно купил у Фрица.
Я бежал по сгоревшим местам. Повсюду — отчаяние, крики, плач, люди рвут на себе волосы, ломают руки. Повсюду огонь, повсюду разрушения. Бегут евреи с мешками на плечах. Вещи, которые вынесли из домов и оставили на улицах, уже горят.
Я прибегаю к нашему дому. Сначала никого нет. Каким-то образом им удалось убежать! Никаких столов и стульев. Но многое, очень многое осталось в доме. Я быстро приступаю к работе. Сохранить то, что еще можно, и отнести в сад Левина. И я спасал наше достояние до тех пор, пока уже ничего нельзя было спасти, потому что весь дом был охвачен огнем. Я убежал искать своих родителей, братьев и сестер. И мне удалось пробраться только по одной тропе — через реку, то есть по берегу нашей реки. И хотя тропа была слишком длинной, но поэтому же она была и самой безопасной.
Там кто-то мне сообщил радостную новость, что вся моя семья находится в доме нашего судьи Борзова. Мне уже пришлось бежать оттуда к району Падал и от Падала по улицам к дому судьи. По пути я видел картины, которые никогда не сотрутся из моей памяти. Евреи в страхе смерти, в величайшем отчаянии. Свободные места за городом были уставлены столами, скамейками, кроватями, мешками, корзинами, сундуками. Предметы еврейского быта были повсюду. Обширная территория в задней части города захламлена и усеяна еврейским имуществом и товарами, вынесенными только для того, чтобы спасти их от огня. На мешках и сумках сидят евреи. Евреи, которые наблюдают за спасённым. Дети плачут, они все теперь бездомные и все оплакивают великое несчастье.
Из последних сил я побежал к дому судьи. Сначала я встретил там не только свою семью, но и семьи двух своих дядей — Иоселевского и Сахаровича, и тогда я впервые понял, что не ел с самого начала. Но как можно кого-то спрашивать о еде в такой беде. И тогда он подходит к отцу и сердито спрашивает меня:
— Где ты провёл все это время, моё сокровище?
Но когда я рассказал ему, что спасал вещи в новом городе, в том числе и книги Торы из холодной синагоги, он немного успокоился, а затем сказал мне тоном легкой укоризны:
— Тем не менее тебе следовало зайти домой пораньше и сказать, что ты бежишь спасать холодную синагогу. Ведь мать чуть не сошла с ума, думая о тебе.
— Что ты пристал к ребёнку, — вмешалась мать. — Он не ел весь день, а от тебя у него болит голова. Пойдем, Ной, я тебе кое-что дам.
И, взяв меня за руку, повела на кухню.
Теперь вы можете себе представить, с каким аппетитом я ел в тот вечер…
Но она не смогла удержаться и посреди трапезы сказала мне:
— Ну, гость в доме… где ты был во время большого пожара?
Я снова рассказал ей, что сделал за день, и она больше ни о чём меня не спросила.
В то время как мы жили у судьи, я близко познакомился с садом судьи. Там были хорошие яблоки, ягоды, сливы, вишни и виноград. Судьиха (жена судьи) сказала мне, что, когда я захочу фруктов, я могу пойти в сад и взять что угодно и сколько захочу. Я действительно хорошо использовал эту возможность. Каждый вечер я ходил в сад, срывал кучу фруктов и делился ими со всеми остальными детьми. В те дни я был самым счастливым мальчиком на свете. Пустячок — у меня «свой сад», и я уважаем всеми своими товарищами и друзьями.
На следующий день после большого пожара я пошел посмотреть, как мой город стал выглядеть после пожара. Я шел по проходам, которые уже не были улицами. От самых маленьких домов остались только печные трубы, а у некоторых домов и вовсе не осталось печных труб. Пожар еще не был полностью потушен, и от сгоревших домов все еще поднимался дым от пепла и углей. Возле каждого дома кто-то стоял, как будто возле покойника, заламывал руки и горько плакал. И немало других передвигали угли и пепел железной палкой, ища там что-то. А вдруг что-то осталось от того, что они любили. На широком поле у реки я увидел много знакомых евреев, женщин и детей, и все они были грустными, голодными, не выспавшимися и отчаявшимися.
Но вскоре помощь стала поступать из соседних еврейских городков и поселков — из Слуцка, Новогрудка, Городеи, Несвижа, Клецка, Копыля, Турца, Кореличей и даже из таких далеких городов, как Барановичи и Минск. Она приходила с хлебом, мясом, сыром, маслом и даже одеждой. В различных соседних штетлах были организованы комитеты помощи жертвам Мирского пожара, а через несколько лет наш город вновь возродился, но уже обновленный и современный…
Только наша старая синагога с чудесной резьбой, карнизами, картинами действительно сгорела навсегда, и это причиняет мне боль по сей день.
Глава 6
Я начинаю становиться мужчиной
У меня был очень красивый почерк и на иврите, и на русском, и на немецком. Мои родители часто обращали на это внимание. Мой отец говорил, что я пишу каллиграфически. И это привело к тому, что к моему тринадцатому году он уже усадил меня за свой стол, переписывать разные бумаги, прошения, запросы к местному судье и в различные вышестоящие инстанции, такие как обращения в районный суд, в государственные учреждения и даже в Санкт-Петербург. Мой труд стал известен, когда я впервые написал челобитную (прошение) самому царю русскому. Я вложил все свои каллиграфические навыки в это прошение. Отец гордился моей маленькой работой, и после этого в городе меня признали великим писарем.
После этого великого события я стал позволять себе некоторые вольности. Перестал ходить в синагогу, перестал молиться по утрам, общался в основном с мальчиками-христианами, с которыми ходил в городскую районную школу. Даже был знаком с несколькими христианскими девушками. Из-за скудости литературы на идише я сосредоточился только на русском языке.
Никакой бар-мицвы для меня не устраивали, так что совершеннолетие прошло для меня совершенно незаметно.
В то время мы строили свой дом, двухэтажное деревянное здание, и со мной произошел странный случай. Я уже перешёл в пятый класс. Я уже изучал физику, алгебру, геометрию. Я также умел хорошо рисовать карты и планы. Я не знал, что мой отец время от времени заглядывал в мои ходатайства. Вообще отец почти всегда был ко мне холоден, и я всегда его боялся. Он все время держался со мной насмешливо и вообще не ласкал. Он никогда не относился ко мне как отец к ребенку, с мягкостью и добротой. Он никогда не проявлял ко мне никакой дружбы, и я никогда не игнорировал этого. Я всегда избегал оставаться с ним наедине в одной комнате. (Сорок лет спустя я изобразил отношение отца к нам, его детям, в пьесе для детей «Детская забастовка». ) Однажды я сидел в своей комнате, и он вошел. Наверное, я уже сошел с ума, подумал я, и он пришел меня наказать. Со страхом смерти я уже ожидал порции морали. Он уселся напротив меня, задумался, посмотрел мне в глаза и сказал:
— Сынок, это план дома, который я собираюсь построить. Это — нижнего этажа, а это — верхнего. Тебе ни кажется, что мы здесь что-то упустили, и как тебе планировка комнат в целом? Как ты думаешь, нужно ли что-то добавить или изменить?
Ко мне пришёл отец, назвал меня сыном и советуется со мной. Я не был к этому готов, тёплая волна захлестнула меня. Сердце мое начало рваться, меня начало разрывать на части, я не смог сдержаться и горько заплакал. И вот консультация не состоялась. Я думаю, что у него тоже заболело сердце, и он вышел. Но в глубине своей детской души я гордился первым появлением отца. Пустячок — он уже думает обо мне как о взрослом.
В пятнадцать лет я стал учителем русского языка в состоятельных домах моего штетла и получал очень хорошую для того времени цену — целых три рубля в месяц за часовые занятия. Я стал более независимым. Из отцовских десяти копеек за переписывание я не мог одеваться сам, не мог покупать себе книг и выписывать журналы. Теперь я стал свободнее в деньгах. А когда я закончил пятый класс, то на короткое время получил очень высокую должность.
На тот момент княжеским управляющим нашего города был человек, дом которого находился в Вильно, но он стоял пустой в связи с должностью у нас в Мире. Так что он взял отпуск на месяц. Но ему некого было оставить вместо себя в конторе. Нужно было вовремя собирать налоги и деньги за аренду, выдавать квитанции и заносить их в бухгалтерские книги. Короче говоря, я стал его представителем на месяц, с зарплатой в пятьдесят рублей.
Теперь вы можете себе представить мою радость, когда мне вдруг удалось сохранить все пятьдесят рублей! За деньги я нарядился графом и так стал «лжекавалером».
Вскоре наш судья остался без секретаря, а в записях ему была важна точность. Не найдя подходящих людей среди русского населения, он неофициально назначил меня временно исполнять эту должность, поскольку официально, ему не было разрешено принять меня на работу, как еврея.
Работа была несложной и времени у меня стало достаточно. Жена судьи Акулина Петровна, преданный друг нашего дома, очень хорошо обо мне заботилась, два раза в день приносила мне чай с печеньем, а иногда угощала тортом и собственной выпечкой. Но я благодарен ей и по сей день, за то, что она открыла мне необычайно богатую библиотеку своего мужа. Она даже дала мне пропуск в библиотеку и во все книжные магазины. Там я ознакомился с переводами английской, польской, французской и скандинавской классики. Особенно много я читал в те десять дней, когда судья каждый двадцатый день уезжал в Новогрудок на собрание всех судей нашего округа. Тогда я даже не заходил в контору. Я сидел в библиотеке целый день, а часто даже поздно вечером. И я читал, как жаждущий в пустыне черпает воду из родника…
Но в этой должности я пробыл недолго, в общей сложности четыре месяца. Пришел официальный секретарь, заядлый пьяница, занял мое место, и я вернулся к преподаванию.
В то время я читал «Записки из мертвого дома» Достоевского и там мне так понравилось описание спектакля, который разыгрывали заключенные в тюрьме, что я решил поставить такой же спектакль у нас дома. Я рассказал об этом плане своим братьям и сестрам, и он им очень понравился. Я прочитал им всю комедию, и они приняли ее с энтузиазмом. Мы разделили роли и занялись репетициями. Мы договорились, что в первую очередь об этом не должны знать родители, что игра будет проходить у нас на кухне, внизу, в детской части дома и что мы будем играть в такой вечер, когда родителей дома не будет. И действительно, все дети стали ждать. Наши родители об этом не знали. Репетиции проходили ночью, когда родители спали наверху. Сцена находилась между большой печью и стеной. После многих репетиций мы пришли к выводу, что все играют роли хорошо, и теперь решили, что при первой же возможности поставим спектакль. И возможность появилась скоро. Мы узнали, что в субботу вечером наши родители собираются на свадьбу. Так оно и вышло. Как только родители уехали, мы все разошлись по городу звать к нам друзей и товарищей, потому что мы начинаем давать театральную пьесу. Через полчаса все уже пришли смотреть наше представление. Мы перенесли стулья из всех остальных комнат на кухню, повесили перед «сценой» занавес (занавеску). Когда раздался звонок, началась «игра». Мы играли с «огоньком», кричали с «огнем», смело представляли комические эпизоды. Публика смеялась и аплодировала нам, а мы, «актеры», радовались нашему успеху. Публика покинула «театр» очень счастливая. Разумеется, о театре и спектакле в тот же вечер узнала вся наша интеллигенция и мои родители.
Прошло несколько недель после «исторической» игры. Как-то приходит мой отец с письмом в руке и дает мне его прочитать. Я вижу, что письмо пришло из Петербурга. От Еврейского колонизационного общества («ЕКО») с просьбой: поскольку они хотят издать книгу об экономическом положении евреев России, то просят моего отца помочь им в работе. К этому письму прилагалось много вопросов. Они просили просто зайти в каждый еврейский дом в городе и заполнить анкету о том, сколько членов семьи проживает в доме. Из скольких человек состоит каждая семья? Откуда они берут еду? Сколько работающих, и кем работают? Какие услуги оказывают? Если работы нет, из каких источников они черпают средства к существованию? Сколько человек живёт в одной комнате. Каковы их доходы и расходы и так далее.
А так как у моего отца не было на это времени, он попросил меня не отказываться от этого дела. Я согласился и сразу отправился на работу.
И какая это была работа. Заползать в подвалы, втискиваться в землянки, ходить изо дня в день и слушать жалобы на голод, боль и страдания, видеть голодающих и истощенных детей, видеть слезы стольких еврейских матерей, видеть великое отчаяние людей, которые понимают, что выхода из их ужасного положения нет. Две недели, которые я провел, осматривая дома и заполняя бланки, сказались на моём здоровье. Трудно описать этот голод, это страдание, это отчаяние. Все это видели мои глаза, мое юное сердце сочувствовало им так, что я сам был в отчаянии от своего положения. В целом работа для «ЕКО» была непростой. Сначала евреи пугались. Они по своему неудачному опыту знали, что после того как их запишут и опросят, будут неприятности. Мне пришлось заверять их, что я делаю это не для правительства, а для еврейского общества, и что общество действительно хочет улучшить положение евреев, и для того, чтобы улучшить его, они должны знать детали. Я приходил к еврейской бедноте. Большая часть ничего не делала и вообще не зарабатывала. Ох, так они и жили, но я почему-то не мог этого понять. Более удачливые, которые уже что-то сделали и что-то заработали, зарабатывали так мало, что им не хватало, чтобы прокормить всю семью. Большая часть моего штетла жила в постоянном голоде: на хлебе и «питье». Владение целым гульденом (семь с половиной центов) было большим богатством. Я видел много больных, лечить которых было нечем, я видел дома, которые стояли так, что к ним никогда не могло добраться солнце, и там жили целые семьи из восьми — десяти человек. Они ощущали постоянную сырость, там не было даже полов, и люди спали на сырой влажной земле. Потом я узнал, что только у рынка и в трёх-четырёх переулках евреи жили сносно, а во всех остальных местах они жили в постоянной нищете и в ужасных условиях.
Те несколько недель, которые я проработал над статистикой, произвели на меня такое глубокое впечатление, что я вдруг на годы постарел, стал видеть окружающее иначе, чем раньше, и наметил для себя продолжение своего пути в интересах еврейской бедноты. Уже тогда я винил в этом антисемитское российское правительство, потому что оно отняло у нас, евреев, все человеческие и гражданские права и загнало нас в гетто — гетто в нескольких губерниях, где евреям разрешили жить. Правительство отняло у нас все возможности достойной жизни, не позволило нам владеть и работать, не позволило нам занимать какие-либо общественные или государственные должности и именно тогда родилась моя ненависть к российскому правительству.
Мой первый протест против русского правительства произошел, когда умер Александр III и его место занял Николай II. Нам, еврейским ученикам городской казенной школы, пришлось присягать новому царю России в синагоге, в присутствии нашего директора, наших учителей и еврейских святых сосудов. Я пришёл в синагогу вместе с остальными еврейскими учениками младших классов. Директор произнес нам патриотическую речь и в конце произнес нам слова присяги, которую мы должны были произнести с поднятыми руками. Я поднял руку, но не повторил слов. И поэтому, я считал, что свободен от своей клятвы…
Во второй раз я «протестовал» весьма уникальным способом. Мое благочестие давно исчезло. Тогда мы ходили на занятия и по субботам, и по праздникам. Просто представьте, что экзамен по математике пришёлся на Шавуот. Представьте я, единственный еврей в классе выразил протест Совету по образованию и заявил, что так как экзамен приходится на день еврейского праздника, я на экзамен не приду. В это время между мной и педагогами произошёл такой разговор:
— На экзамен не придешь, не получишь аттестат, — сказал мне директор.
— Он мне не нужен, — ответил я.
— А зачем ты тогда учился шесть лет? — спросил меня один из учителей.
— Я учился, чтобы пройти школьный курс.
— Зачем тебе проходить весь курс, и остаться без свидетельства? — спросил меня другой учитель.
— Я пошел в школу из-за тех знаний, которые она дает.
— Но свидетельство открывает перед человеком большие возможности в дальнейшей жизни, — заметил мне преподаватель.
— Для русских учащихся– да, а для меня, как еврея ничего, — ответил я. — Для чего она мне нужна? Нам, как евреям, запрещено становиться офицерами, почтовыми служащими, учителями, занимать какую-либо государственную должность. Для меня ваша справка — всего лишь бумажка, свидетельствующая о моём бесправии. Для чего мне это нужно? Как с ней, так и без неё. Это не имеет значения.
И после этих слов я покинул педсовет.
Через несколько дней, когда я полностью отказался от мысли о предстоящем экзамене или о получении аттестата, мои родители получили письмо из школы, в котором говорилось, что они отложили мой экзамен на несколько дней и что я должен приходить в школу время от времени.
Я сдал все экзамены и получил аттестат.
Прожив в моём штетле ещё полгода, я уехал в Варшаву, чтобы начать там новую страницу своей жизни…
Глава 7
Мечта и реальность
Но прежде чем описать свое путешествие в Варшаву, я хочу рассказать вам, как я с детства мечтал поехать далеко и что со мной произошло, когда я был еще робким ребенком.
Уже с самого раннего возраста я очень интересовался рассказами о путешествиях. Я стал страстным читателем книг, в которых описаны кругосветные путешествия, истории жизни различных путешественников, открывателей новых земель, новых времен и новых дорог. К десяти-одиннадцати годам у меня уже была довольно значительная библиотека книг Жуля Верна, книг об Аргонавтах, Ливингстоне, Стенли, Колумбе, Васко да Гаме, Кортесеи других. Помню, с каким интересом я покупал каждую новую книгу и с каким энтузиазмом читал ее. Тогда люди не могли оторвать меня от книги, чтобы пойти поесть, или отправиться на прогулку с матерью. Мать относилась ко мне очень хорошо, и часто я «выкупал» у неё то, что заслуживал, хотя она и говорила мне, что отец все равно меня накажет.
Довольно часто я жил в чужом мире, в мире своих детских фантазий.
Я не в маленьком городке Мире, а брожу по древним лесам Африки. Во время недавних прогулок я вижу, как дикие черные африканцы в лесу у моря устраивают пир, поют свои песни, и все вместе танцуют свои дикие танцы. Посреди хоровода горит огонь — гадает жертва –военнопленный из другого племени…
Я иду дальше и встречаю на своем пути леопардов, львов, тигров и других диких животных. Но я не боюсь. Имея с собой негаснущий огонь, а также ружьё и острый меч, я быстро покончу с ними.
Я часто бываю на корабле. Дикие пираты нападают на наш корабль. Между нами и ними идет борьба не на жизнь, а на смерть. Но они храбро сражаются с ружьями и мечами, а мы убиваем их и идем дальше.
Мои книги оказали на меня сильное влияние, и у меня возникло сильное желание самому побывать во всех странах и временах, жить среди диких людей, участвовать во всех их церемониях, поклоняться им, изучать их языки и быть одним из них. Мне хотелось увидеть тропические и экваториальные растения, животных, змей и птиц, увидеть древние леса.
У меня был друг, его звали Нахум Сельцовский, он тоже много читал, но читал идишские и еврейские исторические книги. Я мечтал много путешествовать по миру с ним. В то время его вдохновляли мои рассказы о чудесах, которыми обладает наш мир. Мы, двое молодых мирских мальчишек, строили планы, как ускользнуть из дома, чтобы совершить путешествие по далеким диким местам. Мы уже даже начали собирать на это деньги. Разумеется, это пока было только детскими мечтами.
Впервые я увидел поезд, когда мне было одиннадцать лет, и, хотя с тех пор прошло более пятидесяти лет, я помню это так, как будто это произошло сегодня. Затем я поехал из своего родного города в Несвиж. Это также был мой первый выход в мир. Само собой разумеется, что мне не позволили ехать так далеко в одиночестве. Меня сопровождала моя старшая сестра Таня. Она уже побывала не только в Несвиже, но даже в Минске. Поэтому я питал к ней большое уважение. Под ее защитой я чувствовал себя как за железным щитом. Нам пришлось доехать до Городеи, станции Московско-Брянской железной дороги. Кучер остановился на станции в ожидании поезда, может быть, Бог пошлет ему еще пару седоков. Сестра вышла со мной на платформу, наблюдая за прибытием поезда. Когда я увидел дым от паровоза и услышал свисток, шум, хлопок, и увидел, как многочисленные железные дома быстро несутся ко мне, я так испугался, что ухватился за сестру и спрятал голову в ее платье. Я чувствовал, что побоюсь ехать в одном из этих железных домов. Но с другой стороны, мне понравилось, что находящиеся внутри могли удобно и спокойно сидеть и смотреть в окно. «Наверное, призрак очень опасен», — подумал я, и гордился тем, что видел поезд своими глазами. Через несколько лет, когда мне пришлось провести отпуск у своих родственников Маршаков, недалеко от Койданово в лесу графа Чапского, и мне пришлось проехать на поезде три-четыре станции, поездка мне очень понравилась. «Ничего страшного», — подумал я, садясь в машину. Паровоз несколько раз свистнул, трижды прозвучал гудок, и поезд двинулся с места сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Но одно меня очень пугало: я боялся, что поезд соскочит с рельсов. Если поезд хоть немного сойдет с рельсов, подумал я, мы все обречены. Только когда я посмотрел на своих попутчиков и увидел, что они все спокойно сидят, некоторые разговаривают между собой, другие едят, а ещё некоторые играют в карты, я успокоился. Я даже подошел к окну, чтобы посмотреть на поля, леса и деревни, мимо которых мы проезжали. В то время мне очень нравилось смотреть, как навстречу нам бегут телеграфные столбы, дома железнодорожной охраны, постройки, леса и поля. Казалось, что мы вообще не двигаемся, стоим на одном месте, а окружающее пространство бежит к нам. Мне также понравилось, что вначале я видел что-то маленькое, вроде облака на краю земли. Но по мере того, как я подъезжал ближе к этому пятну, оно становилось все больше и больше, шире и шире, пока я не начал понимать, что это небольшой лесок. Лес становится все больше и больше, и мы вот-вот въедем в него. Это большой лес, поезд проезжает по нему, и конца ему не видно.
Вот мы проезжаем мимо деревенских крестьянских домов, расположенных довольно далеко друг от друга, и по широким песчаным полям. На полях видны работающие фермеры.
Когда я вышел из поезда я был совершенно разбит. Пустячок, раз уж путешествие было проделано.
На этой летней даче, которая находилась в большом лесу, я впервые не чувствовал себя таким одиноким. Я боялся леса и редко ходил по нему один. Я всегда брал с собой детей моего двоюродного брата. Я брал посох и звал с собой большую черную собаку — Жука. Но после того, как однажды раввин, обучавший детей Маршака, рассказал мне, что в лесу водятся волки, лисы и даже медведи, у меня сердце ушло в пятки… Я начал бояться каждой мелочи, каждого легкого прикосновения, каждого шороха. Помню, однажды я решил зайти в сторожку и посмотреть, как проходит поезд. Это был состав из трех вагонов. Но идти мне было не с кем, поэтому я просто взял с собой посох и собаку. Я прошёл весь лес. Но я, как и раньше боялся: от каждого шороха у меня волосы вставали дыбом и кровь кипела. Как я обрадовался, когда увидел сторожку. Теперь я боялся, что на обратном пути меня застигнет буря. В лесу стало очень темно, и каждую секунду воздух сотрясался от сильного грома, а весь лес освещался яркими молниями, а ещё шёл проливной дождь. Я начал бежать, напуганный до смерти. Я бежал так быстро как только мог. Я напрягал все силы в страхе смерти и летел как стрела. Я чувствовал, что все волки, лисы и медведи гонятся за мной и теперь меня поймают. Из последних сил я подбежал к дому двоюродного брата и когда вошёл в дом, моя мокрая одежда образовала там целую лужу. Все очень испугалась, глядя на меня. Они расспрашивали меня, но мне было стыдно сказать им правду.
Ну а теперь я вернусь к своей первой поездке в Варшаву.
Глава 8
Я еду в Варшаву
Когда я окончил школу в семнадцать лет, я начал мечтать о поездке в большой город. Полгода я продолжал преподавать, работал за столом отца и собрал немного денег для своего первого большого предприятия. Тогда я решил поехать в Варшаву. Почему именно в Варшаву, я и сам не знал. Почему-то Варшава мне понравилась больше всех остальных городов. На вопрос отца, что я буду делать в Варшаве, я ответил: «Там все живут и зарабатывают. Думаю, я не хуже других. Проживу как-нибудь.»
Я сделал себе сундучок с замком. В этом сундучке я сделал из тонких досок небольшие отделения для разных частей своего багажа, купил немного белья, хороший костюм, обувь для ходьбы и другие хорошие вещи, и у меня ещё остался капитал в пятнадцать рублей, и с этим багажом я предпринял свою первую удачную попытку. Что благословение вещь великая и важная, я понял по приготовлениям и по прощанию со мной. Дом был переполнен, и прощание и проводы меня совершались как целая процессия. В последний день в Мире я чувствовал себя таким несчастным. Было жаль расставаться с родителями, братьями и сестрами, друзьями и родственниками, покидать город, реку, замок, горы и лес. Ведь с ними связано столько сладких детских воспоминаний. Все вокруг мне вдруг стало так дорого… и в душу закралось сомнение: может, я делаю какую-то глупость, уезжая из города. Но я понимал: все знают о моей поездке, вещи уже собраны. Пути назад нет. И с разбитым сердцем я покинул родной штетл.
До поезда надо было ехать пятнадцать минут, и все это время я просидел, беспокойный, подавленный и погруженный в грустные мысли. Я вдруг изменился — из домашнего ребёнка стал зрелым человеком, который должен сам полностью заботиться о себе. Я покидаю теплый дом, комфортную жизнь и уезжаю в чужой город, к неизвестным людям. Как встретит меня эта новая жизнь? Я очень боялся за свое будущее и у меня болело сердце. Действительно, это было предвидение, что в моей новой жизни будет много дней без еды и много ночей без сна, и что мне предстоит до конца испить горькую чашу моей бедной, беспокойной жизни…
Когда я приехал на железнодорожную станцию Городея, я уже был похож на человека, который знает, что делать. Я тут же подошел к стойке, купил билет третьего класса до Варшавы, поднялся на платформу, чтобы дождаться поезда, который действительно скоро пришел, подхватил меня и понес все дальше и дальше от тепла моего дома из моего города. Поезд останавливался на каждой станции: Негорелое, Погорельцы, Барановичи. Первые две маленькие станции, но Барановичи — уже большая станция. Здесь сходятся поезда разных направлений и часть пассажиров переходят здесь из одного поезда в другой. В то время было два поселения– старые и новые Барановичи. Новые считались штетлом, и евреям разрешалось там жить, а старые считались деревней, и евреям там жить не разрешалось. Это наносило большой ущерб евреям Барановичей, и они обращались с просьбой в Петербург, чтобы правительство разрешило им жить и молиться там, но оно отказало. Правительство всегда отказывает.
Я некоторое время сидел в поезде один. Я боялся уйти со своего места, чтобы его не занял кто-то другой. Я постоянно охранял свой багаж, чтобы его никто не украл. Каждую секунду я постукивал по карману, где находился мой капитал, чтобы убедиться, что все в порядке. А поезд бежит и бежит. Мне уже надоело рассматривать телеграфные столбы, будки железнодорожных смотрителей, станции и даже сельскую местность, которая была слишком велика, чтобы я мог её рассмотреть. Везде та же равнина, та же песчаная почва и та же нищета. Старые глиняные или деревянные избы бедных крестьян, старые почти развалившиеся амбары, бесплодные поля, бедные лошади и животные, пасущиеся на почти сухих пастбищах. Густые леса и редколесья уже не отгоняли тот ужас, который навевала на меня панорама нашей местности. На больших станциях можно увидеть много евреев. Они разговаривают, кричат, что-то несут, прощаются, и возникает переполох. Я обращаю внимание на своих попутчиков, они почти все евреи, которые хорошо говорят на идише, и я начинаю чувствовать себя немного как дома. Люди беспрестанно спрашивает меня, кто я, куда иду, чем занимаюсь.
Мы приближаемся к Бресту. Здесь мне придется пересесть на другой поезд, который доставит меня в Варшаву. Я опасаюсь, что расписание изменилось, и я уеду, черт знает куда. Люди в поезде сейчас очень заняты приведением своих вещей в порядок. Все собирают и завязывают свои сумки, и вот мы подъезжаем к Бресту. «Станция Брест-Литовск» — кричат во весь голос кондукторы. Многие гои стоят с тележками со значками наверху и номерами спереди. Слово «носильщик» начертано на пластинах русским шрифтом. Пассажиры отдают им свои тяжелые чемоданы, и они увозят их. Я вышел со своим коробом и меня тут же окружила толпа. Множество жандармов, полиции, солдат образовали море людей. Это неописуемый беспорядок. Я совершенно растерялся. Когда на меня смотрит жандарм или полицейский, мне становится страшно. Я боюсь, что меня арестуют, хотя у меня есть деньги в нагрудном кармане, и я не чувствую себя ни в чем виноватым.
Я захожу на станцию в зал третьего класса, смотрю на его размеры и высоту и поражаюсь. Здание не только больше нашей сгоревшей синагоги, но и не короче половины улицы в Мире. Я не только никогда не видел такого большого дома, но даже в своем воображении мне никогда не представлялся такой большой зал. И что меня еще больше поражает, так это то, что весь зал битком набит, бедняки лежат на полу со своими сумками и одеялами под головами. Есть также много бедных евреев, женщин и детей, сидящих со своими сумками. Часть огромной массы находится в движении, одни бегут туда, другие сюда. И какие странные люди здесь есть. Они выглядят такими непохожими на других, они так шикарно одеты. Очень часто раздаётся звонок и чей-то голос сообщает, куда сейчас уходит поезд или откуда он прибывает. Я набираюсь смелости, иду к кондуктору и спрашиваю его, когда отправляется мой поезд до Варшавы. Он говорит мне, что мне нужно подождать еще сорок минут.
Что мне могут сделать, подумал я, если я зайду во второй класс или даже в первый? Решившись, беру свой короб и иду во второй класс. Зал здесь немного меньше. Но здесь всё совсем другое. Зал прибранный, чистый и красивый. Никто не лежит на полу, люди сидят в мягких креслах вокруг столов, покрытых белыми скатертями. Публика богато одета. Люди едят и пьют. Официанты ходят вокруг столов, предлагая самое лучшее и красивое, а люди позволяют себе расслабиться.
Я снова решился и зашёл в первый класс. Тут меня просто ослепило: все красиво и блестяще. Красивые столы, со вкусом приготовленные и сервированные. Здесь сидят офицеры, полковники, генералы и люди очень богатые и со вкусом одетые, и женщины в богатых нарядах, покрытых золотом и драгоценными камнями. Здесь сидел и какой-то жандарм, не из рядовых, а из начальников. Он посмотрел на меня так, что я счёл необходимым поскорее удалиться и пошёл обратно в третий класс.
Теперь мое долгое ожидание наконец-то закончилось. Вскоре люди закричали, что прибыл поезд, направлявшийся в Варшаву. Я вошел в поезд и сел возле окна. Поезд тронулся, и мы поехали прямо в Варшаву. Мой вагон снова набит евреями, но какими-то другими. Это были евреи в длинных и очень длинных капотах, евреи в накидках с четырьмя кистями поверх штанов, они носят ботинки, в которые заправляют штаны, а другие ходят в сапогах и длинных белых носках. За исключением некоторых хасидов, я не видел таких евреев в своем штетле. Они смешно разговаривают. Кажется, они говорят на идише, но это такой идиш, что я с трудом его понимаю. Некоторых я не понимаю совершенно. Они как-то выкрикивают слова, которые я вообще не понимаю. Первые были из района Бреста, вторые — польские евреи. Для них, для польских евреев, я был литовцем и для меня это было очень интересным открытием. Я всегда думал, что я белорус. (Позже я узнал, что для польских евреев все не польские евреи — литваки).
Польский еврей предложил мне стакан чая. Этим он приобрёл огромную мицву. Я взял чай, но побоялся сойти с места. Я с удовольствием пил чай и чувствовал, что каждый глоток для меня лекарство. Еврей заговорил со мной. Но мне было очень трудно его понять. Он начал говорить более чётко, пытаясь имитировать литовский акцент, и я начал понимать его немного лучше.
Он сказал мне, что хорошо знает Литву и уже несколько раз был в Вильно, а также в Минске и Сморгони.
— Странные люди эти литваки, — сказал он мне, — мастард они называют горчицей. Но есть среди них и очень приятные люди. Литваки все учёные. Лучшие меламеды и учителя — литваки.
Он спрашивает меня, учусь ли я тоже, где я учился и какие курсы закончил. Я ему ответил, что недавно окончил классическую школу. Затем он предложил мне стать учителем для его четверых детей. Он хочет, чтобы они читали и писали по-русски. Ему это нужно для его бизнеса. Более того, он предложил мне пойти к нему и остановиться в его доме, пока я не найду себе комнату. «Русский, — говорит он мне, — прекрасный язык. Он читал рассказы (басни) Крылова, они буквально пальчики оближешь. Странная вещь в русских — дикие люди и они так красиво пишут. Его дети образованы: умеют читать и писать по-польски и на немецком, но совершенно не знают русского, а для бизнеса нужен русский. Он торгует прекрасной кожей, ведет бизнес с литовцами, с русскими евреями и даже с настоящими знаменитостями из глубины России. Надо знать русский язык, чтобы иметь возможность прочитать их письма и ответить на них. Короче говоря, как только я приеду в Варшаву, я должен начать учить его детей русскому языку, и он будет платить мне три рубля в месяц за один час занятий с его детьми. Кроме того, у него в Варшаве много друзей, он меня им порекомендует, и у меня скоро будет несколько занятий, а потом я устроюсь учителем». План мне понравился, и я согласился.
А поезд занят своим делом. Он уже приближается к Варшаве. Многие пассажиры уже сменились. Я смотрю в окно и вижу, что здесь совсем не так, как у нас, в минской губернии. Тут богаче, красивее, чище. Деревенские дома построены из камня, некоторые даже из кирпича. Крестьяне одеты красивее или богаче. Лица не такие обеспокоенные, не злые. Зерно лучше и растёт богаче. Вокруг чувствуется, что жизнь здесь лучше, чем у нас.
Мы уже очень близко к Варшаве. В вагоне становится все теснее и теснее, а на последних станциях было настолько тесно, что невозможно было развернуться. «Еще двадцать минут, и мы будем в Праге, пригороде Варшавы», — объясняет мне мой варшавский еврей. Все на ногах. Сумки, чемоданы и сундуки связаны вместе. Остальные уже идут к выходу, чтобы сойти первыми. Локомотив гудит, скрежещет и свистит. Он замедляет темп, пока полностью не останавливается. Мы подъехали к вокзалу. Это была наша конечная остановка.
Глава 9
Я знакомлюсь с польской столицей
После вокзала Бреста варшавский вокзал, который тогда назывался станцией Тересполь, не произвел на меня такого подавляющего впечатления, хотя суматоха, крики, спешка, были такими же, как в Бресте, а может быть, и больше. Но станция оказалась гораздо меньше и беднее Бреста, и я был очень разочарован. Однако я увидел там гораздо больше извозчиков и носильщиков, чем в Бресте, и они были гораздо более наглыми, чем жители Бреста. Они вставали перед пассажирами и выхватывали сумки из их рук.
Тем временем мой варшавский знакомый взял бричку, и я сел в неё вместе с ним. Очень сложно передать то, что испытывал я, семнадцатилетний мальчик из маленького литовского штетла, путешествуя по улицам больших городов Праги и Варшавы. Все было для меня ново, все было для меня великим чудом и все привлекало мое внимание. Вся моя сущность, кажется, тогда состояла из глаз и ушей. Первое, что меня удивило, это большие четырехэтажные или пятиэтажные стены, в которых столько окон. И в каждом доме есть большие ворота. Посреди улиц гладкая мостовая, по которой ездит множество машин с каким-то грузом, а по бокам проложен широкий тротуар, по которому ходит множество людей. И газоны острижены, и их поливают такими длинными водяными шлангами. А вот еще большее чудо: кто-то входит в дом с большой тележкой, набитой товаром, через большие ворота, которые настежь открыты. Дворы, как я замечаю, очень длинные и со всех сторон окружены высокими многоэтажными домами. В таком доме, думаю я, должно жить столько же людей, сколько во всем моем штетле… И каждая улица имеет название, и на каждом углу улицы названия улиц написаны на русском и польском языках… у каждых ворот висит табличка с надписью, на которой указан номер дома и название улицы, а также кому принадлежит дом и в каком полицейском округе он находится.
И вот я впервые вижу трамвай, запряженный двумя лошадьми, и внутри сидит, может быть, человек тридцать. Трамвай останавливается, пассажиры выходят, а остальные входят.
А на улицах столько магазинов, складов предприятий. На вывесках видно, что почти все владельцы магазинов — евреи. А вывески над магазинами такие большие, что я, хотя плохо вижу вдаль, отчетливо их читаю. А полиция… зачем они им в таком количестве? Почти на каждом углу улицы полицейский, а остальные ходят туда-сюда посередине улицы. Мой спутник сразу указывает на несколько больших, роскошных домов и объясняет мне, кому они принадлежат, и почти всегда заканчивает одной и той же фразой: «Он транжира, ярый хасид, и богат, как я».
И вот напротив нас проходит похоронная процессия. Покойника везут в открытом гробу на похоронной карете, лошади одеты в черное. К месту его последнего упокоения его провожает совсем немного людей. И на всех остальных евреев шествие не производит никакого впечатления. Кажется, они, как обычно, заняты своими обычными делами. Даже не важно, кем был покойный. Вид процессии нарушил мое счастливое настроение. «Нехорошо умирать в большом городе», — подумал я.
А вот и переброшенный через Вислу мост. Мост соединяет Прагу с Варшавой. Много лет назад мост был построен и ему дали имя — мост Александра Второго. Поляки, однако, не хотели мириться с тем, что мост будет носить имя русского царя. Они упорно боролись с этим, но это им не помогло. Когда мост открыли, один поляк крикнул: «Капуста» (капуста — жаргонное слово русских) и тут же в знак протеста бросился с моста. Едем по мосту, мост целиком железный. Он очень широкий и длинный. В то время мост был известен во всём мире, как последнее слово мостостроения, и Варшава этим гордилась. Издалека я вижу мост через Вислу и, хотя он гораздо меньше, я понимаю, что он должен быть прочнее, потому что все варшавские поезда, которые должны прибывать на Венский вокзал, идут по этому мосту.
Висла — большая и широкая река. Вода чистая и довольно глубокая. По ней плывут разные корабли и лодки. Мне нравится, как спокойно и тихо пересекают реку корабли… Мне бы очень хотелось путешествовать на таком корабле. Двое полицейских регулируют движение на мосту. И движение здесь имеет огромное значение. Все пешеходы, экипажи, кареты, автомобили, которые направляются из Варшавы в Прагу или наоборот, должны пересечь мост. А еще по этому же мосту ходит трамвай.
Проезжаем через мост, и мы уже в Варшаве. Передо мной развернулась чудесная панорама города. Большая площадь, «Замковая площадь», с одной стороны гимназия, а с другой стороны — замок — старинная крепость бывших польских королей. Сегодня там живёт генерал-губернатор. Посреди площади большой красивый памятник польскому королю Сигизмунду. Король в рыцарском облачении гордо стоит с мечом в руке. Он стоит на высоком постаменте, таком высоком, что выше всех соседних домов. Улицы отходят от площади в разные стороны города. И мой варшавянин мне объясняет: Это Краковское предместье, за ним идет улица Новый Свят, а дальше начинаются переулки. Это место, самое опасное и грязное место в городе. Через узкий переулок, по которому ходит трамвай, мы въезжаем в еврейский район, к улицам: Налевки, Дзика, Новолипки, Францисканская. Наш водитель едет по улицам, заполненным людьми, с колясками, каретами и трамваями, и никого не пропускает. Ему плевать на всех, и для меня остается загадкой, как он это показывает… Он едет с нами по узкому переулку, по которому ходит трамвай. Я прочитал его название «Schwente Krzyske» (Святая келья) и подумал: такое название и должна носить еврейская улица…
Дома большие, широкие и высокие. И почти все, кого я вижу на улице, евреи, польские евреи в длинных капотах, с длинными вьющимися волосами, в штанах, в сапогах и многие другие, которые мне нравятся. Чистые, аккуратные, благородные и так далее, похожие на Баруха Спинозу или Уриэля Акосту. Из переулка мы сворачиваем в бедную еврейскую улицу под названием «Новинярская улица», где евреи торгуют старыми, бывшими в употреблении вещами. Здесь можно приобрести все: от старых брюк до старого пианино. Небольшая улица с магазинами, палатками и столами, заставленными товарами. Все кричат, зовут покупателей, выкрикивают свой товар и на седьмом небе от счастья. Везде грязно, запущенно. Дома, старые, времен короля Яна Собеского, и мне кажется, что дома с тех пор стоят без ремонта и покраски.
Там мы разворачиваемся и въезжаем на Францисканскую улицу. Типичная еврейская улица. Но здесь уже живут крупные еврейские купцы, у них есть свои большие мануфактурные, кожевенные цеха, в нижних этажах расположены магазины, а в верхних живут люди. Я попал на место изготовления еврейских бизнесменов Варшавы. Всё шумит, кипит, ревёт. Тротуары полны людей. Все говорят. Большие повозки везут товары. На улице товар упакован в коробки, а магазины забиты людьми. В основном это торговцы из провинции, приехавшие в Варшаву за товарами. Евреи действуют, бегают, смеются, говорят, убеждают. И вот я вижу паб, рядом ресторан. Напротив я замечаю кофейню. Все они заполнены. Евреи едят и пьют, а тем временем ведут переговоры о делах. Небо и земля и бизнес.
Мы останавливаемся возле большого дома. Платим извозчику и заходим во двор. Ну и двор! Это длинная площадь, окруженная со всех сторон стенами высотой в пять футов. В апартаменты ведут множество дверей с лестницами. А квартир здесь должно быть, наверное, двести, а может быть, и больше. Кто знает? И в каждой квартире живет целая семья. Я мысленно шучу и предполагаю, что количество жильцов этого дома составляет почти треть всех людей моего штетла. Кто мне в моем городе поверит, что я видел такой дом своими глазами!
Заходим в одну из дверей, и начинаем подниматься по лестнице наверх, на четвёртом этаже сворачиваем налево и звоним в звонок. Я замечаю на двери карточку, на которой на польском языке напечатано «Семья Данциг». Представляете, за все время, что мы были вместе, мы ни разу не представились и не знали имен друг друга. Мы вошли в дом, где, как только люди увидели его, возникла радость, шум: «Папочка приехал», «Папочка здесь!» И все целуются и обнимают друг друга.
Он представляет меня. «Я привел вам учителя — литвака». Для меня это звучит странно: вместо литвака «лутвак», а вместо учителя «учетель». А еще чуднее для меня, что вместо «я» он говорит «яч». Все с любопытством осматривают меня со всех сторон. А старшая дочь уже настолько знакома с сегодняшним миром, что улыбается мне издалека. «Должно быть, это девушка невеста», — подумал я. Тем временем подали шнапс, селедку, печенье и кофе. А через час был обед. Люди сели вокруг большого стола. Пока я пытаюсь что-то понять, сердце готово выскочить… Рядом со мной сидит мать Данцига, очень старая женщина. Она ведет со мной разговор, и это умный, ученый разговор. Она рассказывает о франко-российской войне. Она видела великую французскую армию. А однажды в Краковском предместье видела даже самого Наполеона.
— Как Вы могли его увидеть? — задаю я глупый и бестактный вопрос. Это история 87-летней давности.
— Да, я видела его. Мне было тогда восемь лет, и я помню это так, как будто это произошло сегодня.
За столом тихо.
Хозяин дома подробно рассказывает о своем путешествии и своем деле. Дети смотрят на меня подозрительно, следя за каждым моим движением. И чувствуя на себе все их взгляды, я совершенно теряюсь. Еда становится мне безразлична.
Когда я уже вышел из дома, со двора и прогуливался по улице Францисканцев, ко мне подошел старший сын Данцига и сказал, что они живут на улице Францисканцев, номер 11, квартира 56.
«Ты провинциал!» — сказал я себе.
Глава 10
Я осматриваю Варшаву
Излишне говорить, что Варшава это уже большой город. Целый день я ходил, переходя из переулка в переулок, и так и не увидел Варшаву, не вышел на улицы. Мне еще многое предстояло обойти и осмотреть.
Я впервые добрался до Налевки. Широкая, красивая улица, но не длинная. Очень красивые высокие дома, все они разного цвета и построены по-разному, и разнообразие бросается в глаза. Почти вся улица состоит из магазинов, причем не только внизу, но и на верхних этажах и чердаках. На Налевке раскинулся мир товаров и большинство мануфактур. Толпа здесь смешанная: и в длинных капотах, и в коротких куртках, и в еврейско-польских шляпах, и в современных шапках. И литовский идиш смешивается с польским. Улица переполнена. Трудно идти по тротуарам. Люди трутся плечами. Сразу можно заметить, что большая часть предприятий принадлежит российским евреям. Русское правительство изгнало из Москвы многих еврейских купцов, а высланные нашли широкое поле для своего бизнеса в Варшаве и сделали Налевку и Генше известными во всём еврейском мире.
Недалеко от Налевки находится Тломацкая улица, где расположена «Большая синагога», очень красивый храм с колоннами и высокими ступенями, ведущими к двум большим массивным дверям, через которые вы входите в храм. Над сияющим на солнце куполом, по бокам видны другие здания, в одном здании находится знаменитая храмовая библиотека с множеством польских и еврейских книг, периодических изданий и рукописей.
Я поднялся на улицу Белянскую — пограничный разрыв между польской и еврейской Варшавой. Улица также полна магазинами, торгующими золотом, драгоценными камнями, серебром, ювелирными изделиями, марочными часами и дорогой женской одеждой. Здесь тише, спокойнее, люди не задерживаются в магазинах, хотя нетрудно заметить, что все владельцы магазинов — евреи.
Театральная площадь. Вот оперный театр с коллажами, стены украшены фигурками и резьбой. Рядом с ними расположены богатейшие рестораны и кофейни, магазины антиквариата. Напротив оперного театра — магистрат: городская администрация. Много дворов и в каждом дворе множество домов и в каждом доме расположено много ведомств и чиновников. Вот отдел охраны, вот тюрьма, главное управление полиции с полицмейстером, жандармское отделение, пожарные, адресная стойка, паспортный отдел. Здесь всегда много солдат, полиции и жандармов. Здание усиленно охраняется солдатами и полицией. Посредине расположена площадка, на которой расположено множество фонтанов, вода из которых льётся постоянно.
И великолепным местом когда-то было еврейское гетто под городом, где евреи могли бродить, если им было позволено, потому что польское правительство много раз выгоняло их из гетто. И поляки много раз нападали здесь на евреев с камнями и ножами и уничтожали их имущество.
Улица графа Коцебу. Улица, наполненная красивейшими дворцами, с газонами перед широкими резными воротами. Дворцы окружены более простыми постройками. Здесь находится великолепное отделение почты и телеграфа. Судя по всему, реквизированное очень богатым польским графом. После перехода плавно попадаем в Саксонский сад, куда не пускают ни собак, ни евреев в длинных пальто. На входе стоит полиция и проверяет каждую деталь одежды. Очень красивый парк в центре «Саксонской оси». Много дорог, банки. статуи. По парку проходят различные знаменитые улицы сегодняшней Варшавы.
Я только что вышел на улицу Маршалковскую, самую длинную и одну из самых красивых улиц Варшавы. Она тянется через парк на всю длину города вплоть до знаменитых аллей. Поляки гордятся этой улицей, но я нахожу там много еврейских предприятий. Возможно, больше еврейских, чем польских. И очень часто я встречаю здесь евреев с длинными капотами и вьющимися волосами. Улица очень широкая и в застройке домов можно заметить хорошие вкус, стиль и архитектуру. Каждый дом оригинален, выглядит свежо, почти новым. Я пересекаю несколько улиц и вхожу в Краковское предместье, любимую улицу польской интеллигенции. Здесь представлено сочетание польских культурных учреждений, предприятий и жилых домов. Я нахожу очень широкие, красивые дворцы, часто с двумя львами у входа, а некоторые богатые дома совершенно ухожены. Оттуда вы подниметесь в новый мир. Здесь живет польская аристократия, помещики и даже богатые и видные поляки. Улицу часто посещают польские поэты, она часто фигурирует в немецко-польских романах. И все люди, идущие по центральным улицам, очень красиво и опрятно одеты. Прекрасная нация, поляки. Красивые, гибкие, красивые женщины и мужчины, и все такие живые и такие веселые.
Меня беспокоит только одно: я вижу большой монастырь. И все прохожие снимают шляпы, женщины кланяются и почти все молятся. Некоторые идут в костёл и несколько раз очень низко кланяются. Еще я заметил, как красивые женщины подходят и целуют камни лестницы. Меня поражает, что интеллигентные и образованные поляки настолько суеверны. Вот оно влияние католицизма.
Я уже на Иерусалимских аллеях — проспекте, по которому любит гулять бедная Варшава, а богатые проезжать по нему верхом или в экипажах. С обеих сторон стоят оливковые деревья. Богатые дома расположены далеко от тротуаров и утопают в деревьях и цветах. В переулках часто находишь скамейки для отдыха и можно представить, что это удивительно красивое место посреди леса. Здесь очень тихо, но тишина часто прерывается ржанием лошадей или смехом веселой компании в карете.
И я вспоминаю, что когда-то читал, что первые евреи в четырнадцатом веке поселились под Варшавой, основали свой город-гетто, которому дали имя Иерусалим. Пусть это будет то самое место, и если это действительно так, то за шесть сотен лет оно претерпело чудесные метаморфозы…
В этом районе много разных аллей, из которых мне больше всего нравится аллея Роз. Здесь, в переулках, прохожие и гуляющие одеты ещё красивее: мужчины — в наряды принца Альберта с цилиндрами, а женщины в шелке и бархате шествуют в своих праздничных платьях…
В аллеях встречаются странные рестораны. Они не в домах, а в садах. За густыми деревьями, в тени, стоят столы и стулья. Играет оркестр или поет хор. Официанты элегантно одеты, кланяются посетителям и так общаются. Все места заняты, люди здесь едят, пьют и хорошо проводят время. Ну, это здорово…
Оттуда я прошёл в «Лазенки». Замечательный парк с разнообразными статуями. Вот королевский дворец на воде. Здесь жил последний король — Понятовский. Перед входом во дворец множество статуй в греческом стиле и по реке величественно плавают грациозные лебеди. Они любят подплывать к фонтанам, которые поливают их водой. Лебеди отряхиваются и уплывают. Приятно видеть, как красиво они двигаются.
Повсюду на скамейках сидят люди и созерцают парк, дворец, статуи, реку с лебедями. Они любуются красивыми пагодами и относятся к ним с большим уважением.
Я вижу, как люди входят во дворец. Я знаю, что польских королей больше нет, что все здания доступны. Почему бы мне тоже не войти, что мне за это могут сделать? «Меня не пустят, — подумал я, — но надо постараться». Я решаюсь и захожу внутрь. Мне ничего не говорят. Отлично. Какой-то инвалид велит мне написать свое имя и адрес в толстой книге. Я согласился. Я уже могу идти осматривать дворец. Со мной идёт много поляков. Другой инвалид нас ведёт, он нас просвещает. Вот кабинет короля, его письменный стол, его стул, его ручка, его писчая бумага и его книги. Вот его спальня, белые кровати, лампы, часы, столы, стулья, а инвалид нам все объясняет. Комната в том виде, в котором король покинул ее в последний раз. А это приемная короля. Здесь он принимал иностранных представителей. А вот его библиотека, его игровая комната и его личные покои и комнаты для свиты. Вот очень большой зал, где собирались царские министры, а здесь монастырь, здесь больница, а здесь помещения для охраны и полиции.
Комнаты, комнаты, комнаты, кто их может сосчитать. И во всех комнатах дорогие картины, статуи, чудесные скульптуры и повсюду куски золота, серебра и слоновой кости. Целый мир подарков польским королям. Инвалид рассказывает нам, от кого и для кого были вручены подарки. Одна вещь запомнилась мне. Это стол из маленьких кубических кусочков яркого мрамора. Стол настолько искусно сработан, что люди не могут от него оторваться. Вот как папство одарило польского короля. Мне кажется, подарков было больше, чем вещей, которые король купил сам…
Вот комнаты, где когда-то жил Наполеон. Его позолоченная постель украшена балдахином. Здесь все сделано из золота и серебра. И все осталось так, как оставил Наполеон.
Помимо комнат, сильное впечатление на меня произвели подземные и верхние переходы, прогулочные переходы, даже на стенах над колоннами.
А поляки интересуются каждой мелочью. Обо всём расспрашивают инвалида и вздыхают, и стонут по всякому поводу. Да полякам есть, о чём вздыхать и стонать, столько богатств попало в «панские» руки. Отнимая у них землю, их богатства, их лишают свободы, независимости и доводят до состояния рабства. Я им сильно сочувствую.
Вот я уже иду по лесу и вижу перед собой чудо за чудом. Греческий амфитеатр. Шумит лес, журчит река и поют птицы. Под открытой крышей находится театр, и, что еще более удивительно, большой театр находится на одном берегу реки, а круглый театр на сотни мест — на другом. Здесь часто играют легкие польские оперетты. Наверное, вечером в таком театре будет очень интересно.
Выйдя из Королевского парка, сразу замечаешь дворец Бельведер с большой статуей Аполлона. Это тоже королевский дворец, но он уже не так интересен, и я прошёл его быстро.
На обратном пути я остановился возле Варшавского университета. Проходя мимо, я заметил гимназию, музей и библиотеку.
Я спустился к входу и почувствовал себя так, словно попал из Европы в Азию. Мне открылся новый мир. Мир, полный бед, страданий, невзгод, голода, пьянства. Маленькие узкие, извилистые переулки с очень старыми домами, которые выглядят так, словно разваливаются. Я видел дыры и трещины во многих стенах. Дыры вместо дверей, камни вместо лестниц. Окна маленькие и часто разбитые, чем-то заколоченные. Странные гравийные дороги, старые деревянные лестницы. Все комнаты забиты. Люди здесь живут очень тесно. В коридорах сыро и грязно, воняет. Люди здесь одеты в обноски и часто бывают пьяными. В подвалах расположено множество грязных магазинов, старых темных комнат, а также ресторанов и кофеен…
Здесь процветает варшавская бедность. Преступный мир Варшавы. Оттуда я перешел в еврейскую нищету, на улицу Смоча. Десятки переулков в нищете, тесноте, грязи, спертом воздухе, голоде, нужде, депрессии. Евреи в трансе, женщинам нечем кормить детей, а дети на улице бледные, злые и с такими странными глазами.
Я думаю, что у большого города есть свои хорошие стороны, но есть и темные места. А вопиющая бедность — это самое страшное. Самое черное пятно на ткани великого города. Только в большом городе можно рисовать в одном районе — красивые Иерусалимские аллеи, а в другом — бедную и грязную улицу Смоча.
Глава 11
Еврейская Варшава пятьдесят лет назад
Когда я приехал в Варшаву в 1895 году, среди евреев и особенно среди еврейских рабочих не было ни национального, ни социалистического движения. Были социалистические польские группы, в которых были и евреи, но на общей еврейской улице о них не было слышно. Евреи были организованы только в общине (гмине) и частично вокруг хасидских раввинов. Варшавские евреи были разделены на немцев (реформаторов), хасидов и литваков. У первых была своя синагога, свой проповедник, своя библиотека и свои отдельные религиозные школы. Тогда они получали современное европейское образование в частных или государственных школах. Они считали польский своим родным языком, Польшу своим отечеством, а себя считали поляками «веры Моисеевой» … Одевались они совершенно по-европейски. Их главной целью было вести себя таким образом, чтобы евреев в них ни при каких обстоятельствах не узнавали. И хотя по численности они представляли незначительное меньшинство, ни в коем случае не более пяти процентов, тем не менее, благодаря своей «европейскости» и образованности, для широкой публики они фактически были официальными представителями всех евреев в Варшаве, а значит, и во всей Польше. Подавляющее большинство варшавских евреев составляли хасиды, они группировались вокруг различных раввинов. У них были свои отдельные синагоги. Их образование было чисто религиозным, язык — идиш с польским акцентом, они считали себя именно евреями. Они были очень набожны, даже фанатичны, и в общем смысле очень отсталые — хотя в те времена современные ветры уже начали дуть. На горизонте еврейской Варшавы начали работать Слонимский, Чоколов, Перец. Все они поставили себя на службу простым людям. Глубоко в душе они ненавидели «поляков веры Моисеевой» из-за их ассимиляционистских и, внутренне, антиеврейских взглядов.
В это время прибыл новый «еврейский элемент», который сразу начал играть важную культурную и экономическую роль в еврейской жизни Варшавы. Это были изгнанные из Москвы евреи, которые привезли с собой в Варшаву свои связи и имущество и открыли широкие возможности для польской промышленности и торговли, отвоевав для них обширные земли России, Кавказа и Сибири. Оживление произошло во всей польской жизни. Здесь русские евреи стояли на более высоком уровне, чем местные евреи, как хасиды, так и «немцы». Они уже были испытанными евреями, пострадали за свое еврейство, принесли жертвы. Они внесли в варшавскую жизнь новые понятия, понятия о большой ответственности евреев перед евреями, о широкой благотворительности, о современных и в то же время хороших евреях. Также некоторые из них были в полном смысле слова меценатами искусства, литературы и образования.
Среди польских евреев было много богатых людей, были среди них даже миллионеры. В то время, когда среди очень богатых евреев-реформаторов наблюдалась тенденция еще дальше отойти от еврейского народа и, возможно, опозорить себя и всю семью в глазах соплеменников, среди очень богатых хасидов наблюдалась противоположная тенденция: объединяться в более тесном контакте с Израилем в целом, более благосклонно относясь к бедным братьям, протягивая щедрую руку обществу. Хасидизм привил им широкую демократию. Они не отделяли себя от бедноты, а, наоборот, вошли с ней в близкий контакт. На все их торжества, гулянки и праздники к ним приходили бедные братья — хасиды того же раввина, и миллионеры вместе с нищими бедняками, пели, танцевали, радовались, а хозяин дома приветствовал всех с щедростью и уважением. Если кому-то удалось принять раввина (да будет он жив), это — счастье. Кроме того, было само собой разумеющимся, что богатый хасид должен помочь своим бедным братьям, попавшим в беду. Бедному человеку надо выдать дочь замуж, а денег нет или у него нет врача, или надо избавить сына от военной службы или нужны товары для дела — все обращались к своему богатому брату, и редко богатый хасид им отказывал.
Средний класс состоял из лавочников, различных мелких предпринимателей, мелких торговцев и домовладельцев. Они жили гораздо лучше, чем средний класс у нас в России.
Кроме того, евреи в Польше имели больше прав, чем евреи во всех других частях тогдашней царской России. Тогда здесь правил не российский «Свод Законов», а более либеральный «Кодекс Наполеона». Евреи имели право жить везде, даже в деревнях, имели право покупать землю на своё имя, и в больших деревнях было много евреев-землевладельцев, лавочников и купцов. Это, безусловно, также во многом способствовало тому, что польский еврейский средний класс жил намного лучше.
Я уже встречался с большим количеством еврейских рабочих в Варшаве. Их жизнь была ужасна. Они работали в маленьких, тускло освещенных мастерских по восемнадцать часов в день, а часто и всю ночь за смешное жалованье в два-три рубля в неделю. Тот, кто получал пять рублей в неделю, должен был быть прекрасно квалифицированным работником. Еврейские рабочие были заняты в основном изготовлением обуви и пошивом одежды, обработкой различных вещей из бронзы, стали и железа. А также обработкой кожи и ремней для изготовителей сумок и перчаток, изготовлением шляп, кепок, грубого льна, ткани и войлока. Девушки, которых наиболее эксплуатировали, состояли в основном из модисток и горничных. Они также занимались изготовлением ковров, пошивом и стиркой одежды. Рабочих называли товарищами. Приказчики, называвшиеся подданными, были гораздо более высокооплачиваемыми работниками. Зарплата у них доходила до ста рублей в месяц, но средняя зарплата была где-то пять-семь рублей в неделю, и работали они с утра и до одиннадцати, а иногда и двенадцати ночи. Все рабочие подвергались эксплуатации и угнетению в высшей степени.
Никаких рабочих организаций, как я уже говорил, тогда ещё не было. Они знали, что помощь может исходить только от самого владельца. Рабочие делали всё, чтобы порадовать хозяина.
Помимо всех работающих, было много евреев, не имевших специального занятия. Их положение было еще хуже, чем у рабочих. Это были евреи, которые работали на улице или, как говорили в Варшаве, с улицы. Это были различные маклеры, уличные торговцы с корзинами в руках, продавцы мелочей в гостиницах, кофейнях или ресторанах, носильщики, люди «для разовых поручений», мусорщики, охотники за выгодными покупками и те, кто живёт тем, что подлизывается здесь и разнюхивает там.
С образованием молодежи здесь был бардак, евреи-реформаторы не давали своим детям еврейского образования. Их дети ничего не знали об иудаизме. В лучшем случае они черпали информацию из скудных источников отечественной ассимилированной атмосферы или из польской литературы.
Более богатые хасиды давали своим сыновьям еврейское религиозное образование у независимых фанатичных учителей, но дочерям давали современное польское образование, которое они хотели гармонировать со своей фанатичной религиозной жизнью. Такое воспитание детей: мальчиков по-одному, девочек по-другому, являлось причиной многих трагедий в семейной жизни польских евреев. Бедные отдавали своих мальчиков в хедер или Талмуд-Тору, а девочек вообще не учили.
Мы, вновь прибывшие юноши и девушки из Литвы или России, сыграли большую роль в культурной жизни польских евреев. Мы, в основном социалисты, стали их учителями, воспитателями, ориентирами, и когда современная еврейская пресса, литература и движения находились на подъеме, мы были теми, кто наиболее авторитетно работал на ниве польского еврейства. Варшава была наводнена преподавателями, экстернами, студентами, курсистками и вообще нашей новой интеллигенцией, что оказало большое влияние на подрастающую хасидскую молодежь. Но нам пришлось пережить огромную борьбу со старшим поколением. Тем не менее лучшую хасидскую молодежь, как магнитом, тянуло к нам, и спустя годы мы объединились в этой общей борьбе.
Глава 12
Первый Песах на чужбине
Поначалу я зарабатывал преподаванием очень мало — около 12 рублей в месяц. За свою квартиру я платил три рубля в месяц, а на оставшиеся девять рублей мне приходилось питаться и покрывать все остальные расходы. Я не мог быть таким бережливым ни при каких обстоятельствах… и влез в большие долги. Своему хозяину за первые пять месяцев я задолжал 10 рублей, и это был для меня непосильный долг, и тогда я решил, что никогда не отдам его, и долг давил на меня как тяжелейшее бремя.
За несколько дней до Песаха мой хозяин предложил мне провести праздник с ним — всего это обойдется мне не более шести рублей за восемь дней. Шесть рублей были для меня слишком большой суммой, да и к тому же мой долг хозяину стал бы уже не десять, а шестнадцать рублей, а это означало для меня, что я наверняка останусь в долгу перед ним на всю оставшуюся жизнь, и предложение не было принято. Правда, родители моих учеников тоже были должны мне денег, но кто знает, заплатят ли они мне. Когда я рассказал им, что со мной случилось, они надо мной посмеялись: «У кого есть деньги на Песах?»
Короче говоря, накануне Песаха у меня не осталось ни копейки денег. К тому же я весь день ничего не ел. Я вообще не ожидал такой беды. Я даже не мог думать о займе денег. Я не мог пойти к другу, соседу или родственнику и попросить одолжить мне несколько рублей… Ну, я в большом отчаянии думаю, что мне придется умирать от голода в эту Пасху.
На свой первый седер, я отправился в Саксонский сад. Я сел на скамейку, и потекли бесконечные, болезненные мысли. В парке никого не было. Молодежи, которая каждый вечер наполняет парк пением, криками и смехом, там не было. Все они в своих теплых домах. Они счастливые, добрые и веселые. В домах «Порядок», всё накрыто, на столах вино и маца и все хорошие блюда. Отец возлежит в кителе на диван-кровати, мать сидит рядом с ним, и стоят ряды сыновей, дочерей, двоюродных братьев, зятьев и даже друзей. Читается Агада и едят священную пищу.
И я представляю свой дом. В гостиной за большим круглым столом сидят отец и мать с моими братьями и сестрами. На седер сегодня, как и всегда, приехали дядя Хаим и тетя Дебора с двумя детьми, Лёвкой и Анютой, которую я так люблю до сих пор. Как бы мне хотелось сейчас посидеть с ней за одним столом! По крайней мере, смотреть на нее дома с нами так хорошо и приятно. Горит лампа-вспышка, а также наша старинная бронзовая лампа, постамент которой представляет собой лодку на воде, в лодке стоят три красивые девушки, характеризующие собой веру, надежду и любовь. На самом деле мы не произносим Агаду, но мой отец рассказывает замечательные эпизоды из еврейской истории, и все очень внимательно слушают. Отец — «гой» так тепло говорит о еврейском народе, его радостях и страданиях, о великих людях, которых породили евреи, и он все еще лелеет великую мечту о том, что евреи будут освобождены еще раз, и тогда они покажут миру, кем они являются. Горничная вносит и подает к столу дорогую еду и лучшие напитки, и все мои братья и сестры едят с редким аппетитом. А я сижу здесь один в парке на скамейке, пришло время Песаха, я смертельно голоден, и из моих глаз текут горькие слезы. Я неохотно встал со скамейки и быстро пошёл, чтобы прогнать мрачные мысли.
Я долго так ходил, пока не понял, что должно быть уже достаточно поздно, и можно уже идти домой, моя хозяйка не поймет, что я был совсем не на седере, как я ей сказал. И я думаю про себя, приду к ней веселый, живой, с широкой доброй улыбкой и расскажу ей, Саре, какой чудесный седер у меня был. Вышел из парка и направился домой по улицам. Через окна я вижу, что повсюду люди пытаются приготовить седер. После звона колоколов я вспоминаю, что у меня есть кнедлики. Пусть полпорции, но лучше, чем ничего.
Думаю, еще рано идти домой, они поймут, что никакого седера у меня не было. Мне придется гулять по улицам ещё не менее часа. Не знаю, сколько времени я провёл на улице, но, когда я добрался до своего дома, ворота были уже закрыты. Новая беда — надо будить сторожа. А у меня нет ничего, чтобы дать охраннику, а он уже давно на меня злится — я часто ему звоню и редко даю ему мелочь. Я убит горем. Ворота открываются. Я пробираюсь и издалека слышу его бурчание.
Я подхожу к своей двери. Я слышу, как хозяин поет что-то из Агады. Я не хочу вмешиваться в это. Я лучше подожду здесь, на лестнице, в темноте. Но я не мог дождаться, пока он закончит. И с веселым приветствием я вошел в дом. Меня хотели почтить праздничными блюдами и бокалом вина. «Да что ты говоришь, я надут как барабан, спасибо тебе большое», — сказал я.
Они быстро закончили седер, и все пошли спать. В этот раз я заснул, как после тяжелого рабочего дня.
Когда я проснулся, было уже темно и дома я никого не застал, всем пришлось идти молиться. Поднимаю голову, она тяжелая, как будто налита свинцом. Когда я встаю с кровати, я чувствую себя настолько слабым, что едва могу стоять на ногах. И есть хочется. Я чувствую, что сердце может выскочить у меня из груди.
Быстро умываюсь и выхожу на улицу. До свидания. Магазины закрыты. Измученные евреи, их жены и дети идут в синагогу. Они знакомятся с другими евреями, поздравляют друг друга с праздником и идут вместе.
Гуляя по улицам, я встретил своего лучшего друга Волфкина. «Мне сейчас хочется грешить», — говорит он мне. «Давай, зайдём и выпьем по стаканчику пива в честь Песаха». Я принял приглашение, и мы пошли в пивную, выпили две кружки пива и закусили тонкими сухими крекерами, посыпанными солью. И так как я и раньше ощущал себя отяжелевшим, то теперь, после двух стаканов пива, мне стало в тысячу раз тяжелее. Я не мог двигать ни руками, ни ногами. Я почувствовал, что мой мозг перестал работать. Он как-то со мной разговаривает, что-то говорит, но я не знаю, что.
С величайшими усилиями я поднялся с места, сказал другу, что мне надо куда-то идти, извинился перед ним и вышел. Наверное, я провел целый день, бродя по улицам Варшавы.
Больше всего в тот день меня расстроили две незначительные мелочи. Мимо проехала богатая карета с двумя лошадьми. Одна лошадь сильно ударилась ногой о водосток и обрызгала меня сверху донизу. Мне было так обидно, что, если бы у меня была возможность, я бы убил обеих лошадей.
И вот через полдня бесцельного блуждания меня остановил запах вкусного мяса. Я увидел, что стою рядом с богатым рестораном. И вижу через окно, что внутри сидит много людей, и все едят. Но тут я замечаю, как кто-то подходит к кассе, предъявляет ассигнацию, а ему дают сдачу в виде нескольких мелких купюр. Это был мой знакомый. Жадная душа наелась досыта, а ему ещё дали массу ассигнаций на хорошую еду и прочее.
«Мерзкий мир, противный мир!»
Пока я иду и думаю о нашем испорченном мире, девушка останавливает меня радостным восклицанием: «Ной, как твои дела?»
Мне очень нравится эта девушка. Я понимаю, что она из того же штетла, что и я. Но я ее не узнаю, а она не хочет мне говорить, кто она. Затем, когда я нажимаю на неё посильней, она говорит мне, что она дочь Берла, перевозчика песка. Совсем не хорошая родословная. Я хорошо помню её отца. Маленький еврей с очень длинной бородой, всегда ходил, склонив голову до земли. Потому что, кроме перевозки песка, у него была еще одна подработка: воровство лошадей у гоев. Однажды они поймали его и так сильно избили, что сломали ему позвоночник, и с тех пор он ходил сгорбленным.
Я ей говорю, что я уже полгода в Варшаве, успешно даю уроки. Я счастлив, что нахожусь здесь, в Варшаве. Красивый, интересный город. Она рассказывает мне, что работает у банкира Кроненфельда, получает хорошее жалованье, имеет свою отдельную комнату и у неё всё хорошо. Я так понимаю, она там горничная.
Она очень уговаривает меня пойти с ней. Я сильно сомневаюсь. «Нет, — думаю, — не надо. Мне, сыну адвоката из Мира, идти к дочке Берла, перевозчика песка. Когда люди это обо мне узнают, город заплачет, ой, моим родителям будет стыдно, их глазам будет стыдно. А, может, зайти. Я так голоден, что протяну ноги, и она даст мне поесть всё, что я захочу съесть».
Я долго боролся с этой идеей, пока голод не победил, и я не пошел с ней.
Это мое место. Весь дом наш. И дом похож на старинный дворец. С колоннами, с двумя львами у входа и красивыми карнизами на дверях и окнах. Мы вошли в ее комнату через кухню. Она выложила хорошие вещи: бисквиты, кнедлики, жевательную резинку, вино, видимо от её хозяина. Но боже мой, зачем мне это нужно, она бы лучше подарила мне мацы, или тарелку картошки, немного мяса. Я все равно не выпью это вино. Боюсь, я до сих пор помню утреннее пиво. Располагаюсь, перекусываю, раскалываю орехи, пью чай с консервами и аппетит все больше возбуждается. Если бы у меня сейчас был бык, я бы съел его целиком, даже шкуры с волосами не оставил бы.
Она рассказывает мне о доме, о его хозяевах и о своей «хорошей жизни», а я — беру еще печенье, еще кренделёк. Вдруг я слышу, как кто-то вошел на кухню, и что-то зашуршало. Наверное, хозяйка в шелковом платье. Наверняка она скоро зайдёт сюда, увидит свою горничную с каким-то парнем, и заподозрит нас черт знает в чём и… Я хватаю шляпу и убегаю.
Странно то, что после небольшого перекуса мне сразу становится хуже. Как и прежде, такое чувство, будто я умираю.
Тем не менее я волочу ноги и тащусь с улицы на улицу. Я не знаю, куда я иду. Я не знаю, как долго я здесь, и мне все равно, где я нахожусь. И я даже не понимаю, как я попал к студенту Хиндзелевичу — сыну сапожника из нашего Мира, посещающего Варшавский университет
Я, наверное, выглядел очень странно, потому что как только я вошёл к нему, он крикнул: «Что с тобой, тебе нехорошо?»
И сколько я себя ни сдерживал, и сколько я себя ни контролировал, я все равно не выдержал и разразился громким истерическим криком.
Он сразу понял, что со мной что-то не так. Он ничего не сказал, надел кепку, побежал вниз и вернулся с чаем, булочками, колбасой, сыром, маслом.
«Со мной много чего происходило, могу посоветовать: двух буханок хлеба с маслом пока хватит, через пару часов у нас будет настоящий ужин».
Мы поели. Я молчал. А он рассказывал мне истории о том, как он голодал в Питере:
«Сколько дней ты не ел, два дня, может, три, это ерунда. Я постился четыре или пять дней. Это означает голод. Если я всё ещё жив, то спасибо, помнишь такую, Чеботаревич. Она работала медсестрой в больнице. И когда я чувствовал, что уже расстаюсь со своей грешной душой, я заходил к ней в больницу. Визит длился иногда целый день, а иногда и больше. И она кормила меня всем самым лучшее и изысканным, даже с вином и шампанским. Там, в больнице, всего было более, чем достаточно. Да, если я еще буду жив и буду еще находиться в этом прекрасном мире, я должен буду её отблагодарить. Что ты знаешь о голоде? Я искал еду среди мусора».
В двенадцать часов ночи мы впервые поужинали. Я даже не знал, что там. Я не стал разглядывать, а бросил кусок в рот. Мне было все равно что я туда брошу, мне хотелось набить желудок.
В ту ночь я спал у него: он не отпустил меня домой.
Следующим утром мы очень хорошо перекусили и в полдень пошли на студенческую кухню.
Своих денег у моего «филантропа», видимо, не было. Он бегал от соседа к соседу, чтобы одолжить рубль, и меня так раздосадовало то, что он хочет дать мне денег в долг, что я быстро схватил шапку и выбежал в прихожую. Довольно далеко ото всех он подошел ко мне и сунул мне в руки пять рублей. Я расстроился еще больше. Оставил его посреди улицы и пошел домой. Я, конечно, пошел пешком и расстояние было очень большое. Из одного конца города в другой. Больше часа ходьбы. Когда я пришел домой, хозяйка сказала мне, что студент Хиндзелевич уже был здесь и принес пять рублей, потому что он мне был должен.
— И где ты был все это время? Даже не ночевал.
— Всё с друзьями. Вчера у нас был счастливый день. Гостей было много, и мы хорошо провели время до позднего вечера. Наши товарищи оставили нас на ночь. А пять рублей, они мне не нужны. Возьмите их в счёт моего долга.
Глава 13
Первые годы в Варшаве
Моими первыми знакомыми и друзьями были мои соотечественники из Мира. Больше всего я подружился с двумя из них: Вулфом Эпштейном — приказчиком в суконном магазине на улице Генше, сердечным, сильным и чувствующим человеком исключительно доброй и красивой натуры и с Рафаэлем Лейбом Исааксоном, отец которого был в то время раввином Кайданова. Рафаэль Лейба получил раввинское образование, был одним из лучших учащихся Мирской иешивы и любимым учеником рава Хаима Лейба — главы иешивы. Но он «сошёл» с прямого пути. Он отверг Талмуд и начал изучать языки и математику. В Варшаве он работал бухгалтером в крупной и известной часовой компании. В то время он готовился поступить в зарубежный университет. Они познакомили меня со своим другом, который был племянником Вулфа Эпштейна — Авраамом Кастелянским. Мы вчетвером поддерживали нашу дружбу долгие годы, пока наши политические интересы не разлучили нас. Исааксон и я стали сионистами, а Эпштейн и Кастелянский стали бундовцами и, союз был разрушен. Первые три-четыре года мы были неразлучны: четверо друзей с одной душой и одним сердцем. И это было хорошо для нас. Мы вместе читали, вместе танцевали, всегда вместе проводили время, вместе ходили в театр, вместе навещали наших подруг и часто, очень часто, вместе ели. Но больше всего я любил Исааксона. Я просто скучал по нему. И действительно, он был необыкновенной личностью — человеком не от мира сего. Если есть святые люди, то он был одним из них. В жизни он был кристально чист, оставлял себе минимум и делился со всеми своим последним кусочком. Большую часть своего бюджета он тратил на книги. Он любил изучать философские и социально-экономические книги. Был влюблён в Шолом-Алейхема и Фруга. У него была прекрасная идишская библиотека — мне кажется, там было все, что до недавнего времени издавалось на идише. У него также была прекрасная библиотека на иврите и множество серьёзных книг на других языках. Никаких других удовольствий, кроме духовных, он не искал. Он всегда жил принципами милосердия, доброты, красоты и добра и с гордостью подчеркивал, что все это всего лишь еврейские принципы.
Такая жизнь и стрессы продолжались почти целый год, пока однажды утром, когда я еще спал, меня не разбудил мой друг Вулф Эпштейн и не спросил меня:
— Ной, ты хочешь занять хорошую должность?
— С величайшим удовольствием, — ответил я.
— Так что вставай, одевайся, я хочу взять тебя с собой.
Я быстро оделся, и мы вышли из комнаты. По дороге он мне говорит:
«Здесь, на Налевке, есть большая гостиница „Отель Север“. Там нужен молодой человек, который будет вести книги на русском языке. Ты подойдёшь для этой работы. Владелец отеля заболел. Он находится за границей, на курорте, и его место занимает жена. Она умная и современная женщина. Тебе будет легко с ней сговориться. Я рассказал ей о тебе, и она сказала мне привести тебя».
Мы вошли в отель, он меня представил. Прошло немного времени, и я стал управляющим гостиницей. Моя первая зарплата была пятьдесят рублей в месяц плюс номер в гостинице и ночлег с завтраком.
Вот так я был вознесен и возвышен одновременно.
На своей должности я зарабатывал намного больше пятидесяти рублей в месяц. Я писал для гостей разные бумаги, за что тогда неплохо платили. Я писал просьбы о выдаче иностранных паспортов, для тех, кому приходилось ездить за границу по делам или лечиться. Еще я писал в вышестоящие инстанции прошения для гостей, для тех из них, кто хотел получить разрешение остаться в Варшаве на более длительный срок, и мне за всё платили. Я жил просто в достатке. Обедал в богатых ресторанах, очень часто посещал польский театр, еще больше посещал оперу. В то время я также нанял двух учителей: поляка, чтобы он обучал меня латыни, греческому и высшей математикой, и француза — он должен был обучить меня своему языку. Я купил много книг. Много времени я посвятил «Капиталу» Карла Маркса, а также Зомбарту, Плеханову, Каутскому, Михайловскому. Прочитал немало книг по социологии. Меня также очень интересовала захватывающая идишская литература. Я потерял рассудок. Тогда я покупал все новые идишские издания. Меня особенно интересовала еврейская история и жизнь евреев всего мира, и я читал книги как пьяный. Но все это не мешало мне одновременно наслаждаться жизнью, но не в пошлом смысле этого слова.
В то время я привез в Варшаву свою дорогую сестру Хани, чтобы она тоже смогла ощутить вкус жизни большого города. Дома она была сдержанной, замкнутой. Кроме книг, ее ничего не интересовало. «Пусть она немного очеловечится», — подумал я.
Однажды я еду по Налевке и встречаю своего земляка (нынешнего великого поэта Иосифа Рольника). Разговорились. Я спрашиваю его, как он живет, и он говорит мне, что работает на комиссионера. Он должен таскать тяжелые посылки, ему приходится обслуживать всех приезжающих из предместий, ему приходится покупать мануфактуры для своего начальника. Он много работает и мало зарабатывает. Я пригласил его пожить со мной в отеле, где я работаю. Он принял приглашение. Я отдал ему свою вторую комнату, и мы прожили вместе несколько месяцев. Моя гостиничная жизнь была очень беспокойной. Туда обычно приезжали люди со всего мира, в основном евреи из Литвы, Польши, России, Галиции, Австрии, Германии, даже из Сибири. Я всех знал и полюбил слушать, как они рассказывают о своих городах, своих странах, как там живут евреи. Со многими гостями, с теми, кто уже часто приезжал раньше, я близко сошёлся и принимал их как своих любимых гостей. Мы вместе ели и проводили вечера вместе.
Моего любимца Лейба Исааксона в это время не было в Варшаве. Он уехал в Женеву, в Швейцарию, и стал там студентом философского факультета, но мы часто переписывались. Он много писал мне о Теодоре Герцле, о сионизме, причем писал возвышенно и с энтузиазмом. Так что его мысли прочно вошли в мою голову, и я ими очень заинтересовался. Я начал думать, как было бы хорошо, если бы все евреи мира поселились в Земле Израиля, где они могли бы вести свою независимую жизнь, новую жизнь, на принципах свободы, братства, справедливости и красоты. В одном из писем он писал мне об одном из «наших» евреев — докторе Хаиме Житловском, который читал в Женеве лекцию о том, что мы — нация, со всеми атрибутами нации, со своей историей, уникальной культурой, уникальным духовным миром и особым языком. Наша главная проблема — это наша деклассированность. Мы, евреи, должны перейти к полезному производительному труду и, прежде всего, к деревенскому труду. Мы должны бороться не только за равные гражданские права, но и за свои национальные культурные права. Письма Исааксона ко мне внесли порядок, понимание, ясность в мои смутные мысли и обозначили, так сказать, мою будущую цель в жизни.
Я стал читать еще больше книг о еврейской жизни, о национальном вопросе, о борьбе евреев в странах их расселения, о их борьбе за собственное «Я», о великих заслугах моего народа перед человечеством, о нашем великом нравственном вкладе в общечеловеческие ценности. И чем больше я читал и думал, тем более сознательным националистом я становился.
Моим самым больным местом стало положение евреев в мире. У меня не могло быть лучшего примера, чем ситуация с евреями в России того времени: голод и лишения, лишение всех возможностей человеческой жизни, лишение всех прав человека и гражданина. Циничное отношение к нам со стороны русских и поляков, издевки, льющиеся ежедневно на нас через прессу, принижение всего самого известного и лучшего из того, что у нас есть, задевало меня в высшей степени.
Тогда в России и Польше не было социалистического движения в том смысле, как мы его понимаем сегодня. Как-то я слышал о социалистах, о Народной Воле, о Желябове, Перовской. Как-то в моем родном городе Копыле арестовали каких-то социалистов, но я так и не понял, чего они хотят. Я знал одно: им не нужен император. Что ж, будучи в шестом классе нашей городской школы, я тоже не хотел присягать Николаю Второму, когда он взошёл на престол. Я что, тоже социалист? Правда, моя мать однажды рассказала мне о некой Кляйнбарт, ее коллеге, которую отправили в Сибирь, и о Жене Гурвич (сестре Ицхака-Айзика Гурвича). И она рассказывала мне о них, как о чем-то священном, как о сверхлюдях, но социалистом я стал не из-за этой истории…
В то время на поверхность еврейской жизни всплыла фигура Теодора Герцля, и вместе с ней сионистская идея стала очень популярной. Об этом писали в еврейской прессе, об этом говорили повсюду, проводили собрания, читали лекции. Меня пригласили на некие лекции. Я посетил их, хотя они были нелегальными. В это время я слышал речи Яшунского, Членова, Моцкина и Подлишевского. Я побывал однажды в богатом доме, на тайном собрании сионистов и с тех пор считаю себя сионистом.
В один прекрасный день в нашем отеле появились странные гости. Один — раввин Соловейчик, доктор Брук, какой-то великий бунтовщик Зиф, другой раввин из Лиды — Рейнес и многие другие. Все они наполнены какими-то тайнами, проводят консультации, и к ним приходят Яшунский, Членов и Подлишевский. Они вызывают меня и признаются, что у некоторых из них нет загранпаспорта, а им нужно ехать в Женеву в Швейцарию. Они хотят, чтобы я достал для них паспорта. По поводу денег, говорят, «не о чем беспокоиться», но паспорта им нужно получить как можно скорее, в течение пяти дней. Я узнал, что они собираются на первый Сионистский конгресс в Женеве. Но я сказал в паспортном столе, что некоторые из них едут за покупками, другие к светилам медицины, а остальные на воды. В назначенное время они получили паспорта, и я был счастлив, что позаботился о них, потому что смотрел на них как на святых, как на сверхлюдей как на спасителей моего народа.
Через несколько дней я с величайшим вниманием прочитал отчеты Конгресса и был точно проинформирован обо всем, что там происходило.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.