
Бесплатный фрагмент - Матильда — 2
Прозрение Матильды
Эжен Сю
Матильда-2
Записки молодой женщины
Том 2 Прозрение Матильды
Продолжение увлекательного криминального романа популярного французского автора, признанного мастера остросюжетного жанра публикуется впервые за последние 170 лет. Над головой молодой красавицы Матильды словно нависло какое-то проклятие, напущенное её зловредной тётки, которая хоть и оставила девушке приличное состояние, но и сверх меры наделила её массой напастей, и каждая одна хуже другой.
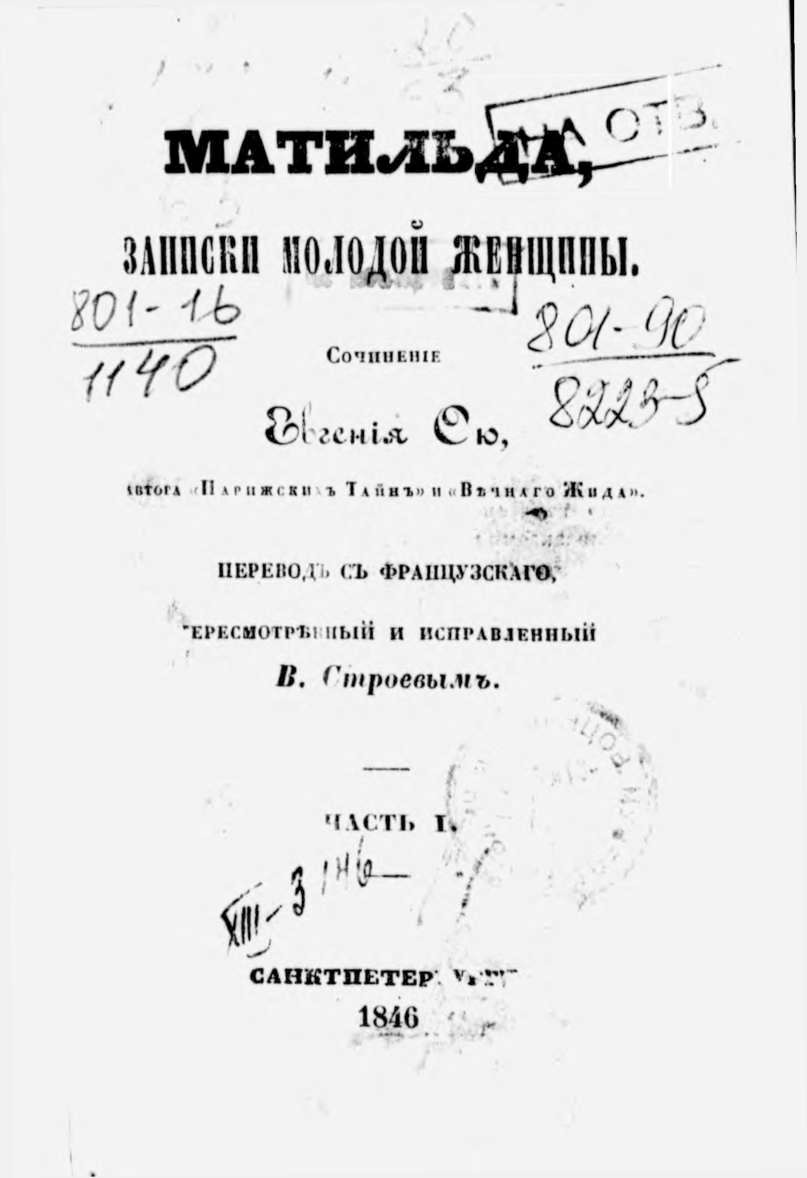
Часть 7
I. Свидание
Урсула, входя в мою комнату, казалось, удивилась, что не нашла меня в ней. Она была весела и улыбалась. Гонтран, напротив, был холоден и строг. Он стоял, прислонившись к камину. Урсула, затворив дверь, сказала ему:
— Как, это вы? А где же Матильда?
— Она вышла на зов одного из благодетельствуемых ею нищих. Она просит вас извинить ее и прийти к ней в садовый павильон…
Мне показалось, что Урсула была удивлена холодным тоном мужа моего, потом она улыбнулась, насмешливо присела и сказала:
— Благодарю вас, что вы известили меня о том, где я могу встретить виконтессу де Ланкри. Сожалею, что прервала ваши размышления.
Она сделала шаг к дверям.
— Одно слово, — сказал ей Гонтран.
Урсула остановилась, тихо повернула голову и бросила на Гонтрана долгий взгляд, полный хитрости и кокетства, с угрожающим видом подняла свои хорошенькие пальчики и сказала:
— Вы хотите сказать мне одно слово… хорошо, я согласна, но не более, как одно, ведь слушать вас опаснее даже, нежели смотреть на вас. Ну, говорите же слово это… мой прекрасный, мой мрачный кузен.
— То, что я должен сказать вам, важно и серьезно.
— В самом деле? Тем лучше, это составит контраст с вашим всегдашним легкомысленным поведением. Говорите, я слушаю…
— Когда, два месяца тому назад, я увидел вас в Рувре, я нашел, что вы прекрасны.
— Это правда, и я даже помню, что в одной из аллей сада моего, вы сделали мне довольно дерзкое признание, на которое я отвечала, как следовало, т. е., смехом: продолжайте, ваша важность забавляет меня и подстрекает мое любопытство… Что хотите вы сказать?
Гонтран бросил довольный взгляд на то место, где я скрывалась и продолжал:
— Когда вы приехали сюда, то я выразил вам удовольствие, которое доставил мне приезд ваш.
— Не удовольствие, а счастье, мой милый кузен. Слова ваши записаны вот здесь, — присовокупила она, положа руку на сердце и иронически глядя на моего мужа. Этот сарказм был, казалось, неприятен Гонтрану. Он слегка нахмурил брови и продолжал твердым голосом:
— Я радуюсь, что вы в веселом расположении духа, сударыня, мне легче будет выполнить лежащую на мне обязанность.
— К делу, к делу, я горю нетерпением. К чему ведет все это, и какой исход будет иметь нелюбовь наша. Я не могу любить вас, но кокетство наше. Не правда ли, так правильнее?
— Согласен, — отвечал Гонтран: — я продолжаю: итак, при приезде вашем в Маран, я высказал вам то счастье, которое доставил мне приезд ваш. И надежду, что пребывание ваше здесь будет продолжительно.
— Это опять-таки справедливо, любезный кузен. На другой день мы весело охотились, и вы даже очень мило упрекали меня в том, что я предпочитаю звук рогов вашим любовным изъяснениям… И к стыду моему признаюсь, что я вполне заслуживала упреки ваши. Звук рогов, гордо раздававшийся в глубине леса, казался мне восхитительным и новым.
— И конечно, любовное изъяснение не имело для вас прелести и новизны. Призвание ваше очень наивно, — сказал, улыбаясь, Гонтран.
Урсула пристально взглянула на моего мужа, выпрямила стройный стан свой и, как бы повинуясь чувству удивления к собственной красоте своей, она встряхнула длинными белокурыми локонами и отвечала с насмешливой, почти презрительной улыбкой:
— Любезный кузен, мне едва восемнадцать лет. Но мне уже не раз говорили, что я прекрасна, и потому вы простите мне, что я несколько привыкла уже к подобным похвалам и вы не возбудили во мне новых и увлекательных ощущений. Я не сомневаюсь, что вы — чудесный Пигмалион, но мрамор Галатеи одушевился прежде, чем вы успели склонить взор ваш к подобной мне провинциалке.
Удивление мое достигло высочайшей степени. Слова эти были произнесены той самой Урсулой, которая казалась всегда скорбною, непонятою и вечно говорила о близкой смерти своей. Она — и так презрительно, насмешливо говорила с Гонтраном, имевшим столь много успехов и некогда любимому самыми модными женщинами Парижа и Лондона. Гонтран удивился, казалось, не менее меня этим ответом. Тем не менее, я радовалась, что он не обманул меня.
Он вел себя легкомысленно и необдуманно с моей кузиной, но холодное кокетство ее избавило его от чувства более живого.
Урсула продолжала с прежней иронией:
— Что с вами? Любезный кузен! Вы кажетесь недовольным.
— Это потому, что я никогда не видал вас столь насмешливой.
— А я никогда не видела вас столь важным.
— Вы правы, — возразил Гонтран: — дело идет о ничего незначащих любезностях, допускаемых между светскими людьми, а я, — прибавил он, улыбаясь, — принял такой важный вид, что он должен казаться смешным. Итак, прошу нас припомнить, любезная кузина, что вчера я так мало умел владеть собой, что осмелился обнять ваш восхитительный стан и поцеловать вашу розовую свежую щечку… Я пришел просить вас простить меня в этой дерзости и забыть эту глупость. Минутное увлечение овладело мной, и я смешал близость родства с чувством более нежным, прошу вас…
Урсула прервала мужа моего громким смехом и воскликнула:
— Мне кажется, любезный кузен, что проступок ваш не стоит того, чтобы просить в нем прощения… Ваша добродетельная скромность напрасно возмущается, и дерзость ваша была весьма невинна… Ведь губы ваши коснулись не розовой и свежей щечки моей, но оборки моего чепца. Что касается до того, что вы обняли обворожительный стан мой, то это может сделать на бале всякий, и в этом не стоит раскаиваться. Если я вчера не сердилась на ваш поступок, то только потому, что честные женщины обыкновенно молчат и не отвечают на подобные признаки недостаточного воспитания.
Самолюбие Гонтрана было, вероятно, затронуто за живое. Забыв о моем присутствии, он почти с горестью воскликнул:
— Как, сударыня, молчание ваше было не что иное, как равнодушие!
— Конечно, я помню даже малейшие подробности и следствия вашей дерзости.
— Каким образом?
— Правая рука моя лежала на перилах балкона и, дернув ее, я разорвала кружева на носовом платке своем.
— Это доказывает, — сказал с досадою Гонтран, — что у вас прекрасная память…
— Это вовсе не доказывает достоинства моей памяти, но свидетельствует об ангельской чистоте моих к вам чувств…
— Сударыня…
— Конечно. Сознайтесь сами, могла ли бы я оставаться хладнокровной и не увлечься упоительной страстью при вашем объятии и поцелуе, если б я любила вас? При одном прикосновении руки вашей, электрическая искра пробежала бы по всем жилам моим и помутила бы ум мой и чувства! Я бы невольно, необдуманно, не помня себя, упала в ваши объятия, и очнулась бы в них, не помня ни о чем, и трепеща еще от неизъяснимого, невыразимого чувства…
О горе! горе! Никогда не забуду я страстного, трепетного голоса, которым произнесла Урсула слова эти! Никогда не забуду я румянца, вспыхнувшего на мгновение на лице ее. Никогда не забуду я томного, жгучего, сладострастного взгляда, устремленного ею к небесам, как будто она чувствовала все то, что выражала.
Горе! горе! Никогда не забуду я и того, как горячо любовался ею Гонтран несколько мгновений: она была прекрасна. О! Дивно прекрасна. Не чистою и строгою красотою, но красотою чувственной, которая, говорят, так много имеет над мужчинами власти.
Горе! горе! Я увидела на лице Гонтрана смесь скорби, гнева и невольного увлечения, которое ясно сказало мне, что он был в отчаянии от того, что ему не удалось подарить Урсуле тех ощущений, о которых говорила она с таким страстным красноречием. Страх мой к этой женщине увеличился: я готова была выйти из своего убежища и положить конец сцене. Но, увлеченная любопытством и беспокоясь за ответ Гонтрана, я осталась на месте.
Муж мой был, казалось, очарован взглядом Урсулы.
— Ваша теория полна. Счастлив тот, кто приложит ее к практике! Я вижу с удовольствием, что с вами мне трудно было бы остаться верным жене моей. Я радуюсь, что не впал в больший проступок и благодарю вас, что вы так искренне кокетливы со мной.
Урсула снова засмеялась и сказала:
— Боже мой! С каким отчаянным видом вы говорите мне о своей супружеской верности! Кажется, что вы будто раскаиваетесь в дурном поступке, и вместе с тем, сожалеете, что не поступили хуже.
— Вы правы, я считал себя менеe, а вас несколько более невинной…
— Мне кажется, что вы вне себя…
— Совсем нет. Клянусь вам, что вы ошибаетесь.
— Я говорю вам, что вы взбешены. А! Вы думали, что вам стоит только показаться, чтоб понравиться мне и пленить меня. Теперь я угадываю, — вскричала она с удвоенным смехом: — вы думали, что еще до свадьбы вашей, во время первого вашего представления на бале у австрийского посланника, вы нанесли жестокий удар моему сердцу, что вы возобновите нанесенную вами рану во время проезда вашего через Рувре, и что соединение с вами здесь или в Париже сделалось единственною моею целью. Что я, наконец, следуя непреодолимому желанию вам понравиться, учусь с опасностью для жизни ездить верхом, чтоб остаться таким образом, хотя бы разок с вами наедине, заслужить ваше одобрение к дать вам возможность сказать: «Бедняжка, сколько в ней смелости и самоотвержения»… или: «О, женщины, женщины! Когда одна из них задумает прельстить нас, то всегда настоит на своем». Впрочем, в последнем случае вы были правы, мой бедный кузен. Кажется, я прельстила вас… Хотя и совершенно невольно.
— Я вижу, что не одного меня можно упрекнуть в самолюбии, — сказал Гонтран, более и более раздраженный.
— Как, — вскричала Урсула с новым порывом веселости: — вы думаете, что нельзя без самолюбия изъявлять притязаний на сердце ваше! Для вас, желающих научить меня скромности, признание это очень колко. Но я признаюсь, что хотя и уверена в том, что прельстила вас, однако ж, ни сколько не горжусь этим…
— Следовательно, вы почитаете меня чересчур влюбленным в вас?
— Я думаю, что сегодня вы более влюблены в меня, чем вчера. Я даже уверена, что завтра вы будете любить меня более, чем сегодня.
— И как же кончится эта постепенно возрастающая страсть, прекрасная пророчица?
— Для меня она кончится сильным смехом, для вас же, всеми видами отчаяния… Вы должны знать по опыту, синьор Дон-Жуан, что если с одной стороны есть страсть, то с другой обыкновенно бывает равнодушие и презрение: и если вы хотите знать, что препятствует мне отвечать на любовь вашу, что в вас есть кажущегося мне непростительным, я отвечу вам: любовь ваша.
— Поздравляю вас, сударыня, вы прекрасно выражаетесь парадоксами.
— Вам кажется это парадоксом. Напротив, это очень просто. Никто не привык к этим справедливым истинам, и потому они кажутся парадоксальными. Итак, я скажу вам, подвергаясь прослыть сумасшедшей, что вы любите меня не потому только, что я молода и прекрасна, но ещё и потому, что самолюбие ваше оскорблено тем, что, не смотря на прежние победы ваши, я не поддаюсь вашим чарам.
— Умоляю вас, сударыня, — вскричал Гонтран: — оставьте меня в стороне.
— Вы правы, мы совсем отдалились от главного предмета разговора. На чем же мы остановились? Ах… да. Вы просили у меня прощения в том, что осмелились поцеловать оборку моего чепчика и обнять стан мой, подобно давно забытым мною прошлогодним танцорам.
Гонтран не отвечал, и после мгновенного молчания, сказал с принужденною улыбкой:
— Вы конечно, соединяете в себе самые редкие совершенства. Вы имеете полное право быть разборчивой и презрительной… Но можно ли, по крайней мере, узнать, какими невероятными совершенствами, какими поразительными преимуществами должен быть одарен тот, кто осмелился бы притязать на неожиданное счастье вам понравиться?
— Знаете ли, что вы очень прихотливы?
— Каким образом?
— Не сами ли вы просили меня сейчас, оставить вас в стороне, а теперь опять о себе заговариваете.
— Напротив…
— Спрашивая меня с такою явною иронией, о качествах, потребных для того, чтобы понравиться, не ясно ли, что вы меня спрашиваете, почему не нравитесь мне вы, обладающий столькими совершенствами? Видите ли, что мне нельзя отвечать вам? Вы опять будете упрекать меня, что я удаляю вас от важного разговора…
— Нет, я не буду упрекать вас, мы еще успеем докончить разговор наш, а теперь скажите мне, каков же должен быть мечтаемый вами идеал?
— Но к чему это? Мой бедный кузен! Все герои, о которых мечтают девушки, похожи на заготовленные вопросы; всегда отвечаешь иначе, чем думаешь, и любишь иначе, чем мечтаешь. Есть, однако же, одно необходимое условие. Тот, кого полюблю я, должен быть свободен, т. е., холост.
— Зачем же поражать этим неумолимым остракизмом несчастных мужей?
— Во-первых потому, что я не хочу владеть сердцем в половину. Во-вторых, потому, что влюбленный муж почти всегда смешон: он — амфибия, имеющая качества отпущенного на праздник школьника и возмутившегося отца семейства, и сверх того, вам может быть покажется глупым, но мне кажется, что влюбленный муж похож на женатого аббата.
— Портрет, сделанный вами, не лестен, — сказал, едва удерживаясь, Гонтран.
— Так и вы, — продолжала Урсула, — вы, любезный кузен мой, потеряли все прежнее обаяние. Нет, даже и холостяком, вы имели слишком много и вместе слишком мало, чтобы прельстить меня. Да, конечно. Что вы такое? Вы очень любезный, милый, умный и изящный молодой человек. Любовь же моя, скажу между нами, метила бы выше или ниже.
— Вы сегодня говорите загадками, кузина.
— Вы сегодня очень непонятливы, кузен. Так и быть, скажу яснее: мне надобно раба или деспота. Вы не можете быть ни тем, ни другим: в вас нет ни трогательного самоотвержения, ни приводящего в замешательство и покоряющего превосходства… Если, например, меня полюбит простое, доброе и беззащитное существо, с тем обожанием, которое имеет дикарь к своему фетишу. Я ему могу отвечать на это доверчивое ослепление, тем участливым соболезнованием, которое мы чувствуем к послушной собаке, которая дрожит перед нами, следует за нами взорами, лижет бьющую ее руку. И которая бывает счастлива, если подползши к ногам вашим, может служить им подушкой, после того как вы прогнали ее от себя, вследствие гнева или прихоти.
Но если я встречу когда-нибудь, одного из тех людей, которые неизвестной силою очарования с первого взгляда деспотически овладевают вами, с какою скромною и нежною покорностью, преклонюсь я пред ним! С каким обожанием я полюблю его! Как прикую я к нему мысль свою, волю и жизнь! На коленах, вечно на коленах буду я пред моим повелителем. Радость, горе, надежда, отчаяние, все будет истекать из него и возвращаться к нему. Я сделаюсь покорною, подлою, даже преступною, чтобы услыхать от него одно ласковое слово… Такая любовь может дойти до безумия. До зверства, о! Одна мысль эта… одна мысль эта пугает меня!
Произнеся последние слова прерывистым голосом, Урсула склонила голову и задумалась. Гонтран был оглушен. Я была испугана.
После мгновенного молчания, Урсула провела рукою по лбу, как бы желая прогнать грустные мысли, и сказала с улыбкой мужу моему, который, как остолбенелый, смотрел на нее:
— Вы видите, что не можете быть ни рабом, ни деспотом. Мы могли бы быть друзьями, но и это невозможно. Вы — слишком светский человек, чтобы простить мне свою неудачу. После точного рассмотрения, я вижу ясно, что нам остается одно, быть непримиримым врагами. Не правда ли, этот вывод очень оригинален? Кто бы мог предвидеть, что разговор наш примет такой оборот?
— Совершенно справедливо, — отвечал машинально Гонтран, как бы находясь еще под бременем этого страшного разговора. — Вы правы, это очень оригинально. Но позвольте мне спросить вас, почему вы решились посвятить нам несколько времени?
Урсула, обладавшая в высшей степени переходчивостью характера, снова засмеялась, и, смотря на Гонтрана с удивлением, вскричала:
— Вы, кажется, совсем сошли с ума, любезный кузен? Неужели страсть ваша ко мне так уже сильна, что успела помутить ум ваш? Вы не понимаете причины моего приезда, потому что он не имеет целью, сказать вам: я люблю вас! Опомнитесь: не вам, а моей дорогой Матильде хочу я посвятить время пребывания моего в Маране. Боже мой, как вы на меня смотрите! Как странны мужчины! Если б я призналась вам, что я давно уже имею вероломное намерение похитить вас у жены вашей, я уверена, что вы нашли бы это вероломство естественным. Теперь же вы очень не довольны тем, что я уважаю священные связи дружбы.
— Сударыня…
— Успокойтесь, я не хочу казаться лучшей, чем я есть на самом деле. Поверьте, что нелюбовь моя ко всем женатым вообще и к вам в особенности, избавляет меня от искушения. Конечно, я люблю Матильду от всего сердца, но если бы я почувствовала к вам непреодолимое влечение, я изменила бы доверию лучшей из подруг моих. Наконец, — присовокупила Урсула, смеясь тем саркастическим смехом, который придавал выражению лица ее столько дерзости и презрительности: — у меня тоже есть муж… Пускай прельщают его… Но глупости могут, наконец, надоесть. Поговорим благоразумно: какое слово хотели вы мне сказать, и зачем вы удерживаете меня здесь? Матильда может потерять терпение.
Гонтран, казалось, был выведен из себя насмешками Урсулы. Он довольно грубо отвечал ей:
— О Матильде-то я именно и хотел говорить с вами, сударыня. Хотя я и принадлежу к той смешной породе амфибий, которую называют мужьями, однако ж, жена моя питает ко мне любовь глубокую, искреннюю и непоколебимую.
— Она прекрасно делает и доказывает, что у нее много вкуса. Я смеюсь только над теми мужьями, которые хотят быть любовниками. Вне этого они обладают многими супружескими добродетелями, и вы, любезный кузен, в особенности, обладаете всеми качествами, потребными для того, чтобы понравиться жене.
— Так как я желаю продолжать нравиться жене моей, то был бы в отчаянии причинить ей сильную печаль. Она молода и так ослеплена, что любит меня более жизни. Но так как она не имеет того преувеличенного к себе доверия, которое слепо устраняет всякое соперничество, то она, скажу без околичностей, опасается вас, хотя я и должен признаться, что я — весьма несчастный вздыхатель…
— Все эти слова ведут к тому, что Матильда ревнует вас ко мне, — сказала Урсула. — Так вот та важная тайна, которую вы хотели мне сообщить! Вы, мне кажется, шутите!
— Я уже имел честь сказать вам, что это очень серьезно… Спокойствие Матильды для меня дороже всего на свете…
— Я в этом уверена… Но вам легче, чем кому-нибудь иному разуверить ее. Что касается меня, то я была бы в отчаянии причинить ей, из-за вас, хотя малейшую неприятность. Это было бы непростительно… Это не может доставить мне ни удовольствие угрызения, ни угрызения удовольствия…
— К несчастью, Матильда не подозревает, а уверена. Вчера она видела…
— Что вы поцеловали чепчик мой, да это прекрасно… Я в восторге, я давно уже хотела отмстить ей за то, что она верит наружности. Оставьте ее два или три дня в недоумении, потом я скажу ей: видите ли, злая кузина, что не всегда надо верить тому, что видишь!
— Но разве можно оставить ее в недоумении, да это убьет ее… Вы не знаете всего благородства и ангельской кротости души ее… Вы не знаете, с какой святой горячностью она любит меня… О! Матильда не принадлежит к числу тех холодно насмешливых женщин, старающихся показать презрение к тем чувствам, которые они не в состоянии понять… Нет… Нет… Матильда не принадлежит к числу этих…
— Ненавистных женщин… Чудовища вероломства, которые имеют бесстыдство отказывать в любви мужьям своих лучших подруг! — сказала Урсула, прерывая мужа моего и хохоча во все горло.
Это, казалось, мучило Гонтрана. Урсула продолжала:
— Более мой, как вы забавны. И как похвала Матильде, кстати, помогает вашему негодованию против моей чувствительности! Знаете ли, что презрение мое было необходимо для того, чтоб заставить вас, наконец, похвалить Матильду!
— Вы правы, — вскричал Гонтран, выведенный из себя ее сарказмами. — Я до сих пор не знал цены ее сердцу…
— И какому ужасному сердцу вы хотели им пожертвовать! Не так ли, кузен? Я люблю доканчивать ваши фразы, ведь мы так хорошо понимаем друг друга! Вы в самом деле хорошо делаете, что предпочитаете мне Матильду: во первых, потому, что супружеская верность ваша избавит меня от вашей настойчивости. А потом, признаюсь откровенно, кузина моя в тысячу раз лучше меня. Не прекраснее ли она меня и не обладает ли она столькими качествами, сколько у меня пороков? Не всегда ли будет между нами огромное расстояние? Не осуждена ли она, вследствие ее самоотверженности и добродетелей, испытывать самые искренние страсти и великолепнейшие пожертвования не возбуждая их ни в ком… Между тем как я буду иметь постоянное несчастье возбуждать их…
— Возбуждать, не ощущая, не правда ли? — вскричал Гонтран. — Да, вы правы… Вы — адская женщина… Я боюсь вас…
Урсула пожала плечами.
— Да, повторяю, я буду адской женщиной для тех, которые не будут ни рабами, ни деспотами моими. Если такие люди будут иметь глупость полюбить меня, я измучу их самыми жестокими насмешками, буду ставить их в самые смешные, а может быть, и гибельные положения. Чем упорнее будут они любить меня, тем упорнее буду я смеяться над ними.
— Вы выказываете такую силу ума и характера, — сказал Гонтран, чтобы закончить тяжелый для него разговор, — что мне легко теперь высказать вам то, что я желал.
— Что хотите вы сказать?
— Что между родственниками и друзьями можно говорить откровенно. Я уже сказал вам, что Матильда ревнует вас, что она боится вашего здесь присутствия и что… — Гонтран остановился…
— И что она успокоилась бы, если б я сократила время своего здесь пребывания?
— Извините меня, кузина, но…
— Боже мой, это очень просто. Зачем не сказали вы мне этого прежде? Бедная Матильда! Мне жалко, однако же, с ней расстаться. Да, мне жалко ее, жаль также и охоту вашу, которая так забавляла меня. Может быть, я пожалела бы и о вас, если б вы не говорили мне о любви вашей. Досадно… Но что же прикажете делать с ревностью? Дайте мне несколько дней сроку, чтобы уговорить мужа моего, и я ручаюсь… Но вы не сердитесь на меня, кузен? — сказала Урсула, притягивая Гонтрану дружелюбно руку.
— Нисколько… Но признаюсь вам, что никогда не ждал я от вас подобных речей… Мне кажется, что я грежу.
Урсула продолжала с ироническою улыбкой:
— Я кажусь вам странной, и вы не понимаете меня? Вы не узнаете более ту женщину, которая писала столь плачевные элегии к вашей Матильде, которая, читая их, заливалась слезами, но я также плакала, когда писала их, даже теперь иногда плачу…
— Вы… вы плачете?
— Конечно, особенно тогда, когда ветер с запада и воздух тяжел, как говаривала старушка де-Маран. Не правда ли, я странная женщина? Я говорю обо всём, не зная ничего, я говорю о страстях, не чувствуя их, я бесстыдна, насмешлива, неосновательна… И притом, вы знаете меня столько, сколько я хочу, чтобы вы меня знали: и в добре и во зле, вы еще далеки от истины. В одном только вы можете быть твердо уверены — в моей воле. Так, например: я не красавица, имею более недостатков, нежели достоинств, более болтаю, нежели имею ума, я небогата, ношу прегнусную фамилию, а между тем, не смотря на всё это, я хочу иметь самый блестящий, самый изысканный дом во всем Париже и вскружить все головы, окончив вашей. Теперь прощайте, кузен, я пойду уговаривать мужа, уехать как можно скорее… До зимы мы совершим небольшое путешествие. Я пойду к Матильде в павильон и умолчу о нашем разговоре. Бедняжка! Мне жаль ее… Увы! Если привыкнешь говорить ангельским языком, то плохо приходится на этом свете. Нет, я все-таки предпочитаю свою судьбу ее, не смотря на то, что она имеет неоценимое блаженство, иметь вас своим господином и повелителем.
Она вышла, слегка кивнув Гонтрану и послав ему по воздуху самый обворожительный поцелуй.
И удаляясь, она запела своим тоненьким, свежим голоском, мотив из Фрейшюца.
II. Опасения
Если бы я могла хоть минуту сомневаться в перемене, которую произвело чувство быть матерью в уме моем, вдруг укрепившемся и понявшем новый мир, мысли и страх, возникшие во мне вследствие разговора Урсулы с моим мужем, были бы достаточны, чтоб объяснить мне эту непонятную перемену.
Надо извинить мне уже часто употребленное сравнение, довольно пошлое непостижимое предчувствие говорить бедной матери, бдящей над своими птенцами, что черная точка, почти незаметная, и которую чуть видно в лазури неба, есть хищный ястреб, ее смертельный враг.
Точно так же после разговора Урсулы и Гонтрана я увидела начало нового, ужасного несчастья в этом разговоре, который, казалось, должен был бы меня утешить. Кузина моя не любила моего мужа. Она даже смеялась с презрением над его любезностями, от которых я так страдала… С возмутительной наглостью она выказывалась ему в настоящем своем виде, а может быть, еще и в худшем…
Она признавалась, с величавым бесстыдством, что могла бы быть только низкою рабою человека, который бы ее покорил, гордой повелительницей того, кто бы ее обожал, и неповадной кокеткой для всех тех, которые бы ползали перед ней на коленях или не ставили бы ноги на ее голову.
Еще она сказала Гонтрану, что никогда его не полюбит, потому что любовь женатого человека смешна. Потому что он любил ее: и все-таки она дважды сделала ему дерзкий вызов: Против собственной воли, вы всегда будете меня любить…
Прежде чем сделаться матерью, я бы вышла из своего убежища, блестящая радостью и доверием. Я бы бросилась на колена и сказала бы: «Боже мой! Благодарю Тебя, позволившего этой женщине, коварной и наглой, показаться в настоящем ее виде, во всей низости и злобе души ее! Муж мой впал в заблуждение, увлечённый наружными достоинствами, но теперь он ее знает, и теперь он будет иметь к ней отвращение, он будет презирать ее». Какой мужчина, и Гонтран в особенности, не почувствовал бы, по крайней мере, возмущения своей гордости, услышав, что эта женщина говорила с ним с таким презрением?
Как он, Гонтран, красивый, увлекательный, он, избалованный столькими успехами, столькими обожаниями, стал бы не только любить, но хотя бы заниматься женщиною, которая смела ему сказать: «Я вас не люблю, никогда любить не буду, и прошу вас меня не любить».
Да, повторяю еще раз, я бы стала благодарить Бога. Спокойствие, возвратилось бы в душу мою надолго.
Но, увы! Я уже сказала, что однажды ночью, не знаю почему, я приобрела грустную догадливость, отчаивающуюся уверенность в суждении, которые приобретаются только годами. Я твердо уверена в том, что этот род предугадывания внезапно мне пришел на ум для того, чтобы мог послужить мне к защите будущего моего ребенка. Увы! Боже мой, я была еще очень молода, я никогда еще не рассуждала о ничтожестве человеческого ума, и мне нужна была сверхъестественная сила, чтобы проникнуть в бездну таких ужасных мыслей!
Я верила в добро слепо. Я не имела понятия о тех развратных страстях, которые, вместо того, чтоб искать того, что чисто, благородно, полезно и возможно, напротив постыдно увлекаются прелестями испорченности, бесстыдства, и невозможного.
Могла ли я подозревать, что человек, именно потому что женщина сказала ему: я не люблю вас, я никогда не буду любить вас! Именно поэтому этот человек стал бы обожать эту женщину до безумия!
Нет… Нет, Боже мой! Мне бы сказали, что сердце человеческое способно к таким ужасам, и я бы не поверила, и приняла бы это за порицание.
По какой же тайной причине отгадала я?.. Я, к счастью, вовсе не знавшая этих пороков, разве я отгадала, разве я почувствовала? Да, я физически почувствовала, по ужасному терзанию в сердце, что Гонтран с этой минуты будет любить эту женщину, не только так, как он любил уже многих женщин, не только более, как уже любил ее… Но более, чем когда-либо мог полюбить!
Какой-то тайный голос говорил мне, что это будет его единственною, последнею страстью. Какой-то голос говорил мне, что самые ветреные люди, самые избалованные, когда они полюбят, и особенно полюбят безнадежно потерянную женщину, то они любят с ужасной страстью.
Не зная почему, я почувствовала, что Урсула возбудила все страсти мужа моего, сказав: «Вы красавец, вы прелестны, привыкли нравиться, а я все-таки над вами смеюсь, и вы-таки меня полюбите, и любовь эта будет для меня неисчерпаемым источником насмешек… а для вас — вечным горем!»
Этого еще было мало для этой женщины. Так как ей надобно было поддерживать эту любовь, доводить Гонтрана до восторженности, возбуждая в нем ревность, то она хотела доказать ему, что она не со всеми была так холодна, презрительна, насмешлива, как с ним.
Вот для чего она с такою страстью описала ему, какое сильное волнение овладеет ее чувствами и умом, когда она приблизится к человеку, которого будет любить. При этих словах, запечатленных пылкою страстью и чувственностью, взор ее блуждал, щеки краснели, грудь трепетала…
А когда она говорила о своем обожании к человеку, который будет владычествовать над ней, то с какою грациозною смиренностью, покорно склоняла прелестное чело! Можно было легко представить себе, как она, сложив руки, стояла на коленах, вымаливая у своего владыки улыбку, и глядя на него своими большими голубыми глазами, исполненными мечтательности, грусти и любви…
Увы! Увы… Эта женщина была, верно, очень соблазнительна, потому что даже я, ее соперница, я, ненавидевшая это создание, я поняла, я почувствовала, что не только Гонтран, но может быть всякий мужчина должен был бы влюбиться в эту минуту в Урсулу, столько в ней было очарования и прелестей.
Нет! Нет! Бог не обманывал меня, посылая мне эти странные предчувствия! Показывая мне ужасную грозу, которая готова была разразиться надо мною, Он в бесконечной своей благости хотел, чтоб несчастная мать, если не избегла, то, по крайней мере, приготовилась перенести ужасные несчастья, угрожавшие ей.
Я чувствовала, что изнемогаю, когда вышла из комнаты, в которую спряталась.
Гонтран сидел в креслах с неподвижным взором. Руки его были сложены на груди, он был задумчив. Я вынуждена была слегка тронуть его плечо, чтоб заставить очнуться…
Он живо поднял голову, и сказал мне только, с выражением глубокого чувства: «Какая женщина! Какая женщина! О! Надобно, чтоб она удалилась, Матильда, надобно, чтоб она удалилась!»
Слова эти подтвердили мои подозрения.
В устах Гонтрана, всегда владевшего собою, они имели страшный смысл: он любил эту женщину или боялся полюбить ее.
Мысль, которую я приняла было за вдохновение, подстрекала меня сказать Гонтрану то, что я знала о связи Урсулы с Шопинелем, который, вероятно, у неё находился в сословии рабов.
Во-первых, я не сомневалась в том, что досада оплошать в случае, в котором такой смешной человек имел успех, внушит Гонтрану непреодолимое отвращение к Урсуле. Может быть, Гонтран ценил бы еще более любовь Урсулы, потому что он желал бы быть предметом ее первой любви.
Я также хотела сказать мужу моему, с каким вероломством и коварством Урсула поссорила г. Семерена с его матерью… Я чуть было не рассказала всего, но остановилась. Я спрашивала себя, не раздразнит ли это еще более страсти Гонграна, и тщеславие его не будет ли еще более возбуждено досадою, что с ним обходятся хуже, чем со смешным провинциалом.
Притом он мог подумать, что Урсула добродетельна, не смотря на то, что она объявляла свои бесстыдные теории, и решиться страдать думая, что никто не был счастливее его… Но я боялась, чтобы это последние убеждение не придало еще более прелести моей кузине. Взволнованная столькими огорчительными мыслями, я решилась ожидать минуты вдохновения.
Муж мой впал снова в задумчивость… Я взяла его за руку и крепко пожала се, говоря:
— Благодарю… Благодарю, благородный Гонтран, вы говорили правду… Наконец-то Урсула уедет, и мы будем счастливы и спокойны.
Гонтран горько улыбнулся, и отвечал мне:
— Вы были очень рады, что Урсула со мной так обошлась? Это должно вас успокаивать, я надеюсь.
Не желая, чтоб Гонтран заметил мои опасения, я сказала ему:
— Конечно, друг мой, я успокоена. Но не знаю, почему вы находите, что кузина моя с вами худо обошлась… Ведь она шутила.
— Она шутила? Да если бы и шутила, то не значило ли бы это обходиться со мной с презрением?! В жизнь мою нет, в жизнь мою… Надо мною никто так дерзко не смеялся; а я всё слушал, не находя ни одного слова в ответ. Какая наглость! Какое бесстыдство!
— Но, Гонтран, мне кажется, что самое обидное было то, что Урсула сказала вам, что она вас не любит, и призывает вас тоже ее не любить.
— Как! разве этого не довольно?
— Да, конечно не довольно, потому что вы любите меня, Гонтран. Ваша нежность ко мне мешает вам чувствовать любовь к ней, и вам должно быть все равно, любит ли она вас или нет.
— Конечно, конечно, вы правы… Бедненькая Матильда, я вас люблю… О! да, я люблю вас… Вы добры, великодушны, вы! У вас возвышенная душа, тогда как кузина ваша… Скажите, от чего же она нравится? Маленькое личико, талия превосходная, правда, хорошенькие ножки, большие глаза, то дерзкие, то мечтательные, бойкий насмешливый разговор… Но она не имеет ни души, ни сердца. Притом вероломна, так что ужас… Чем более я об этом думаю, тем более удивляюсь. Можно ли было ожидать от нее этого, от нее, которая, по-видимому, так тиха, нежна? Конечно, я уже видал женщин очень дерзких, очень ветреных, но никогда не встречал ничего подобного: я был ошеломлен… О! Как бы я был рад покорить этакий характер! Какое бы счастье было для меня платить ей презрением за презрение, и насмешкой за насмешку, — невольно вскричал мой муж.
Я закрыла лицо руками, и не говоря ни слова, залилась слезами. Нельзя было сомневаться, что Урсула нанесла верный удар. Гонтран был так занят своими мыслями, что не заметил моих слез.
Он быстро встал, и, ходя большими шагами, продолжал:
— О! Я очень понимаю, что можно сделаться безжалостным, когда достигнешь того, что покоришь себе такой характер, дерзкий, высокомерный… С какой радостью можно тогда унижать, обижать даже, потому что эти гордые создания того достойны! — Потом с принужденным смешком он прибавил: — Да это просто умора, эти претензии! Мадам Семерен, скажите, пожалуйста, мадам Семерен хочет быть модной женщиной, иметь лучший дом в Париже и смеяться над всем светом. А! а! а! Уверяю вас, это очень забавно… Что, вы не находите это очень смешным? Но что с вами? Вы плачете… Матильда!
— Ах! Гонтран, этот разговор будет для нас пагубен.
— Что вы говорите?
— Каждое слово Урсулы заронило в сердце вашем досаду или огорчение.
— Досаду! Огорчение! Потому что мадам Семерен говорит, что я не имею счастье ей нравиться! Друг мой, за кого вы меня принимаете? Я не очень тщеславен. Но не думаю, чтобы достоинство мое пострадало от презрения мадам Семерен. Но что меня более всего забавляет, так это претензия её влюбить меня в себя… Бедненькая моя Матильда, я вам во всем признался. Вы видите, что я сказал вам правду: я находил Урсулу довольно миленькою, и говоря ей любезности, я против воли увлёкся… Но это был не более, чем каприз. В этой женщине ничего нет, решительно ничего… Я влюблен в нее, я! Я жалею глупцов, которые будут иметь несчастье попасться в ее сети… Влюблен в нее! Ах, это был бы ад… С таким характером… Я влюблен в нее… Я! Я! — Потом Гонтран обратился ко мне с выражением, увы, которое показалось мне рассеянным и принужденным: — Я! Влюблен в нее! Разве я не имею подле себя женщины в тысячу раз лучше ее… Разве у меня нет лучшей и самой преданной жены… Ангела кротости и доброты!… Бедная Матильда! Как могли вы хотя на минуту бояться сравнения? Вы, вы…
И он снова задумался.
Последние его похвалы чрезвычайно меня огорчили.
Они напомнили мне ужасные слова Урсулы: «Я должна показать вам свое презрение, чтоб заставить вас хвалить вашу жену».
Кузина моя была права, Гонтран хвалил меня от досады.
— Всего важнее для нас то, что Урсула уедет из Марана. Через несколько дней, она легко может уговорить г. Семерена.
— Конечно, пусть уедет; чем скорее, тем лучше.
— Друг мой, — сказала я Гонтрану, после минуты молчания, — позвольте мне говорить с вами откровенно.
— Я слушаю вас, моя милая.
— Не находите ли вы странным то, что этот разговор, который бы должен был успокоить вас и меня, произвел на нас совсем противоположное действие?
— Как это, я не понимаю вас?
— Урсула сказала, что она вас не любит и никогда любить не будет, что любезности ваши ни к чему не поведут, что она поспешит уехать… И все-таки вы видите, я плачу… И все-таки вы не можете скрыть вашего волнения.
— Ах! Боже мой! — вскричал Гонтран с нетерпением… — Это очень просто… Вы плачете, потому что вы обо всем плачете… Я взволнован потому, что есть такие вещи, которые трогают самолюбие… Что вы об этом скажете? Хотите вы повторять слова Урсулы, и говорить, как она, что я влюблен в нее? Это пустяки, только я не привык, чтобы надо мной так смеялись: вот все. Есть тысяча средств объяснять вещи. Если бы она мне просто сказала: я с вами немного кокетничала, забудемте это. Останемся друзьями: если мое присутствие возбуждает ревность Матильды, то я уеду… Ничто не могло бы быть лучше. Но к чему изъявление всех этих правил, и каких же правил! Зачем говорить мне, что если я ей не нравлюсь, то другие будут ей нравиться? К чему с такою страстью описывать мне ее упоение в этом или в другом случае? Непонятная женщина! И в самом деле, в ту минуту она казалась мне тронутою… Право, я не понимаю… Это загадочное существо… Но пусть не я, а кто другой старается ее разгадывать, и я желаю ему веселья! Притом у неё железная воля… Она хотела выучиться ездить верхом, и ездит превосходно. Она хочет быть будущей зимой самой модной женщиной Парижа, и она очень способна преуспеть в этом: она имеет всё, что для того нужно…
— Друг мой, за минуту, вы говорили совсем противное. Вы только что говорили, что это была смешная претензия с ее стороны.
— Ах! Боже мой, моя милая… Если вы будете поминутно разбирать малейшее мое слово, это сделается несносным, — сказал мой муж, сильно топнув ногой. — Я говорю вам со всем возможным доверием, не ищите в моих словах скрытого смысла. — Я посмотрела на Гонтрана с грустным удивлением.
— Друг мой, я вам сделаю одно замечание… С тех пор, как мы с вами говорим, вы беспрестанно говорили об Урсуле, а еще ничего не сказали о нашем ребенке…
Муж мой провел руками по лбу, и с чувством вскричал:
— Бедная, прекрасная женщина… Это-таки правда, ах! Это очень худо, да очень худо, простите Матильда… Послушай, слова твои призывают меня снова к моей обязанности, к моей любви. Эти слова меня успокаивают, и исцеляют меня от глупой и смешной раны, нанесенной моему самолюбию. Ну что же! Да, прости мне эту последнюю вспышку гордости. Да, я немного досадовал на то, что не произвел ни малейшего впечатления на Урсулу. Знаешь от чего? От того, что жертва, которую я бы тебе сделал, была бы значительнее. Поверь мне, мне очень легко будет забыть эту негодную женщину. Ты права, ангел мой. Наш ребенок… Будем думать о нашем ребенке. С этой сладостной надеждой и любовью моею к тебе, которая должна всегда быть уверена во мне, счастье нам достанется легко. Извините меня, что я принял близко к сердцу слова Урсулы: но она насмехалась надо мной при вас, и я не скрываю от вас, что я очень горд с тех пор, как принадлежу вам. Однако же, так как вы все еще меня любите, не правда ли? То не будем более вспоминать об этом смешном происшествии, как только для того, чтобы смеяться надо мной, или нет, лучше станем говорить о нашем ребенке: эти сладостные разговоры будут нашим щитом от дурных мыслей.
Приезд одного из наших фермеров прервал наш разговор. Гонтран вышел. Первым чувством после этих нежных слов было чувство радости: потом мне казалось, что голос его был отрывист, что взгляд его не согласовался со словами.
Можно было подумать, что он старается заглушить себя, и успокоить меня несколькими нежными словами. Однако же в голосе его было что-то трогательное, проникающее. Все-таки, чем более я рассуждаю о впечатлении, которое произвела на него Урсула, тем более вижу опасность. За несколько дней до этого, я бы стала плакать, потом попробовала бы тихо и тщетно жаловаться. Но теперь на мне лежали новые обязанности, я хотела совершенно переменить своё поведение. Я поняла, что должна опасаться сильных огорчений, действия которых могли бы быть пагубны для моего ребенка. Я дала себе слово впредь никогда не сердиться по пустякам, и не предаваться моральным страданиям, словом, быть, так сказать, умеренной в огорчениях.
Настоящие обстоятельства должны были подвергнуть мое решение тяжкому испытанию. Я утерла слезы и хладнокровно подумала о моем положении. С этой минуты, чтобы не быть подавленной неосуществимыми надеждами, я старалась храбро смотреть на жизнь с ее мрачными оттенками.
Я не обманываюсь в причине этой храброй решимости. Я обладала сокровищем счастья и надежд, которого ничто не могло лишить меня…
Каково бы ни было будущее, дитя мое оставалось мне. Я твердо была уверена в том, что Бог посылал мне это утешение, как священную награду за мою преданность к моим обязанностям.
Эта слепая вера в божественное покровительство мешала мне иметь малейший страх о будущей жизни этого маленького существа, которое удваивало мое существование, и должно было заставить забыть мои страдания. Я начертала себе план поведения, с твердым намерением не отступать от него.
Урсуле достаточно было недели, чтоб уговорить мужа своего оставить Маран. И если по истечении недели она бы еще не уехала, и я бы уверилась, что ее притворное презрение было только действием кокетства, то последовала бы советам мадам де-Ришвилль.
Когда я осталась одна с Гонтраном, я наделялась нежностью и участием, которое должно было внушать ему мое положение, я надеялась, говорю я, исторгнуть Урсулу из его мыслей.
Но если бы любовь его увеличилась от препятствий. Если бы я изнемогла от борения моего против влияния этой ужасной женщины всеми силами моей любви и преданности, я изнемогла бы, по крайней мере, благородно: дитя мое осталось бы мне, и я для него одного стала бы жить.
Я не могу описать спокойствия и уверенности, которые мне внушила эта решимость. Мне уже не приходили на ум, как бывало прежде, эти неопределенные опасения, эти огорчения без цели и предела. Потому что прежде… Без любви Гонтрана мне ничего не оставалось, ничего, кроме ужасного отчаяния. Ничего, кроме бесцветной жизни. Ничего, кроме слабых воспоминаний, которые, но сравнению, делали бы настоящее еще грустнее.
Я преклонила колена, чтобы благодарить Бога за то, что я не забылась в пагубной доверенности.
Не унижая себя до шпионства, я, однако же, обещала себе, все замечать, не пропуская ничего, что могло бы меня просветить.
III. Мадемуазель Де Маран
На другой день, после этой сцены, каково было мое удивление, когда я получила небольшое письмо от мадемуазель де-Маран! Она писала, что приедет ко мне тотчас вслед за письмом и сама объяснит мне причину своего приезда.
Можно было подумать, что эта женщина, инстинктивно постигнув новые горести, которые меня угнетали, нарочно хотела быть со мною, чтобы насладиться моими страданиями. Встреча ее с Урсулою пугала меня.
Если она злобно надеялась, предвидела, рассчитала, что рано или поздно, Урсула, играя важную роль в моей жизни, будет питать ко мне неприязненные чувства, она должна была быть удовлетворена и могла сделаться союзницею моей кузины.
Я с грустью размышляла о том, что свет так устроен, что мы часто бываем вынуждены принимать к себе самых злейших врагов своих только потому, что они находятся с нами в родстве, которое, впрочем, делает нашу неприязнь еще отвратительнее.
Я сообщила Гонтрану о скором приезде моей тетушки. Он принял эту новость довольно равнодушно, но я не разделяла его спокойствия. Подобное путешествие было действием столь необыкновенным для моей тетушки, которая в продолжение пятнадцати лет не выезжала из Парижа, что я подозревала ему какую-нибудь важную причину.
Тетушка моя приехала около двух часов, сопровождаемая Сервиеном, одною служанкой, двумя лакеями, из которых один служил ей почтальоном, и огромной собакой, наследовавшей Феликсу. Мы встретили их у подъезда замка.
Ничто не переменилось в тётушкиной наружности. На ней по-прежнему был шелковый капот цвета кармелитского ордена. Не смотря на грустные мысли, занимавшие меня, я не могла не улыбнуться от удивления, увидев, что капот мадемуазель де-Маран украшен был трехцветным бантом. На шляпе Сервиена была такая же кокарда.
Тетушка заметила мое удивление и воскликнула, входя в комнату:
— Вы, без сомнения, удивляетесь, что я еще не затянула Марсельезу, Паризьен или какую-нибудь другую республиканскую песню… Не правда ли, я очень похожа на отчаянную республиканку с моими трехцветными лентами? Вы, может быть, думаете, что я приехала объявить вам о браке моем с г-м де-Ла-Файетом, который совершится пред алтарем отечества? Так знайте ж, что вы ошибаетесь! Посмотрите, как я их уничтожу, эти прекрасные трехцветные ленты! — И говоря это, тетушка сорвала бант с своего капота, с комической яростью истоптала его ногами и бросила в пылавший камин.
— Превосходно, превосходно! — говорил Гонтран, помирая со смеху: — а я так думал, что вы примирены с республиканцами.
— Как, примирены? Вот прекрасно! Не насмехаетесь ли вы уж надо мной, г. де-Ланкри? Уверяю вас, что если я решилась надеть эти скверные цветы, от которых несет чернью, империей и гильотиной, так это только для того, чтоб спокойно путешествовать.
— И ваш роялизм не возмутился от этой уступки? — сказал Гонтран.
— Какое дело до того моему роялизму? Кто разбирает средства к спасению, когда они верны? Во времена гражданина Картуша и Мандрина, я бы, конечно, не отвергла паспорта, подписанного этими господами, чтоб спокойно проехать через их шайки. Эта отвратительная кокарда играет роль паспорта… Я пользуюсь ею, и в то же время презираю ее… Понимаете ли вы?
— Как нельзя лучше. Но какому счастливому случаю обязаны мы вашим посещением?
— Да, представьте себе, друг мой, что они собираются судить, то есть, осудить этих несчастных министров. В Париже всякой день возмущения. Кажется, хотят возобновить ужасы 93-го года. Я упрятала все мое серебро в такое местечко, что сам черт его не отроет, а мои бриллианты и пять тысяч луидоров, везу в двойном дне моей кареты, сама же я буду ожидать здесь новых переворотов. Если волнение утихнет, ворочусь в Париж, если усилится, еще раз удалюсь в Англию. В настоящее же время Париж решительно невыносим. Все мое общество переполошилось и разбежалось, и, признаться, было от чего. Иные последовали за нашим бедным королем и за супругой дофина. Другие отправляются в Вандею, третьи, наконец, спасаются кто как может: этот в Италию, тот в Германию, как во времена первой революции. Признаться, я скучала в Париже, но страх растормошил меня, и он-то доставил мне счастье обнять вас, любезные мои дети. Я так люблю любоваться вашим милым хозяйством! Это радует мне душу. Смотря на него, я говорю себе: я причиною тому, что эти два сердца, столь хорошо одно для другого созданные, соединены цветущею цепью. Ха… Ха… Ха! Каково действие деревни! Я начинаю говорить, как эклога… Да где же ваша свирель, прекрасный Сильван? Я бы желала воспеть ваше счастье на двуствольной флейте аркадских пастухов!
Веселость мадемуазель де-Маран пугала меня. Ее едкий и резкий смех всегда предвещает какой-нибудь злобный поступок. По своему обыкновению, тетушка, при входе в комнату, надела очки, хотя она не намеревалась ни читать, ни писать. Но они были ей полезны, потому что, так сказать, скрывали ее взоры: под защитой стекол она могла наблюдать так, что другие этого не замечали. Я заметила, что разговаривая, она внимательно наблюдала за физиономией моего мужа и моею.
— А что Урсула? — сказала мадемуазель де-Маран: — имеете ли вы об ней известие?
— Вот уже несколько дней, как она здесь со своим мужем, — отвечала я.
— Возможно ли! Так мы составим здесь препорядочную семью. Как же кстати я приехала. Да где же она, моя милая Урсула?
— Она гуляет с г-м Семереном и, надеюсь, скоро вернется, — отвечал Гонтран.
— Гуляет со своим мужем? А вы, Гонтран, беседуете со своею женою? Да здесь просто обетованная земля для супругов. Да, это так сентиментально, патриархально, что просто можно разнежиться… Гуляет одна со своим мужем, да это премило с ее стороны, потому что он глуп, как лошадь, и с ним так же трудно разговаривать, как с пнём… Но скажите мне, мои любезные дети, всегда ли они живут в таком согласии?
— Вы найдете много перемен в Урсуле, — сказала я, горько улыбаясь.
— Много перемен! Не подурнела ли уж она?
— О, нет! Она все так же прелестна, как и прежде, но характер ее очень развился, и она совсем не так грустна, как прежде.
— Ха, ха, ха… Я невольно смеюсь при мысли, как ослепляло меня мое пристрастие к вам, Матильда… Помните ли вы, как я на каждом шагу бранила Урсулу и говорила, что она не хороша собою. Теперь я могу откровенно сказать вам это, мои любезные дети. Надо признаться, что это была ужасная несправедливость с моей стороны, потому что я находила в душе, что Урсула и умна и хороша, и мне даже казалось, будто лицо ее выразительнее вашего, моя милая Матильда… Не подумайте, впрочем, моя милая, чтоб Урсула была прекраснее вас. Напротив того, она никак не может поспорить с вами в правильности черт лица, но она имеет в себе нечто резкое, завлекательное, и это-то нечто делает то, что она хоть кому вскружит голову.
И говоря это, мадемуазель де-Маран указывала на Гонтрана и покатывалась со смеху. Потом нагнулась к моему уху и сказала в полголоса:
— Уж не возбуждает ли в вас ревности эта Урсула? Смотрите, остерегайтесь этих смиренниц, у которых улыбка кающейся Магдалины, а взоры Венеры Афродиты!
Как бы ни старалась моя тетушка обидеть меня, она не могла бы придумать ничего оскорбительнее. Это обстоятельство заставило меня подумать, что случай так же часто приходит на помощь душам злобным, как и великодушным.
Даже Гонтран, не смотря на все свое хладнокровие, был поражен мрачными шутками мадемуазель де-Маран. Он мог только пробормотать:
— Неужели вы думаете, сударыня, что я могу быть неверен моей милой Матильде? Вы сами говорили, что мы можем служить образцом счастливого супружества.
— Да разве вы не видите, что я шучу? Вот прекрасно! Если бы вы были ей неверны… На даче это было бы не простительно. В Париже, дело другое: большой свет, случай… прекрасная княгиня Ксерника… Но здесь, это было бы скверно. Бедная моя Матильда… Вы, которая были всегда так добры к Гонтрану…
Я побледнела. Гонтран выпрямился, как будто его ужалила змея, и обращаясь к мадемуазель де-Маран, сказал:
— Сделайте милость, сударыня, не говорите об этом, не напоминайте мне столь тягостное происшествие…
— Как! Вы хотите, чтоб я не говорила об этом! О, неблагодарный! Так я скажу вам, что я хочу, и что я буду говорить об этом. Найдите-ка мне другую женщину, которая, чтоб прельстить кредитора своего мужа, подвергла бы опасности свою репутацию! Да это просто удивительное великодушие, друг мой.
— Это отвратительная клевета! — вскричал Гонтран: — и я уже сказал это при всех в лицо этому подлецу.
— Боже мой! Я уверена, что это клевета, и очень хорошо знаю, что Матильда так же чиста и невинна, как лебедь, только что вылупившийся из яйца, но…
Я видела, куда клонился разговор, который хотела завязать мадемуазель де-Маран, и перебивая речь ее с твердостью, которая, кажется, очень удивила ее, сказала:
— Вы сделали нам честь пожаловать сюда, мы всегда будем очень счастливы иметь вас у себя, никогда не забудем, что дом этот принадлежал вашему брату и будем всячески стараться сделать ваше пребывание здесь, как можно более для вас приятным, но да будет и нам позволено надеяться, что вы не будете стараться возбуждать в нас воспоминаний, тягостных и для моего мужа и для меня.
— Но, моя милая…
— Но, я, сударыня, прошу вас, — сказала я, возвышая голос, и снова перебивая старушку: — не говорить ни слова о подлой клевете, к распространению которой вы много содействовали. Надеюсь, это не будет слишком большой жертвой с вашей стороны. Если вы исполните это, мы будем вам очень благодарны, и вам, без сомнения, будет приятно видеть счастье и согласие тех, которых в противном случае вы бы раздражили и разъединили…
Мое хладнокровие и спокойствие произвели на мадемуазель де-Маран и на Гонтрана удивительное впечатление. Тетушка после некоторого молчания иронически возразила, пристально гладя на Гонтрана:
— Так теперь уже Матильда говорит мы? Так видно, мой бедный граф, что власть перешла от мужа к жене?
— Матильда говорит отчасти за меня, но главное за себя, — сказал Гонтран. — Я присоединяюсь к ней, чтобы просить вас забыть происшествия для меня неприятные, но я никогда не осмелюсь предписывать условия для вашего пребывания здесь. — Говоря это, Гонтран строго посмотрел на меня.
Хотя я вовсе не ожидала, чтобы муж принял сторону тетушки, но я не унывала, и, довольная своею твердостью, продолжала:
— Я предписываю условия не вашего пребывания здесь, сударыня, но моего собственного. Я уже имела честь говорить вам, что всегда буду помнить, что вы — сестра отца моего, и что вы находитесь здесь у г. де Ланкри. И если шутки ваши будут таковы, что мне нельзя будет сносить их, то я попрошу вас извинить мое отсутствие, и тотчас уеду в Париж.
В моих словах было столько твердости, что мадемуазель де-Маран закричала:
— Я уверена, что она сделала бы так, как говорит, мой бедный Гонтран! Я совсем не узнаю жены вашей. Что же с ней такое сделалось?
— Это очень легко объяснить. Дело в том, что мне нужно не страдать более, что я решилась употреблять все возможные старания для избегания дурных мыслей.
— Прекрасно, так вы хотите отдохнуть, поберечь себя.
— Да, сударыня… Мне необходимо поберечь себя…
Нежный взгляд, брошенный на меня Гонтраном, доказал мне, что он понял меня.
Мадемуазель де-Маран иронически продолжала:
— И так, душа моя, решено, мы составим список того, что мне воспрещается. 1-е, Люгарто и относящиеся к нему клеветы, 2-е, измена Гонтрана в пользу княгини Ксерника, 3-е, всякое сравнение, могущее заставить думать, что я признаю превосходство Урсулы над вами, 4-е, наконец, все возможные намеки на угодливость, которую проказник муж ваш вздумает расточать Урсуле, вопреки ее глупому супругу… А, да вот и он сам… Боже мой, как это кстати!
В эту минуту Семерен с женой своей вошел в гостиную.
— Вот тебе раз! — вскричал он весело: — Наша добрая мадемуазель де Маран здесь.
— А мы сейчас только говорили о вас. Здравствуй, Урсула, здравствуй, душечка, — сказала тётушка, вставая и целуя Урсулу в лоб: — как счастлива я, что вижу вас вместе! Я всегда мечтала о том, что вы будете жить как две сестры и как можно реже расставаться.
— Даже совсем не расставаться, если возможно, — вскричал г. Семерен. — Ничто не может сравниться с семейной жизнью, на правда ли, мадемуазель де-Маран? Вы должны понимать это, вы, которую я привык называть сливками женского пола!
— А! Г. Семерен! Я опять начну бранить вас, если вы будете продолжать называть меня сливками. Во-первых, это противно моей скромности, а во-вторых, я, как аристократка, не могу слушать подобных выражений. Разве могут существовать подобные отличительные слова после славных июльских дней, установивших равенство, братство и свободу? Называйте меня просто доброй женщиной, а не сливками, если хотите, чтоб я не возмутилась.
— Согласен и на это, пусть будете вы просто доброй женщиной, вы в самом деле так добры, — присовокупил г. Семерен вдруг сделавшись серьезным, — что вы напоминаете мне добрую мать, так как она напоминала мне некогда вас.
— Это сравнение делает честь мне, вашей матушке и в особенности вашей правдивости, мой добрый г. Семерен. Но жива ли ваша матушка? Не имели ли вы несчастья лишиться ее?
— Нет, благодаря Богу, она еще жива… Но многое изменилось с тех пор, как мы с вами не видались.
— Что же это такое? — расскажите мне скорей. — Вы знаете, сколько я принимаю участия во всем, касающемся до вас.
Тщетно Урсула, опасаясь нескромности мужа своего, старалась заставить замолчать его знаками, он не замечал их и продолжал:
— Мы с матушкой разъехались.
— Неужели! Но по какой же причине?
— Потому что она озлобилась на Урсулу и вообразила себе, что бедная женка моя позволяет любить себя Шопинелю, который, впрочем, был сменен июльской революцией.
Насмешливо-комическая физиономия мадемуазель де-Маран сделалась вдруг важною и строгою. Она сказала г-ну Семерену:
— Сомневаться в Урсулиной добродетели, значит сомневаться в нравственности воспитания и в прочности правил, мною ей данных. Должно быть, матушка ваша была сильно предубеждена против Урсулы, поверив такой чудовищности… Вы знаете, что привязанность не ослепляет меня, а я могу поручиться вам за Урсулу. Если даже обстоятельства и будут против нее… И тогда не верьте им: бедняжка любит вас более, нежели вы можете себе представить.
— Ах! Сударыня, — вскричал г. Семерен, — вы всегда будете для меня целительным бальзамом. Клянусь вам честью, что я никогда не сомневался в моей Урсуле, но если б это случилось, то ваши слова совершенно рассеяли бы мои подозрения.
— Сударыня, — сказала Урсула, — вы слишком добры и снисходительны.
— Совсем нет, я только справедлива, и отдаю должное. Мне так весело смотреть на любовь вашу. Вы не можете представить себе, как мне приятно, что оба семейства ваши так понимают друг друга. Это трогает меня до такой степени, что я не могу вам выразить этого. Но более всего в вашем сближении нравится мне то, что будущность еще более, укрепит связь вашу, — что вы, одним словом, так тесно соединитесь, что составите одно семейство. Это будет сообщество, братство, в роде Мелимел, Отанти или золотого века, в котором нет собственности, а всё общее. Не правда ли, мой добрый г. Семерен?
— Совершенная правда, — отвечал он смеясь, — только нам с женой, это сообщество будет чересчур выгодно.
— Откиньте, пожалуйста, вашу скромность. Разве говорят так с друзьями? При том же, если Гонтран будет смотреть на жену вашу, как на свою собственную, разве Урсула не любит Гонтрана? Что же толкуете вы о выгодах?
— Вы правы, сударыня, вы абсолютно правы, — вскричал весело г. Семерен.
— Но знаете ли, мой любезный г. Семерен, что вы удивительно переменились, вот что значит иметь добрую и хорошую жену! Вы всегда имели много достоинств, но вам не доставало несколько тонкости и деликатности, которыми вы теперь владеете вполне. Вы стали другим человеком. Ваша неловкость и излишняя откровенность поумерились и уступили место чрезвычайно изящному обхождению. Но только прошу вас не гордиться этим, ведь вы в этом нисколько не виноваты…
— Как, сударыня?
— Конечно, чем виновата груша, когда на ней растут привитые яблоки. Точно так и вы сделались учтивым и любезным, потому что вот эта садовница привила к вам эти качества.
— Сравнение чрезвычайно верно, — вскричал г. Семерен: — она привила ко мне…
— Конечно, конечно. Да она вам и не то еще привьет, — присовокупила мадемуазель де-Маран, так злобно улыбнувшись Урсуле, что я догадалась, что она скрывает под словами своими ещё какую-нибудь едкую шутку.
— Но, может быть, вы только смеетесь надо мною? — спросил г. Семерен.
— Я готова отказаться от всех своих достоинств, но твердо постою за свою правдивость, — отвечала мадемуазель де-Маран; — зачем бы мне говорить вам это, если б я этого не думала? Щадила ли я вас, находя в вас недостатки?
— Нет. Это правда. Итак, я верю вам, и хочу вам верить. Если я переменился к лучшему, то этим обязан я Урсуле. Но откровенно признаюсь вам, что я этого не замечал.
— Ваша робкая и милая скромность освящает слова мои, мои добрый г. Семерен. Но я умолкаю, боясь, чтобы Урсула не возгордилась, за себя и за вас. До свидания. Я попрошу Матильду, чтобы она проводила меня ко мне, я устала от дороги, не считая того, что проклятая трехцветная кокарда ужасно меня расстроила. Я уверена впрочем, что тихая сельская жизнь и вид счастья исцелят меня. Итак, оставляю вас вашей любви, а сама поплетусь в свою комнату.
IV. Воспоминания детства
Я никак не могла отгадать причин внезапного приезда тётушки. Я старалась уверить себя, что то, что она мне сказала, одно побудило ее приехать; газеты, получаемый нами из Парижа, в самом деле, извещали о довольно важном волнении, происшедшем там.
Однако же тетушкин страх казался мне преувеличенным. Я пугалась, допуская, что другая причина заставила ее приехать в Маран. Присутствие ее предвещало мне новые несчастья.
Я внимательно наблюдала за Гонтраном, он был рассеян и задумчив.
Урсула неоднократно избегала случая остаться со мной наедине. Я с нетерпением ждала ее отъезда. Я не знала, приготовила ли она мужа своего к удалению из Марана. Я несколько раз говорила об этом Гонтрану, Тот отвечал мне, что кузина моя должна поступать осторожно, чтобы разрушить предприятие, столь давно обдуманное, но что она надеялась обделать всё в несколько дней.
Я не хотела открывать Урсуле и тётушке своего состояния, потому что хотела наслаждаться счастьем своим, как можно долее, и держала его в тайне.
Тетушка продолжала смеяться над г. Семереном и, казалось, внимательно наблюдала за Урсулой и моим мужем. Она не изменяла своему обещанию и не упоминала о прошлом, возбуждавшем во мне столь тяжкие воспоминания. Вероятно, она знала, что я тоже исполню свое обещание и скорей уеду из Марана, чем решусь терпеть новые вероломства. Она была слишком проницательна и догадлива, чтобы не заметить значительной перемены в обхождении Гонтрана с Урсулой. Он, прежде столь веселый, воодушевленный и блистательный, сделался вдруг задумчивым и раздражителен, а иногда был мрачен и печален. Со дня на день увеличивалось беспокойство мое. я боялась, чтобы предчувствие мое не исполнилось и чтобы склонность мужа моего к моей кузине, раздраженная ложным ее равнодушием, не перешла в страсть. Снова появилась на лице его судорожная, грустная улыбка, не появлявшаяся со времени избавления его от влияния Люгарто. Несколько раз заставала я его ходящим большими шагами по парку. Однажды я застала его плачущим… Редко говорил он со мной сухо, напротив он стал нежнее обыкновенного.
Увы! Эта доброта доказывала мне, что он страждет.
Когда Урсула была со мною и мужем моим, то старалась казаться безумно веселой, и тем еще более раздражала грусть мужа моего. Она воодушевлялась тем же насмешливым цинизмом, который употребила в разговоре с Гонтраном, с тою только разницей, что при муже своем, она приписывала чувства свои какой-то мечтательной героине романа, судьбе которой она завидовала.
Не могу не сознаться, что в разговорах этих Урсула выказывала необыкновенный ум и истинное превосходство свое над Гонтраном. То, что я чувствовала к ней, было странно и невыразимо. Я ненавидела ее и за то, что она заставила мужа моего полюбить себя, и за то, что она зло смеялась над его мучениями. Если б она разделяла чувства Гонтрана, то я была бы, может быть, гораздо несчастливее, но уж верно менее бы боялась. Постоянная насмешливость Урсулы доказывала ее равнодушие и полное преобладание над Гонтраном, которого я так боялась.
Спустя несколько дней по приезде тётушки, я однажды утром была разбужена стуком въезжавшей на двор кареты. Но так как скоро снова все умолкло, то я подумала, что ошиблась, и снова заснула. Блондо вошла в мою комнату. Я спросила ее, не слыхала ли она чего-нибудь утром.
Она отвечала, что слышала стук кареты г. Семерена, который уехал в четыре часа утра.
— С Урсулой? — спросила я.
— Нет, сударыня. Г. Семерен уехал один в Сен-Шаман, куда призывали его дела.
Я приказала попросить к себе Урсулу.
Через несколько мгновений она вошла.
— Муж ваш уехал без вас?! — вскричала я.
— Боже мой, как сердито говоришь ты это, милая Матильда. Что же удивительного в том, что он уехал?
Я была поражена ее дерзостью.
— Конечно, это очень просто, — продолжала она. — Вчера, когда мы пришли в нашу комнату, муж мой заговорил, по своему обыкновению, о делах. Вдруг вспомнил он, что в Сен-Шамане есть продажные земли, соседние с нашими, которые он хотел приобрести. Не желая беспокоить никого, он сегодня утром послал за лошадьми и уехал, прося извинить его перед тобою. Он скоро вернется и воспользуется своим отсутствием, для того, чтобы осмотреть одну из земель наших, находящуюся близ Сен-Шаман.
Я пришла в негодование, ибо Урсула, вероятно, с намерением пропустила этот удобный случай уехать из Марана и, стало быть, имела виды на Гонтрана. Подозрения мои всё более и более оправдывались. Я слишком давно скрывалась от кузины моей, и потому не могла долее притворствовать. Я не сочла нужным утаивать от нее долее о присутствии моем при разговоре ее с Гонтраном, и сказала ей:
— Что же удерживает вас здесь, если вы не воспользовались отъездом мужа вашего, чтобы вместе с ним удалиться отсюда?
Верная своей системе, Урсула продолжала притворствовать и сказала мне, с выражением грустного удивления:
— Но что же все это значит, Матильда? Я, право, не знаю, что мне думать. Ты называешь меня вы и говоришь об отъезде моем отсюда, как будто присутствие мое тяготит тебя!
— Это значит, что неделю тому назад, я слышала разговор ваш с мужем моим. Я сказала Гонтрану, что его угодливость с вами огорчает меня, и он предложил мне просить вас, оставить Маран. — Я не могла воздержаться, и придала последним словам моим выражение гордого торжества.
Урсула слегка нахмурила брови и грустно улыбнулась:
— Итак, — сказала она, пристально глядя на меня, — твой муж знал, что ты присутствовала при нашем разговоре?
— Знал… Понимаете ли вы теперь? Понимаете ли вы, что меня удивляет то, что вы остались здесь, не смотря на обещание ваше, данное моему мужу?
— Ну, если ты все слышала, то я чрезвычайно рада этому. Надеюсь, что ты осталась довольною.
— Я?
— Конечно, ты же видела, что я поступила с твоим мужем-изменником так, что он не будет впредь изменять тебе. Можно ли было поступить лучше? Стараясь выказать себя в самом невыгодном свете, я рисковала переменить любовь его в равнодушие и даже в ненависть.
— И вы думаете, что успокоили меня этой ложью?
— Ложью? Но ведь ты все слышала… Припомни же слова мои. Клянусь тебе, что я не ожидала, что награда за мою добродетель была так близка от меня! — прибавила она, громко смеясь.
Теперь она была откровенно насмешлива и зла.
— Выслушайте меня, — сказала я ей: — Теперь не время насмехаться и разговор наш будет важен; он будет, может быть, последним между нами.
— Я сомневаюсь в этом, — вскричала повелительно Урсула; — ведь вы и муж ваш должны еще отдать мне отчет в вашем бесчестном со мною поведении.
— Что хотите вы сказать?
— Скрывшись для того, чтобы подслушать разговор, который я почитала тайным, вы изменяли нашему доверию, вы делали меня своею игрушкою… Знаете ли, что я, может быть, захочу отмстить за себя!
— Я предпочитаю эти гордые слова вашей сладкой меланхолии, которая так долго меня обманывала. Я теперь, по крайней мере, уверена, что вы мой враг… Тем лучше…
— Я вовсе не желаю быть врагом вашим. Вы дурно поступили со мною, и я имею право жаловаться на это и даже отмстить за себя: вот и все.
— Но не стараетесь ли вы, с самого приезда вашего сюда, посеять в этом доме раздор?
— В чем можете вы упрекнуть меня? Могу ли я запретить вашему мужу любить меня? Что мне делать, как не смеяться над ним, чтобы отнять у него всякую надежду, и даже обещать уехать отсюда, потому что вы оба этого желаете?
— Отчего же не уехали вы сегодня утром? Случай был удобный. Я говорю вам, что если бы вы имели, в самом деле, намерение, отнять у моего мужа всякую надежду, то не сказали бы ему: «я никогда не полюблю вас, но страстно буду любить других». Если б вы просто сказали ему: «я хочу быть верной своим обязанностям. Жена ваша друг мне и сестра, никогда не решусь я изменить ни ей, ни моему мужу» — эта речь была бы достойна и благородна… а не вероломно рассчитана.
— Позвольте мне самой судить о приличии и смысле слов моих. Ревность — дурная советница, и, мне кажется, что она вводит вас в заблуждение.
— Нет, нет… она просвещает меня…
— Вы слишком много имеете участия в этом вопросе, чтобы беспристрастно решить его. Говоря с вашим мужем, как я говорила, я отняла у него всякую надежду. Мужчины не верят нашим правилам, но верят нашему равнодушию.
— Я не сомневаюсь в вашей опытности в этом отношении, Урсула. Но есть средство непреложное к разрыву связи, это — отсутствие.
— Это средство хорошо, но не всегда.
— Стало быть, вы остаетесь здесь из равнодушия к мужу моему?
— Конечно, я даже сказала ему, что чувствую к нему отвращение… Вы сами слышали… чего ж еще хотите вы?
— Хорошо! Предположим, что страх мой и подозрения преувеличены, но не обязаны ли вы прекратить их, уехав отсюда?
— Невозможно с большею учтивостью выгонять людей. Однако ж, я позволю себе сделать вам в свою очередь несколько замечаний: вы чувствуете, вероятно, что если я не уехала сегодня утром с моим мужем, то меня принудили к этому важные причины.
— Но разве спокойствие мое и жизнь ничего для вас не значат, что вы так зло их возмущаете!
— Я радуюсь, Матильда, что вы много о себе думаете, вам не покажется странным, что я позволяю себе думать несколько о себе самой. Два раза намекала я мужу своему об отъезде. Он был этим удивлен и я предвижу, что он объясняет себе эту внезапную перемену не иначе, как подозревая отчасти истину, а я, признаюсь вам, не менее вас люблю спокойствие.
— Берегитесь, Урсула… Представлять подобные причины, значит смеяться надо мной.
— Уверяю вас, что эти причины достаточны для меня. Я помню еще сцену с г-м Шопинелем, и не желала бы, чтобы она возобновилась.
— Не смотря на ненависть мою к вам, я не осмелилась бы напомнить вам о поведении вашем с Шопинелем. Но как вы сами навели меня на это, то я скажу вам, что уверенность моя в том, что вы были тогда виновны, заставляет меня бояться за г. де-Ланкри.
— Матильда!
— Так как я была свидетельницею всего происшедшего в Рувре, то имею предчувствие, даже уверенность, что мнимое ваше равнодушие к мужу моему скрывает какую-нибудь злую мысль.
Урсула презрительно пожала плечами.
— Боже мой, я знаю, что вы поверили глупым сплетням моей свекрови, но теперь поздно возобновлять их. Вы имели удобный случай обвинить меня, когда я требовала вашего свидетельства при муже моем и его матери…
— Можете ли вы обвинить меня за то, что я умолчала тогда об этом, по благородному чувству дружбы? Свекровь ваша справедливо сказала мне тогда: «Дай Бог, чтобы вы никогда не раскаивались в помощи, оказываемой вами этой преступнице!» Но зачем вспоминать старое! В последний раз прошу вас… Если нужно, то умоляю, не продолжайте вашего здесь пребывания. Я никогда не делала вам зла, перестаньте же терзать меня.
— Я была бы в отчаянии, если б сделала вам малейшее неудовольствие, но я не могу жертвовать собой для пустой, чужой прихоти.
— Стало быть, вы хотите дождаться вашего мужа? — сказала я, едва скрывая свое волнение.
— Конечно!
— Так я должна признаться вам, в том, что я ревную вас!
— Напрасно… Напрасно!
— Положим, но подумайте, если я далее и не сообщу мужу вашему моих подозрений, то он по волнению моему угадает их… Вы видите, что можете накликать этим себе беду еще большую, чем та, которую вы ожидаете.
— Я не могу помочь этому. Если вы меня погубите, то я покорюсь судьбе своей, но никогда не погублю я себя сама.
— Как знать… берегитесь…
— Вы грозите мне? Но чем же?
— Я не угрожаю вам, но предупреждаю вас, что дело идет о моем счастье, о моей будущности, жизни. Я буду бороться всеми силами, чтобы сохранить то, что вы хотите отнять у меня.
— Чтоб вы были способны на подлый донос! Нет, я этому не верю.
— Вы правы, что я на это не способна. Но я без подлости могу отнестись к добродушию вашего мужа. Я могу объяснить ему терзающие меня подозрения, прибавив, что они, может быть, очень неосновательны… Это не погубит вас… А только возбудит, может быть, подозрения мужа вашего… Но вы сами будете виноваты в этом…
— Но я сумею защититься или отмстить за себя.
— Слушайте, Урсула: клянусь вам прахом матери, что если вы будете упорствовать в теперешнем вашем намерении, то я не поколеблюсь прибегнуть к этой крайности. Тайное предчувствие говорит мне, что теперь решается один из важнейших вопросов моей жизни… Предупреждаю вас, что характер мой очень изменился, и потому не советую вам выводить меня из себя… Ведь я требую от вас только возможного и удобоисполнимого.
— Я одна могу судить об этом, потому что, кажется, лучше вас знаю мужа своего.
— Вы намеренно преувеличиваете трудность уговорить его. Вы никак не уверите меня, что человек, пренебрегший из любви к вам всем, даже заклятием матери, и слепо верящий вам и любящий вас, станет подозревать что-нибудь, если вы скажете ему, что вам здесь скучно, и что вы желаете уехать отсюда.
— Ему это покажется смешным преувеличением.
— Но эти преувеличения допускаются благородными сердцами, они способны понять их. Желания ваши для него закон.
— Благодарю вас за выгодное обо мне мнение, — сказала Урсула, сардонически улыбаясь: — но мне кажется, что вы несколько преувеличиваете мои преимущества. Впрочем, успокойтесь, как скоро воротится муж мой, я постараюсь уговорить его уехать отсюда, но до тех пор я, в свою очередь, прошу вас, не настаивайте и не отказывайте мне в гостеприимстве.
— Но это бесчеловечно! — вскричала я: — неужели же вашей воли достаточно для того, чтобы навек погубить меня!
— Придите в себя, отгоните прочь призраки, вами самими созданные, и вы успокоитесь. Поверьте, мне весьма неприятен спор наш, и я…
— А! Так вы предлагаете мне борьбу, — вскричала я, перебивая мою кузину: — хорошо, я принимаю ее… Все средства огорчить меня кажутся вам позволительными, стало быть, и я имею право употреблять все средства для моей защиты. Я всё открою мужу моему, я расскажу про поступок ваш в Рувре, пусть он сравнит меня, всегда жертвовавшую ему всем, с вами, и он увидит, кого он мне предпочитает!
— Матильда! Берегитесь и вы в свою очередь. Обдумайте сперва, что будете говорить вы, — сказала Урсула, и глаза ее заблистали гневом. — Во всю жизнь свою не прощу я этой клеветы!
— Я была уверена, что вы не равнодушны к мужу моему, вы боитесь, чтобы я не сообщила ему вашего приключения!
— Я дорожу мнением вашего мужа, как мнением всех честных людей… И стыдно вам стараться погубить меня, — вскричала Урсула, голосом оскорблённого достоинства.
— Вы дорожите его мнением, а стараетесь высказывать при нем самые безнравственные правила и смеетесь над всем, что есть святого и священного в мире! Нет, я все более уверяюсь, что вы, видя невозможность понравиться мужу моему добродетелями, с намерением облеклись в возмутительный цинизм, но будьте уверены, что он узнает все, и не захочет наследовать сердце ваше после г. Шопинеля.
— Матильда! Не выводите меня из терпения!
— О! Я уж более не боюсь вас. Только ослепление мое на ваш счет и могло быть пагубно, но оно уже разорилось, к счастью.
— Если так, — вскричала кузина, не стараясь более скрывать волновавшие ее чувства: — если вы думаете, что разоблачили и узнали меня, то смотрите на меня, смотрите прямо!
Я испугалась выражения дерзости и злости, отпечатлевшегося на чертах Урсулы.
— Уже давно тяготит меня маска моя, — вскричала она.
— Давно? Что хотите вы сказать этим?
— А! Это удивляет вас? О! Невиннейшая из женщин! Вы почитали меня до сих пор преданнейшим другом и сестрой! — и Урсула пожала презрительно плечами.
— Боже мой… Боже мой!
— Разве вы забыли, сколько вы заставили меня вытерпеть! — вскричала она.
— Я…я?
— Вы, Матильда! Неужели вы думаете, что я так бесчувственна и глупа, что забыла детство наше! Вы не знаете, сколько накопилось зависти и ненависти в уязвленном сердце моем, с тех пор, как мы с вами в первый раз встретились!
— А я… Я благословляла день этот, подаривший мне сестру…
— Вы должны были проклинать этот день, даривший вам жертву… обратившуюся после в злейшего врага вашего…
— Жертву! Врага! Но что же я вам сделала?
— Разве не вам, не вашему самолюбию жертвовали мною ежедневно? Разве вы забыли, что, благодаря вам, я ежеминутно была оскорбляема, унижаема, презираема? И вы думаете, что можно залечить раны, нанесенные самолюбию! И вы думаете, что имеете право упрекать меня и угрожать мне!
— Боже мой, Боже мой! — вскричала я, закрывая лицо руками: — Адская расчетливость мадемуазель де-Маран не обманула ее. Она знала, где сеяла семена зависти.
— Что мне за дело, — вскричала она с возрастающим бешенством: — что мне за дело до руки, поразившей меня, я думаю только об ударе, полученном мною! Разве не от сравнения с вами страдала я? Ребенком я донашивала ваши платья и пользовалась вашими учителями. Девицей, я должна была ежедневно исчезать перед вашим блеском и отказываться от самых выгодных женихов. Вы вышли за ловкого, прекрасного и знатного человека, я за человека странного и смешного, которого имя мне стыдно носить!
— Но ведь вы знаете, что я в этом не виновата, что я старалась нарочно не нравиться, чтобы быть наказанной вместе с вами. Что я всегда любила вас, как сестру, и что от вас одной зависело выйти замуж по склонности.
— Вы предлагали мне половину вашего состояния, скажете вы. Но приняла ли я ее? Кто же сказал вам, что я также не имею гордости? И что великодушие и сожаление ваше не были для меня постоянными гнетом?
— Стало быть, вы всегда меня ненавидели! Стало быть, клятвы ваши и уверения были не что иное, как ложь! Но неужели же, Урсула, вы не могли понять, что виновна не я, а моя тётка, которая с намерением старалась возбудить вашу зависть и ненависть.
— Э! Боже мой, не обвиняйте так старушку. Я родилась ревнивой и завистливой, как вы родились благородной и великодушной. Если б я была на вашем, а вы на моем месте, то поверьте, что вся рассчитанная злоба вашей тетушки не сделала бы вас ни ревнивой, ни завистливой.
— Но за что же ненавидите вы меня, если считаете меня благородной и великодушной? Что же я вам сделала?
— За то-то и ненавижу я вас, что вы благородны и великодушны… Я ненавижу вас и за то, что меня всегда унижали ради вас. И за то, что вы наслаждаетесь тем счастьем, которому я завидую, и наконец, за то, что я принуждена краснеть перед вами… Мы одни, и я могу говорить откровенно… Итак, признаюсь вам, ненависть моя к вам была доведена до крайности тем, что вы узнали о моей смешной связи, и что вы были свидетельницей презрительного обхождения со мною моей свекрови. Речи мои удивляют вас? Грусть и одиночество научили меня им. Эти учителя научают многому, и они-то научили меня притворяться и ненавидеть вас.
Я, было, хотела разуверить Урсулу в моем счастье, и тем обезоружить ее. Я хотела рассказать ей все муки первых дней моего замужества и клеветы, которых я была жертвою… Но это признание казалось мне подлостью, и я умолчала всё то, что хотела сказать.
— Итак, — сказала я ей, — только счастье мое было причиною вашей ко мне ненависти… Но что же намерены вы делать теперь? Вы хотите отбить у меня мужа? Этим ли хотите вы отмстить мне?
— Я надеюсь, что вы не будете требовать от меня объяснений при теперешних наших отношениях, — сказала мне повелительным голосом Урсула.
— Но так как мне легко отгадать их, — сказала я: — то я сообщу вам непреклонное мое решение. Я напишу мужу вашему, чтобы он поспешнее возвратился и объясню ему мои подозрения, как скоро он приедет. Вы становитесь опаснейшим врагом моим, и потому я не обязана более снисходить к вам. Своему же мужу я открою и то, что было между вами и г-м Шопинелем.
— Вы хотите войны. Матильда? Пусть будет по-вашему! Успех оправдывает все средства… И я надеюсь доказать вам это…
Урсула вышла и оставила меня одну.
V. Возвращение
Первым движением моим по уходе Урсулы, было бежать к Гонтрану и рассказать ему разговор наш. К несчастью, Гонтран с раннего утра отправился на охоту. Я приказала Блондо, уведомить меня о его возвращении. Колокол прозвонил к завтраку, а Гонтран еще не возвращался.
Я нашла тётушку в гостиной. Она спросила меня, где моя кузина, я отвечала, что она, вероятно, в своей комнате. Послали за ней туда. Но там ее не было. Так как утро было прекрасное, то я предполагала, что она гуляет в парке. Позвонили вторично, но она не явилась.
Вдруг меня поразила мысль, что она, может быть, отправилась на встречу к Гонтрану. Но мне сказали, что муж мой отправился верхом, с одним из своих охотников и лягавой собакой.
Это успокоило меня и я села с тетушкой за стол. Она не щадила меня своими замечаниями насчёт отсутствия Гонтрана и Урсулы. Во всякое другое время подобные замечания были бы мне в тягость, но теперь я до такой степени была занята одной мыслью, что не обратила на них внимания.
После завтрака, под предлогом отправления нескольких писем, я удалилась в свою комнату. Тетушка осталась вязать в гостиной.
Пробило два часа, Гонтран и Урсула еще не возвращались. Я позвала Блондо и просила ее узнать от Урсулиной горничной, не получала ли она каких-нибудь приказаний от госпожи своей. Блондо возвратилась и возвестила мне, что Урсула взяла в библиотеке книгу и ушла гулять.
Я прошла парк во всех направлениях, но нигде не могла встретить Урсулы.
Калитка, выходившая в лес, была отперта. Кузина моя должна была в лес выйти. Может быть, они еще накануне сговорились с Гонтраном увидеться? Я испугалась этой мысли. Для меня было очень важно, чтобы Урсула не предупредила меня.
Я возвратилась в замок с отчаянием в душе.
Тётушка сказала мне, что она серьезно начинает беспокоиться на счет Урсулы, и что не худо бы послать кого-нибудь из людей в лес, где она, может быть, заблудилась. В это мгновение кузина моя возвратилась. Она поклонилась мне с таким дружелюбием, как будто между нами ничего не происходило. Лицо ее было одушевлено, глаза блистали, какое-то торжество и гордость отражались во всех чертах лица ее. Шелковые ботинки ее, покрытые пылью, доказывали, что она много ходила, ленты шляпы ее были развязаны, а длинные полуразвившиеся локоны падали до груди, полуприкрытой платочком.
В одной руке она держала большой букет диких цветов.
Она сказала нам, что, выйдя из парка, она заблудилась в лесу. Но найдя погоду прекрасною, она пожелала воспользоваться, может быть, последним, осенним красным днем: стала рвать цветы, и только тогда подумала об отыскании дороги, когда успела уже порядочно устать. Встретившийся ей дровосек проводил ее в замок.
Рассказ этот, произнесенный просто и естественно, рассеял мои справедливые подозрения.
Я тем более поверила словам Урсулы, что полчаса спустя, в то самое время, когда курьер привез нам письма, возвратился сопровождавший Гонтрана охотник, и от его имени просил меня не беспокоиться, ибо по непредвиденным обстоятельствам охота должна была продолжиться, и Гонтран не мог вернуться прежде обеда. Я расспросила охотника, и он сказал мне, что не отходил от моего мужа, который остался близ пруда. Это совершенно меня успокоило.
Мне до такой степени было важно переговорить с Гонтраном прежде Урсулы, что я снова подтвердила Блондо приказание стеречь приход Гонтрана, и тот же час привести его ко мне, сказав ему, что мне весьма нужно переговорить с ним. Отдав это приказание, я возвратилась в гостиную.
Тётушка внимательно читала письма, полученные ею из Парижа. Не знаю, заметила ли она мое присутствие, но, не подымая глаз, она несколько раз восклицала, со всеми признаками величайшего удивления:
— Ах, Более мой, Боже мой… Кто бы мог это подумать? Что теперь будет? Сказать ли ему всё или нет? Это ужасно…
Раздраженная этими восклицаниями и не подозревая, что тетушка не заметила моего присутствия, я спросила ее:
— Хорошие ли вести получили вы из Парижа?
Но она, не отвечая и как будто бы не слыша слов моих, продолжала говорить сама с собою.
— Сколько это наделает шума! Но как, с другой стороны, воспрепятствовать этому? Хорошо еще, что я здесь и могу все это устроить.
Последние слова заставили меня задуматься и испугали меня. Я не знала, в чем дело, но тайное предчувствие говорило мне, что тетушкин приезд в Маран скрывал какие-нибудь злые замыслы, и что парижское возмущение было только предлогом. Я подошла к ней и в этот раз произнесла довольно громко, чтобы она не могла притворяться, будто бы не слышала:
— Приятные ли известия получили вы из Парижа, тетушка?
Она как будто удивилась и сказала мне:
— Как… Вы были тут? Вы все слышали?
— Я слышала, но ничего не поняла.
— Тем лучше… еще рано… Боже мой, Боже мой! — вскричала она, поднимая руки к небу.
— Вы обеспокоены… Я не хочу мешать вам.
— О да, я имею причину беспокоиться, и вы, к несчастью, слишком рано узнаете причину эту.
— Стало быть, письмо это касается меня?
— Конечно, и более, чем вы думаете. Я совсем растерялась от этого известия! Но я не верю ему… Не правда ли, вы неспособны на подобное дело?
— Но объяснитесь, ради Бога, я ничего не понимаю.
— Я не могу объясниться в отсутствии мужа вашего… Надо подождать его… Да и тогда, не знаю, осмелюсь ли я? По-прежнему ли он вспыльчив? В таком случае надо будет поступить осторожно!
Я с твердостью взглянула на тетушку.
— Я бы очень удивилась, сударыня, если б приезд ваш не ознаменовался каким-нибудь печальным происшествием… Я на все готова, и вполне вверяюсь сердцу мужа моего.
— О! Тем лучше, тем лучше: мне не надо будет принимать ораторских предосторожностей. Вы прекрасно делаете, что вверяетесь сердцу вашего мужа, это за всё ручается… У вас прегениальная мысль. Тем не менее, остерегайтесь первого движения, и не оставайтесь с ним наедине. Увы! Бедное дитя мое, я уже стара и слаба, и не буду в состоянии защитить вас.
— Защитить меня! Но от кого же?
— От вашего мужа — я невольно верю тому, что князь Ксерника бил жену свою за меньшие проступки!
— По этим преувеличениям, я с радостью вижу, сударыня, что вы хотите только зло подшутить надо мною.
— Нисколько, сохрани меня Бог… Вы увидите, что это очень важно. Все, что я могу и должна сделать, в качестве старшей родственницы, это вступиться, если дело зайдет слишком далеко.
Я слишком хорошо знала тетушку, и не надеялась заставить ее объясниться и положить конец таинственным намекам. Я отвечала ей с хладнокровием, задевшим ее за живое:
— Извините меня, что я вас оставляю, сударыня, по мне надо переодеться к обеду.
— Ступайте, ступайте, дитя мое, и принарядитесь получше. Это иногда обезоруживает бешеных: прекрасная княгиня Ксерника знала это, и не пропускала случая воспользоваться этим. Она всегда наряжалась, чтобы предупредить супружескую бурю и являлась веселою и блестящею, от того-то и не случалось ей иметь переломленным более одного члена.
Я вышла, не дослушав гнусных шуток тётушки, и вошла в свою комнату, чтобы дождаться там возвращения Гонтрана.
Возвратившись, Гонтран исполнил мою просьбу и пришел ко мне.
Я была поражена радостным и сияющим выражением лица его. Несколько дней подряд он был очень скучен и задумчив.
Войдя ко мне, он нежно поцеловал меня и сказал:
— Извините меня, моя милая Матильда, что я заставил вас, может быть, беспокоиться. Я, как ребенок, предался удовольствию охоты, надеясь на всегдашнюю вашу снисходительность.
Эти извинения удивили меня, ибо давно уже муж мой не извинялся передо мною.
— Я рада, что охота ваша была так счастлива. Уже несколько дней сряду вы скучаете.
— Боже мой, это очень понятно. Вы знаете, что очень часто неважные причины имеют важные следствия. Отправляясь сегодня утром на охоту, я был очень скучен, начал охотиться машинально, без удовольствия, туман был сильный и небо подернуто облаками. Вдруг блестящий луч солнца прорезает тучи, природа оживает и освещается. Не знаю почему, и я последовал примеру природы. Я был скучен, и вдруг сделался счастлив и весел… Как бывало в двадцать лет… Как было в тот день, когда вы сказали мне: «Я люблю вас». Посмотрите же на меня, — сказал Гонтран, — и сравните, если вы, подобно мне, живо помните счастливейший день в нашей жизни.
В самом деле, никогда не видела я на лице Гонтрана более радости и невыразимого счастья.
— Вы правы — сказала я, не скрывая моего удивления; — лицо ваше дышит счастьем и напоминает мне счастливые дни.
— О! Да, — вскричал он с увлечением: — счастье мое неизмеримо, оно высказывается против воли моей… Мне кажется, что даже под страхом смерти, не мог бы я скрыть своего счастья.
— Да будет благословен этот солнечный луч, имевший силу так изменить вас!
Гонтран, улыбаясь, взглянул на меня.
— О! Надо во всем признаться вам: не один луч этот изменил меня. Был еще другой луч, так сказать моральный, рассеявший мрак ума моего. Нужно ли прибавлять, ангел мой, что мысль о нас произвела это чудо.
— Неужели, Гонтран? Но каким же это образом?
— Я спросил себя: от чего мрачная печаль моя так странно контрастировала с блеском окружавшей меня природы? Я спросил себя, неужели же я не обладаю всем тем, что делает дорогим существование и не обязан ли я всем этим любимой, прекраснейшей, благороднейшей и лучшей из всех женщин, от которых когда-либо зависело счастье мужчины? Это еще не все, — сказал я себе: разве новая связь не еще теснее связывает меня теперь с нею? Тогда, Матильда, мне показалось, что я пробуждался от тяжкого сна.
— О Гонтран, Гонтран! Правда ли все это?
— О да! правда… Счастье делает доверчивым и искренним. Наведенный уже на этот путь мыслью тебе, Матильда, я не побоялся отыскивать причины грусти моей. Признаться ли мне и в этом? Да, у меня достанет на это смелости. А был так глуп, что рассердился на шутки вашей кузины! Да, подобно школьнику или провинциалу, я хранил к ней ненависть, за то, что она смеялась и презрела мои любовные объяснения… Я видел в этом оскорбление не любви моей, вы храните меня от этого, но моему самолюбию… К счастью, вспомнив о Матильде и об ангельчике, которым она обещает украсить нашу будущность, я отогнал эти дурные мысли и возвратился раскаявшимся и, что еще лучше, более нежным, более влюбленным и более страстным…
И он с трогательным чувством бросился целовать руки мои. Мне казалось, что я грежу. Я не могла верить ушам своим. Какой быстрый переворот произвела в уме Гонтрана эта перемена! Слова его казались мне естественными и искренними. Он вызывал мысль о ребенке нашем с таким неподложным чувством, что я не могла подозревать его со лжи и притом, к чему ему было лгать? Неожиданное счастье это, вместе с различными предшествовавшими ощущениями, так потрясло меня, что я упала почти без чувств.
Желал собраться с мыслями, я закрыла лицо руками. Я сказала Гонтрану, после некоторого молчания:
— В свою очередь, прошу вас, друг мой, простите мне, что я так слабо отвечаю на вашу восхитительную доброту, но чувство мое, хотя и тихо, тем не менее так глубоко, что я не нахожу слов к выражению моей благодарности.
Я была в ужаснейшем затруднении; я верила чувствам Гонтрана, но не знала, должна ли я передать ему разговор мой с Урсулой. Чтобы предугадать ответ мужа моего, я сказала ему:
— Знаете ли вы, друг мой, что г. Семерен уехал сегодня утром!
— Знаю. Зачем же жена его не последовала за ним? Это был для нее весьма удобный случай исполнить данное ею обещание.
— Может быть, — отвечала я, стараясь скрыть замешательство, — может быть, она раскаивается в том, что дурно поступила с вами. Может быть, презрение ее было притворное.
— О! Тем хуже для нее, — отвечал, смеясь Гонтран… — теперь уже поздно. Ангел хранитель мой со мною, он защитит меня от чужих козней.
— Вы теперь спокойны, — возразила я, улыбаясь, — но кузина моя хитра и ваша бедная Матильда…
— Моя Матильда насмешница. Она, мне кажется гением, одно дыхание которого превращает бурю в тишь и горе в радость. Она напоминает мне одну из тех фей, которые долго скрывались в неизвестности, чтобы, наконец, вдруг явиться во всем блеске своего могущества, и я бы боялся слишком подчиняться ей, если бы быть рабом ее не значило царствовать… Но пора… Прощайте. Ангел мой, принарядитесь так, чтобы за обедом, мы могли сказать друг другу взорами: бедная Урсула!
Гонтран поцеловал меня в лоб и вышел, оставив меня в очаровании.
VI. Светские слухи
Теперь, когда я хладнокровно вспоминаю о словах мужа моего, я помогу понять, как могла я верить их искренности. Как внезапная и невероятная перемена в поведении Гонтрана не возбудила моих подозрений. Но тогда я еще не знала, что самые страстные уверения часто служат маскою вероломству и измене. Притом же я была так несчастлива и так нуждалась в добрых чувствах мужа моего, что слепо поверила столь неожиданному счастью. Я надеялась впрочем, что моя осторожность и предусмотрительность помогут мне открыть истинные замыслы Урсулы.
Обед прошел очень весело. Тётушка не произнесла ни одного намека на сделанные ею мне угрозы. Урсула осыпала меня предупредительностью. Гонтран, со своей стороны, окружал меня столь нежною заботливостью, что тетушка несколько раз насмехалась над ним. По окончании обеда, кузина моя сказала мне, с выражением сожаления:
— Ах! Как ты счастлива, что можешь провести осень и часть зимы в деревне…
— Мне кажется, — возразила тетушка, — что вы разделяете это счастье. Разве г. Семерен не позволит вам остаться здесь до скончания века? Разве не сам он привез вас сюда?
— Конечно, сударыня, — отвечала Урсула, — но не всегда можно делать то, что хочется. Как скоро он возвратится сюда, а я писала ему, чтобы он возвращался скорей, то он принужден будет ехать в Париж, и уж конечно я последую за ним.
— Ах, Боже мой! — вскричала тетушка: — а я не знала этого! Перед отъездом он говорил мне, что может остаться здесь до января и возвратится в Париж вместе с Гонтраном и Матильдой.
— Да, но один из его Парижских корреспондентов пишет, что присутствие его необходимо в Париже для основания нового торгового дома, о котором он говорил вам. Итак, Матильда, нам остается только пять или шесть дней прожить вместе, и даже в Париже будем мы редко видеться, поскольку будем жить в различных обществах…
— Но вы намеревались и в Париже жить вместе, — сказала тётушка; — стало быть, все прекрасные планы вашего сожительства рушились?
— К несчастью, планы эти были не что иное, как школьные мечты, — возразила, улыбаясь, Урсула. — Хотя я очень сожалею, что должна отказаться от этой надежды, но покоряюсь своей участи.
— Притом же, признайтесь, кузина, — сказал весело муж мой, — что описание тех комнат, которые мы могли бы предложить вам, не могло прельстить нас.
— Вы несправедливы, кузен. Мы были бы довольны и меньшим, лишь бы не разлучаться с Матильдой. Но предместье Сент-Оноре так отдалено от центра коммерческой деятельности, что мужу моему неудобно было бы жить там…
Обед кончился я встала. Гонтран подал руку мадемуазель де-Маран и прошел мимо меня и Урсулы. Когда мы входили в гостиную, Урсула тихо сказала мне:
— Вот как я мщу! Довольны ли вы?
Когда подали кофе, мадемуазель де Маран, приняв важный и торжественный вид, сказала:
— Теперь мы одни и в семействе, и потому можно говорить откровенно.
Сказав это, она вынула из кармана полученные ею утром из Парижа письма, бросив на меня взгляд, полный иронии и злобы.
— Что хотите вы сказать, сударыня? — вскричал Гонтран.
— Увидите. Но вы должны обещать мне, что будете спокойны и не увлечетесь первым порывом… Урсула, посмотрите, нет ли кого-нибудь в столовой.
Урсула встала, отворила дверь, посмотрела и возвратилась.
— Никого нет, — сказала она.
— Но к чему же все эти предосторожности? — спросил Гонтран.
— Бонапарт говорил, что грязное белье надо мыть в семействе. Простите мне это выражение, за глубину мысли, заключающейся в нем… Но прежде, нежели я начну, — сказала тетушка, обращаясь к Урсуле, — я должна объяснить вам, душечка, ту противоположность, которую вы заметите между теперешними и прежними моими словами.
— Как это, сударыня?
— Я обещала Матильде, не говорить об ужасной клевете, жертвою коей она была, и несчастьях, отравивших первые дни ее замужества… Я до сих пор говорила вам, что кузина ваша — счастливейшая и любезнейшая из женщин. Увы. Это была ложь: вы сейчас увидите, что жизнь Матильды со дня ее замужества, исключая несколько дней медового месяца, была постоянным мучением… И что это мучение ничто в сравнении с тем, что готовит ей судьба…
Урсула смотрела на меня с возрастающим любопытством. Если бы я не бывала часто обманутой ее притворством, то сказала бы, что она смотрела на меня с участием.
— Но еще раз, сударыня, в чем же дело? — спросил с нетерпением Гонтран.
— Вы еще успеете узнать это, бедный мой Гонтран. Это прямо вас касается, и мне кажется, что зло неисцелимо, но вы должны дать мне честное слово дворянина, что только вполовину будете верить словам моим. Ибо, наконец, ведь я воспитывала жену вашу, и потому и для меня, и для нее, не надобно спешить судить невыгодно по обстоятельствам. Мы искренне взвесим за и против, и потом уже объявим решение.
Мне невозможно было угадать, к чему клонились тетушкины слова. Я так была в себе уверена, что несколько не беспокоилась, хотя и ждала какого-нибудь нового доказательства тетушкиной ненависти.
— Так как дело идет обо мне, то я прошу вас, сударыня, сократить предисловие и приступить скорее к делу.
— Вот великодушное нетерпение, успокаивающее меня и предвещающее добро. И так, знаете ли, виконт, про тот слух, или лучше сказать, про то убеждение, которое овладело теми лицами нашего общества, которых революция не выгнала из Парижа?
— Нет, сударыня.
— Так я скажу вам, что все уверены, что жена ваша, перед отъездом своим в Рувре, провела ночь в каком-то загородном доме, наедине с Люгарто и что это уединенное свидание дает повод к различным толкам, не совсем приятным.
Сказав это, тетушка бросила на меня змеиный взгляд.
Я побледнела.
— Посмотрите, посмотрите, — вскричала она: — бедняжка совсем смешалась. Ах, Боже мой! Зачем я заговорила! Но она, казалось, была так уверена в себе! Урсула, подайте ей скорее спирту.
Урсула подошла ко мне с видом торжествующая сострадания и покровительства. Я тихо оттолкнула её, говоря, что я ни в чем не нуждаюсь.
Этот первый удар был жесток, я не была к нему приготовлена, и потому не могла выговорить ни слова. Муж мой, покрасневший сперва от гнева или удивления, пришел в себя, громко засмеялся и сказал:
— Как, сударыня, вы… Вы верите подобным рассказам? Я постигаю, что это должно поразить бедную Матильду! Есть от чего! Кто бы мог ожидать подобной глупости?
Я поспешно стала обдумывать средство, каким образом не нарушать тайны Гонтрана, если это было еще возможно. Мадемуазель де-Маран, казалось, очень удивилась хладнокровию, с которым Гонтран выслушал это известие.
Она продолжала:
— Перестаньте смеяться и выслушайте сперва до конца то, что я хочу сказать вам. Говорят, что жена ваша провела ночь в доме Люгарто. Теперь иные думают, что это было добровольно и по любви… Но это кажется мне невероятным, и в таком случае надо предположить, что племянница моя недостойное творение. Другие же уверяют, что она отправилась туда для того, чтобы выкупить какую-то бумагу, которая могла обесславить вас, мой милый Гонтран. Но заметьте, друзья мои, что я во всем этом невиновнее Эхо.
Я не сомневалась более, что Люгарто, желая отмстить, написал тетушке или кому-нибудь из своих знакомых о происшествиях этой ночи, и что эти известия могли, или погубить меня, или обесславить Гонтрана.
Я едва осмеливалась взглянуть на Гонтрана и ждала взрыва. Мое онемение сравнилось с удивлением тётушки.
Муж мой, сделав над собой новое усилие, победил свое волнение, и сказал с величайшим хладнокровием:
— Это даже не клевета, это просто бредни. Я право удивляюсь, как в наше смутное время успевают распространять подобные глупости…
— Как! — вскричала тетушка: — так-то вы это принимаете? Черт возьми вашу философию.
— Если имя философа приобретается презрением к пустым слухам, не имеющим даже силы клеветы, то признаюсь вам, что оно не завидно… Матильда не должна тревожиться этими пустяками. Я в двух словах приведу вам обстоятельства, вследствие коих, имя виконтессы де-Ланкри имело несчастье сблизиться с именем Люгарто. Человек этот подло употребил во зло мою с ним близость, допущенную дружбою, чтобы повредить репутации моей жены. И, как следовало, отвечал на эту подлость парою пощечин и объяснением перед лицом двадцати свидетелей. Вследствие этого мы с ним дрались, я ранил его и должен был вскоре ехать в Англию, куда призывали меня важные дела. Вслед за моим отъездом, Матильда оставила Париж, чтобы провести время моего отсутствия со своей кузиной. Возвратившись из Лондона, и поехал за ней и привез ее сюда… Вот, сударыня, точнейшая истина. Что же касается до глупых слухов, сообщенных вам и на которые вы считаете обязанностью обратить наше внимание, то они не стоят и того, чтобы отвечать на них. Я бы позабыл уже их, если б они не огорчили Матильду. Но ее можно извинить. Она только что вступает в свет. Ее чистая и невинная душа легко принимает впечатления того, что и последний не возбудит даже отвращения ее. — Потом, обратившись ко мне, Гонтран сказал мне голосом живейшей нежности: — Простите мне, Матильда. Моя несчастная связь с Люгарто сделалась новою причиною неприятности, но я надеюсь, что это будет последней.
Я глубоко была тронута простыми и исполненными достоинства словами Гонтрана. Кузина моя была, казалось, погружена в глубокую задумчивость, с самого начала этого разговора. Выражение лица ее совершенно изменилось.
Тетушка, не смотря на уверенность свою, растерялась. Она попеременно смотрела на меня, на Урсулу, на Гонтрана, чтоб проникнуть в причину умеренности последнего, которая и меня удивляла и трогала. Муж мой мог справедливо оскорбиться её словами. После этого немого наблюдения, тетушка продолжала с видом размышления:
— Гонтран, вы мужественно встречаете слова мои, — сказала она: — и это много уже значит. Вы знаете, что я бы сама очень желала не верить этим известиям и отвечать на них как следует. Но, с другой стороны, надо согласиться с пословицей: что нет дыма без огня. Кто же мог распустить эти слухи? Как представить себе, что люди положительные и серьезные могли найти удовольствие в изобретении ночного свидания Матильды с Люгарто, без веского истинного повода? Но вы, мой друг, должны знать лучше всех: 1-е, имел ли Люгарто средство обесславить вас? 2-е, способен ли он воспользоваться этим средством! И погубить вас, единственно из удовольствия сделать такой поступок? Что касается до меня, то это кажется мне чрезвычайно загадочным, чтоб не сказать смешным, со стороны такого человека.
Адская злость тётушки служила ей, может быть, вопреки ее ожиданию. Невозможно было затронуть более за живое подозрения Гонтрана, касательно фальшивого векселя, который Люгарто отдал, как будто бы добровольно.
Хотя муж мой не мог задать этого вопроса мне, потому что считал меня в совершенном неведении: тем не менее, замечала я, что он подозревал какой-нибудь таинственный повод, заставившей Люгарто возвратить вексель.
Все ли было известно мадемуазель де-Маран? Вот то, чего я ни как не могла узнать, но в этот раз я ждала взрыва со стороны Гонтрана.
Я почти испугалась, заметив, что он слушает тетушку с прежним беззаботным спокойствием. Он пожал плечами, улыбнулся, взглянув на меня, и сказал:
— Это ни клевета, ни даже глупость, это походит на роман, на сверхъестественность. Кончили ли вы? Нет ли еще чего-нибудь в ваших письмах?
— Конечно, это еще не все! — вскричала тетушка, не будучи долее в состоянии удерживать свое бешенство: — я уже сказала вам, в чем убеждены весьма почтенные люди. Теперь я должна сказать, каковы будут последствия этих убеждений. Хотя вы с женой и называете все это романическим и сверхъестественным, тем не менее на вас будут указывать пальцами. Из десяти поклонов, сделанных вам, получите вы ответ только на один. Это удивляет вас? Может быть, вы опять скажете, что это сверхъестественно, между тем, как это весьма просто. Сколько могу, я постараюсь объяснить вам это… Подумают, или что жена ваша пожертвовала честью своей, чтобы спасти вашу, и вас назовут мерзавцем. Или что она уступила любви своей к Люгарто, и на вас будут смотреть, как на самого низкого человека, за то, что вы могли допустить подобное дело. Потому ли, что вы были должны этому человеку или потому, что вы не хотели ссориться с женой, зная, что она обогатила нас.
— Неужели так думают? — сказал Гонтран.
— Да, так думают добрые и честные люди, одним словом, друзья ваши…
— Ну, а враги наши?
— А! Что касается до врагов ваших, то они думают, что вы сговорились с Матильдой: если б один только был виноват, говорят они, то они бы поссорились… Что же заключат теперь враги ваши, видя вас в добром согласии? Они заключат, что вы имеете друг к другу самую неслыханную снисходительность.
— Наконец… Я все теперь отгадываю… — вскричала я: — ваша ненависть слишком далеко завлекла вас, и вы изменили себе. Да благословен будет Бог, открывающий нам врагов, нас преследующих!
— Как? Да она с ума сошла! — сказала тётушка.
— Гонтран! Я спрашивала: зачем та, которая, к несчастно, носит имя сестры отца моего, сюда приехала? Теперь она сама объясняет это. Да… сударыня… Теперь я понимаю все… Вы хотите поссорить и разлучить нас своей клеветой. Конечно, это было бы для нас приятным торжеством. Едва год, как мы женаты, и наш развод, который погубил бы одного из нас непременно, возбудит самые гнусные слухи.
Грозно сжавшиеся брови тётушки доказали мне, что я угадала. Она, по обыкновению своему, смехом старалась прикрыть гнев свой.
— Ха… ха… ха! Как она забавна со своими предположениями! Но, глупенькая, разве я от своего имени говорю вам? Я приехала сюда, как добрая и честная родственница, желая предостеречь вас, а вы…
Гонтран перебил тетушку и сказал ей:
— Мне кажется, сударыня, что свет очень легко мог бы объяснить нашу взаимную привязанность, предположив, что мы живем, как следует честным людям, глубоко презираем низкую клевету и настолько разумны, что не жертвуем счастьем нашим мнению всякого встречного. Впрочем, я не вполне разделяю мнение Матильды. Она, бедняжка, напугана, и потому немудрено, что она могла причислять вас к числу врагов наших. Она ошибается, я в этом не сомневаюсь. Я верю, что вы желаете нам добра, и потому прошу вас, посоветуйте нам, что должны мы сделать для того, чтобы разуверить друзей наших и доказать врагам нашим, что они бесчестны.
— Я не даю более советов, мой прекрасный племянник, то время прошло, теперь я только предугадываю и предсказываю… Слушайте же, если желаете знать настоящее и будущее: один из вас — жертва, другой — палач. Разрыв между вами необходим, жертва возмутится, наконец… Но разрыв этот опоздает, потому что свет привыкнет уже считать вас сообщниками и презирать вас… Разрыв этот, который мог бы спасти одного из вас, погубит обоих, ведь свет скажет, что вы оба до такой степени негодны, что не можете даже ужиться вместе… Это кажется вам странным? Вы увидите, ошибаюсь ли я… Революция распугала всех друзей моих, и я с трудом отыскала де-Версака и де-Бланкура, которые и сообщили мне эти сведения. Если вы не верите, то вот их письма. Теперь ни слова более об этом, давайте играть в вист, если хотите… Все кончилось как нельзя лучше, вы счастливы и довольны, и прекрасно, я ничего более не требую… Позвоните же и спросите карты.
Я ушла к себе, оставив Урсулу, тетушку и мужа моего, играющих в вист.
Это занятие позволило им, по крайней мере, молчать после столь тягостной сцены.
VII. Счастье и надежда
Я была в ужасном состоянии, я не знала, было ли хладнокровие Гонтрана истинно или ложно. И еще раз чуть не призналась во всем мужу, несмотря на советы г. де-Мортана.
Но я подумала, что желание скрыть от меня историю подложного векселя заставило Гонтрана хладнокровно выслушать нападки мадемуазель де Маран. Зная адскую злость тетушки, я не сомневалась, что нам должно было опасаться светского нерасположения.
Холодность, с которою несколько месяцев тому назад приняли Гонтрана, казалось, оправдывала её догадки: я не знала, зайдет ли ко мне Гонтран. Мне хотелось сказать ему, насколько радовал меня отъезд Урсулы. Я приписывала этот поступок кузины моей не столько ее великодушно, сколько страху. Я созналась, что советы герцогини де-Ришвилль были справедливы.
Около одиннадцати часов, Гонтран постучался в дверь мою. Я со страхом взглянула на него, опасаясь встретить на лице его грозно выражение. Страх мой был напрасен. Он казался нежнее и предупредительнее обыкновенного.
— Ах! Друг мой, — вскричала я, — как зла тетушка! Она приехала сюда только для того, чтобы разлучить нас гнуснейшей клеветою!
— Хотя я и не разделяю совершенно вашего мнения, но мне кажется что она, не зная, кого бы ей помучить, и предвидя содержание писем дядюшки и г. де-Бланкура, приехала к нам. Да, злость ее превзошла мои ожидания. С этих пор мы постараемся не видаться с ней.
— Ах! Как вы добры, друг мой! Если б вы знали, как приятно мне обещание ваше! Я всегда думала, что все печали наши произойдут от нее.
— К счастью, теперь, желая повредить нам, она вопреки себе самой принесла нам пользу.
— Каким же образом?
— Я читал письма дядюшки и г-на де-Бланкура, и узнал, что, в самом деле, на наш счет носятся самые нелепые и гнусные слухи. Воспользовавшись отъездом моим в Англию, они распустили слух, что я поехали туда за бумагами, бывшими во власти Люгарто и могшими погубить меня. Что же касается до слуха, распущенного о вас, я даже не хочу упоминать о нем, зная отвращение наше к Люгарто… Я глуп, что говорю об этом: распространяться о таких подлостях, значит обижать вас. Но это может послужить нам тем, что мы знаем, по крайней мере, что говорят о нас. Это должно также изменить наши предначертания. Мне, кажется, что не худо бы отсрочить отъезд наш в Париж, и прожить здесь еще год и даже более. Парижское возмущение послужит нам прекрасным оправданием. Я знаю Париж и свет. Через полгода нами перестанут заниматься, а через год совсем о нас забудут. Если же мы поедем в Париж через шесть недель, так как предполагали, то попадем среди ужаснейшего ожесточения, которое менее удивило бы вас, если б вы знали свет… Вы прекрасны, вы молоды… Вы меня избрали и любите. Этого достаточно, чтобы возбудить все ненависти и зависти, которые не преминут истолковать по-своему, тайну прежних сношений моих с Люгарто… Если б я был один, я презрел бы это, по теперь я должен заботиться о вашем счастье, тем более, что уже много заставил вас страдать. Итак, всего благоразумнее, по-моему, отсрочить нашу поездку в Париж не правда ли? Отвечайте… Я прошу вас…
— Но могу ли я отвечать, — вскричала я, — когда сердце мое бьется от неожиданности и счастья? Боже мой! Боже мой! Вы хотите свести меня с ума сегодня, Гонтран! Возвратить нашу нежность! Остаться с вами здесь наедине, долго, долго… О! Это слишком… Я просила менее… О Боже!
И я не могла удержать слез, но на этот раз сладких.
— Бедняжка, — сказал мне Гонтран. — Эти слезы — жестокий упрек, но я заслужил его. Я так отучил вас от счастья, что одно только то, что я сказал вам, что люблю вас, и что мы надолго здесь останемся вдвоем, исторгает из глаз ваших слезы наслаждения… О! Это ужасно! Я до сих пор не мог оценить тебя, ангел мой! Отчего же вместо того, чтобы наслаждаться прелестями ума твоего и добротой души твоей, я погрязал в какой-то грубой, скотской жизни? Сон ли это или действительность? Скажи мне, мой ангел-хранитель. Скажи мне, что мы заснули в Шантильи и теперь только просыпаемся.
— О! Говорите, говорите еще, этим сладким, этим обворожительным голосом! — сказала я в каком-то упоении. — О! говорите, говорите! Вы знаете, сколько подобные слова делают мне добра, какой целительный бальзам проливают они мне в душу… О! Гонтран… мне кажется, что и ребенок наш радуется под сердцем моим… О! благодарю, на коленах благодарю, за себя за него, мой нежный друг, благодарю за счастье, которым вы меня дарите…
* * *
Последующие за этим разговором дни я провела в беспрерывном наслаждении. Невозможно было быть нежнее, внимательнее и предупредительнее Гонтрана.
Тетушка, видя злые планы свои почти разрушенными, не скрывала своего неудовольствия и заговаривала скором отъезде своем, старалась казаться успокоенною последними парижскими известиями.
Урсула ждала мужа своего с часу на час. Она исполнила данное мне обещание, и писала ему, прося его ехать с нею и Париж, вместо того, чтобы оставаться в Маране, так как было прежде ими предположено.
С того дня, когда тётушка сообщила нам, при Урсуле, распускаемые на наш счет клевету, я заметила большую перемену в поступках моей кузины. С мужем моим, она все более и более была насмешлива и горда. Со мною, когда мы оставались с ней наедине, она казалась стесненною, смущенною и смотрела иногда на меня с таким участием и как будто бы желая высказать мне что-то. Но она всегда останавливалась, тем более, что я избегала случаев оставаться с нею наедине.
Каждое утро проводила она и с Гонтраном.
После завтрака катались мы в экипажах. Во время этих прогулок говорили мало. Потом мы обедали и вист занимал остальную часть вечера. Теперь, когда прошедшее сделалось для меня ясным, я вспоминаю о многих вещах, которые я тогда едва замечала, потому что не могла растолковать себе всю важность их.
Так, например: муж мой, хотя и был постоянно нежен со мной с дня внезапной перемены ко мне, однако ж постоянная задумчивость овладела им.
Иногда он был чрезвычайно рассеян, иногда же, под влиянием какого-то необыкновенного, почти болезненного удивления, как будто бы желал разгадать какую-то странную и страшную тайну. Порывы бешеной радости, столь удивившие меня, у него не повторялись более. Часто даже замечала я на лице его отпечаток горькой грусти. Я изъявила ему свое удивление, и он с кротостью отвечал мне:
— Я думаю о горестях, мною вам нанесенных.
Хотя это должно было показаться мне странным, я ни сколько об этом не беспокоилась. Гонтран был преисполнен ко мне заботливости и доброты. Он чаще и чаще говорил мне о необходимости остаться в Маране, как для того, чтобы дать время утихнуть слухам, распущенным о нас, так и для того, чтобы сократить расходы, нужные для будущего.
Повторяю, поведение Гонтрана не могло беспокоить меня, и я боялась рассердить его расспросами.
Тетушка, предупрежденная, вероятно, инстинктом, научавшим ее любить врагов моих, полюбила, казалось, Урсулу. Часто они по целым часам гуляли вместе. Вероятно, тетушка думала, что Гонтран занимается Урсулой. Шутки ее с г. Семерен доказывали мне это, но нежность ко мне Гонтрана и холодность, изъявляемая ему Урсулою, казалось, совершенно сбивали ее с толку.
Урсула почти каждое утро гуляла в парке. Гонтран выбрал это время, чтобы по-прежнему заниматься со мною музыкой.
Одним словом, исключая неудовольствие жить с двумя враждебными мне существами, я чувствовала себя почти так же счастливою, как и в Шантильи. Скоро вынужденность должна была исчезнуть, скоро должна была я остаться наедине с Гонтраном. Последнее письмо, полученное Урсулой от г. Семерена, к которому она писала через каждые два дня, извещало о возвращении его к 13-му декабря. Никогда не забуду я этого числа. Оно наступило, наконец.
Хотя г. Семерен с точностью отвечал Урсуле на все ее письма, она уже три дня не получала от него никаких известий.
Это нисколько не беспокоило ее. Она видела в этом новое доказательство близкого возвращения мужа, который непременно уведомил бы ее, в случае перемены своих предначертаний.
Я собиралась сесть с Гонтраном за фортепиано.
Вошедшая в это время Блондо спросила меня, могу ли я принять Урсулу.
Муж мой предупредил отказ, готовый уже слететь с уст моих, сказал: «Она сегодня едет, примите ее. Учтивость этого требует, а я сейчас возвращусь».
Хотя свидание это должно было быть дли меня неприятным, я не колебалась последовать совету моего мужа. Урсула вошла, и мы остались с ней вдвоем.
КОНЕЦ СЕДЬМОЙ ЧАСТИ
Часть 8
VIII. Раскаяние
Урсула была печальна и серьезна.
— После того, что произошло между нами, — сказала она, — я почла обязанностью увидеться и переговорить с вами перед отъездом… Сегодня утром возвратится муж мой. Через час, последнее объяснение было бы невозможными.
— Объяснение! Но к чему же? Оно бесполезно.
— Может быть для вас, вы ни в чем не можете упрекнуть себя на мой счет… Тогда как я, без стыда признаюсь вам, много перед вами виновата…
Я с недоверчивостью смотрела на Урсулу. Я ждала возвращения, не чувства, но притворства. Но я столько раз была обманута ею, что не боялась ее более. Одно, однако же, удивляло меня: кузина моя не старалась принимать свой прежний жалобный и меланхолический тон, служивший ей прежде непобедимым средством. Вид ее был холоден и покоен.
— Вы в самом деле виновны передо мною, — сказала я ей; — я бы не напомнила вам о том перед расставанием: дружбы и связей между нами существовать не может. С этих пор мы навсегда остаемся чуждыми друг другу. Может быть, мне удастся когда-нибудь забыть зло, вами мне причиненное.
— Не ошибайтесь насчёт причины, заставившей меня желать этого свидания, я не пришла просить вас забыть мою к вам зависть и отвращение.
— Так к чему же это свидание?
— Выслушайте меня, Матильда. Вы знаете много пороков моих, но не совсем еще меня знаете. Они ничто в сравнении с тайнами души моей, я много контрастов соединяю в себе… Так, например, я чувствую непреодолимую потребность роскоши, блеска и изящества. Страсть блистать так велика во мне, что я решилась бы сделаться женою самого отвратительного старика, лишь бы удовлетворить этой страсти. Между тем, у меня достает силы, погрести себя в скучную и низкую жизнь, чтобы дать моему мужу время, приобрести такое богатство, которое могло бы удовлетворить вкусу моему к роскоши и позволило бы мне вести в Париже ту жизнь, о которой я всегда мечтала. Я люблю неограниченно властвовать, а между тем могу снести самый грубый, самый скотский деспотизм. Я лжива и притворна, по природе и по влечению, а между тем, на меня находят иногда минуты безумной откровенности. Одним словом, я способна сделать много зла, а иногда и много добра… О! Не улыбайтесь недоверчиво, Матильда, я говорю правду! Я сейчас могу дать вам доказательство слов моих. Конечно, добро, которое я хочу сделать, имеет примесь зла, как и всё в природе, но мне кажется, что добро преобладает, судите сами… Несколько дней тому назад мы говорили с вами, и я призналась вам в зависти, постоянно мною к вам питаемой; да, я глубоко вам завидовала, и могла ли я не завидовать вашей красоте, богатству и блестящим качествам? Я считала вас совершенною.
— Вы льстите мне.
— О! Это не лесть, Матильда. Я была свидетельницею вашей силы обольщения, которую вы выказали над бедной мещанкой и которой было бы достаточно, чтобы вскружить голову двадцати львам; вы обладаете неоценимым сокровищем, кокетством добродетели, так как другие обладают кокетством порока. Одним словом, вы соединяете в себе всё то, чего не достает мне. Неделю лишь тому назад, я завидовала всем этим преимуществам, думая, что вы обязаны им беспримерным счастьем, но теперь…
— Что же теперь? — спросила я, видя, что Урсула колеблется.
— Теперь я знаю, что вы — несчастны… Да, я знаю, что вы — несчастнейшая из женщин, и у меня не достает более смелости завидовать вашим редким и блестящим качествам… Вот вам еще контраст, объясняйте его, как угодно.
— Ваша прозорливость ошибается, — сказала я Урсуле: — вот уже восемь дней, как я счастлива более, нежели когда либо. — И я с гордостью прибавила: — Никогда муж мой не был столь предупредителен и нежен.
— Мы после поговорим об этой предупредительности и нежности, — отвечала Урсула: — теперь же поговорим о причине, превратившей мою зависть и ненависть в сожаление… Если позволите, то я прибавлю в участие… Не знаю, с какою целью, вероятно, желая увеличить мою к вам ненависть, тетушка старалась преувеличивать в глазах моих ваше счастье до того времени, когда наконец, при мне, она известила вас о клевете, жертвою которой вы сделались. Принимая участие в ее злобе, я осталась уверена в одном. В том, что вы — честнейшая и благороднейшая женщина, а между тем, доброе имя ваше, если не погублено, то по крайней мере запятнано навсегда…
— Вы ошибаетесь, истина всегда торжествует…
— Увы! Матильда, не обманывайте себя: ложь и истина так смешались в происшествиях, возбудивших толки света, что вам трудно будет с ними бороться. Свет не любит оставаться в сомнении, и всегда, в таком случае, произносит приговор. Я повторяю вам, что я жестоко отмщена за превосходства ваши, которым я завидовала.
Я приведена была в негодование сожалением, которое старалась выказать Урсула. Похвалы ее возмущали меня. Хотя то, что она говорила мне, было очень вероятно, но я не хотела согласиться с ней.
— Я постигаю, — отвечала я ей: — что вам нужно верить этому, но не радуйтесь заранее. Рано или поздно всякий получает должное. Избавьте же меня от сожаления. Что же касается до моих достоинств, то вы предполагаете им такой конец и награду, что все похвалы ваши обращаются в сарказмы.
Урсула продолжала с непоколебимым хладнокровием:
— Поверьте мне, что я лишь потому превозношу достоинства ваши, что они так дурно вознаграждены. Хотя я менее вас видела свет, но знаю его так, как вы никогда его не узнаете. Потому-то я уверена, что, не смотря на вашу добродетель, доброму имени вашему нанесен смертельный удар.
— Сударыня…
— He обижайтесь этим, Матильда Я знаю, — продолжала она, — что вы почитаете меня самою притворною и лживою женщиною. И потому вы не тронетесь словами моими, но даже придете от них в негодование и снова назовете меня двуличной… Но что за дело, теперь я говорю за себя, а не за вас… Итак! Теперь, когда я знаю горести, которые вы претерпели, и те, которые предстоят еще вам, клянусь вам… О! Да, клянусь, что раскаялась в том зле, которого вам желала, не смею сказать, которое уже сделала.
Голос кузины моей дрожал. Без недоверчивости, которую я питала к ней, я поверила бы ее раскаянию, но я знала, что она умеет притворяться, и потому горько улыбнулась на слова ее и оттолкнула руку ее, искавшую мою.
— Матильда… Вы мне не верите!
— Нет, хотя вы, вероятно, скоро заплачете, чтобы убедить меня.
— Нет, Матильда, нет, теперь я не заплачу… Горе моё глубоко, истинно, и мне не нужны притворные слезы, чтобы убедить вас в нём.
Пораженная цинизмом этого признания, я с удивлением посмотрела на Урсулу.
— Да… да… Я должна признаться… Хотя покажусь, может быть, глупой и безумной.
Да, не смотря на столько разочарований, я была невольно тронута выражением лица и невыразимою кротостью Урсулиного взгляда. Это выражение тем более поразило меня, что оно нисколько не походило на ее обычное притворное выражение. Я верила и верю до сих пор, что она была тогда под влиянием истинного чувства. Однако ж, я хотела всеми силами воспротивиться этому, так сказать, обаянию.
— О! Вы опаснейшая из женщин, — вскричала я: — оставьте меня! Если ваше раскаяние истинно, тем не менее оно тщетно: оно нисколько не уменьшает сделанного вами мне вреда. Вы хотели разрушить мое счастье… Меня не обмануло обхождение ваше с мужем моим, и если б он не чувствовал к вам презр…
Слово это показалось мне слишком жестоким, я не хотела договорить его.
Урсула договорила его за меня.
— Презрения, хотите вы сказать, Матильда? Я могу, я должна все выслушивать.
— Не от вас зависело соблазнить мужа моего и нанести последний, решительный удар женщине, которая всегда желала вам добра… и которую вы почитаете столь несчастною… столь несправедливо несчастною… предполагая, что слова ваши истинны…
— Да, вы правы, — продолжала Урсула: — да, я знала, что не уничтожаю, а напротив, возбуждаю страсть мужа вашего моими насмешками и презрением, во время разговора, незримой свидетельницей которого вы были.
— Страсть! — сказала я, презрительно пожимая плечами: — разве можно назвать так чувство Гонтрана? Скажите лучше, прихоть…
— Я назвала это чувство страстью, Матильда, потому что оно было не что иное как страсть… слышите ли вы?
— Как осмеливаетесь вы говорить это?
— Не думайте, Матильда, чтобы я хотела затронуть ваше самолюбие. Нет, я хочу только исправить хоть часть того зла, которое вам сделала, и слава Богу, еще преуспею в этом.
Голос Урсулы был так убедителен, что я молча слушала ее.
— Да, — продолжала она: — я умела раздразнить страсть вашего мужа. Этот расчет должен успокоить вас только касательно тех чувств, которые я имела к нему, но не тех чувств, которые он имел и имеет еще теперь ко мне.
— О! Это низко, — вскричала я: — какая гнусная клевета! Так вот как хотите вы проститься со мной! Вы хотите, уезжая, оставить в сердце моем ужаснейшее подозрение!
— Матильда, ради вас самих, позвольте мне докончить. Муж мой может приехать сейчас и сделать разговор этот невозможным…
— Ради меня самой, говорите вы?
— Да… да ради вас, несчастная женщина! Выслушайте меня: поверьте мне, что я повинуюсь теперь чувству великодушия, которое, может быть, утешит меня когда-нибудь во многих дурных делах, сделанных мною… Выслушайте же меня, если не для вас самих, то, по крайней мере, для будущего вашего ребенка.
— Как, вы знаете? — вскричала я, пораженная удивлением… — Одному только Гонтрану поверила я эту тайну.
— Да, да, я знаю, — продолжала Урсула: — и эта причина в особенности, усилив угрызения моей совести, побудила меня действовать так, как я теперь действую… — После мгновенного колебания, Урсула продолжала дрожащим голосом, потупив глаза: — Вы помните, конечно, тот живой разговор, который мы имели с вами?
— Да, да… Но что же далее? — вскричала я со страхом, сердце мое сжималось от тягостного предчувствия, при мысли, что муж мой открыл ей тайну, которую должны были знать только я, да он.
— Я не хочу припоминать старого, — продолжала она, с возрастающим замешательством: — но если я тогда прямо призналась в постоянной моей к вам зависти, Матильда, то и вы жестоко поступили со мной, упрекнув меня в постоянной связи, в которой я никогда не сознаюсь. Вы упрекали меня также и в вероломстве, притом же я почитала вас тогда счастливейшею из женщин и клянусь вам, не знала еще страданий ваших: припомните, Матильда, только вечером, узнала я через вашу тётку часть огорчений ваших…
— Договаривайте же… договаривайте, ради самого неба… Что же случилось после нашего разговора? Да, припоминаю, вы пошли гулять в лес…
— О! Простите меня, Матильда, я пошла к вашему мужу… Который ждал меня в необитаемой избе лесничего…
Признание это было столь ужасно и неожиданно, что я не могла с первого раза поверить ему. Речь шла о последней надежде моей… о том, что я должна была поверить, что в последние восемь дней, поведение Гонтрана было сцеплением лжи… О том, наконец, что нежность его ко мне служила только прикрытием его доброго с Урсулой согласия. Я не могла и не хотела поверить этой ужасной истине… Я вскричала вне себя:
— Вы клевещете на Гонтрана. Он провел этот день на охоте. Один из слуг его уведомил меня об этом.
— Слуга сказал то, что ему было приказано.
— Стало быть, слуга лгал?
— Да, да… Простите мне, Матильда: увлеченная моею к вам ненавистью. Желая отмстить вам, отняв у вас мужа… Я сделалась виновною.
— Повторяю вам, что не верю… Что вы клевещете, желая нанести мне жестокий удар.
— Я только смело говорю вам истину, Матильда, не смотря на то, что она постыдна для меня и тягостна для вас.
— Ты слышишь, о Боже! — вскричала я, поднимая руки к небу.
— О! Прости меня, Матильда. Когда я узнала, что вы несчастливы, когда Гонтран сказал мне, что вы готовитесь стать матерью. О! Тогда я раскаялась, и злоба умерла в моем сердце… Я ужаснулась поступка своего, при мысли, что я уступила не любви, а низкой ненависти и позорному чувству мщения.
— Боже мой! Боже мой! — вскричала я, в порыве невыразимого отчаяния: — Дай мне безумие или отними у меня жизнь… Я не могу… я не хочу более страдать!
— Матильда… Простите мне, клянусь вам, что я не знала тогда, какое право имеете вы на сострадание. Я не знала постыдного равнодушия к вам мужа вашего. Я не думала, что любовь, которую он питал ко мне, могла сделать его столь притворным, несправедливым и жестоким к вам, вы не знаете еще его намерений…
— Но это ужасно! — вскричала я: — Сама шла навстречу бесчестию и осмеливается обвинять мужа моего! Но кто же эта женщина… и кто он сам? Мой ли это кошмар, или ужасная действительность? Вы, стоящие предо мною, кто бы вы ни были, отвечайте мне, скажите мне, что ложь и что истина? Как! Нежность, которую расточал мне Гонтран в последние восемь дней, была обманом и оскорбительным притворством? Но к чему же оно? Ведь вы уезжаете? О! Это хаос, в котором ум заблуждается… я брежу… я в горячке… Боже! Сжалься надо мною… просвети меня… Довольно ли унижена я, Урсула? Довольно ли я несчастлива? Смотрите, я у ног ваших…
— Вставьте, ради Бога, встаньте, Матильда, я… я прошу вас о прощении…
— Я прощаю вас… я прощаю все… Но скажите мне истину, сколь бы ни была жестока она… Я — мать, я не принадлежу себе. Горе убьёт дитя мое. Я говорю вам, что не хочу более страдать после столь постыдного обмана. Надежда возвратить Гонтрана, погибла безвозвратно. И что ж… я покорюсь своей участи… я не увижусь с ним более… я одна останусь здесь… и когда родится дитя мое, я, может быть, снова буду счастлива… Итак, Урсула, не бойтесь… скажите мне всё… слышите ли? Всё… откровенность ваша может спасти мне жизнь… Говорите же, говорите: мне необходима уверенность, какова бы она ни была. Лучше смерть, нежели муки.
— Бедная… несчастная женщина! — сказала Урсула, закрывая руками лице, орошенное слезами.
— Да, не правда ли, я очень несчастна? Долее преследовать меня, было бы варварством… Вы видите, что нельзя быть более несчастной. Желание ваше исполнено. Ненависть ваша удовлетворена.
— О! Я слишком отомщена… Это ужасно! Ужасно! К несчастью, я не имею власти над прошедшим… но я могу много сделать в будущем… Выслушайте меня… Вот письмо, писанное мне Гонтраном, а вот и ответ мой: он не уменьшает вины моей, но доказывает, по крайней мере, желание исправиться. Я выставляю себя в столь гнусном свете в этом письме, что, не смотря на мое раскаяние, я не решилась до сих пор отдать его Гонтрану, возьмите же его.
И Урсула подала мне запечатанный пакет, который я машинально и приняла.
— Теперь еще одно слово, Матильда: я могла бы умолчать об этом, уехать в Париж и оставить вас в полном ослеплении: но читая письмо мужа вашего, вы увидите намерения его в будущем. Вы увидите, что он питает ко мне необузданную страсть, следствия которой заставили меня трепетать… Доселе я говорила вам только о зле, мною вам сделанном, теперь скажу вам средства, которыми я надеюсь, хотя отчасти, загладить его… Если я подам вам хотя тень подозрения, отошлите г-ну Семерен письмо, написанное мною к Гонтрану. Если вы хотите отомстить за прошлое, Матильда, отошлите сейчас письмо это, оно вполне откроет мужу моему проступок мой. Я знаю своего мужа: доброте и доверию его нет границ, но он будет неумолим, как скоро уверится, что стал жертвою обмана. Он прогонит меня, отец мой не захочет видеть меня. И из мечтаний о роскоши я впаду в ужаснейшую бедность… А вы не знаете, Матильда, до чего может довести меня бедность. И притом же, — прибавила Урсула, почти торжествующим голосом: — во всем этом видна рука судьбы… я никогда не пишу… я слишком хитра, чтобы сделать что-нибудь, могущее погубить меня. Проступок мой мог остаться, если не в тайне, то, по крайней мере, без доказательств, а между тем, я написала письмо это, могущее погубить меня. А между тем, я добровольно вверяю вам его: вы видите сами, что ничто не заставляет меня доверяться вашей скромности. Ничто не заставляет меня поступать так, как я поступаю теперь, если не контрасты природы моей, о которых я говорила вам, и над которыми вы смеялись, Матильда.
Эта испорченность и цинизм, с которыми смешивались род великодушия и возвышенности, казались мне непонятными. Я спрашивала себя и спрашиваю еще и теперь, было ли это признание следствием позднего ко мне участия, или расчетом самого адского вероломства…
С намерением ли вверялась она моей скромности, чтобы довести отчаяние мое до высочайшей степени, открыв мне измену мужа моего, или в самом деле желала она дать мне на будущее охранное средство против себя и Гонтрана.
Я глядела на кузину мою с ужасом, удивлением и недоверчивостью.
Вдруг на дворе раздался лошадиный топот.
Спальня моя была в нижнем этаже. Урсула бросилась к окну, подняла одну из занавесок и сказала мне с трогательною простотой, которая невольно меня тронула:
— Матильда… Карета моего мужа въезжает на двор… Вы можете все рассказать ему и отмстить таким образом за всё зло, мною вам причиненное.
Мы молчали несколько мгновений… Дверь комнаты моей отворилась. Ошеломленная Урсула отступила назад.. Это был не муж ее, но его мать г-жа Семерен…
IX. Наказание
Вероятно, обстоятельства, приведшие г-жу Семерен в Маран, придали ей сверхъестественную силу.
Она ходила обыкновенно с трудом, сгорбленная старостью и недугами… Теперь же, она вошла твердыми, почти поспешными шагами.
Морщины, казалось, сгладились с чела ее, которое блистало каким-то грозным удовольствием поразительного торжества, придававшего лицу ее характер грозный и величественный.
По ее величественному и гордому положению, по ее грозной улыбке, острому взгляду можно было догадаться, что мать, оскорбленная в любви своей к сыну, мать, пожертвованная супруге, исполненная радостью, пришла жестоко отомстить за себя.
При виде этой бледной женщины с распущенными волосами, в черном одеянии, я так испугалась, что забыла все происшедшее между мной и Урсулой.
Подобно кузине моей я стояла немой и ошеломленной.
— Господи! Не покидай меня, дай мне силу до конца выполнить обязанность мою! — вскричала глухим голосом г-жа Семерен.
И как бы склоняясь под бременем тяжкого впечатления, она оперлась морщинистой рукой своей на спинку кресел, потом, проницая, так сказать, взглядом Урсулу, она воскликнула:
— Я говорила тебе, несчастная, что рано или поздно, Бог разоблачает преступников и карает их… — И обратившись ко мне, она присовокупила: — Я говорила вам, что будете наказаны этой женщиной за несправедливое к ней сожаление! Я говорила вам, что сын мой возвратится ко мне, и что тогда я буду для него единственным утешением.
И она скрестила на груди руки, качая головой, с выражением угрожающей гордости.
Вошел Гонтран, последуемый тетушкой и незнакомым человеком.
— Позвольте мне узнать, что доставляет нам честь вашего посещения, и кто этот господин, приходивший за мной от вашего имени? — сказал г-н де-Ланкри.
— Это старший приказчик сына моего, я не могла путешествовать одна, и сын мой приказал ему сопровождать меня. Фирмен, мы едем через час, — сказала г-жа Семерен, обращаясь к незнакомцу, — ступайте и затворите за собой дверь.
Гонтран посмотрел на меня с удивлением. Приказчик вышел. Мы остались впятером.
Гонтран и тетушка не знали начала этого свидания, но предчувствовали, что дело идет о чем-то важном.
— Вы принадлежите к семейству? — спросила г-жа Семерен тетушку.
Та окинула ее с ног до головы взглядом и обратилась ко мне, как бы спрашивая:
— Что это за женщина?
Г-жа Семерен отвечала:
— Я свекровь Урсулы.
— Мадемуазель де-Маран, — прибавила я, указывая на тетушку.
Г-жа Семерен, помня похвалы, расточаемые сыном ее на счет характера тетушки, подошла к ней и сказала:
— Вы согласитесь со мной… Вы примете сторону добрых против злых. Сын мой не раз говорил мне, что вы, подобно мне, добры, откровенны и враг всякого притворства… Выше присутствие полезно. Чем более судей, тем лучше, ибо виновных много.
— Хотя я ни слова не понимаю из сказанного вами, сударыня, я, тем не менее, рада случаю сказать вам, что у вас премилый сын, и что то, что он говорил вам обо мне, доказывает его справедливость и проницательность. Надеюсь, что и то, что он говорил о вас, основательно. Нам остается поздравить друг друга с взаимным знакомством.
Г-жа Семерен пристально посмотрела на мадмуазель де-Маран, вследствие ли привычки наблюдать, или по инстинкту материнского сердца, или, наконец, потому, что улыбка мадемуазель де-Маран обличила ее насмешку, но после мгновенного молчания она отвечала тетушке, грозя пальцем:
— Нет… нет,… Я вижу, что мы с вами никогда не сойдемся. Взгляд ваш зол, сын мой обманулся на ваш счет, как он обманывался на счет многих.
Тетушка громко засмеялась и отвечала:
— Послушайте, вы, мне кажется, чрезвычайно похожи на Сивиллу, на колдунью, с вашими громкими несчастными пророчествами, но позвольте сказать вам, как бы я сказала сыну вашему, что пророчества ваши не совсем учтивы.
— Я не знаю, что такое Сивилла, но знаю, что надо мною смеются, — отвечала с гордостью г-жа Семерен.
— Я с удовольствием напомню вам, что Сивилла Кумская была родственницей пророчицы, которая, с дьявольским гримасами и разного рода ужимками предсказывала преудивительные вещи.
Муж мой, испуганный бледностью Урсулы, с которой он не спускал глаз, сказал, обращаясь к г-же Семерен:
— Сударыня, могу ли еще разузнать, что доставляет мне честь вашего посещения? Жена моя взволнована, невестка ваша тоже. Вы призвали меня сюда… Что же все это значит? Объяснитесь ради Бога.
— О! Вы узнаете все, — отвечала г-жа Семерен.
Я смутилась, предчувствуя, что женщина эта имеет в руках доказательства дурного поведения Урсулы, но не спешит открыть их. Она, казалось, медленно наслаждалась мщением своим и радовалась страху кузины моей.
Урсула, не смотря на обычное хладнокровие и дерзость свою, казалась пораженною. Она чувствовала, что ей невозможно будет убедить свекровь свою.
Признаюсь, что, не смотря на то, что я имела множество причин ненавидеть Урсулу, я почувствовала жалость при мысли, что она погибнет в то самое мгновение, когда раскаяние вдохнуло в нее чувство великодушия.
Г-жа Семерен вынула из кармана пакет, совершенно похожий на тот, который отдала мне Урсула. Это было мне тем легче заметит что и то, и другое письмо были на синеватой бумаге, которая была заготовлена мной для Урсулы. Впоследствии увидим, зачем упоминаю я об этом обстоятельстве.
— Знаете ли вы это письмо? — сказала громким голосом г-жа Семерен, показывая его Урсуле. Потом он присовокупила с достоинством, поднимая палец к небу: — Видите ли вы в этом перст Божий? Доказательством первого вашего проступка было письмо, которое вы дерзко у меня похитили… Доказательством второго вашего преступления служит также письмо, но в этот раз вы сами отослали его к сыну моему… Господь поразил вас рассеянностью.
Урсула не отвечала ни слова, побледнела как смерть, бросилась к мне. Выхватила данное мне ею письмо, распечатала его, быстро оглянула его, потом уронила его на пол, опустив в безмолвном отчаянии голову на грудь.
Жертва роковой ошибки, несчастная ошиблась адресом…
Она отослала мужу своему письмо Гонтрана и свой на него ответ, мне же дала письмо, написанное ею к г-ну Семерену.
— Не сбылись ли слова мои? — продолжала г-жа Семерен. — Простая ошибка сделала то, что сын мой узнал вас наконец вполне… Он увидел, что Бог говорил устами моими, когда я сказала в Рувре: «клянусь, что эта женщина виновна… Прогоните ее… Хотя и не имеете доказательств вины ее!» Тогда я казалась безумною, не правда ли? Но Бог оправдал меня и доказал, что материнский инстинкт никогда не ошибается.
В самом деле, в этом было столько непонятного, что все мы молчали, пораженные удивлением.
Тётушка первая прервала молчание и сказала г-же Семерен:
— Ради Бога, объясните тайны, которые вы так хорошо знаете, растолкуйте нам, в чем дело, и избавьте нас от ваших прекрасных нравоучений.
— Безбожная, злая и безнравственная старость всегда подает дурной пример, — сказала г-жа Семерен; потом она прибавила: — зная теперь, что вы воспитали этих двух женщин, я не удивляюсь испорченности одной, но меня удивляет добродетель другой.
— Что такое? Что такое? — воскликнула тётушка. — Хотя вы прекрасно знаете все таинства Провидения, это не дает, однако же, вам права быть грубою с нами, бедными смертными. Что бы ответили вы мне, если бы я сказала вам, что вы воспитали сына своего так, что он этого заслуживает?
— Ради Бога, сударыня, кончим этот спор, — сказал Гонтран г-же Семерен. — Надобно же, чтоб я узнал, наконец, чего вы желаете.
— Я хочу, чтобы жена ваша прочла письмо это, которое вы писали к жене сына моего…
И она подала мне письмо.
— Я хочу, милостивый государь, чтобы вы прочли письмо, которое писала к вам эта женщина. Бог справедлив… Надобно, чтобы она была равно ненавидима и тем, кто разделял проступок ее, и тем, кого она так низко обманула.
И она подала письмо Гонтрану.
— Теперь я прочту этой бесстыднице письмо моего сына.
Потом, не изменяя своему хладнокровию, она скрестила руки и молча посмотрела на нас.
Муж мой был поражен. Он понял, наконец, весь ужас положения Урсулы и в особенности то, как должно было взволновать меня это неожиданное открытие.
Урсула, уничтоженная, казалось, не видела и не слышала ничего.
Сцена эта приняла столь важный характер, что тётушка моя забыла на время свою насмешливость и, казалось, со вниманием наблюдала за происходящим.
Я была в каком-то лихорадочном волнении, которое поддерживало на время истощенные силы мои, но чувствовала, что недолго устою, и может быть, совсем лишусь памяти, прежде, чем тайна совершенно разоблачится.
Между тем, как Урсула погружена была в размышления, а Гонтран читал ее письмо к нему, я тоже читала письмо мужа моего, бывшее поводом к ответу Урсулы.
X. Письмо виконта Де-Ланкри Урсуле
«Нет, нет, Урсула! Я не могу повиноваться вашим приказаниям… Ваше поведение так непостижимо, ощущения мои так странны, после счастья, которым вы меня наделили, что я непременно должен писать к вам, потому что не могу объясниться с вами словесно. Объясниться же словесно не могу, потому что вы, без сомнения, из осторожности избегаете свидания со мною наедине.
Не знаю, нахожусь ли я в состоянии бдения или сна. Быть может, вы поможете мне объяснить эту тайну.
Обладание пламенно любимой женщиною делает нас счастливыми и гордыми. И не смотря на то… В день, последовавший за днем, долженствовавшим быть счастливейшим во всей моей жизни, мной овладела мрачная грусть, которая еще усиливалась от вашего непостижимого поведения… Повторяю вам, что все происходящее во мне так странно, что я прихожу в ужас! По немому, глубокому волнению, терзающему душу мою, я предчувствую, что скоро должен совершиться важнейший из переворотов моей жизни».
Любовь моя к вам неизменна, потому что она беспредельна… Она неизменна, потому что я люблю вас в тысячу раз более, нежели вы меня! Вы первая из женщин, которая владеет мною! Признаюсь вам, что близ вас я чувствую свое совершенное ничтожество… Вы сказали, что желаете тирана или раба.
У вас есть раб, раб слепой, покорный и послушный.
Мне стыдно сознаться в этом, а между тем я сознаюсь, ибо надеюсь, что мое униженное самоотвержение обезоружит вашу безжалостную иронию, которая преследовала меня даже среди неизмеримого счастья, доселе не имевшего завтрашнего дня! Да, и тогда казалось мне, что я принадлежу вам, но что вы не принадлежите мне. Если б я верил в демона, то я придал бы ему ваш взгляд, в то время, когда он видит несчастного, впадающего во власть его, силой адских чар его.
Сравнение это покажется вам смешным, безумным. А между тем оно справедливо. Оно объясняет, как нельзя лучше, чувство истинное, но неизъяснимое… Да, Урсула, с того дня, душа моя уже не принадлежала мне… Она ваша, ангел или демон! Что сделаете вы с ней?
Мне кажется, хотя это глупо и безумно, что сердце мое уже не бьется в груди моей, но бьется рядом с вашим сердцем… Я с ужасом вижу, что я не любил до сих пор… Не примите слов моих за истертую лесть, Урсула. Если б я хотел льстить вам, то не говорил бы таким грустным и печальным языком: он не поможет мне. Он скучен, странен. Он говорит вам только то, что вы уже знаете, ибо вы сознаете ваше надо мною всемогущество.
Нет… нет… повторяю вам: я не любил до сих пор. Я всегда думал и думаю теперь, что мужчина истинно любящий, похож на женщину своею робостью, покорностью и недоверчивостью… Вот то, что я возле вас чувствую, Урсула… И школьник не признался бы в этом. Это значит давать вам превосходство над собою… Но к чему бороться мне? От чего со дня, когда вы явились мне в совершенно новом свете, когда вы так безжалостно насмехались надо мною, от чего страсть моя приняла столь необузданный характер?
От чего прельстился я не вашими качествами, а дерзостно правил ваших, искрометной иронией ума вашего, и тем жгучим красноречием, с которым вы так сладострастно описывали волнения чувств при приближении любимого человека.
Надобно во всем признаться вам: знаете ли, от чего обладание делает меня столь несчастным, беспокойным и печальным? От чего не дало оно мне власти над вами? Зачем, повторяю я: «я принадлежу вам, а вы мне не принадлежите?» Потому… Страшно поверить, страшно вымолвить потому что вы уступили не упоению любви и не влечению чувства, но как будто бы какому-то постороннему, тайному влиянию.
О! Вы не знаете, сколько ужасных сожалений, сколько пламенных желаний, сколько радостных и безумных надежд вы по себе оставили!
С того дня, я тщетно ищу на лице вашем нежных воспоминаний… Притворство ли это, расчет ли, нечувствительность, или просто благоразумие? За что вы со мною так поступаете? Разве я более не любовник ваш? Неужели, из адского кокетства открыли вы мне все, чтобы заставить меня сожалеть с большим бешенством?
Клянусь небом! Это не может быть! Я не верю себе, но верю в силу отчаянной любви моей! Те упоительные чувства, о которых вы говорили с такою увлекательностью, вы их чувствовали и ко мне… О! При одной этой мысли, кровь моя кипит и голова теряется… Урсула! Урсула! Все, все, за любовь вашу, даже преступление!
Если б вы любили, о! Если б вы любили, была ли бы в мире более очаровательная любовница! О! От одной этой мысли можно сойти с ума!
Урсула! Повторяю вам, по биению сердца моего чувствую я, что вы полюбите меня так, как я хочу, чтобы вы любили меня… О! Я заставлю вас… Не примите слов моих за пустую и глупую самонадеянность… Нет, я почерпаю уверенность свою в глубине страсти моей.
Иногда, однако же, я надеюсь, мне кажется тогда, что ваша беспечность принуждена, что вы желаете только скрыть страсть свою от жены моей… Но нет, вы сказали бы мне хоть слово, вы подали бы мне хоть один знак. С того жестокого и вместе сладостного дня, вы избегаете встреч со мною и Бог знает, удастся ли мне передать вам письмо это!
Странная, непостижимая женщина! Вы отвечаете мне сарказмом, если я как-нибудь заговорю вам о любви моей! Но страннее всего то, что вы знаете, что жена моя боится и ненавидит вас, вы же с того самого дня, когда так жестоко оскорбили ее, смотрите на нее с трогательным участием. Раскаяние ли это? Нет, вы никогда не раскаетесь. Такой проступок… Не есть проступок… И притом, разве вы не стараетесь заставить меня обожать и сожалеть Матильду.
Видя непонятное равнодушие ваше, я, чтобы отвлечь подозрения жены моей и возбудить в вас, если возможно, чувство ревности, окружил ее самою нежной заботой… Вы же, кажется, довольны этим и не завидуете… Урсула! Кто же вы? Чего хотите вы? Иногда вы пугаете меня, а мне кажется, что вы имеете самое роковое влияние на жизнь мою… Нет, нет, простите, я в бреду… Урсула! Не обижайтесь письмом этим. Вы одна из тех высших женщин, которым можно все высказывать…
Непоследовательность мыслей моих доказывает вам восторженность бедной головы моей. Мысли мои сталкиваются, борются. Тысяча призраков являются моему воображению, потому что ум мой и сердце в неведении, потому что я не знаю, что вы для меня. Это состояние сомнения ужасно. Если оно продолжится, то не знаю, достанет ли у меня силы притворяться с Матильдой и не погубить вас: к счастью, рассеянность, в которую ввергает меня ваше равнодушие, кажется жене моей следствием моей к ней любви. Еще несколько дней, и все объяснится.
Вы не знаете меня, Урсула, вы не знаете непобедимого упрямства моего характера. Я сам не знал его до сих пор. Я только тогда откажусь от надежды быть любимым вами, когда испробую все, что только возможно человеку… Нет, я не могу допустить мысли, что я когда-нибудь откажусь от этой надежды… Тайный голос говорит мне, что я успею.
Вот мои намерения. Не пытайтесь противиться им, старания ваши буду тщетны. Вы едете через несколько дней в Париж. Я же уговорил жену мою остаться всю зиму в Маране, через две недели по отъезде вашем, я соединюсь с вами в Париже. Денежные дела послужат мне предлогом к отъезду. По приезде в Париж, я найду средство продолжить там свое пребывание, положение жены моей не допустит ее последовать за мной, притом же, я не позволю ей этого. Я готов быть жестоким со всеми, кроме вас. Один только страх, что Матильда, побуждаемая ревностью, может возбудить подозрения мужа вашего, заставляет меня притворяться с ней.
Одно только ослепление Матильды может не заметить того, что роль моя с ней тяжела и возмутительна для меня… Но этому скоро будет положен конец. Я соединюсь с вами в Париже. Родство наше дозволит нам видеться ежедневно, не возбуждая подозрений вашего мужа. Тогда, Урсула, ничто не будет стеснять меня, я буду стараться заставить полюбить себя… И вы меня полюбите. Требуйте от меня все возможные и невозможные жертвы, с радостью буду я покоряться вам, ни о чем не буду я сожалеть, ибо теперь все, что не вы, не существует для меня более… Ты… Ты одна, Урсула, тебя отнять желаю я… Отвечай, согласна ли ты? Разорвем слабые цепи, удерживающие нас, и далеко, далеко отсюда скроем любовь нашу. Да не удерживает вас жалость, счастлива ли, или не счастлива будет любовь моя, это не изменит участи жены моей. Если бы она соединяла в себе еще более качеств и совершенств, и тогда не воскресла бы в сердце моем любовь к ней.
Вы идеал, мечта моего сердца, моего ума, чувств моих, жизни моей… Судите сами, может ли Матильда поколебать власть вашу, если вы меня любите, или утешить меня, если вы меня не любите.
Еще раз, Урсула, вас… одну хочу я, без условий. Я не хочу предполагать ни каких условий, ибо не хочу увидать в бездонной пропасти, которая раскроется надо мною, если вы… Но нет, нет, вы меня любите, надобно, чтобы вы любили меня. Случай не вотще отдал вам душу мою, я вами только и существую, вы были моею! Что ни говорите, что ни делайте, мы должны принадлежать друг другу. Я не отступлю ни перед каким средством, слышите ли вы? Сама судьба хочет этого… Прощай, ангел или демон, я разделю рай или ад твой.
«Г.»
Я после объясню внезапную глубокую реакцию, произведенную во мне этим письмом.
Пока я читала письмо это, Гонтран читал ответ на него Урсулы, который, по ее мнению, находился в моих руках.
XI. Письмо Урсулы к Гонтрану
Я — великодушна. Отсылаю вам письмо ваше, которое очень меня позабавило: в нем царствует смесь недоверчивости и самохвальства, ослепления и проницательности, самоотвержения и эгоизма, нежности и жестокосердия, которые весьма занимательны для наблюдательности. Но во всем этом нет возвышенности, прелести и даже ума (хотя вы сами не имеете в нем недостатка). Но так как все это естественно, даже очень наивно, то признаюсь вам, что вы убедили меня.
Да, я верю страсти вашей… Верю, что вы любите впервые. Верю, что вы готовы на все, чтобы приобрести любовь мою. Знаю, что вы способны на самые безумные попытки, на самые черные дела, чтоб только достигнуть желаемой вами цели. Знаю, наконец, что вы способны на истинное самоотвержение в мою пользу: вас не узнаешь теперь, мой бедный кузен.
Не желая заслужить те дьявольские качества, которые вы мне приписываете, как будто бы необходимы сверхъестественные знания для того, чтобы понравиться вам, я верю, что имею большое на вас влияние. Пусть влияние это будет роковым, как вы его называете, но это зависит от вас самих.
Так же как и вам, мне кажется, что пороки мои вскружили вам голову.
Во-первых, вы вовсе не вселили в меня желания иметь добродетели, если я их не имею… Или выказывать их, если они во мне обретаются: эти девственные жемчужины скрываются на дне души, как перлы на дне моря. Богатства эти не достаются никогда тем, которые плавают только по поверхности волн, которым они служат игрушкою… Есть уединенные и таинственные бездны, куда никогда не проникнет близорукий и слабый взгляд.
И так, любезный кузен, мы согласны во многом и несогласные только в главных пунктах: вы думаете, что силою любви своей вы заставите любить себя, я же с подобною же твердостью объявляю вам, что никогда любить вас не буду, и что сила любви вашей заставит меня ненавидеть вас. Ибо любовь, которую возбуждают, находится всегда в обратном отношении к любви чувствуемой. Как это вы до сих пор не знаете любовной азбуки, синьор Дон-Жуан?
Если бы страсть не сделала вас непонятливее школьника, вы бы увидели глубокую истицу, в следующих словах письма вашего, который были выражением оскорбленного самолюбия вашего:
«Никогда римская императрица не доказывала лучше, что раб не есть человек».
Я подчеркнула слова эти, они того стоят. На этот раз вы отгадали: другими словами это значит: что мщение не есть любовь. Понимаете ли вы теперь загадку? Разгадываете ли вы теперь мое странное поведение? Нет еще? Как же вы не догадливы! Я начну немного повыше, в надежде, что исповедь эта вселит в вас непреодолимую ко мне ненависть. Теперь, к несчастью, поздно казаться вам почтенною, но этим я погасила бы страсть вашу.
Приехав в Маран и намереваясь даже принять предложение Матильды, жить в Париже в одном с вами доме, я желала влюбить вас в себя, если можно так выразиться… Сейчас скажу вам, какова была цель моя.
Я соединяла в себе все необходимые условия, чтобы увлечь вас. Во-первых, я не любила вас, я чувствовала превосходство свое над вами. Сверх того я думала, что заставить влюбиться человека, избалованного успехами, легче всего насмешками, раздражением его самолюбия и наконец совершенным хладнокровием к его блестящим качествам.
Вся эта система, развитая с искусством, доставила мне желаемый успех.
В Рувре, в самое утро приезда вашего, вы сделали мне внезапное и довольно дерзкое объяснение. Я отвечала на него так, как требовали того мои намерения.
Здесь вы возобновили ваши нежности, я отвечала вам и доказала, что ни сколько вами не занималась. По духу противоречия, вы пристрастились ко мне: это очень естественно. В несколько дней я усилила любовь вашу, не взаимностью, нет, я усилила ее противоречием, насмешками странностями и цинизмом, которые возмутили бы всякую благородную душу.
Я сама не могла верить успехам моим, приобретенным столь низкими средствами. Если б я имела о вас высокое мнение, то легкость успехов моих разрушила бы его.
Припомните и то, синьор Дон-Жуан, что женщины моего характера любят тем сильнее, чем более им противятся. Они презирают легкими успехами. Им приятна борьба, препятствия прельщают их, они пристращаются к невозможному.
Одним словом, воспользуйтесь советом моим… Если вы когда-нибудь встретите одну из подобных мне, то заметьте, что единственное средство прельстить их, есть равнодушие к ним.
Вы не можете мне нравиться, любезный кузен, потому что мы слишком походим друг на друга (надеюсь, что я скромна). Мы оба повинуемся закону притяжения от противного. Если вы остаетесь в этом нормальном пути, как говорил ученый Биссон, то вы успеваете… Может быть, и Матильда любит вас так потому, что вы столько же развращены, сколько она чиста. Когда же вы обращаетесь ко мне, которая, в теоретическом отношении, стоит может быть на одной с вами точке, то вы сами изменяете себе, теряете свои преимущества, и я смеюсь над вами.
Авгуры не могли без смеха смотреть друг на друга, потому-то серьезная любовь ваша причиняет мне невыразимую весёлость. Берегитесь, обманутый плут обманет в тысячу раз более, нежели честный человек.
Сказав это, любезный кузен, возвратимся к предмету вашего удивления.
Однажды, внезапно, без всяких причин (по крайней мере, по вашему мнению), вы отдались мне, тогда как я не отдалась вам… С этого времени вы находили меня холодной, презирающей, и столь же мало заботящейся о прошлом, как будто бы оно не существовало. Вы удивляетесь этой внезапной холодности, приписываете ее демону, судьбе и Бог знает чему еще. Вы спрашиваете меня, любила ли я вас, имела ли я, по крайней мере, живое к вам влечение? Ни сколько. Вы очень милы, но меня, к несчастью, предурной вкус. Как, скажете вы, вы не чувствовали ко мне ни любви, ни влечения, ни даже малейшей склонности, а между тем, вы… Нет, это не возможно, повторите вы.
Вы забываете, любезный кузен, что есть разные страсти, и что любовь — не сильнейшая из них… Вы не знаете, стало быть, что женщина, подобная мне, для удовлетворения своей ненависти и мщения осмеливается на то, на что не осмелилась бы она ни из самой страстной любви, ни из простой склонности. В этом последнем случае, она повиновалась бы инстинкту кокетства, который подсказал бы ей, что легкая победа приносит скоропреходящее удовольствие.
А если бы она любила страстно… О! Тогда она не стала бы рассуждать… Любовь, истинная и глубокая. Любовь, вдохнула бы в нее самую изящную деликатность… Если бы она знала, то пала бы в чистом и целомудренном упоении. В слепом увлечении своем, она сознала бы ошибку свою лишь после совершения ее. Следствием ошибки этой были бы для нее угрызения совести, стыд и нега горькая и жгучая. Одним словом, чувства ее были бы чувствами благороднейшей из женщин, ибо искренняя любовь возвышает иногда самые развратные сердца до сердец самых чистых.
«Что ж это за тайна? Что вы для меня такое?» — спрашиваете вы.
Слушайте… Я ненавижу жену вашу, с тех пор, как в состоянии анализировать чувства свои и отдавать себе отчет в добре и зле.
Я ненавижу ее потому что, с тех пор как я живу, не было ни дня, ни часа, когда не жертвовали бы мною ей, когда бы она не подавляла меня своим превосходством.
Никогда зависть и ревность не были возбуждены до такой степени… Чтобы вернее поразить, я хотела поразить ее в том, что для нее драгоценнее всего… Я решилась лишить ее вас, не потому, что вы мне нравились, но потому, что она обожала вас.
Несколько дней спустя после нашего свидания, которому Матильда была невидимой свидетельницей, я имела с ней продолжительный разговор. Она осыпала меня упреками, она угрожала мне презрением своим, и я должна сознаться теперь, справедливым презрением, она раздражила самые худшие чувства мои. Вы назначили мне свидание, я поспешила удовлетворить мщению своему и утвердить над вами власть свою. Ибо тогда… но нет, нет, никогда не узнаете вы моих гнусных намерений… Вы бы слишком полюбили меня, я хочу заставить вас забыть себя.
Теперь вспомните, что в тот самый день её тётка получила письма из Парижа, и что при мне она рассказала вам все ужасные наветы, жертвою которых стала Матильда. Не смотря на все её преувеличения, я поняла, что доброе имя Матильды оказалось запятнано в общем мнении. Случай показал мне, что та, которую я почитала счастливейшей, была несчастнейшею из женщин. До сих пор она жила лишь для вас и для добродетели. Она всегда была достойна любви и уважения… А между тем доброе имя ее было почти потеряно… А вы покидали ее для меня… Это уж слишком.
Что же возбудило во мне сожаление, внезапно заменившее ненависть мою к Матильде? Благородное ли и доброе чувство? Не уверенность ли, что жена ваша, будучи несчастливой перестает быть для меня предметом зависти… Или, может быть, совершенное знание вашего характера и того, что предвещает он Матильде? Да, я думаю, это обезоружило меня… Мщение мое было более, нежели удовлетворено, будущностью, которую вы обещаете жене вашей. Любовь ваша делается для меня теперь совершенно бесполезною, извините меня кузен, что я понапрасну прельстила вас.
Что же касается до бедной Матильды, то я, к несчастью, не могу изменить прошедшего, но много могу сделать в будущем…
Я — такая странная женщина, что с той минуты, когда я сжалилась над нею, я почту преступлением, хотя сколько-нибудь возбудить ее ревность.
Вот причина моей внезапной холодности, вот почему вы должны отказаться от меня!
Не надейтесь, заклинаю вас, на короткость вашу с мужем моим, для того, чтобы видеться со мною в Париже, в том случае, если вы будете иметь глупость туда за мною следовать.
Чтобы объяснить г-ну Семерену мой внезапный отъезд, я принуждена буду сказать ему, что вы немножко слишком занимались мной и что для спокойствия Матильды, равно как и для того, чтобы избавиться от ваших преследований, я решилась покинуть Маран.
Вы видите, что вам будет очень не кстати пользоваться родством своим».
Останьтесь с Матильдой. Если в вас есть, не скажу великодушие, но просто инстинкт самосохранения, то вы снова полюбите ее. Она будет вашим ангелом хранителем.
Если же, не смотря на мое равнодушие, вы будете настаивать на своем намерении, я сделаюсь вашим демоном.
Вы страстно любите меня, я этому верю. Но с безнадежною страстью всегда легко справиться… И потому для пользы Матильды и моего спокойствия (примите слово это в прозаическом значении — избавление от привязчивости докучливого), я стараюсь убедить вас в совершенной бесполезности ваших будущих попыток.
Я боюсь только одного, чтобы вы не сохранили какой-нибудь надежды. несмотря на ваше видимое унижение, в вас много непреодолимого самолюбия, тем более опасного, что вы можете оправдать его перед всеми, только не предо мной. Вы, может быть, этого не думаете — ибо никогда не предполагают оскорбительных исключений.
Вместо того, чтобы признаться, что вы мне не нравитесь, вы способны уверить себя, что я разрываю сношения свои с сами таким внезапным и циническим образом для того, чтобы избавиться чувства, которого я страшусь и коего власть я уже предчувствую… Если вы когда-нибудь понадеетесь на одну из удочек, расставляемых вам вашем оскорбленной гордостью, то вы на веки погибнете.
Чем более буду я показывать презрения и отвращения к вам, тем более будете вы почитать себя опасным и страшным, по аксиоме: «удаляют только людей опасных… Как будто бы докучливые принадлежат к их числу».
Берегитесь… все преимущества ваши не спасут вас тогда от нелюдимой странности. Я буду немилосердна, ибо я заступлюсь тогда за Матильду, отмщу за неё мучениями вашими, притворюсь сожалеющей, растроганной вашей постоянною любовью, наделаю вам пропасть обещаний и насмеюсь, наконец, над вами самим кровавым образом.
Однажды и навсегда говорю вам: остерегайтесь меня, если я перестану быть к вам равнодушной.
И так, любезный кузен, забудьте меня для той, которая в тысячу раз лучше меня. Возвратитесь к Матильде, у нее золотое сердце. Душа ее не принадлежит ни ко времени нашему, ни к свету.
Теперь, когда она возбуждает во мне несчастьем своим столько же участия, сколько возбуждала счастьем своим, ненависти, признаюсь, что она обладает столь чудною и богатой природою, склонною к добру и не делающей зла. Она исполнена благородства и великодушия, и не многого нужно, чтобы сделать ее счастливой.
Неспособные верить лжи, такие души обладают невинной доверчивостью детей! Так не многого нужно, чтобы возбудить их чистую и наивную радость, что надо быть чудовищем, чтобы огорчать их.
Вы видели сами… Неделю только из осторожности, угождали вы ей. И прелестное лицо ее просияло счастьем! При том же она мать…. А вы имели постыдную смелость писать ко мне: Положение жены моей воспрепятствует ей последовать за мной в Париж…
Я способна на зло и во многом уже виновна. Не знаю, что ждет меня еще в будущем. Но никогда, клянусь вам, не упрекну я себя в чем-нибудь равносильном этому.
Вы решительно неблагодарнейший, самолюбивый, и нечувствительный из людей, ибо страсть не облагораживает вас, но развращает! Это, впрочем, естественно: развратная страсть не может облагородить сердца.
Остерегайтесь думать, что Ловлас и Дон-Жуан были не лучше вас, и что упрек мой значит, милый злодей.
Вы жестоко ошибаетесь: я — Дон-Жуан женского рода, знаю цену Дон-Жуанизму. Мне даже стыдно, что возбуждаемые мною страсти вырождаются и проявляются в столь дурных инстинктах: как колдун немецкой легенды, я отступаю от страха перед созданным мною чудовищем, которое с громкими криками требует от меня подруги своей.
Забудьте же меня, и если вы будете краснеть в безумной любви своей, то я предсказываю вам несчастнейший конец. Вы докажите мне справедливость суда Божьего, о котором так часто упоминает несносная свекровь моя.
Такому преступнику, как вы, нужно было такое наказание, как я, но так как роль правосудия несовместна с моими летами, я буду очень благодарна вам, если вы избавите меня от нее раскаянием и исправлением. Т.е. если вы сделаетесь самым счастливым и любимым человеком, ибо Матильда жена ваша.
Прощайте, прощайте навсегда… Помните в особенности, что никогда не было между нами любви, но была бесчеловечная измена благороднейшей из женщин. Вы были моим сообщником, а не любовником».
XII. Письмо г-на Семерена к Урсуле
Когда г-жа Семерен заметила, что и Гонтран, и я прочли врученные нам письма, она начала читать письмо сына своего к Урсуле, голосом тихим, как бы желая продолжить мучение кузины моей.
«Никогда не увижусь я более с вами, Урсула… Я презираю вас более даже, нежели ненавижу. Бог наказал меня за непослушание моей доброй матери. Она остается со мною, и с нею я ни о чем не буду жалеть. Благодарю даже Бога, что он избавил меня от чудовища вероломства и разврата: я проклинаю вас, при мысли, что для вас я огорчил, чуть не покинул лучшую из матерей… Нежность моя вознаградит ее за причиненные ей мною огорчения. Она простит мне, она уже простила мне: надобно всего опасаться, когда женщина, подобная вам, входит в семейство… Я скажу вам одну вещь, которая наверно огорчит вас: в тот самый день, когда я, по воле Провидения, получил письмо ваше, обличившее всю черноту души вашей… Я уже сделал завещание: всё мое имение обращено в пользу матушки моей… Вы, любящая роскошь, будете теперь бедны… Тем лучше, ибо это одно только может огорчить вас… Шестьдесят тысяч приданого вашего отданы в Париже нотариусу. Отец ваш тоже прогонит вас от себя, ибо я послал ему копию с вашего гнусного письма. Наконец, чтоб нанести вам последний, чувствительный удар, объявляю вам, что я нисколько не страдаю от ваших бесчеловечных поступков. О! Нет, они столь ненавистны, что ужасают меня, и я счастлив, что расстаюсь с вами. Моя добрая, несравненная мать подтвердит слова мои… Вот последнее вам наказание!»
«Семерен.»
Дочитав письмо, г-жа Семерен устремила на Урсулу неумолимый взгляд.
Урсула вышла, наконец, из состояния онемения, которое овладело ею в начале этой сцены.
Она встала повелительной, гордой, с твердым взглядом, с горькой и презрительной улыбкой и сказала свекрови:
— Вы торжествуете, не правда ли? Слепая и безумная женщина! Вы радуетесь, когда сердце сына вашего смертельно уязвлено!
— Он даже не думает теперь о вас, — отвечала г-жа Семерен: — то что пишет вам, благодаря Богу, правда.
— Но я не верю этому письму, — возразила Урсула: — человек, подобный ему, не может забыть женщину подобную мне. Знайте, что если б я только захотела, то завтра же он был бы у ног моих, умоляя, чтобы я возвратилась к нему… Но я не хочу этого. Судьба карает меня в то мгновение, когда я уступила великодушному чувству, в мгновение, когда я сжалилась над женщиной, которую ненавидела, в мгновение, когда хотела исправить сделанное мною зло… Одна теперь я буду бороться с судьбой, будет день, и он недалек, когда сын ваш проклянёт вас за то, что вы не уговорили его простить мне.
— Слышите ли, что говорит она? — вскричала г-жа Семерен, всплеснув от ужаса руками. — Сожалеть с вас? Какое адское самолюбие!
Урсула пожала плечами.
— Стало быть вы не знаете, чем я была, чем могла быть для него, ибо он был прост, добр и предан, и я забавлялась, делая его счастливцем, как забавляется радостно ребенок… Он сам говорил вам, как велико было его счастье, и что я была для него всем! Вы радуетесь, думая о том, что он будет рыдать, что он уже, может быть, оплакивает кровавыми слезами прошедшее, которое навсегда останется для него мечтою, идеалом человеческого счастья… Ослепленный любовью ко мне, он спокойно и счастливо прожил бы жизнь, которую проведет теперь в отчаянии! Вы должны быть довольны: я бедна, покинута всеми, даже отцом моим. Вы отмщены, Матильда, и вы также, — сказала она, обращаясь к Гонтрану: — Вы, Матильда, за измену дружбе вашей и, вы, виконт, за насмешку над любовью вашей… однако же торжеству вашему недостает одного… Я еще не уничтожена, не раздавлена роковым ударом, я не потешусь над этим. Во мне есть воля, во мне есть энергия: я была под влиянием одного из тех мгновений, которые решают участь всей жизни… Первое доброе чувство привело бы за собой и другие… Судьба не хотела этого. Что ж! Мне восемнадцать лет, обладаю железной волей, гибким умом, я прекрасна и смела… Сохранит меня Бог! — сказала Урсула, заключая этим безбожным сарказмом.
Г-жа Семерен стояла, испуганная, безмолвная, пред этою дерзкою женщиной. Гонтран смотрел на нее со страхом, смешанным с удивлением.
Вдруг мадемуазель де Маран, привстала, провела рукою по глазам, как бы утирая слезы, и вскричала:
— Нет, нет! Я не останусь бесчувственной к страданиям этой бедняжки. Я растрогана ее ангельскою покорностью: невозможно с большею кротостью исповедовать проступки свои и быть более способной к раскаянию… Ваша бесчувственность возмущает меня… Я увезу ее с собою в Париж, сегодня же, ведь она не может здесь более оставаться… Она бы испортила вас, честные люди.
— Вы осмеливаетесь брать ее в столицу! — вскричала г-жа Семерен: — Вы осмеливаетесь предлагать ей убежище!
— От чего бы и не так? Разве я верю вашим иеремиадам? Можно подумать, что судьба целого света зависит от того, что сын ваш имел семейное неудовольствие. Разве это дает вам право безжалостно порицать Урсулу? Для вас, кичащихся своей набожностью, этот поступок совсем не милосерд, голубушка!
Г-жа Семерен подняла глаза к небу и сказала важным и торжественным голосом:
— Господи! Сжалься над этой женщиной! Перед ней разверста могила, конец ее близок, а она осмеливается богохульствовать! — Потом она прибавила голосом столь твердым и повелительным, что тёушка несколько мгновений не могла выговорить ни слова. — Вы поддерживаете порок, вы насмехаетесь над слезами честных людей, вы отрицаете Бога. Но подождем: на смертном одре, вы будете ужасно мучиться, вспоминая зло, вами сделанное, и думая о муках ожидающих вас… Вы так злы и безбожны, что не найдете даже священника, который бы решился помолиться за вашу душу!
После некоторого молчания, тётушка воскликнула, смеясь своим резким смехом:
— Ха, ха, ха! Как смешна она со своими отлучениями от церкви! Так вы, по-видимому, в близких связях с громами Ватикана, моя милая. Сейчас вы убеждали меня именем неба и Провидения. Скажите, пожалуйста! Не в обиду вам, вы, мне кажется, довольно пошлы, чтобы не сказать хуже, во всём том, что касается неба. Но успокойтесь, у меня всегда останется свободных четверть часа, чтобы покаяться, и найдётся свободный червонец, чтобы заплатить за обедню, когда придет время подумать о душе моей.
В тот же вечер мадемуазель де-Маран уехала с Урсулою в Париж.
Г-жа Семерен отправилась к своему сыну.
Гонтран и я остались одни в Maране.
XIII. Супруги
В продолжение двух дней я не видела виконта де-Ланкри.
Прибытие и отъезд г-жи Семерен дали нашим людям повод думать, что между мужем моим и мной произошло что-нибудь необыкновенное, и они решили, что им должно было сделаться еще осторожнее и молчаливее прежнего, потому что между собой они говорили только шепотом… Можно было подумать, что в доме был умирающий… Невозможно описать мрачного вида этого огромного молчаливого замка, один флигель коего занимала я, а другой — Гонтран. Я желала быть одна, чтоб приготовиться к разговору, который должна была иметь со своим мужем. В эти два дня со мной произошел глубокий переворот, внезапный. Совершенно меня изменивший, и которого до сих пор я не могу себе объяснить.
Долг мой был поговорить с мужем с совершенной откровенностью. Происшествие это было самым важным в моей жизни, и влияние, которое оно на меня имело, не переменится до последнего дня моей жизни. Малейшие подробности этого свидания врезались в мою память. Это было в воскресенье: я отслушала раннюю обедню в деревенской церкви, и долго еще молилась, потом воротилась домой. Погода была пасмурна, когда я вернулась в замок, то пошел снег.
Пробило десять часов на часах в моей гостиной. Это была небольшая комната, очень просто убранная, я обыкновенно в ней сидела. Ее окна выходили в парк. Налево и направо от камина висели портреты моей матери и отца. На моем письменном столе был маленький медальон с портретом Гонтрана, писанным в миниатюре.
Впоследствии я узнала, что мадам Ришвилль отдала эту миниатюру моему мужу. Подарить жене портрет, сделанный для женщины, которую он любил прежде, было, конечно, поступком ужасным, который, впрочем, мужчины позволяют себе, не подозревая, насколько это может бы больно и обидно.
Возле моего письменного стола стоял книжный шкафчик из розового дерева, в котором хранились мои любимые книги. Между двух окон стояло мое фортепиано.
Проходя мимо зеркала, я посмотрелась в него: я была ужасно худа, бледна. Щеки мои слегка горели от лихорадки, которую я чувствовала уже два дня. Взор мой был блестящ и оживлен, но губы мои посинели и руки были холодны, как лед. На мне было черное платье, волосы гладко зачесаны, я и не подумала завить их.
Я с мрачною радостью рассматривала опустошения, которые печаль оставила на моих чертах, и сравнивала себя с Урсулой, всегда свежей и розовенькой. Половина одиннадцатого пробило на старинных часах замка, когда муж мой вошел ко мне.
Он тоже очень переменился в эти два дня: он был чрезвычайно бледен. Глаза его покраснели от бессонных ночей, может быть, от слез… Он казался печальным, физиономия его имела выражение странное, даже дикое.
— Я не буду стараться запираться перед вами, — сказал он мне сурово: — я перед вами очень виноват, вы должны меня ненавидеть… Пожалуйста, возненавидьте меня.
— Выслушайте меня, пожалуйста, Гонтран. Мы решим сегодня, какие отношения должны существовать между нами. Я с совершенной откровенностью должна вам сказать все, что я думала и на что решилась.
— Я вас слушаю…
— В продолжение этих двух дней, которые я провела одна, не знаю почему, все происшествия, случившаяся с тех пор, как я с вами познакомилась, представились моему воображению, так сказать, в одно мгновение. Я вдруг вспомнила и подробности, и в целом, и судила их с верностью и быстротой взгляда, которые меня даже удивили. Вспоминая, таким образом, прошедшее, я без глупой гордости признавала, что преданность моя к вам была непоколебима, что я была к вам непостижимо нежна, сохранив любовь мою чистою и неприкосновенною, не смотря на ваше презрение. Я всегда страдала с терпением, исключая некоторые редкие жалобы, вырывавшиеся у меня от избытка страданий. При малейшей ласке вашей я осушала слезы и шла к вам с улыбкой на устах, и снова возрождалась при надеждах на счастье, так часто меня уже обманывавших.
— Это правда… Но с вашей стороны не великодушно сличать теперь ваши добродетели с моими пороками, — сказал с горечью Гонтран.
— Если я с вами об этом говорю, Гонтран, то поверьте, это не для того, чтоб хвалить себя, напротив, я себя в этом отношении осуждаю.
— Как, вы жалеете?
— Я жалею, что сделала именно то, что нужно было для моего несчастья, не сделав счастливым вас. Может быть, вы бы не были ко мне столь жестоки… Если б я себя вела иначе.
— Что хотите вы сказать?
— Вам покажется странным… Но после моих размышлений, я решила, что скорей я виновата, нежели вы.
— Вы извиняете меня!
— Да, извиняю вас… И я не обманываю себя, Гонтран, я никогда не вела себя благородно против вас, и не имела довольно характера, чтоб заставить себя уважать. Я была вашей низкой рабыней. Я имела только отрицательные достоинства рабства, слепую покорность, глупую преданность и терпение. Видя во мне эти качества, вы не могли обходиться со мною иначе, и потому-то вы не имели ни жалости, ни прощения.
— Не понимаю, с какою целью вы меня извиняете, — сказал Гонтран, смотря на меня недоверчиво.
— Я бы могла сказать вам, что это для того, чтоб смягчить признание, которое я хочу вам сделать. Но я не хочу лгать: если я не хочу без причины обижать вас, то все-таки вовсе не боюсь огорчить вас тем, что должна сказать вам.
Муж мой казался пораженным моим выражением небрежной холодности.
— Вы в первый раз со мной говорите, таким образом, Матильда.
— Чувство, которое меня побуждает говорить вам это, так же ново, как и признание, которое я вам хочу сделать.
— Но, пожалуйста, объяснитесь.
— Рассмотрев хорошо все прошедшее, я сделала еще одно открытие… Открытие ужасное, клянусь вам. Я увидела, что огорчения мои, столь истинные и ужасные, не были даже достойны участия… Потому что беспрерывные мои жалобы были вам в тягость, и потому не трогали вас. Слезы мои естественно должны были вас сердить, приводить в досаду, но редко могли разжалобить.
— Вы шутите, Матильда? Шутки теперь жестоки.
Я взяла мужа моего за руку и подвела его к зеркалу. Тут, показывая ему на мое лицо, я сказала:
— Не правда ли, что я должна была очень страдать, чтоб так измениться, Гонтран? Вообразите же, что я должна была почувствовать, когда рассудок мой говорил мне, что я почти не была достойна сожаления. Когда я сказала себе: если бы я рассказала страдания свои самому беспристрастному судье, то мне бы он сказал: это ваша вина. После этого можете ли вы думать, Гонтран, что в этих обстоятельствах я хочу шутить?
— И вы убеждены в том, что говорите, Матильда?
— Да, убеждена! Да, если бы завтра же свет узнал одно за другим все мои страдания, то и тут бы сказали: «глупенькое скучное создание, с ее жалобами и беспрерывными вздохами! Она всё это заслужила». Нельзя же быть честной женщиной и несчастной, и не быть несносной. Конечно, ее характер слабый, обидчивый, извиняет жестокость ее мужа. Конечно, Урсула очень коварна, дерзка, испорчена. Но все-таки понятно, что г. де-Ланкри предпочитает ее Матильде: по крайней мере, Урсула очаровательно мила. В ней встречаются те качества, те пороки, которые, так сказать, всегда приводят в действие ум и сердце: Матильда, напротив, всегда покорна, плачевна, однообразна. Пожалуй, она имеет все добродетели. Никто в том не сомневается… Но она не умеет привлекать добродетелью. Словом, эта женщина имеет самый большой порок, она любит, но не умеет заставить полюбить себя. Вот что сказал бы свет, Гонтран, и в свете имеют право так говорить. Некоторые добрые души стали бы, может быть, сожалеть о мне, думая, что жизнь моя с вами была посвящена благородной любви… Покорности и страданию. Да, может быть, некоторые стали бы сожалеть обо мне… Но только сожалеть, и никто бы не полюбил меня.
— Что вы говорите, Матильда!
— Неужели же вы все думаете, что я шучу, Гонтран, когда я говорила вам, что после всех моих страданий мне не остается даже утешения, что во мне примут участие?
— Кто же, Боже мой, мог убедить вас в этом? — вскричал Гонтран.
— Рассудок, холодный, непоколебимый рассудок. Но надобно, чтоб сердце было очень пусто, чтоб этот суровый голос мог в нем звучать!
— Что вы говорите? Ваше сердце!
— Сердце мое пусто с тех пор, как я вас более не люблю, Гонтран… И только с тех пор, как я перестала любить вас, я смогла беспристрастно судить ваше и мое поведение.
— Вы более меня не любите! — вскричал он.
— Нет… И вот почему я на все смотрю беспристрастно. Потому-то я и не боюсь огорчить вас, говоря с вами таким образом. Если бы мне прежде сказали, что беспредельная любовь моя к вам… Любовь, выносившая столь тяжкие испытания, может уменьшиться когда-нибудь, то я бы назвала это поношением! И все-таки любовь эта угасла…
— Матильда… Матильда!
— Она угасла в несколько минут, когда я прочитала письмо ваше к Урсуле… Я не делаю упреков, Гонтран, и не имею на это права — сердце мое уже не принадлежит вам… И я без гордости говорю, что вы довольно наказаны… Я не боюсь и не надеюсь, что чувства мои к вам теперь переменятся. Я слишком хорошо себя знаю, чтоб видеть, что, к несчастью, я ничего не могу чувствовать в половину. Благоразумие требовало бы конечно, чтоб я вас не так страстно любила, и не так скоро разлюбила, я это знаю, но что ж делать? Я не могу не разлюбить вас: я не объясняю себе этого, но чувствую. Конечно, слезы мои ослабили уже давно любовь мою к вам без моего сознания, и достаточно было сильного потрясения, чтоб совершенно искоренить ее. Письмо ваше к Урсуле мне ясно доказывало, что для меня уже не могло существовать надежды! Любовь моя должна была уничтожиться при этой невозможности. Читая письмо это, я чувствовала медленное, но глубокое, и почти физическое охлаждение моего сердца. Я постараюсь следующим сравнением объяснить вам все, что чувствовала: это не была буря, которая все бы опрокидывала, сталкивала бы во мне все мои страсти, самые противоположные. Как гроза все склоняющая и потрясающая в вихре порывов. Нет, нет… Но, крайней мере, когда гроза утихает, то не все еще разрушено, хотя бы очень пострадало. То, что я чувствовала, то было глухое, возрастающее поглощение, мало-помалу любовь моя застывала, уничтожалась… Как эти ужасные наводнения, которые растут, растут до тех пор, как все поглощено, и испуганному взору представляется пустынное, неизмеримое пространство, на котором ничто не спасено.
Муж мой, удивленный, отвечал мне, удерживал свою досаду:
— Внезапность вашего разочарования, в отношении ко мне, доказывает, что оно не искренно. Конечно, я виноват… Очень виноват перед вами, но все-таки не заслуживаю подобного обхождения…
— Это должно было случиться, Гонтран. Я ожидала этого. Ваше самолюбие возмущается при мысли, что я не могу вас более любить, что я вас не люблю… Я понимаю даже, что внезапность моего разочарования, как вы говорите, может поддерживать ваше заблуждение в этом отношении… Но вы ошибаетесь. Никогда впечатления мои меня не обманывали.
Муж мой пожал плечами.
— Вы тоже думали, что будете всегда любить меня, вы сами это сказали, а вы видите, что теперь вам кажется, что чувство ваше совершенно погасло. Так же будет и с вашей ненавистью ко мне, она пройдет… — прибавил он с удивительной доверчивостью.
— Сравнение ваше не верно, Гонтран. Я бы вас всегда любила, если бы вы не употребили всех средств, чтоб убить мое чувство. Откровенно скажу вам, что теперь вы бы могли употребить все ваше старание, чтоб победить совершенное мое равнодушие, и вы бы не могли успеть в этом.
— Но, однако же, это только ветреность, неверность. Каждая женщина после неудовольствия за оскорбления ее самолюбия, простила бы подобную вину.
— Я этого не отвергаю, и не полагаю, чтобы все женщины думали или должны были думать как я… Я конечно виновата. Это несчастье моей судьбы, что меня всегда осуждают, или недостаток характера, что я все преувеличиваю.
— Но повторяю вам: если письмо мое к вашей кузине причиняет вашу перемену ко мне, то это не основательно!
— Я не хочу вспоминать прошедшего, Гонтран. Но так как вы говорите об этом письме, то вспомните все ваши выражения, и вы увидите, что там нет ни одного слова, которое бы не нанесло смертельного удара самым упорным надеждам. Вы меня навсегда оскорбили, как женщину, супругу и мать. Это еще не все: эта страсть, для которой вы жертвовали мною безжалостно, была и будет единственною истинною страстью вашей жизни… Вы увидите, что мои предчувствия осуществятся. Признаюсь без притворного унижения, или скорее с гордостью, я ничего не имею, чтоб поддерживать соперничество против Урсулы, если, вопреки своим обещаниям, она все-таки будет стараться искушать вас. Я также не могу предложить вам сердечного вознаграждения, если она отвергнет вас. Это еще не все. Вы простите мне мою откровенность, мне многого стоит говорить с вами таким образом: когда я вас любила, то я так старалась не видеть некоторых обстоятельств вашей жизни, что, помогая их извинить, я наконец поверила себе, что я так же поступила бы на вашем месте. Теперь все заблуждения мои рассеяны, поведение ваше представляется мне в настоящем своем виде, и положим, что я бы могла забыть все ваши проступки, неверность, как вы говорите, мне все-таки было бы невозможно любить человека, которого я не могу более уважать.
— Матильда, что это значит?
— Если бы прежде моего замужества, прежде чем я почувствовала силу безумной страсти, я знала то, что узнала с тех пор,… то я бы не вышла за вас.
— По послушайте, сударыня, что вы обо мне знаете, что бы мешало вам уважать меня? Потому что я не думаю, чтоб надо было быть бесчестным человеком, чтоб любить женщину, достойную любви… Полагая, что то, что вы говорите, правда.
Решившись, наконец, я рассказала Гонтрану всю сцену в запущенном доме Люгарто, и каким образом Мортан и де-Рошгюн заставили этого человека заплатить за фальшивую подпись Гонтрана.
Муж мой был поражен. В продолжение этого краткого рассказа, он мне не сказал ни слова. Отношения, в которых мы находились, были таковы, что я не могла уже более оскорбить его, между нами уже не существовало тайн. Мне хотелось изложить откровенно мое положение в отношении к мужу.
Если я хотела быть великодушного впоследствии, то, по крайней мере, не желала быть обманутой… По суровым взглядам, которые от времени до времени он обращал на меня, в волнении ходя по комнате, я видела, что так как предвидел г. де-Мортан, муж мой никогда не простит мне того, что я знала про этот пагубный поступок. Походив в волнении несколько минут по комнате, Гонтран сел в кресла, и опустил голову на руки. Мне стало его жалко.
— Я не люблю вас более, — сказала я ему; — вы поступили гнусно. Но, тем не менее, я ношу ваше имя. Вы — отец моего ребенка, этого достаточно, чтоб сказать вам, что если вы лишились сердца, горевшего самой священной любовью, у вас все таки в глазах света остается жена. И эта жена никогда не отступит от обязанностей, которые положение ее, в отношении к вам, возлагает на нее. По наружности ничто не будет изменено в наших отношениях: если бы не наветы, жертвами коих мы сделались, то я бы просила вас разъехаться. Но что тут ни говорила бы моя тётушка, мы, я думаю, оба пострадали бы от этого явного разрыва. И потому прилично будет пожить еще некоторое время так, как мы живем теперь. Позже, мы поступим сообразно с обстоятельствами.
— Хорошо! — грубо отвечал Гонтран. — Я не буду стараться разуверить вас в ваших предрассудках. И будем жить в разлуке, и я постараюсь скорее избавить вас от моего противного присутствия… Вы забываете зло, которое вам причиняют. Вы правы.
— Уверяю вас, что я уже забыла, и если бы я даже могла отомстить, и не сделала бы этого. Я вижу действие, и не хочу знать причин.
После минуты молчания, Гонтран вскричал:
— Но нет, нет, это невозможно! Такая холодность не может заступить место такой преданности. Вы не можете обращаться со мною так жестоко! Особенно…
— Когда вам нужны, может быть, утешения? — сказала я Гонтрану: — Я вас уверяю, что не ревность мешает мне сожалеть о вас, но уважение к человечеству. Я слишком хорошо вижу, что любовь, которую вы теперь чувствуете, будет для вас пагубна, не могу не ужасаться: все несчастья, которые могли бы с вами случиться, будут меня огорчать…
— Но, однако, я глуп, что так огорчаюсь! Как вы говорите, мы останемся в теперешних отношениях. Вы меня не любите, хорошо. Можно прекрасно жить в своем семействе без любви. Присутствие мое вам неприятно, я избавлю вас от него: вы будете жить на вашей половине, я на своей. Я ни сколько и противлюсь вашим желаниям.
— Гонтран, есть еще одно обстоятельство, о котором надо условиться. Я желаю, чтобы две трети моего состояния были помещены так, что бы будущность нашего ребенка была обеспечена.
— Это мое дело, сударыня. Я буду о нем хлопотать.
— Заранее объявляю вам, что, вовсе не зная дел и желая, чтобы это было сделано как можно справедливее, я посоветуюсь с г-м де-Мортаном.
— Я никогда не буду иметь ни малейшего сношения с этим человеком, сударыня.
— Я от вас этого и не требую. Вы потрудитесь дать мне доказательства, что желания мои будут исполнены. Если г. де-Мортан найдет это достаточным и законным, то я более ничего не попрошу.
— Все это невозможно сделать по вашему желанию. Судьба нашего ребенка меня так же интересует, как и вас: Я… я один должен о нем заботиться. И для того я сделаю всё, что нужно, не принимая ваших мнений там, где должен действовать я один.
— Вы не хотите мне дать верных доказательств в том, что я у вас прошу, Гонтран?
— Нет, сударыня.
— В таком случае я предупреждаю вас, что употреблю все средства, чтоб достигнуть того, чего желаю.
— Извольте, сударыня? Вы свободны.
Тут кончился разговор мой с мужем.
XIV. Отчаяние любви
Несколько дней спустя после этого разговора, г. де-Ланкри послал в Париж своего камердинера, к которому имел полную доверенность. Со времени отъезда этого человека, муж мой ежедневно получал от него письма.
Я с нетерпением и беспокойством ожидала ответа от г. де Мортана. Я уже во второй раз писала ему. Я не могла постичь его молчания.
Жизнь моя протекала грустно и мрачно. Иногда я сама удивлялась тому, что равнодушие могло так скоро заступить место любви. Это было, однако же, естественно. Сильные чувства не могут охлаждаться постепенно. Они вечно существуют, или исчезают так же, как явились… Внезапно, смело вынеся, несколько времени, самые ужасные обиды. Да, чувства эти исчезают, умирают вдруг, как боец, который только умирая замечает, что он весь изранен и истек кровью.
Но вот что удивляло меня, и я не знаю, должна ли я была этого стыдиться, или, напротив того, гордиться этим?.. Эта перемена чувств оледенила мое сердце, но многие происшествия в моей жизни меня более огорчали.
Была ли это храбрость? Решимость? Или равнодушие?
Я скоро разгадала тайну моего поведения.
Разлюбив Гонтрана, я утешила себя мыслью, что все душевные силы мои сосредоточатся в одном существе. Обманывало ли меня сердце мое? Обожать нашего ребенка, не значило ли любить Гонтрана?
Я не могла себя обманывать: материнская любовь наполняла сердце мое, одна она поддерживала меня. Когда я спрашивала себя, не была ли надежда, посланная мне небом, только надеждою, когда я спрашивала себя, какова была бы пустота моего сердца, если б я была обманута в этой надежде… О! Тогда у меня кружилась голова, я отворачивала взоры от этой мрачной бездны, и старалась смотреть на светлую будущность, привязывавшую меня к жизни.
* * *
Настала зима, с ее мрачными морозами, грустными туманами и длинными вечерами, которые не сокращались сладкою дружбою семейного огонька.
За завтраком и обедом мы обменивались несколькими словами с Гонтраном, потом расходились по своим комнатам.
Он совершенно изменил свои привычки. Он более не охотился, но, не смотря на суровость погоды, ежедневно ходил пешком по лесу: он проводил там несколько часов, возвращался аккуратно к часу, в который приходила почта, потом снова уходил и возвращался только в глубокую ночь.
Иногда он запирался у себя на несколько дней, и приказывал давать себе кушать в свою комнату, из которой не выходил.
Черты лица его начинали странно изменяться. Его впалые щеки и глаза, судорожная улыбка, искажавшая его рот, придавали его лицу выражения горечи, печали, уныния, которых я никогда в нем прежде не замечала.
В час, когда должна была приходить почта, он не мог превозмогать своего беспокойства, сам шел на встречу к посыльному. Однажды из моего окна я увидела, как ему подали письмо. Он несколько времени со страхом разглядывал его, как бы боясь его открыть, потом он с жадностью прочел его, разорвал его и растоптал ногами в ярости.
Он уже дважды приказывал начинать приготовления к своему отъезду, но все откладывал.
В один вечер, я в своем кабинете разбирала с Блондо ящик с детскими платьями, которые я выписала из Англии. Вдруг вбегает Гонтран, бледный, расстроенный, почти в забытье, и вскрикивает душераздирающим голосом:
— Матильда… Я не могу долее…
Но увидев Блондо, он остановился, и скрылся.
Я искала его. Он заперся у себя, я долго оставалась у его дверей, но он не хотел мне отворить.
В другой раз, он снял свои беспорядочные платья, оделся очень щеголевато, вошел ко мне, и сказал мне с рассеянным видом:
— Признайтесь, как вы меня находите? Что, я очень переменился? Одним словом, что, я не способен более нравиться? Или я все еще так же хорош, как прежде? — Я в удивлении на него посмотрела. Он с гневом вскричал, топнув ногой: — Я спрашиваю вас, очень ли я переменился?
Страх заступил во мне место удивления, так вопрос этот и вид, с которым он был сделан, казались мне безумны. Я не знала, что отвечать. Он вышел в бешенстве, разбив находившуюся на столе чашу китайского фарфора.
Наконец, сказать ли? Блондо узнала чрез нашего метрд’отеля, что г. де-Ланкри иногда вечером напивался до пьяна крепкими напитками, которые приказывал приносить в свою комнату.
Я не могла долее сомневаться, что неистовство, гнев, странности Гонтрана происходили от сильной безнадежной страсти, и что он старался заглушить свое горе пьянством.
Сожаление, которое я к нему почувствовала, заставило меня подумать, что любовь навсегда исчезла в сердце моем. Мне больно было видеть его несчастным, я горько осуждала Урсулу, но уже не чувствовала к ней ревности.
К великому моему сожалению, я чувствовала, что ничего не могла сделать для Гонтрана, и что утешения мои остались бы тщетными. Притом я не смела и не хотела заговаривать с ним о таком предмете, и потому я дожидалась удобного случая.
Раз почтальон приехал ранее обыкновенного, письма отнесли мужу моему в библиотеку, где я застала его. Он зашёл, чтоб взять книгу. Он с волнением сломал печать, прочел, побледнел, уронил письмо и закрыл лицо руками.
Я, встревоженная, подошла к нему.
— Гонтран, — сказала я ему, — вы страдаете…
Он вздрогнул, с живостью поднял голову… Он плакал! Лицо его выражало глубокое отчаяние.
— Ну да, я страдаю… — сказал он мне с горечью, — что вам до того?
— Послушайте, друг мой, — сказала я ему, взяв его горячую исхудавшую руку: — огорчения ваши таковы, что я и теперь могу сожалеть о вас…
— Вы? Вы?
— Да, потому даже, что я уже вас не люблю, но я могу… Я должна принести вам утешения друга… Вы страдаете… Мне не нужно спрашивать причины вашего изменения, которое я заметила с некоторого времени.
— Правда! Да… — вскричал он вне себя: — зачем мне теперь скрывать? Да, я люблю ее страстно. Да, я люблю ее, как ребенок, как безумец. Да, я люблю ее, как никто никогда не любил… И все-таки презрение ее неумолимо, и она через меня погибла… А все-таки она не хочет, чтоб я приписывал себе зло, которое я ей причинил… Потому-то долг мой теперь покровительствовать ей… но… постойте: простите, простите, я это вам… вам, Боже мой…
— И вы можете говорить это мне Гонтран: это мне не ново, я уже не сомневаюсь в страсти, которая приводит вас в отчаяние… пагубная… пагубная страсть!
— Да, пагубная, ужасная! Вы не знаете, каких она мне стоила слез, скрытого отчаяния, припадков бешенства, и безумных или преступных намерений! Вы не знаете, что я предавался низкому оглушению пьянства. О! Эта адская женщина знала, какую любовь она порождала в сердце моем! Скверная, ужасная любовь… Для которой я уже пожертвовал вами! Послушайте, я или подлец, или, скорее, безумец и все-таки… Против воли моей, любовь эта ежедневно увеличивается… Два раза я хотел ехать к ней… но я не смел: с непоколебимым характером этой женщины, тщетная попытка может все погубить… Не знаю, почему я все-таки имею луч надежды… но однако: простите меня, Боже мой… я вас сержу… обижаю.
— Теперь я всё могу слышать, клянусь вам, Гонтран… Для вас и меня это грустное вознаграждение за то, чего мы оба лишились.
— О! Я это знаю… Знаю! Я не могу более надеяться на вашу любовь, я должен от нее отказаться: но не будьте безжалостны, позвольте открыть вам мое сердце… Так как вы уже меня не любите, то вас это не может оскорбить… Знаете ли, Матильда, я так несчастлив, что вы почти отомстите мне, если выслушаете признание моих страданий. О! Если б вы знали, что значит сосредоточенное скрытое страдание!
— Я знаю это, Гонтран… знаю…
— Двадцать раз я хотел броситься к ногам вашим, признаться вам во всем, и вымаливать у вас сострадания. Но все прошедшие мои проступки приходили мне в голову, я стыдился самого себя, и не смел… Я в молчании, поглощал свои слезы… да, я плачу, вы видите… Я слаб, я плачу как ребенок.
И он еще плакал, потом, отерев слезы, он вскричал:
— Но эта женщина безжалостна… Она не думает о том, что я для нее пожертвовал вами… вами, благородное… Великодушное создание. Вы столько же благородны, великодушны, как она гнусна, развратна… Но разве она не думает, что ослепление мое может кончиться! Что бы она ни говорила, ей, с ее адскою надменностью, лестно видеть меня у ног своих… Она не думает о том, что когда мое заблуждение рассеется, то я буду ненавидеть, презирать ее… О! Тщеславие ее может еще ужасно пострадать, когда она увидит, что я снова возвратился к вам… О! Она вам завидует, хотя не хочет в том признаться.
— Вам уже невозможно возвратиться к вашим прежним чувствам, Гонтран. Вы должны отказаться от удара, который хотите нанести тщеславию Урсулы.
— Однако, Матильда, презирайте меня, но я не могу от вас умолчать, что с тех пор, как вы сказали мне слова, столь жестокие в ваших устах: я вас не люблю, только тогда я почувствовал, чего лишался, теряя вас… Да, что всего ужаснее в моем несчастье, это то, что я не могу себе сказать: «Я всегда имею возле себя сердце благородное, любящее, которое забывает, прощает, и к которому я всегда с доверчивостью возвращаюсь, потому что в нем неисчерпаемая добродетель…
— Да… Сердце это вам принадлежало вам, о! Совершенно вам, Гонтран.
— Да, это сердце принадлежит еще мне… вы ошибаетесь, Матильда… Любовь такая, какова была наша любовь, оставляет в сердце неистребимые корни. Она может уснуть на некоторое время, но потом снова пробуждается живее, чем когда-либо. Матильда, не отнимайте у меня надежды, помогите мне превозмочь эту гнусную страсть: клянусь вам, я никогда более не оценивал всего благородства, возвышенности вашего сердца… О! Каково было бы бешенство этой женщины, если б она думала, что мы счастливы, дружны, нежно заняты один другим… Тщеславие ее получило бы смертельный удар! Послушайте, Матильда, будемте к ней безжалостны, поедемте… Поедемте в Париж, и представимся перед ней страстно любящими друг друга. Она тогда почувствует те же страдания, которые мы из-за нее терпели.
Это странное предложение Гонтрана доказало мне его восторженность. Я увидела, сколько самолюбия было в его страсти. Он не мог в эту минуту иметь намерения оскорбить меня, а предлагал мне разыгрывать гнусную роль, чтоб возбудить ревность Урсулы!
— Прежде, — сказала я моему мужу, — слова эти меня бы ужасно оскорбили, теперь я только горько улыбаюсь… Увы! Любовь так владычествует над вами, что вы и не замечаете, что желание ваше снова сблизиться со мною, есть только доказательство непреодолимого влияния, которое Урсула имеет на вас.
— Но это, однако же, ужасно… Если женщина эта никогда не полюбит меня! — вскричал он: — Если она издевается над моими страданиями, если ее презрение происходит от кокетства, зачем же не могу я отказаться от надежды быть когда-нибудь любимым ею? Зачем нахожу я печальное наслаждение в огорчениях, которые она мне причиняет? Зачем же я ее обожаю… Хотя я знаю, что она скрытна, коварна и равнодушна к моей любви?
— Боже мой… Боже мой! — вскричала я, складывая руки: — воля твоя всемогуща, чтоб наказать Гонтрана, ты посылаешь ему огорчения, которые я переносила…
— Что вы хотите сказать, Матильда?
— Знаете ли, Гонтран: всё, что с вами теперь случается, есть дело провидения.,.. Когда я чувствовала к вам слепую страсть, непреодолимую, то я тоже говорила себе: если Гонтран меня не любит, от чего же я все еще надеюсь, что заставлю его полюбить меня? Отчего его равнодушие, его жестокость не утомляют меня? Так же, как и вы, Гонтран, я задавала себе эти вопросы. Как вы, в огорчениях моих, я находила какое-то наслаждение. Как вы, каждый день я переносила ваше презрение с отчаянной доверчивостью… Как вы, конечно, я проводила длинные ночи, стараясь разгадать эту ужасную тайну души.
— О! Не правда ли, что нет ничего ужаснее, как непреодолимая страсть! — вскричал Гонтран, забывая совершенно, что он говорил со мною. — О! Не правда ли, — говорил он, — что ужасно видеть, что ни разум, ни воля, ни долг, ни честь не в силах отвлечь от пагубного упоения?
— Вы ужасными красками описываете огорчения, которые вы мне причиняли, Гонтран… Но я, любя вас, не смотря на ваше презрение, я слушала голос моей обязанности, это было преувеличение благородной любви… Любя эту женщину вопреки ее презрению, вы предаетесь преступной наклонности, это преувеличение преступной любви…
Непреодолимый эгоизм г. де-Ланкри, укрощенный на минуту, теперь снова выказывался. Он вскричал:
— Клянусь небом! Между вашим и моим характером бездна… Вы — бедная молодая женщина, слабая, без силы воли, вы ничего не знали о жизни и страстях, но я был совсем не то… Притом я не хочу, чтоб говорили, что восемнадцатилетняя провинциалка, неизвестная, ничего не значащая и теперь потерянная, всеми брошенная, надо мною издевается… Она меня избегает. Не хочет согласиться видеть меня, значит, она боится меня… О! Я понимаю. Этот характер дерзкий, высокомерный, боится встретить владыку. Тщеславие меня не ослепляет. Она старается себя обманывать. Она так хитра, так меня боится, что в письме своем, чтоб отнять у меня всякое подозрение о влиянии, которое я имею на нее, она заранее уже приписывает моему самолюбию справедливую доверчивость, которую внушает мне ее поведение. Потому что она пишет мне: «Не воображайте в гордости своей, что я избегаю вас, потому что боюсь…» Вот что, вот что… Нет сомнения, я слишком рано отчаивался она боится меня… Следственно любит… Любовь моя ослепляла меня, как школьника… О! Матильда, я отмщу за вас!
Я прервала моего мужа.
— Выслушайте меня, Гонтран… Я сейчас видела вас несчастным. Хотя причина этих несчастий была для меня обидой, я все-таки могла сострадать к огорчениям, которые сама испытала, и забыть, что вы же их причинили. Теперь надежда возрождается в вашем сердце. Вы мне это так жестоко выражаете, что от меня было бы неблагородно сказать вам хоть слово в утешение.
— Матильда… простите… Боже мой… я безумен.
— Но я-то в полном рассудке… И я дам вам совет. Урсула искуснее вас. Вы падаете в ловушку, которую она вам приготовила.
— Ловушку? Какую?
— Если б она не оставила вам ни малейшей надежды, то вы, может, быть, позабыли бы ее. Но заставляя вас подозревать, что она избегает вас, боясь слишком вас полюбить, она сохранила влияние, которое имела на вас, и нанесла таким образом последний удар мне, так, что я не могла бы даже ее осуждать, потому что она не хотела более вас видеть, судя по ее обещанию.
— Это значит приписывать гнусное намерение поступку самому великодушному! — вскричал г. де-Ланкри.
Упрек этот возмутил меня.
— А! Каково же было великодушие этой женщины? Оскорбив меня в том, что было всего дороже, она сказала мне: «Я никогда не любила вашего мужа, но я сделала его участником ужасной измены. Теперь я раскаиваюсь и клянусь вам, никогда с ним не видеться!» Какая жертва! Причинив мне наибольший вред, она отказывается от человека, которого не любит!
— Но признанием своих проступков она отдавалась в ваши руки, сударыня! И вы видите, что она не увеличивала непреклонной строгости своего мужа.
— Ах! Да разве она не знала, что я не способна вредить ей? Разве она не имела тысячи доказательств моей доброты и слабости? Перестаньте так превозносить то, что вы называете великодушием этой женщины… Она огорчила меня в настоящем, и не могла ничего сделать в отношении к прошедшим страданиям.
Возмущенная эгоизмом г. де-Ланкри, я встала, чтобы выйти… Но он в смущении подошел ко мне, взял меня за руку.
— Простите меня, — сказал он грустно, — простите. Я стыжусь теперь слов своих и чувствую, сколько они имеют в себе обидного. Вы очень добры, что слушали меня… Простите же… Но я так несчастлив, что в этой борьбе чувствую себя совершенно бессильным. Воля моя ослабла. Всякий день я отказываюсь от намерений, которые предполагаю себе накануне… Несчастная мысль эта вечно меня преследует, она непоколебима. Я никак не могу от нее избавиться. О! Послушайте, положение мое ужасно! Что делать, Боже мой, что делать?
И человек этот с жестоким, решительным характером снова заплакал.
Эта постыдная слабость меня скорее возмутила, нежели тронула.
— Что делать! — сказала я ему: — что делать! Вы меня это спрашиваете?
— Говорю вам, Матильда, влияние это непреодолимо…
— А я уверяю вас, что это — низкие извинения! Что делать, говорите вы. Ведите себя наконец, как человек, имеющий честь и сердце. Послушайте, Гонтран: я уже не ослеплена на ваш счет. Настало время, и я могу говорить с вами с жестокой откровенностью: ваша и моя будущность, так же, как и будущность нашего ребенка, зависит от намерения, которое вы должны решить сегодня! Вы женились на мне без любви, вы бесчестно поступили, вы сделали меня несчастной, вы питаете низкую страсть.
— Опять ваши упрёки надо мною, Матильда. Если я вам напоминаю прошедшее, то это не для того, чтоб решить, каковы должны быть отношения мои к вам, и отвечать на вопрос: что делать? Я вам это скажу… я… Сегодня, в минуту, когда мы разговариваем, еще от вас зависит устроить себе жизнь счастливую и честную, завтра будет, может быть, поздно.
— Ну, хорошо! Просветите меня, утешьте меня… Придите ко мне на помощь… Матильда, вы способны иметь только благородные вдохновения. Я последую им.
— Вы молоды, храбры, умны, богаты, вы довольно счастливы, чтобы истребить доказательство гнусного поступка, который мог обесчестить вас. Вы довольно счастливы, чтобы до того смешать истину с ложными среди клеветы света, что честные люди не решатся осудить вас: перемените образ жизни, старайтесь быть полезным, и мнение света будет в вашу пользу.
— Да как же это, какими средствами?
— До сих пор, исключая ваши военные заслуги, жизнь ваша была праздна, пуста. Положите себе цель, служите отечеству, занимайтесь… Разве нет поприщ достойных вас? Ведь вы были военным, дипломатом!
— Я никогда не хочу служить при теперешнем правлении.
— Пожалуй, вы правы… Я понимаю вашу гордость. По вашей благодарности к семейству, облагодетельствовавшему вас и семейство ваше, к которому и мои родители были всегда преданы, вы принадлежите к представителям прав и надежд этой королевской фамилии. Что же, присоединитесь к ее храбрым защитникам.
— Так вы советуете мне отправиться в Вандею?
— Я не советую вам принимать участие в междоусобной войне. Есть увлечения, которые я постигаю, извиняю, которым удивляюсь, но я бы не желала, чтоб вы их разделяли: но разве нет другого средства служить этой партии?
— Да как же?
— Я не знаю… В совете, например, разве нет достойного места между роялистами?
— В совете, что вы… чего тут достигнешь?
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.