
Бесплатный фрагмент - Лекарство от уныния. Принимать натощак, запивая смехом
Лекарство от страха
Мы сидим на террасе, пьем отвар облепихи и листьев малины и смотрим, как дождь косыми струями бьет по рыхлой земле пустых грядок. Осень. В такую погоду лучше сидеть дома. Машка на правах хозяйки подливает мне отвара в кружку и подтыкает плед. А я сижу, как нахохленный воробей. Надо бы дотянуться и взять со стола эклер, но вылезать из теплой норки неохота. Грею руки о кружку и представляю, как ванильный крем тает во рту. На кончике языка появляется сладкий вкус.
Машка говорит:
— Что представляем, то и получаем. Помнишь, в прошлом году праздновали мой день рождения?
Я тогда болела. Но историю про тот день помнила и любила, когда Маша ее рассказывала. И сейчас я кивнула и приготовилась слушать.
— В тот вечер, когда все тосты уже были сказаны, а десерт съеден, мы с девочками решили прогуляться по заснеженной деревне. Вышли во двор и идем к калитке по узкой тропинке. От выпитого шампанского — пузырьки в голове, а на душе — счастье. Бредем вереницей. И вдруг я вспоминаю, что лошадь Мэгги не на привязи! Эта красавица только недавно появилась у нас. И страшно меня пугала. Как завидит — с места в галоп и прямо передо мной вставала на задние ноги в «свечку». Я орала и бежала от нее, уронив сумку. Позже мы, конечно, подружились. Но тогда я очень Мэгги боялась. И вот я неожиданно вспоминаю, что лошадь не привязана, а позади — мои девочки. И краем глаза вижу Мэгги. Что со мной стало! Прыжками, не боясь порвать колготки, я через целину снега драпанула к изгороди, которая оказалась ближе, чем калитка. Бегу и кричу во весь голос: «Караул!» Как я мчалась! Как гепард, как раненый зверь, как… как…
— Как трусиха, — подсказала я, давясь смехом.
— Девчонки ничего понять не могут. Но видят — дело плохо. Не отстают, догоняют, бегут сзади и визжат, — продолжила Маша. — Мы всей толпой перемахнули через ограду и бухнулись в сугроб. Только там я перевела дыхание. А когда выбралась из снега — осмотрелась, а Мэгги в дальнем углу преспокойно жует сено. Подняла голову, глянула на нас карим глазом и продолжила трапезу, не двигаясь с места.
Отсмеявшись, я отхлебнула душистый отвар. Аромат облепихи навеял воспоминания о лете. Я тоже вспомнила забавный случай. Хмыкнула. Маша уже ждала: глаза поблескивали, а губы заранее растянулись в улыбку. Я начала рассказ:
— Пару лет назад мы с семьей: муж, его брат с супругой и наши дети отправились в сплав на катамаранах по реке Койве в Пермском крае. С нами инструктор. Он отвечал за стоянки и безопасность в дороге. Через четыре-пять часов пути мы причалили к берегу и мужчины отправились за дровами. А женщины с детьми мал мала меньше, — старшей лет девять, среднему пять, а младшей два года, — остались на плоту. Дети на берегу у кромки воды плещутся, собака Люська за ними приглядывает. Я сижу на плоту, свесив ноги, и страхую: чтобы не уплыл.
И вдруг мы слышим шум, крики. Мужчины наши с перекошенными от ужаса лицами скатываются с крутого берега. Позади них ломится сквозь бурелом медведь. Собака лает. Дети визжат. И что я сделала? Вскочила на ноги и со всей силы оттолкнула шестом плот от берега. Только когда оказалась на безопасном расстоянии, сообразила, что дети остались на кромке земли. Совсем от страха разум потеряла. Включился первобытный инстинкт самосохранения. Как вспомню — перед собой и детьми стыдно. Хорошо, что все закончилось без происшествий. Медведь оказался и не медведем вовсе. Это был наш инструктор, за которым гнались пчелы. Мужики нечаянно срубили дерево с их гнездом. Инструктора спасла многослойная одежда: отделался укусом и легким отеком глаза. Но мужчины еще с час сидели в воде, пока пчелы не улетели. Женщин и детей они не тронули: их только обидчики интересовали. Мы уже и костер развели на берегу из дров, которые мужики покидали, и обед приготовили.

— Да, — протянула Машка, — смешно, конечно, если бы не было так грустно. Правильно говорят: у страха глаза велики.
Мы замолчали. Каждый задумался о чём–то личном. Я вспомнила о пандемийных временах. Встал в памяти противный липкий страх от сирен машин «скорой помощи», катающихся по городу. Сколько негатива и ужаса было посеяно в мире… Сколько походов к психиатрам и психологам совершено было тогда… А лучшим лечением по–прежнему остается смех. Когда мы это поняли — взяли за правило собираться раз в неделю и вспоминать те забавные истории, которые cлучались с нами. С тех пор мы перестали болеть. И отношения с мужьями стали теплее, а жизнь — веселее и радостнее.
Я выбралась из уютного гнезда, которое соорудила из покрывала, дотянулась до эклера и откусила нежное пирожное. Потом опять завернулась в плед и продолжила:
— Как–то раз…
* * *
Вы держите в руках сборник рассказов Аллы Ромашовой. Они — об обычных людях и необычных историях, приключившихся с ними. В книге море добра и смеха, чуть–чуть мистики и фантастики. Много счастья и капля горя. Как и должно быть в жизни, но не у всех случается. Терапевтический эффект обеспечен. Зачерпывайте радость жизни пригоршнями.
Автор — коренная москвичка, переехавшая в Ижевск и всей душой полюбившая удмуртский край и местный быт, так не похожий на гламурную жизнь столицы. Ее историко–приключенческий детектив «Преступление без наказания» вошел в шорт–лист конкурса платформы «ЛитРес 2023» в номинации «Лучший исторический детектив» и оказался среди победителей международного конкурса «Молитва».
Больше рассказов — на канале Дзен и телеграмм–канале «Рассказы и писательские истории «Алкина квартира».
Смысл жизни
От кружки пива на столе остаётся липкий кружок. Уже достаточно. Мужчина смотрит на меня глазами грустной собаки и, отхлебывая, продолжает:
— И чего ей не хватало? Ведь все было: дом, деньги, шмотки…
Человеку за пятьдесят. За несколько дней я не раз выслушала историю его жизни, но он до сих пор ищет виноватых. Моего собеседника зовут Марсель. Он — богатый человек, который построил свой бизнес с нуля. Год назад от него ушла жена. Марсель считает, что она ушла из-за советов безответственного психолога. Он сразу же завел молодую губастую подругу и теперь без конца путешествует, не желая видеть опустевшее гнездо. Возвращается на пару дней в родной город, подписывает бумаги, дает указания и едет дальше: в Европу, Америку, Азию… В путешествиях ненадолго забывается. Но и в новой стране Марселю долго не сидится. Города, гостиницы, впечатления нанизываются, как бусины на нить ожерелья забвения. И он уже не может вспомнить, где и когда был. И нигде Марселю не нравится: ни в пятизвездочном отеле, ни на роскошной яхте. Вот и сейчас ему не нравится бельгийское пиво, которое он пьет. И жизнь, которую он проживает.
Наконец я задаю ему вопрос, хотя понимаю, что внятного ответа не получу.
— В чем ты видишь смысл?
Марсель вскидывает на меня тёмные, блестящие глаза–оливки.
— Жена тоже меня об этом спрашивала. Как в чем? Я даю работу и, значит, жизнь тысячам людей!
— Ты же сам говоришь, что у них нищенская зарплата.
— Но ведь это их личный выбор. Их никто не заставляет идти ко мне. Хотели бы — сами попробовали бы начать свое дело.
— Ты прав. Но предпринимательская жилка есть только у некоторых, а остальных надо тянуть, учить, развивать и помогать. Так устроена жизнь.
— Пусть сами стараются.
— И это тоже правильно. Но неужели ты не хочешь, чтобы жизнь у твоих сотрудников была лучше? Жизнь только для себя не приносит счастья. Я не права?
— Тебя послушать — я должен другим деньги просто так давать. Этим ленивым неудачникам. Ну уж нет!
Я замолкаю. Давать непрошеные советы — это моя дурацкая особенность, с которой я не могу справиться.
Мы молчим. Наконец я не выдерживаю и спрашиваю:
— А кем ты хотел быть в детстве? В какие игры играл?
— Не помню. В доктора, по–моему. В «скорую помощь».
— Говорят, дети помнят свое предназначение.
— Не начинай.
Марсель допивает свою кружку, и мы расходимся. Марсель с подругой идет в гостиничный спа, а я сажусь в кресло у края бассейна, чтобы продолжить работу над книгой, от которой меня отвлек наш разговор.
Снова мы встречаемся через пару часов. Марсель попросился поехать со мной на велопрогулку, организованную отелем. Собралось нас человек десять. Все разных национальностей и разного возраста. Есть молодые, но преимущественно — мужчины среднего возраста со спортивными фигурами. И один жилистый боевой старик. Женщина — только я. На меня поглядывают с укоризной: буду задерживать в пути. Тренер объясняет, куда звонить, если отстану. Я улыбаюсь. Трогаем. Я еду следом за тренером. А Марсель замыкает группу. Он давно не катался, поэтому не торопится. Старик бодро крутит педали прямо перед ним.
Через три километра разрыв между всей группой и стариком с Марселем становится заметным. Тренер останавливается, чтобы дождаться опаздывающих. Тридцатипятилетний бугай–англичанин рассказывает мне, что старик — его отец, который помешан на спорте и прогулках. В юности много ездил на велосипеде, поэтому все в порядке, сейчас догонит. Говоря, бугай разглядывает меня. А я оборачиваюсь и вижу, как старик останавливает велосипед, роняет его на обочину, делает пару неуверенных шагов — и стекает на землю. Перевожу взгляд на тренера. Он тоже заметил, что старик упал. Вскакивает на велосипед и гонит к нему. Вскоре вся группа рядом. Старик лежит на земле, а Марсель, присев на корточки, проверяет у него пульс.
— Нитевидный, — шепчет он.
Старик не шевелится. Глаза закатились и покрылись блеклой пленкой. Сын трясет его за плечи. Марсель складывает руки в замок и ритмично надавливает на сердце неподвижного тела, прерываясь, чтобы проверить пульс. Так проходит несколько минут. Вдруг старик вздыхает, веки его вздрагивают. Марсель сгибает стариковские ноги в коленях, снимает с себя майку и смачивает водой из бутылки. Кладет ее на потный лоб старика. Тот говорит со слабой улыбкой:
— Простите меня, ребята, испортил вам поездку…
Через пять минут из отеля прислали машину. Старика и велосипед отвезли обратно. Остаток пути уже не радовал. Я ехала и думала, что мир потерял в лице Марселя хорошего врача.
С Марселем и его подругой мы вскоре распрощались. Наши пути разошлись. Я вернулась в родной город. Позже слышала, что бизнес Марселя процветает. Иногда мне рассказывали, что видели его подругу то в одной стране, то в другой. В то время я редко выходила из дома: заболела моя старенькая мама, и надежды на ее выздоровление было мало.
Как–то ночью мама позвала меня. Маленькая сморщенная девочка, сильно похудевшая, лежала на кровати. Вена на ее руке трепыхалась. Губы посинели. Глаза просили о помощи. Я вызвала «скорую» и, пока ждала машину, сидела у кровати и гладила мамины руки.
Машина вскоре приехала, и в комнату вошёл уставший за ночную смену врач. Фельдшер нёс за ним чемоданчик с лекарствами. Врач осмотрел маму, дал указания фельдшеру и сел к столу заполнять бумаги.
Фельдшер в синей спецодежде и шапочке измерил маме давление, достал из чемодана ампулу, набрал шприц и вколол его в область сердца. Зрачки мамы сразу же увеличились, грудь поднялась, опустилась, и мама наконец нормально задышала. Я подняла глаза на фельдшера и опешила: передо мной стоял самый богатый человек нашего города — Марсель. Он улыбался.
— Не ожидала? А я, вот, представляешь, часто тебя вспоминаю! После того случая с велосипедистом многое про себя понял. Вернулся из поездки и записался на курсы фельдшеров. Начал работать на «скорой помощи». Столько повидал — не передать! Одиноких стариков, детей, умирающих от рака, инвалидов, брошенных родственниками… Пришлось даже отдел в фирме создать — «Ангел поможет». Может, слышала?
Конечно, я слышала про этот благотворительный фонд. Туда обращались все нуждающиеся, и для каждого находилась помощь.
Я смотрела на Марселя во все глаза. Казалось, что передо мной совсем другой человек, не тот, с которым я когда–то безуспешно обсуждала смысл жизни. Сейчас от него как будто шел свет. И своей жизнью этот новый человек, похоже, был доволен.
Марсель продолжал:
— На врача я не смог выучиться. Возраст не позволил. Да и неохота мне с бумагами возиться. А вот фельдшер я, говорят, хороший. От Бога. Много жизней спас.
— А как Маша? — спросила я, вспомнив имя подруги Марселя.
— Не знаю. Путешествует с кем–то. Я к жене вернулся. Точнее, она ко мне.
Врачи ушли. Мама уснула. А мне не спалось. Я открыла компьютер и села писать рассказ. Начинался он так:
«Вспомните, в какие игры вы любили играть в детстве».
Пионерки
Собрание подходило к концу. Дети на сцене дочитывали стихи Васильева Флора Ивановича, ради памяти которого, собственно, все и собрались. Певец красоты удмуртского края и счастливого советского детства умер неожиданно. По совместительству он был молодым партийным чиновником, и поэтому горком дал по школам разнарядку — провести собрания в его честь. В школе номер два пошли дальше: придумали возложение венка. Вписали нововведение в программу и отправили на согласование в райком комсомола. Там дали добро и пообещали посетить мероприятие.
Прямо перед собранием выяснилось, что венок купить позабыли и выносить на сцену нечего. На стуле, аккуратно сложенная, лежала кумачового цвета лента с надписью, которую весь вечер выводили тушью пионеры-художники. Воспитатель по внешкольному образованию Юлия бегала по коридору перед актовым залом и рвала на себе волосы. Школьники уже допевали гимн, когда трудовику пришла в голову гениальная идея. Вместе с физкультурником они сняли новогоднюю елочную гирлянду, которую только утром повесили перед входом в школу, и торжественно внесли ее в зал. Пионеры на сцене выстроились в линейку и держали салют, пока трудовик и физкультурник передавали четырехметровую гирлянду трем девочкам–активисткам, которые всегда во всем принимали участие.
Собрание подошло к концу. Пионеры организованно покинули зал. Директриса увела представителя райкома выпить чаю с пирожным. Трудовик с физкультурником отправились в подсобку — просто выпить. А девочки остались стоять посреди сцены с гирляндой на руках.
— Юлия Александровна, а куда нам ее возложить? — тоненьким голосом спросила Леночка.
Юлия Александровна невидящим взглядом посмотрела на зеленую поросль, почти полностью закрывающую девочек, и ответила хриплым от недавно пережитого волнения голосом:
— Девочки, ну что вы как маленькие! — И ушла, цокая каблучками по паркету.
Девочки были ответственными. Они помнили, что венки возлагают к памятникам. У Васильева памятника пока еще не было. Только могила. Где она находилась, никто из активисток не знал. Решили позвонить командиру отряда, Василисе Смирновой. Она подумала немного и сообщила:
— Всех выдающихся хоронят на Хохряках.
Девочки вышли из зала, неся гирлянду на вытянутых руках перед собой, из–за чего со стороны казалось, что двигается большая зеленая гусеница. По очереди оделись в шубки, не кладя важный груз на землю, и двинулись в сторону автобуса.
В городе было три кладбища.
Переваливаясь через сугробы, девочки добрели до автобусной остановки. Залезли в переполненный автобус, держа гирлянду над головами. На них ругались и шипели уставшие женщины, ехавшие домой с заводской смены. Предлагали затолкать гирлянду под сиденья. Но девочки не сдавались, изо всех сил держали «венок» на весу. Автобус трясся по кочкам почти час. Под конец активистки ехали уже в пустом салоне.

Когда вышли на конечной, было уже четыре часа. Ворота на кладбище еще держали открытыми, и девочки вереницей, в белых нарядных фартучках, выглядывающих из–под шубеек, прошлепали за забор. Задувал ледяной ветер, наползала темень. Чтобы было веселее, девочки стали вслух декламировать стихи Флора Ивановича.
Сторож выбрался из сторожки, чтобы запереть ворота. И увидел зеленую змею, вползавшую на кладбище и разговаривающую детскими голосами. «Допился! Надо бросать. Ей–богу, брошу!», — поклялся он и перекрестил видение. Однако змея не исчезла. Остановилась и тоненьким голоском спросила:
— Вы не проводите на могилу поэта Васильева Флора Ивановича?
Сторож попятился и бросился обратно в домик, где было тепло, светло и не пугали привидения.
Леночка, Машенька и Танечка остались стоять посреди кладбища, едва удерживая проклятую гирлянду на вытянутых руках. Положить ее на землю не позволяла пионерская совесть. Перед ними простирался мертвый город, занесенный снегом. В снегу вилась еле заметная тропка. Девочки двинулись по ней, рассудив, что свежие могилы должны быть в конце кладбища. Они шли мимо черных памятников и крестов, проваливаясь в снег — вначале по колено, а затем и вовсе по попу. Коленки заледенели, но гирлянду девочки не бросали.
И тут умничке Тане пришла в голову гениальная мысль.
— А давайте возложим венок на могилу… Косолапова Петра Сергеевича! — Татьяна прочитала фамилию с ближайшего памятника.
Она вспомнила, что Смирнова сказала, что на Хохряках похоронены выдающиеся. Значит и этот Косолапов был… был…
— Он был Героем Советского Союза, — с ходу выпалила она.
Девочки с облегчением сгрузили гирлянду на едва заметный холмик. Постояли в минуте молчания — и бегом рванули к автобусной остановке, чтобы успеть на последний рейс.
Дома активисток отругали, а утром в школе трудовик с физкультурником потребовали гирлянду обратно. На кладбище, естественно, за ней никто не поехал.
Весной жена подсобного рабочего Косолапова, по пьяни утонувшего на рыбалке, обнаружила на могиле мужа елочную четырехметровую поросль с обвитой вокруг нее кумачовой лентой, на которой было написано: «От пионеров школы номер два с благодарностью за наше светлое советское детство».
Своя
— Они абсолютно непохожие ⸺ как будто из разных семей, — говорит Таня.
Я улыбаюсь, представляя девочек. Маша и Тася — две дочки Татьяны и Дениса, наших старинных знакомых. Мы провели несколько счастливых лет, соседствуя домами на Кипре. Наши дети учились в одной школе. В один год вернулись в Москву. Мы тогда жили в небольшой квартире, но в центре, а Танина семья в большой двухэтажной, но в Одинцово. Видеться стали редко, оттого встречи стали ярче.
А сейчас и вовсе встретились после долгого перерыва, когда дети уже выросли.
Таня рассказывала:
— От девчонок мы съехали. Себе дороже: видеть, как они живут, а замечание сделать нельзя. Сразу: «Мам, ты токсичная».
Я на Машину половину даже зайти боюсь. У нее так чисто, что аж поверхности скрипят, когда пальцем проводишь. Хорошо, что на втором этаже живет — нет нужды без нужды подниматься. Но если уж я оказалась там — стараюсь не присаживаться: не везде можно приземлиться. На кровать, например, нельзя. И на широкий подоконник — не положено. Кофе можно выпить только за столом. А баночку из-под йогурта надо вымыть и сложить в специальный контейнер. Маша сама потом отвезет рассортированный мусор в переработку. И проследит, что не перемешался и ушел по назначению. Короче, Маша, как говорит ее младшая сестра, «душнила».
Машка доучивается в нелюбимом институте, а Тася ни дня там не училась. Тася вообще — человек «наоборот».
— Ты не представляешь, какой у нее беспорядок! — продолжает рассказ Таня. — Помнишь, я рассказывала, что она шьет костюмы для косплеев? Весь ее этаж — в лоскутках, нитках, обрезках. Везде стоят старые грязные чашки с остатками холодного чая и кофе. Лазают кошки. Брешет собака. Строчат оверлоки, потому что Тасин этаж — мастерская.
Я представила, как посреди этого хозяйства восседает тоненькая восемнадцатилетняя девочка, которая кажется значительно старше своей двадцатитрехлетней сестры. Тася рулит костюмочно-пошивочным бизнесом, устраивает крутые вечеринки, на которые съезжаются поклонники корейской культуры и командует Машкой, которая слушается ее во всем:
— В магазине купи кукурузу, поп-корн забабашим! И пиво на всех! Народу много соберется.
Машка ненавидит шум и тусовки, но покорно идет в магазин, а вечером развлекается вместе с Тасиными друзьями.
— Хотя раньше было все по-другому: Маша гоняла Тасю, — вспоминаю я. — Не ссорятся?
— Никогда, — отвечает Таня.
«А какие гремели скандалы», — думаю про себя.
Но это было давно, до рака, которым заболела Тася. Жизнь этой дружной семьи разделилась на до и после. До — когда вся семья равнялась на перфекционистку Машу: лучшая школа в Сколково, одни пятерки, спортивная секция семь раз в неделю, потом крутой вуз и бессонные ночи во время сессий. Рядом с ней по-детски кругленькая и неуклюжая Тася смотрелась гадким утенком: в голове только друзья и корейские фильмы, никаких амбиций, одевалась странно, волосы красила то в фиолетовый, то в зеленый цвет, пропускала школу. Делала все это назло отцу-диктатору, который мог так гаркнуть, что окна вылетали. «Пусть из дома к своим друзьям убирается, если не хочет в школу ходить!» Таня металась между младшей дочкой, которая к тому же беспрестанно болела, и мужем-фсбшником, который после очередной Тасиной выходки громыхал на весь дом так, что старшая Машка запиралась в своей комнате от греха подальше.
Когда у Таси обнаружили рак, Денис страшно переживал. Усадив на колени дочку, плакал и уговаривал: «Тасейка, ну пожалуйста, давай согласимся на эту операцию, раз облучение не дает гарантии».
Рак обнаружился на кости правой руки — той самой, которой Тася шила свои костюмы. От операции отказалась — она лишила бы ее руки. И раку как-то не особо расстроилась. Как жила, так и продолжила жить: по своим правилам. А отец перестал ей перечить. Соглашался на все: подвозил в сборища таких же косплейщиков, где парни, разодетые как девочки, а девчонки — в цветных париках, которые отлично смотрелись на голом после облучения тасином черепе. Денис тащил из-за границы настоящий самурайский меч для дочери, оборудование для видеостудии, которую сам же организовал ей в квартире. И примирился с тем, что в дома всегда куча молодежи с разных уголков России: ее друзей, которые приезжали погостить в Москву и уезжали через несколько дней, оставляя после себя забытые вещи и веселые картинки с надписями: «Любим, скучаем, скоро вернемся!»
— Как сейчас Тася себя чувствует? — задаю я последний на сегодня вопрос.
— Отлично! Врач говорит, что у ее рака не было шансов — с ним она тоже подружилась.
Верность
Подруга Маша позвала меня на выходные в деревню. Ее родителей пригласили на юбилей в город, а дом оставлять нельзя: хозяйство большое, подопечных накормить–напоить надо. Вечером мы сходили в баньку, попарились березовыми вениками, по очереди нырнули в бочку с дождевой водой. Утром, пока я нежилась в кровати, Маша задала корм живности. А потом мы завтракали деревенскими яйцами, пили липовый чай и ждали приезда родителей.
Маша рассказывала:
— Я с детства увлекалась лошадьми, ходила на ипподром. Поэтому, когда мне предложили взять лошадь из цирка — нисколько не раздумывала. Благо, была такая возможность — родители живут в деревне, земли у них много. Продавец, отводя глаза в сторону, сказал: «У нас сейчас пять лошадей на балансе. Не можем содержать всех. Вот и решили одну продать». Мать, как услышала про лошадь — запричитала: «Я коней боюсь! Ни за что не возьму!»
Я вспомнила Машину маму — кругленькую добрую женщину с васильковыми глазами. Она работала экономистом в крупной строительной организации, каждый день ездила в город. А вечером трудилась в огороде, вела дом. Как она справлялась с таким большим хозяйством — уму непостижимо.
Подруга продолжила:
— Но мама сдалась, когда я пригрозила ей, что отдам лошадь в другое место и буду туда ездить каждый день. Договорились на том, что я по утрам стану приезжать к шести и до работы проводить время с Мэгги. А заодно и родителей почаще видеть.
Мэгги оказалась красавицей ахалтекинской породы. Гнедая, светящаяся золотистым светом, с перламутровым отливом на шелковистой тончайшей коже, сквозь которую просвечивали пульсирующие сосуды. Пылкая, нервная, вся как будто вылепленная из мыщц и костей, готовая в любую секунду к бегу, она казалась не лошадью, а гепардом.
Мать как увидела ее — ахнула: «Какая красавица!». Подошла к ней — и ну гладить. А ведь в самом деле боится лошадей! Мэгги фыркнула и отпрянула — не далась. Уже потом я узнала, что ахалтекинцы считаются лошадями одного хозяина. До конца жизни к нему привязаны. И за верность, красоту, удивительную выносливость ценили лошадей этой породы дороже семьи, жены, жизни. Хозяин Мэгги предал ее — ушел из цирка в голодное время и к лошади не возвращался: семья оказалась важнее. Мэгги других наездников не приняла. Всех сбрасывала. А я, глупая, решила, что у меня хватит терпения и настойчивости сладить с ней.
Но не вышло. Я приезжала к Мэгги каждый день. Чистила, чесала, убирала в деннике, кормила. Отец сколотил оградку для вольера. Там Мэгги прогуливалась. И потихоньку наша красавица стала привыкать. А как–то даже дала себя запрячь. Я вскочила в седло и только хотела тронуть, как лошадь встала «в свечку». Потом перепрыгнула на передние и со всей силой мотнула задом. Меня выкинуло из седла, а нога застряла в стремени. И вишу я на лошади головой вниз. И только молюсь, чтобы она не помчала. Хорошо, мамино сердце почуяло неладное. Мама выглянула во двор — а там сцена: я вверх ногами, голова на земле. Мама заохала — и бегом к нам. Я кричу: «Стой, напугаешь!» Мать откуда–то из передника хлеб достала, медленно идет к Мэгги и говорит ласковым голосом: «Мэгги–Мэгушка, отпусти ее, это же дочь моя!» Мэгги стоит, слушает, ушами прядает. Позволила мне освободить ногу. С места не тронулась, пока мама за поводья ее держала.
После этого случая у меня все желание приезжать к Мэгги пропало. Никак себя заставить не могла. С того самого случая на лошадь не сажусь.
— И что же стало с Мэгги? Продали?
— Куда там. Мать не дала. Жалко, говорит. Все ее предают. Не по–божески это. Пусть живет. Мы к ней привыкли. А овса у нас много. Так и осталась. Родители с ней намучались: Мэгги убегала, ломала изгородь. Находили её потом в деревне, на полях. Приходилось компенсировать стоимость капусты, которую лошадь портила. Мать не ругала ее, как с больным ребенком обращалась. А Мэгги ее не принимала. Пугала. Увидит, как мать с работы возвращается, уши навострит и несется к ней галопом. А прямо перед ней встанет в цирковую «свечку» и пляшет на задних ногах, как огромная собака. Мать прикроется портфелем и визжит тонким голосом. Я уже и покупателя на Мэгги нашла. А мать ни в какую: нехорошо это, говорит, не по–людски.
А потом Алмаз появился. Рослый жеребец. Его отдали на лето, на постой. Он и объяснил Мэгги, что к чему. Пару раз куснул ее, когда та перед хозяйкой в «свечку» встала. И что–то Мэгги поняла. То ли испугалась, что Алмаз ее место займет, то ли сообразила, что такие трюки только для арены хороши. Но когда мать пришла задавать корм лошадям, Мэгги подошла тихонько и лизнула ее в лицо. Мол, прости! И опустилась перед ней на колени. Как в цирке, ей–богу!
— А что теперь с Мэгги?
— Все замечательно. Да вот сама смотри! — Маша махнула в окно.
Я выглянула наружу. И увидела красавицу–лошадь, а верхом на ней — молодую женщину. Гнедая лошадь мчалась галопом по полю, а сверху полусидела–полулежала наездница в обтягивающих брючках, щеголеватых сапогах и розовой, трепыхающейся на ветру рубахе–блузе. За этой парочкой из–за оградки восхищенными глазами наблюдал отец Маши, одетый в парадный костюм. Я даже испытала обиду за старенькую мать подруги.
— А кто эта женщина?
— Не узнала? — рассмеялась Маша. — Моя мама! Выучилась ездить верхом. Как вышла на пенсию, все свободное время проводит с Мэгги. Похудела, похорошела. Они теперь неразлучны: отец Мэгги кормит и чистит, а мама — тренируется, к соревнованиям готовится.
Я услышала счастливый смех. Лошадь с наездницей остановились перед мужчиной. Одной рукой он обнимал Мэгги, а другой — помолодевшую красавицу–жену.
Любовь
Мы собираемся каждую среду. Администратор держит за нами любимый столик у окна, за которым видны серые низкие тучи, висящие над городом, а косой дождь оставляет потеки на стекле. Зонты мы ставим сохнуть рядом на полу, и они словно отгораживают нас от всего остального мира. Только радушный официант продирается между разноцветными кругами и присаживается на стул рядом. Так и принимает заказ: сидя. Это фишка заведения — доброжелательные отношения с гостями, на равных. Нам нравится.
Нас — трое. Мы подруги, нам около… Ну не будем об этом. Скажу так: вслед нам уже не смотрят долгим взглядом, но, зацепившись, рассматривают внимательно, а заговорив, — остаются поболтать. С нами есть, о чем. И самим нам друг с дружкой интересно. Мы знакомы целую вечность, и всегда находится тема, которую можно обсудить — и уйти со встречи с чувством, что открыли в себе что–то новое.
Сегодня обсуждали новости: одна наша подруга завела любовника. Муж узнал. Но скандал устраивать не стал: чувства давно перегорели. Предложил подруге переехать к любовнику при условии, что тот обеспечит ей достойное содержание. Вот только любовник женат на другой нашей знакомой. И сейчас мы обсуждали перипетию чужого четырехугольника и жалели жену любовника — вершину этой геометрической любовной фигуры, которая вообще оказалась ни при чем. Она–то своего мужа любила.
Заговорили о любви. Кристина спросила:
— Девочки, а что вы помните про любовь?
И по самому вопросу стало ясно, что она в любовь в семье не верит.
— Ну вот честно. Загляните в себя. Двадцать лет в браке. Дети, работа, дом. Вы же на дрожите от нетерпения, когда возвращаетесь домой к мужу? Нет же «сердечного волнения», как писали раньше в книгах?
Мы загомонили: это же семья, другая любовь. Она — в тишине совместного времяпрепровождения. Это — уважение, поддержка.
— А как же бабочки? Помните, как мы бежали на первое свидание? Помните первый поцелуй?
— Ну ты даешь, Крис, — усмехнулась я. — Ты еще царя–батюшку вспомни. Все в семье хорошо — и слава богу.
Марта задумчиво провела тонким пальчиком по ободку бокала, в котором исчезали один за другим пузырьки шампанского, и сказала:
— Я помню, что такое любовь. Но хочу ли заболеть ей снова? Нет.
Никогда не забуду пропасть, в которую упало мое сердце после расставания. Расставания, собственно, и не было. Просто перестал звонить, встречать после занятий. А на мои предложения погулять в выходные в парке отвечал односложно: не могу. Я перестала названивать и сдала ждать от него первого шага. А его все не было. И я стала скатываться в депрессию. Это когда нет желания вставать с кровати, ничего не радует.
А начиналось все так хорошо! Мне — семнадцать. Кого мы любили в юности? Родители составляли весь наш мир, в котором безопасно. Им мы доверяли. Могли втюриться в киноактера. Это было модно: собирать плакаты и фотографии любимой звезды, рыдать на киносеансах. Все девчонки в классе знали, кто в кого влюблен. Спорили между собой, чей секс–символ краше. А здесь — парнишка, мой ровесник, красивый, как Абдулов, который был героем моих вырезок из журналов. Но живой, доступный. Сердце мое ухнуло, когда я его увидела. Нечего и говорить, что я старалась быть для него самой лучшей. Он провожал меня до дома, а я не верила своему счастью. Каждая минута расставания была трагедией. Заставляла себя в школу ходить. Родители уже смирились, что учиться я почти перестала, оценки пошли вниз. Мы с ним обсуждали, кем хотим стать. Я не знала. А он хотел стать знаменитым и разбогатеть. Казалось бы, хорошее желание. Сейчас многие себе такого желают.
Счастью нашему не было конца, и, возможно, в восемнадцать мы бы поженились, но оба были неопытными. И дальше поцелуев у нас не пошло. А мне и не надо было: я ничего в этом вопросе не понимала. Вот только любимый мой был не киношным идеалом. И встретил другую. Постарше, поопытнее. Перестал звонить. «Слился», как сейчас говорят. Не поставив точки в отношениях.
Я из депрессии выбиралась несколько лет. Сменила прическу, покрасилась чуть ли не в синий цвет. Короче, бросилась во все тяжкие. Мама хваталась за сердце. А потом я решила, что незачем свою жизнь ломать. Наоборот — только собой и надо заниматься. Себя любить. Вернулась к учебе. Училась, строила карьеру, взрослела. На приглашения мужчин встретиться — не отвечала. Сердце мое окаменело.
И вот как-то, сидя в парикмахерской, я увидела в журнале фотографию парня, рекламирующего новую стрижку. Сердце превратилось в маленькую птичку, бьющуюся в клетке. Все, что я замораживала столько лет, тут же растаяло. Я смотрела на его портрет. Он стал фотомоделью. Невелика популярность. Но было ужасно больно.
Я эту боль до сих пор помню. Отвечаю на вопрос: хотела бы я еще ТАК любить? Нет. С меня хватит. Мне доверительные отношения с мужем куда важнее.
— Ты его так и не разлюбила? — спросила я.
— Давно, — с мягкой улыбкой ответила Марта. — В лихие девяностые мы с коллегами по работе пошли в ночной клуб на концерт популярной группы «Кар–мэн». Взяли ВИП–столик, прямо рядом со сценой. А перед выступлением обычно выпускали кого–нибудь для разогрева. Вышли модели, которые рекламировали купальники. Все как одна — тощие вешалки. А потом по подиуму бодрой походкой пошел парень в одних плавках. Я смотрела на него — и не верила своим глазам: это был он — моя первая любовь. Вот только я его никогда раздетым не видела и не надеялась уже увидеть. А здесь… Иногда ему махали купюрами, и тогда он подходил и позволял засунуть денежку прямо в плавки. Я быстро открыла кошелек, вынула бумажку. Он подошел. Мы встретились взглядами. И вся моя любовь–страдание прошла в один миг. В его взгляде читалось узнавание, смущение, интерес. После концерта он ждал меня на выходе. Все еще красивый. Пошел было ко мне, окликнул по имени. А я не отозвалась — прошла мимо к машине, которую нам подогнали прямо ко входу, к ковровой дорожке.
Вот так я похоронила свою первую любовь. А потом и вторую, и третью. И точно знаю: уважение, которое я испытываю к мужчине, который взял на себя ответственность за меня и принял такой, какая я есть, который заботится обо мне и наших детях, я не променяю ни на что. Ни на какую Любоф.
— Все–таки ты, Марта, не права: любовь бывает и счастливая, и на всю жизнь.
— Я же не спорю. Приведи пример.
Я задумываюсь. Перебираю в голове истории своих знакомых. Вспоминаю только одну.
— Девочки, любовь до гроба бывает. И после смерти она тоже существует. У нас была знакомая пара: люди уже пожилые, но активные. Он — бизнесмен и спортсмен, бывший мотогонщик. Высокий, красивый, работящий. За ним — как за каменной стеной. Она — тренер по йоге и домохозяйка. В квартире всегда чисто, цветы на окнах, уютно, украшено, свежая выпечка на столе. Дом — полон гостей. Жили душа в душу, пока не пришла болезнь. Откуда она взялась с их здоровым образом жизни — ума не приложу. Думаю, Господь специально посылает такие испытания — проверить, а выдержат ли? Она заболела вначале слегка. Он носил в больницу передачи, разговаривал с врачами. Она сама всегда помогала другим людям. А здесь помощь стала нужна ей. Состояние ее не улучшалось. Наоборот — появились боли. Тогда она стала учиться принимать ее, искала в ней поддержку, научилась управлять. Изучала боль — как предмет в школе. А боль изучала ее. Муж всегда был рядом. Но когда ее опять положили в больницу, и врач вынес безнадёжный вердикт, муж не стал горевать и впадать в депрессию, а решил для себя, что каждую минутку сделает для нее радостной. Договорился с врачами и лег в ту же палату. Мыл ее, протирал, кормил с ложечки. Она худела и улыбалась. Потому что была счастлива каждому дню рядом с любимым. Он носил ее на руках по кабинетам, укрывал ночью, вслушивался в ее дыхание. Радовался, когда у нее появлялись силы поговорить. Их выписали. Тогда он раздобыл кресло–коляску, загружал жену, ставшую тонкой, как та девочка, с которой он когда-то познакомился в институте, и вез в лес слушать соловьев. Купил щенка, чтобы развлекал больную. Спал вместе в ней в одной постели, грел ее холодное тело. Она так и умерла у него на руках.
Он по-прежнему ходит в лес слушать птиц. А она приходит к нему во сне и продолжает заботиться о нем уже из того мира: вдруг у кровати появляются теплые носки, которых он давно не мог отыскать. Или с полки падает ее фотография, и он задерживается на несколько минут в квартире, чтобы убрать разбитое стекло. А в это время перед домом случается большая авария прямо рядом с его автомобилем.
Он не удивляется этим стечениям обстоятельств, она для него — живая, и он ведет с ней нескончаемый диалог.
— Грустная история, — говорит Крис, — получается, что он так и не отпустил ее душу.
— Получается, так. И нам никогда не выяснить, какая любовь лучше. Лишь бы она появлялась в наших сердцах, на миг или на всю жизнь — не важно. Важно, помнить, что она есть.
Мы расплачиваемся и расстаемся до следующей среды. Нам всегда есть что обсудить.
Женат на теннисе
Как же я люблю теннис! Загорелая, в белом платье, волосы развеваются. Бегаешь по площадке, потеешь, иногда даже что–то получается. Рядом — такие же увлеченные парни и девушки, мокрые и счастливые.
Смотришь на красавца, который подкидывает вверх мяч, выпрыгивает, с размаху кладет его за сетку со страстным выдохом, и думаешь — не зря пришла.
В большой теннис меня привели год назад. И сразу случилась химия. Тренер зажег своей энергией и стремлением к победе. Пока мы делали упражнения, все шло хорошо. Но как только меня вывели на корт, я «посыпалась»: по мячу не попадала, до сетки не добегала. Проигрыши уверенности не добавляли. Зато противник уходил в приподнятом настроении. Хоть кому-то хорошо.
Когда я наконец начала выигрывать, пришло смятение. На другой стороне корта человек расстраивается. Стала уступать, чтобы не лишать человека выигрыша. Тренер заметил и отчитал:
«Никому не нужна липовая победа. Люди приходят за развитием!»
Пришлось играть по–честному, но лучше не стало.
На теннисе весело. Молодые не только играют, но знакомятся, дружат, тусят, ходят в клубы и танцуют до утра. Складываются пары и в игре, и в жизни. Потом партнеры меняются. По–моему, у нас в клубе большая шведская семья. Но меня забыли позвать. Все же мне пятьдесят.
Один наш теннисист неравнодушен к женскому полу. Точнее, неравнодушны все мужчины, но этот — особенно.
«Ни одной юбки не пропустит», — сказал про него друг, который собирался в отпуск в Шотландию. «Ты только такое местным горцам не скажи», — огрызнулся теннисист.
Зовут любвеобильного теннисиста Юра. У него недавно родился третий ребенок, и он по ночам встает к малышу, а с утра — уже на теннисе. И не потому, что уже выспался, а, чтобы из дома сбежать. Дома жена ворчит, просит помощи, а на корте — красивые девушки, жаждущие любви. Одна из таких нимф начала Юру охмурять. Те, кто с его женой был знаком, ухмылялись: ничего не выйдет. Начали делать ставки. Юра ни одной тренировки не пропускал. Похудел от недосыпа, что ему шло. Но упорно сближался с красавицей. Жене сообщили о приближающейся опасности. И она пришла. В теннисном костюме и с ракеткой. То, что Юрина жена — мастер спорта по теннису, я слышала. А девушка, видимо, нет. Отношения выяснялись на корте. Жена подкидывала мяч и, как индеец, выкрикивала: «Йо–хо!», фея подлетала с другой стороны сетки и нежно отвечала: «И–и–и–их». Юра краснел, бледнел и потел одновременно. Победили краснокожие, со счетом 6:0. Враг был разбит. Юра робко предложил супружнице полотенце. Она похлопала его по спине и сообщила: «И с тобой так будет!»
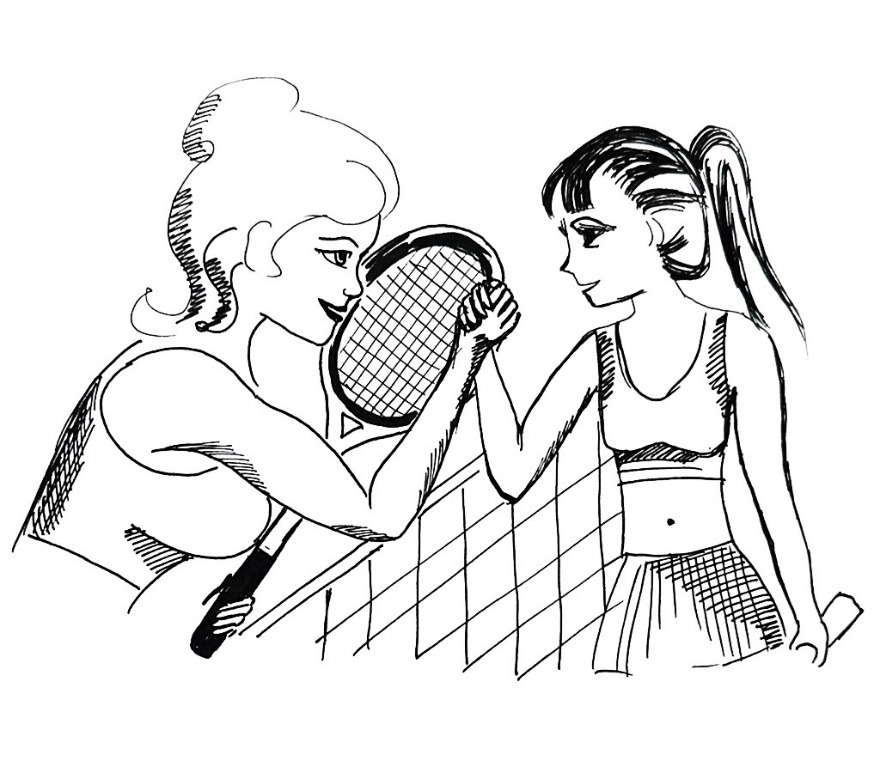
Контрольным выстрелом стало совместное посещение соперницами женской раздевалки. Девушки помылись в душе и разглядывали друг друга исподтишка. Супружница завидовала упругим формам нерожавшей феи. А та со страхом разглядывала мускулистые руки, выносившие троих детей, и грудь, полную молока. Юрина жена оделась первой и вышла из раздевалки, широко распахнув дверь. Закрыть которую она «случайно позабыла». Несостоявшаяся любовница осталась стоять, закрывая плоскую грудь и нижний треугольник руками. Мимо раздевалки бежали дети, напротив стояли ожидающие их родители, шли теннисисты, и все видели, как она, приседая, кралась к двери, ныряла в коридор и, вконец посрамленная, тянулась одной рукой к дверной ручке. Ее груди–тряпочки были тотчас оценены мужской теннисной командой: «ну, так себе» — и ополчили против девушки дам, охраняющих моральный облик своих детей.
Юра поплелся домой под конвоем жены и больше на теннис почему-то не приходил. Зато его супружница начала посещать стадион каждый день, и теперь летает по корту загорелая, в белом платье. Иногда мы с ней играем. И я проигрываю без зазрения совести. Все-таки мастеру спорта и очень сильной женщине.
Аэроэкспресс «Судьба»
Ну почему со мной всегда так?
Если бутерброд упадет из моих рук, то не только колбасой вниз, но и маслом по пиджаку.
Если в небе случится воздушная яма, в моей руке непременно окажется стакан с томатным соком, который взлетит вверх алым облачком, задержится перед моим лицом и рухнет на белоснежные брюки.
Так и случилось в самолете Ижевск-Москва. И вот такая нарядная, в цветах турецкого флага, поздним вечером я вышла на платформу аэроэкспресса Домодедово.
Слева и справа от перрона стояли красавцы-поезда, а световая табличка гласила, что поезд в Москву отойдет через десять минут. Причем, и слева, и справа. Во всех городах мира это означает, что с обоих путей поезда пойдут в Московском направлении. Меня не насторожило, почему поездов два: народу много, пустили дополнительный.
Я зашла в тот, где людей было поменьше. Вошла в вагон и обрадовалась, что одна. До отправления ещё 15 минут. Удобно разместилась у окна и принялась глазеть, как снаружи суетятся люди. Люди мимо моих окон пробегали в обратную сторону — к аэропорту, откуда я недавно вышла.
Я отвлеклась на телефон.
Спустя пять минут подняла глаза, и снова удивилась, что мой вагон пустой.
Я вспомнила, как мы с сестрой во Франции пропустили нашу конечную станцию метро и съездили-таки в тупик. Потеряли час и заплатили сто евро штрафа.
Глянула в окно. Людской поток затекал в вагон напротив.
И только сейчас до меня дошло, что я сижу в поезде, который привез пассажиров из Москвы, и никуда дальше не пойдет.
Я схватила сумку и рванула к входным дверям. Не отрываются. Нажала кнопку второй, третий раз.
Зашипела радиосвязь. Поездной диктор-автомат зачитал сообщение: «В случае непредвиденных ситуаций нажмите кнопку вызова машиниста». И выключился. В поезде погас свет.
Я нажала пресловутую кнопку вызова — нет ответа. Паника нарастала.
Я лихорадочно смотрела на часы. Если не успею на поезд до Москвы, то опоздаю на важную встречу, ради которой прилетела.
Вспомнила! Вагоны оборудованы видеокамерами.
Я кинулась внутрь и принялась вопить и размахивать руками перед камерой. Скакала я так, что меня заметил мужчина на перроне, благо в вагон ещё проникал серый вечерний свет. Он остановился, наблюдая за мной в недоумении. Я краем глаза заметила его интерес, но прыгать не перестала. Срывалась встреча! Какое мне дело о том, кто что обо мне подумает! Даже если это высокий симпатичный брюнет. Правда, скакать стала более элегантно, рукой поправляя волосы.
Мужчина, наконец, что-то придумал и постучал мне в окно. Я изволила его заметить. Он указал на двери.
Я поторопилась к ним. Как не нажимал мой спаситель на кнопку снаружи, дверь не открывалась. Наконец, мой герой сдался. Развел руками и ушел. Как обычно, я осталась со своими нешуточными проблемами наедине. Последняя надежда, в том числе и на перспективное знакомство, уплывала.
Оставался стоп-рычаг. «Разбить стекло и потянуть рычаг на себя в случае срочной остановки состава», — гласила надпись.
Мой поезд и так стоит, а за ложную тревогу и безосновательную порчу имущества грозит, насколько я помнила, административная ответственность.
Оставим на крайний случай.
Я уселась в кресло, достала телефон и набрала 911.
«Интересно, успеют ли вскрыть вагон до того, как я умру здесь от голода и жажды?»
Представив, как будет ржать оператор на той стороне, решила поменять абонента и набрала службу жалоб и предложений «Домодедово». Эти хотя бы рядом и быстро смогут помочь.
— У меня жалоба! — воскликнула я, когда добралась -таки до живого голоса.
— На кого? — задал вопрос оператор.
Я подумала и честно ответила:
— На себя.
И расплакалась.
И в это время двери вагона распахнулись, и в них показался мой спаситель. Тот самый симпатичный высокий мужчина с перрона. Над его головой светился нимб. Позади него маячил испуганный машинист с дорожным фонарем в руке. Сказано же было: «Посадки нет», — с досадой произнёс он.
Мой герой протянул мне руку.
Так, я познакомилась с будущим мужем. И с этого момента мои невезения прекратились, и началась другая, светлая полоса.
Спасибо аэроэкспрессу!
Москва моего детства
Мы все привыкли к историям, в которых девушка из, скажем, Томска или паренек из, допустим, Пензы приезжают покорять столицу. У меня — обратная история. Я — коренная москвичка, которая не послушалась родителей и уехала жить в Ижевск. Этот город расположен в Предуралье, и он даже не миллионник, но очень милый, со старой архитектурой в центре и новостройками на окраинах. И этим Ижевск до сих пор напоминает Москву моего детства. Про нее и будет мой рассказ.
Жили мы на краю столицы. Папе–военному выдали квартиру в Бескудниково, куда вскоре обещали провести метро. «Нет ничего более постоянного, чем временное», — говорила моя мама. Она оказалась права. Метро действительно провели, но случилось это через сорок лет, когда я уже уехала из Москвы. В детстве я по часу добиралась на тряском автобусе до ближайшей станции Новослободская — и иногда, уже стоя у метро, осознавала, что забыла дома пятак на проезд. Попрошаек, как класса, тогда еще не было. Наверное, поэтому мне легко удавалось стрельнуть сразу десять копеек, чтобы еще и на обратный путь хватило: не возвращаться же с полдороги. Дальше предстояло ехать полчаса на метро и еще двадцать минут идти пешком. И этот путь проделывался мной каждый день, чтобы попасть на курсы французского, а затем английского языка. Почему–то мама считала, что в Бескудниково без иностранного языка я не выживу. И если английский язык мне в будущем еще пригодился, чтобы в турецком дьюти–фри на чистом оксфордском спрашивать: «Хау мач?», то на французском я только красиво ругаюсь.
Жизнь в Москве была разная, в каждом районе — своя. В центре — чистота и порядок. Там жили дети номенклатуры, артистов, ездили «Волги» и «Чайки». А на периферии существовали все остальные. На окраине и машины были другие: рычащие инвалидные «Запорожцы» и умирающие после каждой поездки «Москвичи». Те самые, которых всё ещё пытаются реанимировать уже в двадцать первом веке.
В центре дети ходили по музеям и театрам, а на окраине — по крышам гаражей и в плавание на пенопласте по водоему, образовавшемуся на месте котлована очередного долгостроя. Роддом на месте старых дач, где мы воровали в детстве яблоки, строили десять лет. За это время наше поколение успело вырасти, и по весне в яме будущего роддома ходили в кругосветку уже дети моих одноклассников.
Так что, когда мне говорят: «Тебе повезло, что родилась в Москве», — мне есть что возразить. Вы вот плавили пластмассу в детстве? Это надо пластиковую игрушку надеть на палку и поджечь. Пойдет черный дым, поднимется страшная вонь, и тягучий жидкий пластик потечет вниз. Главное, чтобы не попал на кожу. Проверено — больно. В чем смысл этой игры? Я до сих пор не знаю. Нам надо было как–то развлекаться. А рядом с коробкой дома имелся только пустырь. Дети из соседних домов собирались на нём в стаю и искали развлечений: кто плавал на плотах, кто жег пластик, а кто плавил алюминий и заливал его в формочки. Так мы осваивали химическую промышленность и готовились ко взрослой жизни. Нормы ГТО сдавали тут же: кто быстрее убежит от дачного сторожа с ружьем, кто прицельнее кинет камень в команду из соседнего двора, кто перепрыгнет через высокий забор. Девочки использовали как гимнастический снаряд конструкцию для выбивания ковров, которая торчала в каждом дворе. На уроках физкультуры мы просто повторяли наши дворовые рекорды.
На обычном московском ребенке нельзя было найти живого места: колени в ссадинах, сам в синяках, локти с запекшейся кровавой коркой. Зеленку родители оставляли прямо в коридоре: намазал очередную болячку — и бегом обратно на пустырь, на новую войну с соседним двором.
Наверное, поэтому, когда у меня появился выбор — остаться в Москве или уехать в Ижевск, — я недолго размышляла. Что мне было терять? Квартиры тогда еще не продавались. Про загадочную ипотеку мы слышали только от людей, которые приезжали из–за рубежа. Миллионы молодых семей ютились в квартирках вместе со своими родителями. Вся моя жизнь поместилась в багажник машины: постельное белье, ужасное пуховое одеяло и моя гордость — норковая шуба, на которую я копила деньги несколько лет. Я сложила в сумку свои дипломы об окончании курсов иностранных языков, поцеловала родителей и уехала с женихом покорять Ижевск.
Прошло много лет. Теперь и у нас с мужем есть в Москве элегантная квартира. И большой дом в Ижевске, с которым связаны самые теплые воспоминания. Дом, в котором я была счастлива, и из которого наши дети всего за двадцать минут добирались до своих кружков и секций. А вместо того, чтобы плавать на пенопластовых плотах в грязной луже, они купались в чистой речке, рвали яблоки с деревьев во дворе и дышали чистым воздухом Приуралья.
Россия — огромная страна. И в ней много городов, где замечательно живется здесь и сейчас.
Детство 80–х, юность 90–х
Отец боготворил меня, а я его. С первомайской демонстрации он нес меня, маленькую, на руках от Красной площади до метро «Маяковская», потому что остальные станции были закрыты и автобусы не ходили. Папа часто носил меня, сонную, от автобусной остановки до дома. А в квартире бережно укладывал на кровать и снимал с меня шапку, шубу, валенки, хотя видел, что я не сплю. Папа был моим ангелом–хранителем. Он незаметно появлялся в нужный момент и решал мои проблемы. Бежал через двор с зеленкой мазать мои разбитые коленки, а когда я выросла — ехал на другой конец города с набором инструментов, чтобы завести мою сломавшуюся машину. Отталкивал ее вручную с трассы, поднимал капот — и, о чудо, через полчаса двигатель довольно фыркал и можно было ехать.
У папы были большие жилистые руки, один палец плохо сгибался: когда–то рука попала во фрезерный станок. Папа был маленького роста: из–за голода во время войны. Папина голова светилась ладной лысиной. Волосы он потерял от радиации во время службы в армии, когда обслуживал ракеты дальнего действия. По лысине я узнавала папу издалека — и бежала–бежала навстречу колючей родной щеке и стойкому запаху папирос «Беломорканал». Я была поздним ребенком, а папа понимал счастье родительства.
Рисование
Мое увлечение рисованием тоже связано с отцом. Это он привел меня в магазин канцтоваров. Рядом с моими глазами оказалась витрина с пастельными мелками и масляными красками. Я завороженно уставилась на радугу цветов. Как всем этим пользоваться, я не знала, но мгновенно приняла как факт, что краски — это волшебство, и внутри разлилась радость.
Дома мне выделили уголок для рисования — откидную дверцу кухонного буфета.
Путешествия
Папа дал мне еще одно увлечение, перешедшее во взрослую жизнь. Мы путешествовали. Это были вылазки в парки на целый день, походы за грибами, в лес — на сосиски и бадминтон, на водохранилище. Иногда мы садились на автобус и ехали без определенного маршрута. Это было целое приключение. Мы заглядывали в окна домов и сочиняли истории о людях, которые там живут.
Зимой папа не любил выбираться на улицу. И категорически отказывался идти в лес. Сказалась армия и марш–броски по двадцать километров на лыжах в полном обмундировании. Поэтому в зимний лес мы ходили с мамой.
Экспедиция собиралась с вечера. Деревянные лыжи натирались мазями на нужную температуру. Потом их прогревали над газовой горелкой. Воск плавился, и вкусно пахло древесиной. Мы доставали теплую одежду и обсуждали, кто что наденет. С утра в термос наливался ароматный чай, собирались бутерброды. В холодном автобусе мы ехали до конечной станции. А там — горки, лес, незамерзающий ручей канализации, горячий чай — и счастье двигаться на морозном воздухе.
Деревня
На лето меня отправляли к тетке в деревню. Самую настоящую. Три часа на поезде от Москвы в сторону Риги. Запах навоза, трясучка на мотоцикле с коляской мимо колхозных полей с желтой пшеницей и синими васильками, деревянные срубы домов, запах кислого молока, дровяные печи, коровы, свиньи, овцы, куры. Пчелиные ульи в огороде.
Лето — пора, когда все работают. Кто пашет, кто косит, кто ворошит, кто полет, кто воду носит, кто валенки валяет, кто дрова заготавливает, кто коров пасет. Дети мыли полы, собирали грибы, лесную малину и голубику на топких болотах, следили за младшими, купались в холодной реке и в теплом коровьем пруду, рыбачили, собирали колорадских жуков, загружали запасы в погреб, ездили на велосипедах в соседнюю деревню за продуктами, хлебом, водкой и сигаретами для взрослых. А вечерами катались с копен сена, получая нагоняи от старших, прыгали с балок в шорах, лазали по деревьям, бегали тайком на кладбище. Падали спать без задних ног, просыпались с утра от запаха пирогов, испеченных в русской печи, и свежего молока. Летом мылись в бане по–черному и шли потом по влажной вечерней тропинке через туман вдоль огорода, закутанные в шали.
Помню главу семьи, уважаемую старуху, мать моего дядьки. Она уже не ходила, но тоже работала: сидела под старинными иконами в красном углу и пряла тонкую шерстяную нить из овечьей шерсти, чтобы навязать теплых носков на зиму.
Помню, как пошли с родителями в соседнюю деревню в родовой дом матери — из огромных бревен, в два этажа. Дом принадлежал моему прадеду — церковному старосте. Иконы стояли рядами, как иконостас. Я, маленькая, смотрела на них со страхом. Мама просила папу забрать пару икон с собой. Но мой отец был непреклонен: зачем эти доски советскому человеку? Вместо икон мы взяли старые пуховые подушки. А я нашла дневник со стихами своего дядьки, старые фотографии бабушки и патефон. Этот патефон мы потом заводили и под Утесова танцевали во дворе. А вечерами вся семья собиралась перед черно–белым экраном телевизора: с волнением смотрели «Место встречи изменить нельзя» с Высоцким — первый отечественный сериал на пять серий.
Спали на сене в сарае, просыпались с первыми лучами солнца, разбуженные ласточками. Грызли кислые яблоки и несозревший крыжовник. Умывались в речке или под железным умывальником, где металлический носик поднимался вручную и выпускал тонкую струйку воды. Набрался таз грязных помоев — вылей во двор и принеси ведро свежей колодезной влаги.
Какое же прекрасное детство было у меня! Мы играли в игрушки, которые делали своими руками: тряпичные самодельные куклы, цветочные куклы из спички: колокольчик вместо юбки, травинки вместо рук и «львиный зев» вместо головы. Воображение дорисовывало все остальное. В городе меня ждали настоящие куклы из пластмассы. Но именно деревенские игрушки запомнились навсегда.
Фотография
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
