
Колькотар
Повесть
Часть 1. Януш
Колькотар. Колькотар, коль-ко-тар. Слова размазываются жирным темно-красным, фиолетово-коричневым маслом по ушам, глазам, медленно затекают в ноздри и тягучим, расплавленным месивом стекают в горло. Колькотар. Элемов дает в руки тюбик с колькотаром и двенадцать. Двенадцать дней на картину. Картину полностью колькотаром. Говорит Хемингуэем. Рот пересыхает, губы обветриваются и растрескиваются. Дают жесткий кракелюр с приподнятыми краями сухой кожи. Колькотар. Я отвинчиваю колпачок и выдавливаю масляную личинку на подушечку большого пальца. Растираю. Тру. Тру. Труд. Трудно будет. Надо покорить. Элемов сказал покорить. Двенадцать дней на картину. Основное — это колькотар. И все его производные. Он многолик. Парижская красная. Английская красная. Caput mortuum vitrioli. Крокус. Железный сурик. Кол-ко-тар. Мумия. Колькотар. Смерть. От него пахнет разложением. В помещении душно. Нечем дышать. Остальные трое дышат. Тяжело. Я слышу каждый их вдох и выдох. Они втягивают прозрачными, усеянными капиллярами ноздрями раскаленный воздух. Вдох, вздох. Вздох, сдох. Выдох. Нам не хватает кислорода. Открыть окно. Но нельзя. Забито. Забыто. Будто никогда и не было у этого окна форточки, створок. Не окно, а зеркало. Элемов смеется. От него пахнет нефтью и смолой. Элемов смеется, остальные молчат. Опустили головы. Рассматривают себя изнутри. Почему колькотар? Почему колькотар? Глаза опять привыкают к мраку элемовской мастерской. Льняное масло желтеет без света. А света здесь нет. Элемов любит темноту. Пишет ночью. Днем умирает. Свет ненавидит. А масло у него желтое, льняное. Все его картины пожелтевшие. Теплые, горячие, извергающиеся лавой. Элемов ненавидит холод. Здесь всегда душно. Элемов презирает холод. И мы никогда при нем не говорим. Потому что мы холодные. От нас холодно. Он мерзнет и болеет от нас. В нас нет страсти. В нас нет огня. А в нем есть. Он запрещает нам разговаривать, когда мы пишем. А мы всегда пишем. И всегда молчим. Колькотар. Коль-ко-тар.
Я
Не
Могу.
Я не могу. Я не могу понять колькотар. Элемов говорит, что краска — это кровь картины. Она должна течь по венам нашего сознания. Быть нами. Быть на нас, в нас. На мне, во мне. Мной. Но я не понимаю колькотар. Он не хочет мне раскрыть свою суть. Я открываю окно. Я в своей мастерской. Мне можно. Здесь можно открывать окно. Грязный, прогорклый воздух молочным туманом вливается по подоконнику и стекает на пол. От моей одежды пахнет. Пахнет скипидаром и грязным телом. Я давно не мылся. Вода уносит с собой мутными потоками образы в канализационные коллекторы. Нельзя мыться, пока не кончил. Картину нужно обязательно закончить. Так учит Элемов. Но сам он никогда не ходит грязным. Пока я дышу улицей, в голове звенит и кружит. Много кислорода. Нельзя, иначе опять упаду в бессознательное. Закрываю и больше никогда не открываю. Я думаю над картиной. Я ее не вижу. Тру подбородок, покрытый свиной щетиной. Из глаза выпадает колонок. Colcothar vitrioli. Нордгаузенская серная кислота рождает тебя в муках. Как мать мертворожденное дитя. Обожженные остатки железного купороса или купоросного камня прокаливают в закрытых сосудах. Элемов поступает так же. Он прокаливает нас в закрытых помещениях, чтобы родилась мертвая голова. Мумия. Я беру широкую кисть и провожу ей по холсту. Он готов. Загрунтован. Я тщательно грунтую. Это очень важно. Фундамент картины, как дома мыслей. Лучшие краски содержат всего один пигмент в максимальной концентрации. Красная железная окись. Крокус. Что я могу? Я не вижу тебя, не чувствую. Ты умерла у меня на руках. Я выдавливаю колькотар и растираю между ладоней. Пахнет масленной краской. Меня успокаивает этот запах и я ложусь на пол. Где-то на улице звенит и кружит. А здесь тихо и спокойно, как в склепе. Вскоре я засыпаю. Мне ничего не снится. Я никогда не вижу снов. Не то что Элемов. Он спит и видит сны. А потом мешает их с реальностью с помощью растворителя номер четыре и размазывает мастихином по холсту. Чтобы избежать психических реакций пигментов и сохранить яркость красок, не следует смешивать более трёх снов сразу. Элемов говорит, что к оттенку надо идти кратчайшим путем. Я верю ему. Я иду кратчайшим путем. Но часто он заводит меня в тупик. Я прислоняюсь щекой к бетонному полу. Слушаю его. Он молчит. Еще слушаю. Он начинает вибрировать, шипеть, извиваться. Змий поганый. Я встаю и иду к холодильнику. Там только протухшая вода в двухлитровой пластиковой бутылке. Иду к окну. Нет, нельзя открывать. Нельзя дышать. Надо думать. Колькотар. Я раздеваюсь до гола. Одежда мешает. Надо думать. Я выдавливаю еще и мажу себе лицо. И кладу колькотарову личинку себе в пупок. Светает. Скоро Элемов заснет. А я начну работать. Постепенно в глазах темнеет. И я вновь засыпаю, а когда просыпаюсь, я доволен. Я впервые видел сон. Он был черно-колькотаровый. И я понимаю, что надо делать.
Я
Не
Могу.
Я не могу остановиться. Не ем, не отдыхаю. Никуда не выхожу. Мне нельзя выходить, пока не кончу. Но я и сам не хочу. Я начал понимать колькотар. Он шепчет. Он нашептывает мне, что надо делать. И я слушаю его. Иногда звенит в ушах. И тогда меня тошнит. Иногда кружит и блестит. И тогда я прислоняюсь к стене и жду. Когда прекращает, я вновь у холста. Иногда я хочу есть. Очень хочу. Но не могу выйти. Тогда я пью маленькими глотками кипяток. И отпускает. Время, как мед. Тягуче и медленно. Время, как ветер. Стремительно и незаметно. То темно, и тогда я блуждаю вдоль четырех стен. Пока силы меня покидают. И сворачиваюсь клубком в одном из углов. Жду рассвета. Не дожидаюсь никогда. Перед самым светом всегда проваливаюсь. Иногда на столе появляется еда. Иногда она исчезает. Иногда мне кажется, что я не один. И тогда я слышу голоса и тени. Они кружат по мастерской, говорят эхом, смеются, буравят взглядом, а потом останавливаются. Останавливаются и долго-долго стоят у меня за спиной, пока я пишу, не двигаются, не издают ни звука. А когда я оборачиваюсь, никого нет. Никогда не было. Иногда из-за двери доносится звон тарелок и запах жаренных яиц. Иногда из-за стены просачиваются липкий скрип и стоны. Я затыкаю уши. Я пытаюсь сосредоточиться. Но шум мне не дает сосредоточиться. Он мне мешает. Мешает колькотару смешаться с черным. Я мешаю его с черным. Я люблю черный. Черный — вместилище всех красок. Виноградная чернь. Noir de vigne. Rebenschwarz. Она древняя. Ее знали еще во времена Плиния и Ветрувия. Древесная черная липовая, ивовая, сосновая, обыкновенная. Пробковая чернь, испанская чернь. Трое не видят, не понимают разницы. А я все вижу, все понимаю. А минеральные черные… Это целый мир. Кто-то дергает меня за рукав и подносит к губам горячее. Открываю рот. Жую. Глотаю. Открываю рот. Жую. Глотаю. Натуральный черный мел, земляная черная. Открываю рот. Жую. Глотаю. Что-то жирное течет у меня по подбородку. Вытирают. Турская черная земля. Черная земля во времена Ченнино Ченнини пользовалась большим распространением среди живописцев. Дают запить чем-то сладким. Фламандцы, по свидетельству де Майерна, часто писали черной землей из Тура. Опять подносят к губам горячее. Открываю рот. Жую. Глотаю. Ведь тогда существовали два вида черной земли: жирная и тощая. В живописи применялись, конечно, почти одни только тощие земли из черных сланцев. Меня гладят по плечу и дают хлеб. Я жую его. Глотаю. Если бы только у меня была Слоновая кость жженая. Великий Elfenbeinschwarz. Noire d’ivoire. Ее умели приготовлять еще во времена Апеллеса. Ей пользовались большинство живописцев, как южных, так и северных школ. Жженая слоновая кость рождает самый чистый, интенсивный черный цвет. Она отличается абсолютной глубиной. И если бы я мог, она была бы моей. Но для колькотара я могу предложить лишь ее сводную. Черную жженую кость. Beinschwarz. Noir d’os. Но впрочем… Ее рыжеватый оттенок может понравиться колькотару. Меня раздевают и ведут по длинному коридору. Четыре руки меня сажают в холод. А что если использовать ламповую копоть? Копченые чернила или сажу льняного масла? Сажу мастиксовую или терпентинную? Вначале что-то мокрое и горячее лижет мои ступни, а потом медленно поднимается выше, облизывая голени, колени, бедра. Я покрываюсь мурашками. Пахнет сыростью и мылом. Четыре руки трут меня. Мочат мне голову. Капают на макушку что-то вязкое. Трут голову пеной. Все же нет. Нельзя колькотар мешать с ламповой копотью. Ее светочувствительность и прочность недостаточно изучены. Нельзя. Нельзя подвергать его такой неопределенности. Меня поднимают и закутывают во что-то мягкое. Сразу становится тепло. Пока меня ведут по длинному коридору, вспоминаю, что у меня еще есть вишневая черная косточковая и персиковая. Noir de pêche. Они рождают красивый черный цвет. Он может хорошо лечь вместе с колькотаром. Взбивают подушку, открывают одеяло, одевают меня в пижаму. Четыре руки укладывают меня в постель. Нет. Все же, жженая кость. Да. Мягко и тепло. Как в утробе. Буду делать на костях. Что-то тяжелое давит на глазницы и я засыпаю.
Я
Могу.
Могу сделать что-то новое, что-то глубокое и всеобъемлющее. Нужно только собственное растворение и осаждение в процессе. Оно есть. Чем больше я растворен и разбавлен, тем ярче рождаются образы. Оно есть. Промывка. И это есть. Для получения высококачественного сознания, как пигмента, огромную роль играют тщательность и полнота промывки. Фильтрация и отделение воды. Да, есть. Промытое сознание перед сушкой должно быть полностью освобождено от излишнего количества воды, содержащейся в нем. Никакой воды. Ни внутри, ни снаружи. Больше я не пью. Так образы и видения становятся четче и ярче, живописнее и ярче, яростней и ярче. Ярко. Здесь так ярко, что хочется завязать глаза черной тряпкой и писать вслепую. Видеть внутренним взором приходящие галлюцинации. Высушивание сознания. Идет быстрой песчаной волной с дальнего бархана. Кто-то гладит меня по плечу и подносит к губам круглое отверстие. Из него льется вода. Я не пью. Сжимаю губы капканом. Нельзя. Нельзя! Я высушиваю сознание, как пигмент. Никакой воды. Воды… Различают два вида сушки: на открытом воздухе и мой. Я сижу в сушильной камере, где воздух все время нагревается электрическим, масляным обогревателем. Слышу скрип. Тени хотят открыть окно. Я тоже тенью лечу к ним и дерусь. Не дам! Нельзя воздух. Вздох, сдох. Улетают. Я пишу. А в голове измельчаю и просеиваю сознание. Похожее на песок, не в пример целому камню, тонко стертое оно податливо. Я легко смогу смешать себя с маслом в однородную массу. Я высушенный пигмент окиси железа. Я почти колькотар. Сам элемовский колькотар. Не хватает лишь льняного масла. Я пишу. Я чувствую, что это будет настоящее произведение. Не картина. Нет. Не эта профанация. Это будет настоящее произведение. Жаль, что у меня нет Elfenbeinschwarz. Не в пример медленносохнущей Beinschwarz она все же быстрей высыхает. В одно дыхание с колькотаром. Я пишу, а за окном сменяются времена года и годы. Вселенная расширяется и вновь сжимается. Как зрачок, реагирующий на свет. Расширяется, сужается, расширяется, сжимается. Взрыв. Черная дыра. Человеческий зрачок — это Вселенная в первый и последний миг жизни. Я думаю, что человек — это и есть Вселенная. Все начинается с его глаза, а точнее с la pupille, die pupille. Свет попадает в зрачок и в этот момент Вселенная начинает свое расширение. Из маленькой черной точки она постепенно превращается в весь мир. А потом, когда расти больше некуда, происходит большое сжатие. Человеческая Вселенная коллапсирует и схлопывается в сингулярность. В la pupille. Я подхожу к зеркалу. Смотрю зрачками в свои зрачки. Они расширены до предела. Скоро схлопнутся. Только бы успеть. Только бы успеть завершить произведение. Лицо бледное, желтоватое, масляное. Я становлюсь маслом. Выделяю масло, чтобы смешаться полностью сознанием с колькотаром. Вдруг слышу резкий деревянный стук. Колькотар. Стук. Стук-стук. Я вздрагиваю и покрываюсь гусиной кожей. Меня вырывает из колькотарова кокона и возвращает в мою мастерскую. Зрение проясняется. Без разрешения входит. Идет ко мне. Подходит вплотную. Высокий, мрачный, мятежный Халкос. Медноволосый. Венероподобный Марс. Я его знаю и не боюсь. Он один из тех трех. Встает передо мной. Что-то говорит. Трясет меня. Щекотно. Я начинаю смеяться, он начинает злиться. Трясет меня. Больно. Я начинаю плакать, он начинает злиться еще больше. Он хватает меня за руку и тянет куда-то вон из моего склепа. Я прокусываю его алебастровую руку. Драконова кровь капает. Киноварь капает на бетонный пол. Гёте говорил, что киноварь — это цвет с наивысшей энергией, доставляющий ощущение «невыносимого насилия». Да. Киноварь «особенно нравится энергичным, здоровым, грубым людям. Ему радуются дикие народы и дети». Да. Он дикий ребенок. Он грубый дикарь. Здоров, как энергия жизни. И в его венах кипит киноварью невыносимое насилие. И еще Гёте отмечал, что при разглядывании чистого киноварно-красного пятна оно кажется пронизывающим глаз, назойливым и невыносимым. Невыносимо смотреть на киноварь Марса. Он ошалело отдергивает руку. Что-то кричит мне про помешательство. Да, он очевидно не в себе. Говорит, что сегодня вечер одиннадцатого. И в одиннадцать придет Элемов. Я качаю головой. Невозможно. Время вязко как смола. Еще много дней в запасе. Нет, сумасшедший. Нет у тебя времени в запасе. Завтра двенадцатый день. Финальный смотр работ. А предпросмотр через одиннадцать минут. Дай я приведу тебя в порядок. Хотя бы умою. Ты как труп. Я отмахиваюсь. Не надо, уйди, уйди, дух! Я плачу, закрываю лицо руками. Глаза ядрено щиплет. В них попал колькотар. Колькотар везде. На лице, на руках, на груди, на стопах. Он стянул мне кожу и потрескался в местах сгиба. Медноволосый Марс качает головой, которая трескается и растворяется в спертом, горячем полумраке. За головой трескается шея, торс, пах, ноги. И затем он становится ветром. И покидает меня через дверную щель. Я стою и дрожу. Произведение готово. Оно безупречно. Лучшее, что я когда-либо создавал. Только как уже одиннадцатый день? Произведение еще не высохло. Мое сознание вновь окрашивается колькотаром. Я сажусь на пол и жду. Элемову должно понравиться. Он должен прийти в восторг, когда придет. Слушаю. Тишина. Слушаю. Тишина. Смотрю в окно. Перевожу взгляд. Стоит напротив мольберта, смотрит. Элемов долго смотрит. Элемов замер. Не двигается. Мое сердце не двигается вместе с ним. Я не дышу. Подхожу к нему. Встаю Элемову за спину. От него пахнет нефтью и смолой. Спина прямая, плечи широкие, но острые, рубашка белая, накрахмаленная. Я не дышу, но нефть и смола все равно проникают мне в нос. Элемов поворачивается. Он смотрит на меня пронзительно. Молчит. Что-то выжидает. Я делаю неловкий шаг навстречу. Элемов смеется и хлопает меня по плечу. Обходит мольберт, оглядывает мастерскую. Идет к двери. Останавливается. Поворачивается. Смотрит на меня. Внимательно, пронизывающе. Я вновь хочу подойти к нему, но он меня жестом останавливает. Я повинуюсь. Мнусь с ноги на ногу. Мну пол подо мной. Жду. Жду. Когда он скажет мне? Что мне надо исправить перед завтрашним днем? Или ничего? Ничего, Януш. Ничего. Правда, я думал, что ты полностью отдашься этой работе. Тебе не хватает полного погружения. Исправь. И место твое.
Часть 2. Яна
Написать картину, используя выданную нам краску… Неужели он не мог придумать ничего поинтереснее? Стоило только тюбику с колькотаром опуститься передо мной, как у меня в голове уже родился десяток вариантов того, что можно изобразить. Откровенно говоря, колькотаровым может быть все, что угодно — небо, воздух, кожа, болезненный или стыдливый румянец — все зависит лишь от того, что ты хочешь этим сказать. Вот что вы, Лев Исаакович, хотите сказать нам, предлагая этот цвет? Он пока ничего не говорит о нас, но уже что-то говорит о вас. Только вот что… Почему именно колькотар? Caput mortuum vitrioli. Чего вы ждете? Что именно вы так страстно хотите увидеть? Что я должна сделать, чтобы выиграть?
Мне нужна эта победа. Мне нужна эта треклятая путевка в жизнь. И в сто крат больше, чем кто-либо из присутствующих, я достойна этого. Взять, например, Януша. Он же просто безумный. Псих. Разве он сможет верно распорядиться выигрышем? Как это изменит его жизнь? Ему же нет никакого дела до славы и признания. Он словно животное, чей единственный инстинкт — писать маслом. Не буду врать самой себе — его работы впечатляют. Ну и что? Какое мне дело до талантливого идиота? В конечном итоге, все получает лишь самый умный и самый хитрый. И только я одна среди всех них подхожу под это определение. Только я одна.
Они смотрят на меня, и в их зрачках отражается холодная расчетливая сука. Перфекционистка. Хищница. И это так. Ради своей цели я пойду по головам. Сделаю все мыслимое и немыслимое. Напишу настоящий шедевр.
Двенадцать дней. Нельзя полагаться на вдохновение. Нужна стратегия. В чем мое преимущество? Я технична, тактична и методична. Это должен быть портрет. Да, именно портрет. Никто, кроме меня не решится на такое. Ян слишком любит удивлять. Он слишком сложный. Кажется, что его вообще не интересуют люди. Никто, кроме него самого. Ему нравится лишь копаться в себе. Наверняка возьмется за какой-нибудь пейзаж-головоломку, колькотаровый лабиринт, натюрморт с увядшими плодами… За все то, над чем можно долго стоять и думать, а что же этим хотел сказать мастер. Яну определенно есть, что сказать. Ян — опасный соперник. Но двенадцати дней может не хватить ему, чтобы воплотить в жизнь все свои идеи. А мне хватит. Мне хватит.
Да, чуть не забыла. Есть же еще Янин, нервно потирающий лоб, в надежде, что в его пустую голову придет какая-нибудь блестящая идея. Сомнительно. Янин — самый слабый из нашей четверки. Я вообще удивляюсь, как он все еще с нами. Посредственность. Пустышка. Но именно такие, обладай они определенной хваткой, и вырываются в лидеры, занимают все самые лучшие места. Но Янин не такой. Он тихий, смирный, не способный ни на предательство, ни на коварство. Или это всего лишь иллюзия? Вдруг он просто играет в ничтожество, пряча козырь в рукаве? Спокойно, Яна. Ты лучше всех.
Спокойно. Говори с ними спокойно и небрежно. Не показывай своего волнения. Улыбнись. Нет, лучше не стоит. Просто наблюдай за ними. Воодушевление, протест и страх. Интересно, что они читают на моем лице? Удается ли мне выглядеть расслабленно и невозмутимо? «Удачи, ребята. Удачи, Яна», — говорит Янин и жалко заглядывает мне в глаза, надеясь, что я подбодрю его. «Спасибо», — холодно отвечаю я.
Время идет. А я все ищу что-то, что не могу передать словами. Кажется вот-вот, и я увижу именно то, что нужно. Но то, что нужно, ускользает от меня. Я ничего не могу найти. Часы идут слишком громко. Спина затекла от слишком долгих поисков. Мне нужно нечто завораживающее, пугающее, что-то прекрасное и постыдное. Какой-нибудь образ, взгляд, жест, отблеск вечности. Я смотрю в монитор и пролистываю, пролистываю, пролистываю изображения. Слишком приторно, слишком посредственно, слишком патетично, слишком, слишком, слишком. Вся история искусства проносится перед моими глазами, которые щиплет и разрывает от напряжения. Я чувствую, как один за одним лопаются капилляры, окрашивая белки цветом крови. Сухая старая кровь. Колькотар. Во рту кислый вкус. Кажется, я пью слишком много кофе. От этого может испортиться цвет лица. Краем глаза я улавливаю свое отражение в зеркале. Грязные волосы, безумный взгляд, больное лицо. Как можно работать над чем-то великим в таком виде? Искусство — это работа. И для посещения муз есть определенный дресс-код. Стратегия, Яна. Системный подход. Твой рабочий день на сегодня подошел к концу. Необходимо очистить сознание. Очистить тело. Я — пустой сосуд, готовый принять в себя вдохновение.
Как же приятно. Горячие струи касаются кожи. Пар покрывает зеркало тонкой туманной пеленой. Мне немного стыдно, ведь Лев Исаакович запрещает нам очищать тело, пока не будет готова картина. Но это моя жизнь. Это мой шанс. А его здесь нет. Он не может знать, что я делаю. Мое тело — мой холст. Мое тело — мое дело. Мне необходима концентрация, которой нельзя добиться, будучи грязной. Мне нельзя отвлекаться на телесное. Необходимо удовлетворить низменные потребности, чтобы сосредоточиться на искусстве. Я должна быть чистой и сытой. Пустой и наполненной. Цельной.
Стыд возбуждает меня. По коже бегут острые мурашки. Я нарушаю установленные правила. Я делаю то, что он запретил нам делать, и от этого чувствую себя счастливой. Порой мне хотелось бы быть другой. Более распутной, более безумной, хорошенькой пустышкой, которую бы все любили и желали. Но я не такая. Меня разве что с натяжкой можно назвать интересной. Ну и пусть. Пусть меня нельзя полюбить ни за смазливую мордашку, ни за прекрасную душу. Ни того ни другого у меня нет. В физиологической гонке я одержала безоговорочное поражение. Но я уже давно это приняла. Да, вначале было больно. Как после серьезной операции по трансплантации органов. Моя душа отторгала тело, и наоборот. Но потом все пришло в норму. Я полюбила быть чудовищем. Я перестала прятать свои недостатки, я стала подчеркивать их. Лучшая защита — это нападение. Лучшая маскировка — спрятать самое ценное на видном месте. На видном месте…
Ну, конечно же. Это было так просто, что я не придала этому значения. Я отвлеклась от главного. Я искала там, где ничего нельзя было найти. Я помешалась на форме, забыв про содержание. Я пыталась увидеть, а не услышать. Колькотар. Ведь это не просто краска. Это — метафора. Колькотар. Медный цветок. Мумия. Окись железа. Fe2O3. Гематит имеет такую же формулу. Железная роза. Кровавик. Колькотар — это смерть, траур. Колькотар — это звук органа. Тяжелая, звенящая, пронзительная мелодия. «Fantasia F Minor» Моцарта. Только ниже, страшнее. Последняя песнь. Оплакивание.
Я стираю воду с груди и живота. Я насухо вытираюсь и накидываю сверху крахмально-белую рубашку. Я встаю напротив зеркала и протираю его скользкую поверхность влажными пальцами. В образовавшемся проеме я вижу острые, удлиненные, словно вышедшие из-под кисти художника-маньериста, черты своего лица. Два воспаленных глаза пристрастно глядят на меня из зазеркалья. Я вспоминаю все то, что когда-либо причиняло мне боль. Глаза наполняются влагой. Я думаю о том, что никто и никогда не поймет меня и не примет такой, какая я есть. Соленая жидкость переливается через края. Я боюсь, что Лев Исаакович выберет кого-нибудь другого. Две горячие капли падают на мои щеки. В ушах органным звоном звучит колькотар. Я успеваю запечатлеть в памяти этот момент, пока окончательно не захлебываюсь слезами. Я рыдаю в голос. Так, как никогда в жизни. Завываю, как подстреленная волчья сука. Я кричу, как плакальщица. И тонкие стены мастерской не в силах сдержать моей истерики. Я уничтожаю себя. Я отпускаю себя.
Я прихожу в себя. И точно знаю, что хочу сделать. Утреннее солнце освещает край моей подушки. Еще немного, и его теплые лучи коснуться моего лица. Я не отворачиваюсь. Мне хорошо. Я нашла то, что нужно. Колькотар раскрылся передо мной. Я услышала его. И он явил мне образы. Пылающий, но не сгорающий терновый куст, в центре которого заключена дева с младенцем на руках. Терновый куст горит и не сгорает, так же как дева рождает и остается целомудренной. Богоматерь Неопалимая Купина. Мадонна со сверкающим сердцем в груди, обрамленным венком из роз. Непорочное сердце. Царица небесная, сидящая на престоле с сыном на руках, напоминающая изображения всесильных материнских божеств Египта, Греции и Рима. Маэста, Величание. Богоматерь с младенцем в одной руке, второй указывающая на него верующим. Древнейшее изображение Богородицы, по преданию сделанное евангелистом Лукой. Одигитрия, Путеводительница. Богоматерь, стоящая с воздетыми к небесам руками. Оранта, Панагия, Знамение. Мария, защищающая людей своим покровом. Мизерикордия. Богородица, нежно прижимающая к груди или щеке тянущегося к ней младенца. Елеуса, Умиление. Младенец хватается за мать и откидывает голову назад в страшном и тоскливом предчувствии Страстей. Пелагонитисса. Богоматерь, кормящая младенца. Галактотрофуса. Мадонна, возносящаяся на небеса. Ассунта. Богородица, оплакивающая снятого с креста Иисуса. Mater dolorosa, Богоматерь Скорбящая, Пьета.
Пьета была последним образом из тех, что я знала. После нее колькотар явил мне то, что я никогда не видела раньше. Мадонна в траурной кружевной мантилье с бледным младенцем, прижатым к ее груди. В глазах Марии стоят слезы, глаза же ребенка закрыты. Времени не существует. Все происходит в один и тот же миг. Иисус рождается, умирает и воскресает в один и тот же момент. Он младенец и ему уже тридцать три. Будущего нет. Прошлого нет. Есть лишь одно длящееся настоящее.
Луч света целует меня в губы и я встаю. Впереди — десять полных дней. Меня снедает любопытство. Что сделали другие? Что они собираются сделать? Есть ли среди них кто-нибудь, кто способен вырвать у меня победу… Я наскоро одеваюсь и отправляюсь к Янушу. Еще не открывая двери, я чувствую тошнотворный запах его грязного тела и растворителя. Запах его болезненного безумия. Приоткрываю дверь, зажав ладонью нос. Как же смердит. Здесь можно задохнуться. Он не видит меня. Он не замечает меня, прислонившись головой к стене. Он что-то шепчет себе под нос. Все его пальцы, все предплечья перемазаны краской. «Что ты делаешь?», — наконец, спрашиваю я. Но он не слышит. Он шепчет и шепчет. До меня долетают слова о том, что он что-то не может понять, названия красок. Что ты не можешь понять, Януш? Это я не могу понять тебя. Мир в твоей голове намного хаотичней, чем мир вокруг. Я перевожу взгляд на холст. Колькотаровый подмалевок. Дальше может быть все, что угодно. Как же душно. К горлу подкатывает тошнота. Я выхожу, захлопнув за собой дверь. Ловлю ртом кислород, пытаясь надышаться. А вдруг он задохнется там внутри? Надо открыть ему окно. Нет, не надо Яна. Если он задохнется, то так будет даже проще. Уходи.
Я ускоряю шаг. Почти что врываюсь в мастерскую к Яну. Мне почему-то хочется вывести его из себя. Вывести его из равновесия, чтобы он не смог творить. Он поворачивается. Смотрит на меня своими красивыми, гневными глазами. Я замечаю, что на его палитре нет колькотара. На его холсте нет колькотара. Ян ненавидит подчиняться. Он не признает авторитетов. Слово Льва Исааковича для него не закон. Даже сейчас, когда решается его судьба, он не хочет следовать правилам. Он хочет обойти систему, взломать ее. Самоуверенный засранец. Ян хочет что-то сказать, но я ничего не хочу слышать. Мне достаточно того, что я вижу. Он не будет использовать колькотар. Его Эго для него важнее, чем победа. Он думает, что единственный настоящий среди всех нас, а мы — лишь глупые овцы, выполняющие то, что нам велено. Его гордыня непостижима. Его гордыня уязвляет. Лев Исаакович не станет этого терпеть. Ян мне не конкурент.
Остается лишь Янин. Но у него заперто. Я прислушиваюсь к звукам за дверью и ничего не слышу. Ничего, кроме чириканья его попугая. Внезапно раздается «Кто там?». Я вздрагиваю. Отвечаю. «Кто там?», — повторяет странный, немного фонящий голос. Чертова болтливая птица. Надеюсь, его хозяин не сбежал и не умер. Ложусь на пол и пытаюсь всмотреться в щель под дверью. Ничего не видно. Будет жаль, если не удастся увидеть его позора. «Кто там?», — кричит попугай и сам же отвечает: «Коль-котар. Колькотар. Колькотар!»
Я возвращаюсь к себе и начинаю готовиться к работе. Ставлю на мольберт загрунтованный холст. Рядом — гипсовую голову Венеры. Готовлю кисти, тряпки, мастихины. Смешиваю несколько капель льняного масла, пихтовый лак и кобальтовый сиккатив. Лью последний щедро. Часы бегут. У меня нет времени на длительную сушку. Необходимо ускорить процесс, даже если придется терпеть этот невыносимый запах. Я выдавливаю на палитру колькотар. Любуюсь им. Темный, вдовий, траурный. То, что нужно. Я смешаю его с косточковым черным. Тонкой кистью выпишу кружева. Царская траурная мантилья. Похоронный мафорий. Свинцовые белила, неаполитанская розовая, неаполитанская телесная, турланская охра для кожи. Немного неаполитанской желтой. Горошина Ализарина малинового и Кобальта синего. Вдруг я замираю. Сердце останавливается. Я не знаю, каким сделать фон. Железная лазурь. Турецкая голубая. Берлинская лазурь. Нет. Нужно что-то нейтральное. Землисто-серый. Серая теплая. Золотая охра. Сиена жженая. Мне становится трудно дышать. Я теряю образ, который так четко видела перед собой. Землисто-красный. Нет. Марс черный разбеленный. Нет. Умбра вишневая. Нет, ее у меня нет. Умбра жженая. Да. Умбра жженая и охра золотая. Немного золота — это то, что нужно. Царица небесная. Умбра жженая и охра золотая. Вибрирующий свет, караваджийское тенеброзо, леонардовское сфумато.
Я готова. Я сажусь на табурет, смотрю на часы, ставлю Фантазию Моцарта для механического органа на повтор. Время пошло. Я погружаюсь в процесс. Я растворяюсь в процессе. Меня уже нет. Тонким карандашом набрасываю контуры. Приступаю к подмалевку. Надо работать быстро, пока краски не начнут скатываться на кистях. Кисти моих рук срастаются с кистями. Я сама превращаюсь в инструмент. Меня уже нет.
Я застаю себя спящей. Когда краски сохнут, я сплю. Я закрываю глаза и проваливаюсь в неизвестность. Я ставлю будильник. Просыпаюсь и вновь приступаю к работе. Ставлю будильник. Просыпаюсь и вновь приступаю к работе. Я работаю тонко и деликатно. В техническом смысле я совершенна. Я отхожу, смотрю на то, что получилось. Я довольна. Мне нравится то, что я вижу. На маленькой электроплитке я варю кофе. Сидя на полу, я выпиваю все до последней капли. Разжевываю молотые зерна. Я ставлю будильник и засыпаю на двадцать минут. Мне снится Мадонна. Она закрывает мне веки. Аве, Мария. Слава над нею. Я вновь приступаю к работе. Я наливаю себе вина. Хлеб и вино. Плоть и кровь Господни. Кисть скользит по бледной поверхности щеки. Младенец мертв. Младенец спит. Реальность сливается со сном. Я просыпаюсь в холодном поту. Будильник не прозвенел. Я проспала десять часов. Я проиграла. До боли кусаю губы. Идет кровь. Кровь капает на палитру. Я смешиваю ее с колькотаром. Я пишу слезы Богоматери своими слезами. Время идет слишком быстро. Мне становится страшно. Я принимаю холодный душ. Я кричу от холода. Я хочу проснуться. Я просыпаюсь. И вновь приступаю к работе. Масло сохнет слишком медленно. Я включаю обогреватель на максимальную мощность. Срываю с окон шторы. Нужно много света и много тепла. Я завожу будильник и ложусь спать. Мне кажется, я горю. В ушах звучит колькотар. Я становлюсь пеплом. Я обращаюсь в пыль и разлетаюсь по мастерской, оседая на предметах. Я порчу собой лик Богородицы. Я порчу собой колькотар. Я просыпаюсь. Я задыхаюсь и продолжаю работать. В комнате так невыносимо жарко, что я теряю сознание. Это мое личное извержение вулкана. Мой личный Последний день Помпеи. Мне кажется, что я умираю. Но я просыпаюсь вновь и вновь приступаю к работе. Я включаю еще один обогреватель. Так жарко. Мне кажется, что все мое тело покрывается ожогами. Мне больно есть. Мне больно спать. Звон будильника причиняет мне боль. Я просыпаюсь и недоумении смотрю на картину. Неужели это я? Или кто-то другой сделал это за меня? Я плачу от того, как это прекрасно. Я смотрю на календарь. Остались еще сутки. Я успела. Я опередила время. Я выключаю обогреватель и распахиваю окно. Я дышу и задыхаюсь. От воздуха и от счастья. Я убираюсь в мастерской. Все должно быть чисто и аккуратно, как раньше. Никто не должен видеть, что я сошла с ума. Я ложусь спать. Впервые за эти дни мне легко и спокойно. Я поглядываю на свою Мадонну. Она смотрит на меня. И даже уснувший вечным сном младенец вдруг открывает глаза.
Я просыпаюсь и иду в душ. Смываю с себя краску и безумие. Надеваю свое лучшее платье. Укладываю волосы. Крашу глаза. Сажусь за пустой письменный стол и жду предпросмотра. Лев Исаакович приходит в урочный час без стука. Он всегда пунктуален. Я встаю. Вытягиваюсь, как струна, и приветствую его. Он отвечает мне коротким кивком и подходит к мольберту. Я вижу, как расширяются его зрачки. Кажется, он удивлен. Уголки его губ вздрагивают в подобии улыбки. Он подходит ближе, рассматривая детали. Колькотарово-черная мантилья идеальна. Я молча любуюсь ей со стороны. Он поворачивается ко мне. Подходит вплотную. Так, что я могу почувствовать жар и запах его тела. Прекрасно, Яна. Я впечатлен. Ты превзошла сама себя. И я бы выбрал тебя уже сейчас, но есть одно «но». В твоей работе не хватает свободы. Здесь чувствуется страх ошибки. Освободи себя, Яна. И тогда победа будет твоя.
Он уходит, а я остаюсь все так же напряженно стоять на месте. Я стала мрамором. Каменным идолом, приросшим к полу. Внутри меня все обливается кровью. Вместо сердца — колькотаровый гнойник. Перед глазами все расплывается. Я слепну от гнева. Я никогда не смогу стать более свободной, чем в этой картине. Я отпустила себя, а он этого не заметил. Во рту чувствуется вкус желчи и металла. Я впиваюсь ногтями в ладони, чтобы не разреветься в голос. Чтобы он ничего не услышал. Я закрываю глаза и начинаю тихо молиться. Дай мне сил. Дай мне сил. Дай мне сил.
Часть 3. Ян
Рабы системы. Мне вас жаль. Хотя нет, не жаль. Вы сами выбрали этот путь. Беспрекословно слушаетесь этого самодовольного титулованного павлина. Элемов. Почетный художник. Элемов. Народный художник. Кавалер ордена Почетного легиона. Лауреат премии Пикассо. Иностранный член-корреспондент Академии изящных искусств Франции. Президент академии художеств. Он любит непрестанно перечислять свои звания и награды, награды и звания, чтобы мы ненароком не забыли, кто перед нами стоит, сидит, говорит. Никто не любит себя так сильно и страстно, как Элемов. Даже его преданные обожатели не смогут сравниться с ним в искусстве облизывания его великодержавных заслуг. Вы все его обожествляете. Гордость и тщеславие — вот те болезни, которыми неизлечимо болен Элемов. Он чрезмерно высокого мнения о своих достоинствах. Гордец. Он чтит только самого себя. И ему плевать на всех нас. Свои прихоти и желания Элемов считает выше морали. С презрением и насмешкой относится он к мнениям и советам других людей и не откажется от своих взглядов, как бы ни были они ложны. Гордый и тщеславный человек из самого себя изваял идола. И вы, с каждым подобострастным согласием, с каждым кивком и поклоном лишь усиливаете ощущение его величия.
А сейчас он дает мне этот проклятый тюбик с колькотаром и предлагает всего за двенадцать дней создать «шедевр», который бы поразил его в самое сердце. Может, лучше в самое горло? Сердца-то у тебя нет, Элемов, нет. Тебе на всех плевать. Единственное, что тебе интересно, так это играть людьми. Изучать их, как какую-нибудь инфузорию-туфельку, под микроскопом. Какую реакцию вызовет твой очередной приказ? Я смотрю на остальных. Януш вцепился кривыми пальцами в свой тюбик и не сводит с него напряженного взгляда. Несчастный дурак. Гениальный шизик. Мой бедный друг. Яна сидит с прямой спиной и пытается сделать вид, что ей нет дела до финального задания. Но я-то знаю, что она готова душу диаволу продать, лишь бы ты выбрал ее. Янин, конечно, испуган. Весь сгорбился и посерел. Элемов смеется. Мы молчим. Что тут скажешь? Живопись и свобода, очевидно, не являются синонимами в твоем сознании. Ты же знаешь, что нельзя написать картину просто потому, что кто-то приказал тебе это сделать. Нельзя измерить талант человека мерилом беспрекословного соблюдения инструкций, правил и заданий. Нельзя прийти к художнику и сказать: «А через двенадцать дней ты мне создашь шедевр. Пиши колькотаром. Мне плевать, что ты там о себе думаешь. Если не справишься, значит, ты бесталанная вошь». Хотя, может, тебе именно так и говорили? Элемов, голубчик, вот тебе киноварь. Напиши ей историю любви к своему Отечеству за один оборот Луны и станешь Народным. А ты им в ответ «хорошо, будет». И думаешь, как же хорошо-то будет. Стану я Народным. Ну, склоню я голову раз, подлижу здесь два, ну, ничего. С меня все, как с гуся вода. Народными ведь на дороге не разбрасываются. Зато я стану Большим Человеком. Личностью. Ну что? Стал ты им? Сам для себя стал? Все эти звания греют тебе ту полость в груди, где когда-то раньше жила душа? А знаешь почему тебе все время холодно? Тебе страшно. Ты подписал такой договор с самим собой, со своей совестью, что только и остается что непрестанно дрожать от холодного ужаса. Это я? Это ли я? Тот идеалист, который верил когда-то в силу искусства. В честность. В свободу. Где же я? Когда я умер и мое место занял этот незнакомый мне человек? Знаешь, почему ты пишешь ночью, а днем забываешься зыбким сном? Ты — вурдалак. Самый, что ни на есть, настоящий упырь. Выйдешь на солнце и тотчас же умрешь. Солнце тебя мигом сожжет. А ты не хочешь сгореть, тебе нравится медленно плавиться в своей мастерской. Ты сейчас смотришь на нас, высокомерно подняв острый подбородок и породистый орлиный нос, а сам думаешь: «Как же я вас ненавижу… Вы молоды, свежи, еще не продавали себя, не продавали других, не мстили, не ревновали, не предавали. Для вас мир — место больших возможностей, исполнения ваших наивных желаний, любви и беззаботности. Я преподам вам последний урок. Пора раскрыть вам глаза и обнажить ваши истинные натуры. Вы не милые щеночки, которые готовы прийти друг другу на помощь. О, нет. Вы — гиены. Падальщики. Такие же, как и я.» Нет, Элемов. Мы не такие же. Мы — другие. Мы никогда не станем такими же подонками, как ты. Никогда не продадим себя. Всегда будем в ладу с собой и своей совестью. И ты это знаешь. И именно поэтому ты даешь нам сегодня по тюбику с мертвой головой внутри. Это не просто краска. Это инициация. Ты хочешь, чтобы мы убили сами себя. Продали себя тебе за блага благоустроенной жизни. И тогда ты выиграешь. Колькотар — это краска, которой ты хочешь, чтобы мы нарисовали смерть.
Я возвращаюсь к себе в мастерскую. Пока иду по темному промозглому коридору, думаю, что же делать. Нет, для себя я все, конечно, уже решил. Пошел он со своим заданием. Я не его марионетка. Я не буду делать то, что он мне скажет. Я не продажная тварь, как Яна. Не вежливый трус, как Янин. И не сумасшедший, как Януш. Для каждого из них есть только один способ существования — четко придерживаться установленной иерархии. Есть мастер и есть воля его, а все, что ты сам чувствуешь, испытываешь, желаешь, понимаешь, в конце концов, не важно! Я так не могу. Я так не могу. Не могу и не хочу. Я знаю, что у каждого свой путь, но не понимаю, как художник, творец может следовать по пути раба. Это невозможно. Это противоестественно! Мастер должен лишь обучать ремеслу, а не указывать путь. Но кажется, наши учителя позабыли это. Наш учитель. Элемов. Когда-то я пришел к тебе, потому что восхищался тобой. Ранний Элемов. Ваши картины, были неопалимой купиной. Отчего куст горит огнём, но не сгорает? Оттого что вы были собой и никем другим. Несочетаемое, прекрасное, дикое, настоящее, ваше. Вы были свободны в своем искусстве. Вы были Вы. А сейчас вы стали «ты». Твои работы продаются. Ты имеешь успех, но теперь ты — никто. Подневольный своих званий и наград, каторжник своего положения в обществе. Теперь ты не можешь сказать, что гавно — это гавно, а сука — это сука. Теперь ты говоришь, что воздержишься от суждений. Не ты судья. Не ты? Тогда кто ты? Художник — всегда судья. Художник — творец. Художник должен судить, должен говорить правду, разделять добро и зло, красоту и уродство. Художник — творец! Но ты теперь боишься натворить такого, что могло бы разрушить так тщательно сооружаемую тобой карьеру. Тебе страшно обидеть того и не угодить этому. Конечно, ведь тот дал тебе Народного, а этот Почетного. Ты у них в долгу по гроб жизни. Ты не можешь написать море, потому что море сейчас плохо продается, да и вообще — это моветон. Так тебе это говорит твой арт-агент и галерист из Брюгге или Берлина. Галерея от слова галера. Это твоя галера. Твоя расплата за «успех». Про тебя знает весь старый и новый свет. Ты не можешь его разочаровать, не можешь заниматься «самодеятельностью». Но и не можешь больше называться художником среди художников. Знаешь, что про тебя говорят? Говорят, что ты — продажная девка. Элемов, ты — шлюха. И это теперь невозможно изменить. Ты продал свой талант. Продал. Но зачем же ты хочешь сделать нас себеподобными? Ты же живешь в Преисподней. Твоя неопалимая купина давно сгорела, от нее даже углей не осталось. Так, только пепел. Ты был свободен, как ветер. А теперь кто-то другой стал ветром. Кто-то молодой и бесстрашный. И этот кто-то другой развеет пепел, и от тебя ничего не останется.
Когда я вхожу к себе в мастерскую, первым делом я раскрываю пошире окно и выбрасываю тюбик с колькотаром. Сажусь на широкий подоконник и принимаюсь делать наброски будущей картины. Уличный фонарь светит своим болезненным оранжевым светом мне прямо на бумагу, даже свет не надо включать. Я вставляю наушники и включаю рок. Волны звука бьют мне в барабанные перепонки, как волны о скалы, и я не замечаю, как начинаю рисовать 4B океан в своем альбоме. Элемов ненавидит воду. Все, что я когда-нибудь писал с морями, реками, озерами и океанами он ненавидел. Говорил, что это бездарно. Что написать море может любой дурак. Дай человеку кисть и он тут же выдаст море. А еще небо, солнце и траву. Это вульгарно. Это примитивно. Ты же не ученик какой-нибудь захудалой художественной школы? Не бездарность? Зачем ты опять пишешь море? Если не можешь не быть маринистом, то будь добр, мой друг, пиши как Айвазовский. Сейчас же я вижу полную профанацию. Либо делай превосходно, либо не делай никак. Не нужно тратить время на «хорошо» и «нормально». Не нужно. Я и не трачу время на «хорошо» и «нормально». Я всегда делаю «превосходно». Только твоя «слепота» не дает тебе это увидеть. Создавайте для восприятия либо невыносимо сложные произведения, либо олигофренически простые. Никогда не используйте золотую середину. Эта середина — путь в беспросветную бедность и безвестность. Вы сейчас можете этого не понимать, но когда поймете, будет поздно. Используйте свой талант вместе со своей молодостью. Гениальный сорокалетний художник, не понявший, как устроен этот жестокий мир, всегда проиграет молодому талантливому парню, который играет по правилам современных галеристов. Не стройте иллюзию, что вы особенные и знаете больше нас. Я желаю вам добра, даже если, порой, вам кажется, что я мучаю вас. Это для вашего же блага. Я не хочу, чтобы вы упустили ваше время. Вы не должны его упустить. Из всех я выбрал именно вас четверых. Вы все — продолжение меня. Ты хорошо говоришь. Ты хитрый и умный. А еще ты старый. Ты делаешь вид, что хочешь нам помочь, а на самом деле, ты хочешь нас зарыть живьем. Ты пытаешься нас похоронить, но ты не знаешь, что мы семена. Эти трое поверили тебе. Верят безоговорочно. Но не я. Я знаю из какого теста ты слеплен. Я знаю, что ты обманщик. Ты диавол. И именно поэтому я выкинул твой колькотар вместе с твоим долбанным шансом «безбедной» жизни. И именно поэтому я нарисую так ненавидимый тобой океан. Бушующий океан. Шторм. Это мой бунт против тебя и твоих правил. Это моя война. Война во имя свободы. И я ее выиграю, чего бы мне это не стоило.
Дни несутся быстро, но и я не опаздываю с работой. Кажется, я уложусь в срок, день в день. Часто навещаю Януша. Его мастерская — рядом с моей. Он безвылазно сидит у себя. Приношу ему еду, но он сам не ест, пьет один лишь кипяток, чтобы заглушить голод. Поэтому в последние дни я кормлю его сам. Кажется, он медленно сходит с ума. Ни на что не реагирует. Так погружен в работу, что не замечает, когда я прихожу, когда я ухожу. Иногда я останавливаюсь перед мольбертом, за его спиной, и смотрю, смотрю, как он выводит колькотаром, должно быть, красного льва.
Как там у Гёте в «Фаусте»?
«Являлся красный лев — и был он женихом,
И в теплой жидкости они его венчали
С прекрасной лилией, и грели их огнем,
И из сосуда их в сосуд перемещали…»
Да, и от этой смеси больные гибли все без исключения. В этом есть что-то пророческое, не правда ли, Элемов? Всех, кто болен, твой колькотар добьет в неволе. Бедный мой Януш. Судьба подарила тебе такой талант живописца, дала золотые руки и чувство меры, цвета, пространства композиции. Ты — реинкарнация Рафаэля, но только ты этого не понимаешь, не осознаешь. Ты находишься где-то далеко, хотя и здесь телом. Где ты? В каком мире ты обитаешь? Бедный Януш.
У тебя жутко смердит в мастерской. Ты вообще не проветриваешь ее. Какофония зловоний из растворителей, масла, человеческой грязи и полного отсутствия свежего воздуха могут лишить рассудка любого. Смотри, Элемов, смотри! Смотри до чего ты доводишь людей. Ты же знал, что Янушу нельзя давать такого задания, знал, что у него начнется помутнение, знал, что он, как никто другой, будет самоотверженно истязать себя вместе с холстом, чтобы в итоге вышел, как ты говоришь, «шедевр». Я прихожу с подносом. На нем горячая солянка, черный хлеб и черный чай. Все, как ты любишь, мой бедный друг. Кормлю тебя с ложечки, ты рассеянно глотаешь и моргаешь. Где ты сейчас находишься? О чем думаешь? Мысли твои далеки. Вытираю тебе подбородок, как маленькому ребенку. Кушай, пожалуйста, внимательнее. Пою чаем. Забираю поднос и отношу к себе. Потом помою посуду. Сейчас тебя надо вымыть. Иду за Янином. Мне в одиночку с тобой не справиться. Вроде бы ты худой и костлявый, но тяжелый, будто труп. Невозможно сдвинуть с места.
Привет. Привет. Поможешь мне? Да, конечно. Я помогу. Помогу. Что нужно? Нужно Януша помыть.
Идем к нему. Я его раздеваю до гола. Перед нами открывается тщедушное бледное тело, покрытое язвами и гнойниками, порезами и ранами, замазанные колькотаром. Берем его под локти и ведем в конец коридора в общую ванную. С трудом усаживаем его. Он что-то шепчет про лампы и копоть. Мы наполняем ванну горячей водой и принимаемся аккуратно оттирать грязь с него, стараемся не раскровавить раны на коже. Возимся долго. С нас сходят литры соленого пота. Тело Януша сидит молча, сам он где-то далеко. Моем его грязную, засаленную голову, слипшиеся темные волосы, следим, чтобы мыло не попало в глаза. Когда все завершаем, приводим его в мастерскую и укладываем спать в чистую постель в чистой одежде. Хорошо, теперь я за него не волнуюсь.
Я лежу в постели и думаю, как я ненавижу Элемова. Что он делает с нами? Но главное, почему если я такой свободный и мне никто не нужен, почему я все еще здесь? Почему я в учениках у Элемова, а не в его учителях? Отворяется дверь. Ко мне в помещении проскальзывает тень. Забирается под одеяло. Целует жарко, целует грязно. Вызывает влажные стоны. Мы сливаемся в одно целое. Тишину этажа нарушает наше громкое дыхание, и скрипы, скрипы, скрипы.
Яна сообщает, что сегодня в одиннадцать вечера Элемов зайдет к каждому из нас на предпросмотр. И что? Пусть. Мне скрывать нечего. Мою работу и так уже видели все, кто только хотел ее увидеть. Как, впрочем, и я работы других. Не важно, что и как вы пишите. Главное чем. Колькотаром. Все. Вы все рабы системы. Никто не осмелился быть собой, не осмелился наплевать на правила. А я наплевал. И знаете что? Я свободен. Мне ничуть не страшно, что же мне скажет сегодня Элемов, потому что я вне игры. Вот ты помнишь, как ты скривилась, когда пришла ко мне и не увидела колькотара на моем полотне, Яна? Помнишь, как твое холодное лицо озарило чувство довольства и спокойствия. Помнишь, как ты успокоилась, что одним конкурентом меньше, одним шансом больше. У Элемова сегодня будет такое же лицо. Ты думаешь, что ты победила. Ты шептала мне об этом ночью. Ты победила? Это так важно? Слава? Успех? Почему это так для тебя важно? Кому и что ты пытаешься доказать?
Элемов опаздывает. Когда он входит ко мне, я сижу на подоконнике и рисую H2 ветер. Он становится напротив картины, смотрит на нее долго, безотрывно, я чувствую, как его дыхание учащается, он сдерживается. Почему ты это сделал, Ян? Зачем? Прусская лазурь, гамбургская синь. Опять этот океан. Во имя чего этот бунт? Во имя мнимой свободы? Нет никакой свободы, мой мальчик. В мире искусства нет никакой свободы. В мире вообще нет свободы. Свобода есть только у тебя в голове. И я хотел, чтобы ты, наконец, это понял. Но похоже все напрасно. Пока это — бездарная пародия на тебя самого. Исправь все. Добавь колькотар, добавь таланта и страсти, как ты можешь. И место твое.
Часть 4. Янин
Что же делать? Руки стали липкими, как у жабы. Подмышки, кажется, тоже уже намокли. Зачем я только надел голубую рубашку? Ребята сразу поймут, что я волнуюсь. Вдруг Яна решит, что у меня проблемы с нервами? Как стыдно. Надо как-нибудь попробовать скрыть это. Постараюсь не размахивать руками. Но это будет непросто. Я же всегда жестикулирую. И чем сильнее волнуюсь, тем сильнее жестикулирую. Дурная привычка. Ничего не могу с собой поделать. А вот Яна и Ян всегда такие выдержанные. Они такие талантливые и знают себе цену. Я даже немного завидую им, ведь никогда не смогу стать таким же. И даже таким, как Януш, хотя я и не до конца понимаю то, что он делает. Мне всегда немного стыдно, когда мы собираемся все вместе. Я начинаю сравнивать себя с ними, и каждый раз сравнение оказывается не в мою пользу. Я бы никогда не смог повторить то, что они пишут, а то, что делаю я, на их фоне выглядит наивно и смешно. Я до сих пор не понимаю, как я попал в нашу четверку. Почему я? За что?
Мастер смотрит на меня. Я смущаюсь и мое лицо заливается краской. По инерции тянусь к носу, тру переносицу, как будто она невозможно чешется. Тру лоб. Вдруг вспоминаю, что в области подмышек у меня красуется два мокрых пятна. Опускаю ладонь. Скрещиваю руки на груди. Мои щеки и уши становятся пунцовыми. Мастер отворачивается от меня. Он выглядит великолепно. В его жестах столько достоинства и породы. Он всегда знает, как и что следует сказать. Однажды мы были на открытии его выставки. Он вел себя так, как должен вести настоящий художник. Все смотрели на него с обожанием. Я восхищаюсь им. Я бы очень хотел быть похожим на него. Я вновь невольно тру переносицу. Яна бросает на меня презрительный взгляд. Мне становится неловко и я смотрю на тюбик с краской.
Наверное, это даже к лучшему, что он дал нам колькотар. На самом деле, я никогда не использовал его в своих работах. Мне нравится что-то яркое, веселое и простое. В моей палитре можно найти в основном кадмий желтый, кадмий красный, зеленую киноварь и синий кобальт. Я использую локальные, понятные цвета. Мне будет сложно придумать что-то с колькотаром, но ведь мастеру виднее. Это хоть какая-то подсказка для нас. Полная свобода пугает меня больше, чем необходимость использовать незнакомую краску. Я теряюсь, когда не знаю, что нужно делать, когда не понимаю, что от меня хотят. Однажды я подслушал разговор матери с ее подругой. Она говорила, что волнуется за меня, ведь я слабый и зависимый человек и могу попасть в плохую компанию, со мной может случится беда. Я очень обиделся. Я не хотел быть слабым. Но я просто не умел быть другим. В школе надо мной издевались, и я молча терпел все унижения. Я смеялся вместе со всеми над злыми шутками, обращенными в мой адрес, чтобы меня не обидели еще сильнее. Я думал, что школа закончится, и все изменится. Но школа закончилась и ничего не изменилась. Я остался прежним. Маленьким, жалким и слабым человеком. И тогда я соорудил убежище, где никто и никогда больше не мог меня обидеть. Я поселился в собственном мире, где не было места для унижений и боли, где все были веселы и счастливы. И однажды мой мир заметил мастер и пригласил меня к себе. Это был лучший день в моей жизни. Наверное, он что-то увидел во мне. Счел особенным. А теперь он доверяет мне колькотар и верит, что я смогу написать за двенадцать дней настоящий шедевр. Это трогает меня. Я чувствую, как к глазам подступают слезы признательности. Я не могу разочаровать мастера. Он должен остаться доволен моей работой.
Я кладу драгоценный тюбик в карман. Я смотрю на лица ребят и пытаюсь как можно лучше запомнить этот момент. Сейчас мы еще все вместе, но уже через двенадцать дней мастер выберет лишь одного из нас. Не представляю, как он сможет принять это решение, ведь все мы для него, как дети. Он любит нас. А я люблю его, как отца, которого у меня никогда не было. И порой мне кажется, что все мы — большая семья. Кроме ребят и Яши у меня никого больше не осталось. Я желаю каждому удачи и с замиранием сердца слежу за тем, как они расходятся по своим мастерским. Я ухожу самым последним.
Возвращаюсь к себе. Яша уже ждет меня и встречает радостным «Привет, Янин!». Яша, мой хороший. Краснохвостый жако с умными светло-желтыми глазами. Очень любит груши, шиповник и тыкву. Когда я ухожу надолго, я оставляю включенным телевизор, чтобы он не чувствовал себя одиноко. Через две недели ему исполнится десять лет. Я уже выбрал для него подарок. Большую игрушку со множеством деталей. Завернул ее в блестящую упаковочную бумагу и спрятал под кровать. Яша, конечно, заметил это и долго спрашивал «Что там у тебя?», приказывал «Дай!» и даже упрашивал «Ну одним глазком», но я не сдался. Сделаю ему подарок, когда закончу работать над картиной.
Сажусь в кресло и верчу в руках тюбик с колькотаром. Рассказываю Яше о задании, которое мастер дал нам. Яша внимательно слушает, а затем медленно приоткрывает дверцу клетки и вылетает наружу. Садится ко мне на руку и пытается выхватить тюбик. Но я не отдаю. Моя драгоценность. Мне вдруг вспоминается «Властелин колец» и я начинаю хохотать. Яша понимает меня. Он кричит «Моя прелесть! Моя прелесть!», и мне кажется, что мы смеемся вместе.
Но радость быстро кончается и наступает время страха. Я открываю тюбик с колькотаром. Нюхаю его. Выдавливаю каплю на подушечку большого пальца и растираю ее. Красный, коричневый и фиолетовый растекаются по коже и заливаются между бороздок. Я оставляю отпечаток пальца на ладони другой руки и долго смотрю на него. Пытаюсь представить, что можно было бы написать этим цветом, но мне ничего не приходит на ум. Спрашиваю Яшу. Но он упрямится. Он не хочет мне помогать. «Голубка дряхлая моя!», «Еще ты дремлешь друг прелестный», «Мы вольные птицы; пора, брат, пора!», — кричит он. Яша очень любит Пушкина. Я пытаюсь сосредоточиться на колькотаре. Но в моей голове нет ни единого образа. Я начинаю грызть ногти. Еще одна вредная привычка. Яша вслух читает Пушкина. Когда он замолкает, я делюсь с ним своими мыслями: «Это мог бы быть дом или земля, или закат…». «Приятно думать у лежанки!», — декламирует Яша. «Мастер хочет, чтобы мы его удивили, показали, как мы выросли за это время. Он ждет, чтобы мы превзошли сами себя. Но я совсем ничего не могу придумать. Внутри у меня пусто. Что же делать, Яша? Яшенька, что же мне придумать?». «Что в имени тебе моем?», — слышу в ответ.
Я оглядываюсь по сторонам и чувствую, как мне становится больно думать. Я что есть силы напрягаю ум, пытаясь что-нибудь решить, но ничего не выходит. Во мне нет ни капли вдохновения. Внутри — одна маета. Я хожу по комнате, потом кормлю Яшу и ложусь немного поспать. Я много раз слышал о том, что известным людям снились вещие сны. Если я ничего не могу придумать, находясь в сознании, возможно, блестящая идея придет ко мне из бессознательного. Я очень надеюсь на это и всеми силами пытаюсь заснуть. Мне кажется, что проходят десятки часов до того, как я отключаюсь.
Когда я открываю глаза, за окном стоит ночная, подсвеченная оранжевыми фонарями, тьма. Яша спит. Я чувствую себя разбитым. Мне так и не явился никакой образ. Я не знаю, что мне делать. Я не чувствую никакого творческого огня, только страх и неопределенность. Наверное, я не настоящий художник. Я не хочу и не могу ничего написать.
Одеваюсь и выхожу погулять. Мне нравится просто ходить по улицам, когда никого нет. Иногда мне, конечно, бывает страшно, но намного чаще мне приятно. Я смотрю со стороны на дом, в котором расположены наши мастерские. У всех ребят горит свет. У мастера горит свет. Все работают. Все знают, что надо делать. Один я не знаю ничего. Я вижу силуэт Яны. Мне хочется что-нибудь крикнуть ей. Мне кажется, что у нас есть что-то общее. Я хочу дружить с ней. Но она всегда меня отвергает. Я отворачиваюсь и ухожу. Я боюсь своим голосом спугнуть ее вдохновение.
Я долго брожу вдоль домов, пытаясь увидеть что-нибудь необычное или красивое. Такое, что я смогу изобразить. Мне стыдно за то, что я не могу перенести на холст все то, что меня окружает. Мне не хватает мастерства, чтобы передавать нюансы. На самом деле я пишу — или все же рисую? — как ребенок. Все такое условное, схематичное и ненастоящее. Как же это называется? Яша очень хорошо помнит это слово. Он часто повторяет его, когда я заканчиваю очередную картину. Но я не обижаюсь на него. Я сам научил его этому. А он любит меня и наверняка думает, что это комплимент. Это вертится на языке… Да. Точно. Яша называет меня «аутсайдером». «Искусство аутсайдера!» — кричит он, разглядывая мои картины. Как настоящий арт-критик. Наивная и примитивная моя живопись. И такой же наивный и примитивный я.
Я брожу по улицам до самого рассвета. Я где-то читал, что это называется «прокрастинация». Когда знаешь, что тебя ждет какое-то важное, а в данном случае судьбоносное, дело, но ты делаешь все возможное, чтобы оттянуть момент, когда надо к нему приступать. Я очень боюсь возвращаться в мастерскую. Я боюсь думать о картине, но еще больше я боюсь браться за нее. Я до дрожи боюсь неудачи. Мне почему-то кажется, что если я сделаю что-нибудь не так, то все остальное, все дальнейшее не будет иметь никакого смысла. Если я не смогу написать картину колькотаром, я больше не смогу быть художником. Ведь художник — это тот, кто отвечает на вызов. Не достаточно просто делать то, что нравится. «Надо уметь все сделать своим», как говорил мастер. Кажется, только сейчас я понял, что он имел в виду. «Сделать своим» — это ведь не о жадности и не о подражательстве. Это о том, что кроме вдохновения и связи с космосом, у настоящего художника должно быть что-то большее. Дар преображения, наверное. Мастер дал нам колькотар, чтобы мы пропустили его через себя, сделали его своим. И это не проверка наших художественных навыков, это проверка нас на готовность стать самостоятельными. В Средневековье шедевром назывался лучший образец изделия, изготовленный подмастерьем. И только после того, как ремесленник изготовит шедевр, он может открывать собственную мастерскую и называться мастером. Мастер дал нам задание написать шедевр, потому что он любит нас и верит в нас. Мы не должны бояться колькотара, у него ведь нет души, это всего лишь краска. Мы должны использовать колькотар, а не он — нас.
Утро приносит с собой людей. Они выходят на улицу и отправляются по своим делам. Я здороваюсь со всеми встречными и желаю им доброго дня. Кто-то отвечает мне, кто-то — нет. Я вижу, что они думают, будто я не в себе. Я покупаю Яше в палатке с фруктами самую красивую грушу и иду обратно в сторону мастерской. Какое-то время вновь хожу под окнами, пытаясь определить, кто из ребят чем занимается. Я нахожу под окном Яна тюбик с колькотаром. Вначале я думаю, что он потерял его, хочу побежать и вернуть, ведь как же он сможет без колькотара написать свой шедевр, но затем останавливаю себя. Это же очевидно — тюбик не мог просто так выпасть. Ян сам выкинул его. Я поднимаюсь к себе. Мне почему-то становится грустно. Я очищаю грушу от кожуры и угощаю своего друга. Яша счастлив. Он говорит: «Спасибо. Яша доволен».
Весь оставшийся день проходит в раздумьях. Я пытаюсь сформулировать короткое послание, которое без слов напишу на холсте. Расскажу в образах о том, кто я такой, что и кого я люблю, что наполняет мою жизнь смыслом. Яша предлагает написать его портрет. Я смеюсь. Яша настаивает, и я вывожу углем его профиль. Яша счастлив и начинает декламировать пушкинские строки «Я памятник воздвиг себе нерукотворный» и «Нет, весь я не умру». Я набрасываю углем еще пять фигур, затем стираю одну и делаю ее больше всех остальных. Это — мастер. Четыре фигуры — это мы, его ученики. И Яша. Весь мой мир. Я — зеленая киноварь, Яна — кадмий красный, Януш — кадмий желтый, Ян — синий кобальт, для Яши у меня припасен голубиный серый, а мастер — это колькотар. «Яша, я нашел!», — кричу я от радости, когда полная картина выстраивается в моей голове. «Яшенька, я нашел то, что нужно!». Яша хлопает крыльями и летает по комнате. Моя душа летает вместе с ним. Мы ужинаем, и я приступаю к работе.
Я пишу интерьер мастерской учителя, когда ко мне приходит Ян. Он просит помочь ему помыть Януша. Я тут же соглашаюсь. Когда мы идем по коридору, я вспоминаю, что у меня в кармане толстовки лежит его тюбик с колькотаром. Я достаю его, показываю Яну и вновь чувствую, как щеки мои начинают гореть. Я почему-то боюсь Яна. Мне страшно от того, что он может сказать. Ян бывает очень жестоким. Он смотрит на тюбик с краской и заговаривает сам. Он говорит страшные вещи. Что мастер — чудовище, что он манипулирует нами, что ненавидит нас и хочет сломать нашу волю и нас самих, раздавить и уничтожить наш талант и наше будущее. Ян кричит, что мы все — марионетки в руках мастера и даже запрещает мне называть его «мастером». Он спрашивает, буду ли я писать колькотаром, и когда я отвечаю «да», мне кажется, что Ян хочет меня ударить.
Когда мы заходим к Янушу, мне становится дурно. Вся мастерская его измазана краской, пахнет мочой, калом и растворителем. Ян с ненавистью говорит, что это мастер, «это он» сделал с Янушем это, что все это только из-за «него». Когда мы ведем Януша в ванную, Ян немного успокаивается и пытается уговорить меня не использовать колькотар. Ян умеет убеждать, и к тому же, он словно видит меня насквозь. Он знает, что я боюсь ослушаться мастера, что я боюсь, что мастер не станет меня любить. Ян говорит, что я должен перестать обманываться в искренности мастера, подчиняться его глупым правилам и стать, наконец, хозяином своей судьбы. Ян уверяет, что мастер мне не отец и даже не друг, что мастер не хочет, чтобы я стал великим художником, а хочет лишь, чтобы я был посредственностью. Ян говорит так убедительно, что мне становится страшно. А вдруг он прав, и мастер действительно плохой… Я спрашиваю Яна, что же мне делать. Он категоричен — не пиши колькотаром. «Это — единственный выход», — говорит он. Но я никуда не хочу выходить. Я не хочу такой свободы, о которой говорит Ян. Я до смерти боюсь ее. Свобода, которую Ян предлагает, которую он сам желает так страстно, абсолютна до ужаса. Я не верю этой свободе, я не могу понять ее, не могу нащупать. Свобода без границ — это пустота. Ян предлагает мне пустоту. Мастер предложил нам колькотар. Мастер очертил границы, и между ними мы вольны делать все, что угодно. Я хочу сказать Яну, что колькотар — это тоже свобода, только намного более конкретная. Но я боюсь его. Я боюсь, что он опять начнет говорить жестокие и злые слова, поэтому я не решаюсь сказать ему, что выбираю свободу мастера и что я буду писать колькотаром. Мы моем Януша, а затем укладываем его спать. Когда мы идем по коридору обратно, каждый в свою мастерскую, я пытаюсь вернуть ему колькотар, надеясь, что он еще может одуматься, но Ян бросает короткое «оставь себе». Я оставляю себе его тюбик с краской, и решаю, что тоже изображу Яна колькотаром.
Мы еще несколько раз вместе ходим к Янушу, но больше не ругаемся. Мы практически не разговариваем, когда моем и кормим Януша. Иногда я ловлю разочарованные взгляды Яна. Мне кажется, что он презирает меня за то, что я не послушался его. От этого что-то больно колется в области сердца. Я делюсь с Яшей мыслями о том, что потерял Яна. Я словно променял Яна на мастера, и теперь мне как никогда сильно хочется, чтобы мастер оценил мою картину, чтобы он понял, что я понял его, и выбрал меня. «Яша, если он не выберет меня, мой мир разрушится, я просто умру», — шепчу я, поглаживая мягкие серые перья. «Выбери меня, выбери меня!», — кокетничает Яша. Когда масло сохнет, мы смотрим телевизор или ходим гулять. Иногда я гуляю один.
В день, когда мастер должен прийти на предпросмотр, на отрывном календаре я читаю афоризм, принадлежащий Никколо Паганини: «Надо сильно чувствовать, чтобы другие чувствовали». Надеюсь, мне удалось добиться этого. Как же я хочу, чтобы мастер понял то, что я хотел сказать.
Весь вечер я хожу по комнате, не находя себе места. Подхожу к картине, смотрю на нее вблизи, отхожу подальше, смотрю на нее из самого дальнего угла мастерской. Когда дверь открывается, я вздрагиваю. Яша приветствует мастера и, вылетев из клетки, садится на картину, словно это он ее написал. Я суечусь, пытаюсь согнать его, запинающимся голосом бормочу что-то о том, что мне очень стыдно. «Хватит, Янин», — останавливает меня мастер движением руки. «Тишина!», — командует Яша и замолкает сам, поглядывая то на картину, то на мастера. Мы все молчим и тяжело дышим. Мастер потирает подбородок и, вдоволь насмотревшись на холст, пожимает плечами. Мне жаль, Янин, но это довольно слабо. Идея отличная, но воплощение… Здесь не хватает характера, смелости. Прости, но я не верю тебе. Мастер смотрит на Яшу, а затем на его изображение. Я ничего не чувствую. Я вижу просто масло, а оно должно быть им, — он указвает на Яшу, который тут же начинает важно чирикать. — Я должен видеть и чувствовать Яшу. То же самое и с остальными фигурами. У тебя еще есть время, чтобы все исправить. Сделай так, чтобы я тебе поверил. И место твое.
Часть 5. Я
Его шаги стихают, а я все еще чувствую, как колотится мое сердце. Я ощущаю ритмичную пульсацию в запястьях, в артерии у виска. Я пытаюсь взглянуть на свою картину другими глазами. Без флера очарованности собственным творением. Пытаюсь быть справедливой и жестокой, но все так же не нахожу ни единого изъяна. Надменный сукин сын. Он сам сказал, что я превзошла сама себя. Так чего же вы еще желаете, Лев Исаакович? Какой свободы вам не хватает? Освободи себя, Яна. Освободите себя сами. Позвольте себе говорить то, что вы действительно думаете, а не то, что диктует ваше болезненно раздутое эго и положение наставника. Вам кажется, что я была недостаточно откровенна в своей работе? Вы думаете, что в глубине души я другая? Что мне лишь приходится играть роль застегнутой на все пуговицы, хладнокровной карьеристки? Вы ошибаетесь, Лев Исаакович. Я как раз такая: циничная, прагматичная и жесткая тварь, для которой не существует искусства ради искусства, которой не достаточно просто творчества, которая хочет получить выгоду от своего таланта. И если это когда-то и было защитной маской, то теперь эта маска прочно вросла в мою плоть, став моим истинным лицом. Я такая. Я свободна в своей гордыне, мании величия и жажде совершенства.
И я знаю, как показать вам свободу, Лев Исаакович. Я разделю ее с вами. Дам вновь почувствовать терпкий вкус молодости. Вы уже, наверное, и забыли, каково это, когда по венам бежит настоящая, густая страсть, а не сжиженная сублимация? Я дам вам почувствовать это. Ничего, с меня не убудет. Вы получите сполна моей свободы. А я получу то, чего так неистово желаю. Свою заслуженную победу, свой золотой билет в жизнь.
Я раздеваюсь донага, распускаю волосы, выдавливаю каплю колькотара на палец, крашу им губы, провожу стрелку от шеи до низа живота, надеваю алые стилетто и выхожу из мастерской. Стук моих шагов нарушает гробовую тишину коридора. Стук моего сердца. Мне кажется, что все слышат его. Ну и пусть. Вы все даже можете выйти из своих мастерских, глазеть на меня и осуждать. Вам все равно нечего предложить ему, кроме плодов своего многострадального творчества. Ликуйте, если есть над чем ликовать, или вновь стойте, сгорбившись у мольберта, пытаясь доказать свое право называться лучшими. Победа будет моей. Я вцеплюсь в нее зубами, зажму бедрами и не упущу.
Я захожу к нему без стука. В его огненную мастерскую. В его раскаленный альков. Он застыл с сигаретой у письменного стола. Почему не у холста, Лев Исаакович? Вы же всегда ночами создаете свои шедевры, которые потом заполоняют галереи и дома зажравшихся нуворишей. Почему вы не заняты делом?
Он поворачивается ко мне. Он вовсе не удивлен. Он давно ждал этого. Я подхожу к нему вплотную, вынимаю сигарету из его сухих губ и бросаю на пол. Тушу ее гладкой подошвой своих туфель. Нарочито медленно раздеваю его. Нет, не стоит мне помогать. Я все сделаю за вас, Лев Исаакович. Все сделаю для вас. Я откидываю на пол тяжелое покрывало. Он не произносит ни слова. Так даже лучше. Не надо слов, займемся делом. Я целую горячие сухие губы, окрашиваю их колькотаром. Я чувствую вкус краски у себя во рту, у него во рту. Я впиваюсь зубами в его губы. Кусаю их. Обнимаю жадно и исступленно. Трусь о него своим телом, пачкаю колькотаром. Теперь мы оба в нем, а он во мне. Мы сливаемся воедино, свиваемся, как змеи. Мы жалим друг друга, истязаем друг друга. Я рычу ему на ухо. Дышу, душу, ненавижу. Хочу выжать до последний капли. Напейся и захлебнись моей свободой и молодостью, моим горячим распутством. Бери меня всю, а взамен отдай мне все, что у тебя есть. Я гляжу на него сверху вниз, раскачиваю наши тела, извожу его собой. Я замечаю, насколько старость исказила его черты, как она выпила всю его былую красоту. Я провожу ладонями по его щекам, натягиваю кожу. Мы тяжело дышим, глядя друг на друга. Наконец, я наполняюсь им. Колькотаровый пот блестит на наших телах. Я ложусь рядом и гляжу в потолок. Грудь поднимается и опускается. Я чувствую приятную усталость. Я сделала все, что нужно. Я победила.
«Это ничего не меняет, Яна», — произносят губы, которые я минуту назад истязала поцелуями. «То, что ты сделала сейчас, не имеет никакого отношения к заданию. Твоя картина прекрасна, но не совершенна. Когда-то я выбрал тебя, думая, что ты отличаешься от всех прочих. Но я ошибся. Ты такая же, как и все, Яна. Иди работай над картиной, если хочешь чего-то добиться в этой жизни».
Я поворачиваюсь к нему. Ладонь со свистом рассекает воздух. Я даю ему оглушительную пощечину. Нет сил кричать. Я шиплю, что презираю его. Старый подонок. Ему и остатка жизни не хватит, чтобы написать нечто подобное тому, что сделала я. Я горю от гнева и сгораю от стыда. Я вскакиваю с его накрахмаленных простыней и убегаю прочь. Оставив в его удушливом аду свою обувь и свою гордость. Маленький, низкий, подлый человечек. Бездарный ублюдок. Манипулятор.
Я врываюсь к себе в мастерскую ураганом. Я жажду мести и разрушения. Я хватаю со стола канцелярский нож и подхожу к мольберту, на котором стоит моя прекрасная, но несовершенная Мадонна. Она плачет, а мне становится смешно. Я задыхаюсь от хохота. Плачь же, плачь. Сейчас я изрежу твоему младенцу все лицо, а ты будешь следующая. Ты не нужна мне, если ты не совершенна. Слышишь меня? Ты не нужна мне! Я заношу над холстом нож и замираю за мгновение до того, как лезвие должно войти в неаполитанско-розовую щеку младенца. Пальцы мои вздрагивают от предвкушения. Внезапно я понимаю, чего не хватает моей картине для совершенства. Меня. Ей, в ней не хватает меня. Я остервенело вспарываю запястья. Вскрываю вены. Мне даже не больно. Кровь плещет из порезов, пачкает ладони, а затем пол. Я беру кисть и обмакиваю ее в кровь, как в краску. Колькотар — это смерть. Кровь — это жизнь. Я оживляю младенца своей кровью. Я отдаю ему свою жизнь. Я дарую ему воскресение.
Пробила полночь. Воскресенье. Впереди еще целая ночь, чтобы мастер поверил мне, поверил в меня. Но что же делать, если я сам себе уже не верю? «Яша, ты ведь слышал, что сказал мастер?», — спрашиваю я, когда звенящая тишина становится невыносимой. «Яша — мастер!», — важно заявляет Яша, расхаживая по подрамнику. «Да, Яшенька, ты — мастер поболее меня, а я — аутсайдер», — соглашаюсь я. Яша смеется. И хотя у него очень заразительный смех, мне почему-то не смешно. В чем я ошибся? Что я сделал не так? Но главное — как же мне все это исправить? Я просто не смогу, не смогу ничего изменить за одну ночь. А еще у меня нет никаких сил даже взять в руки кисть. Я боюсь, что если попробую доработать что-нибудь сейчас, то просто бессмысленно простою у мольберта до самого утра или все окончательно испорчу. Я измотан и опустошен. Во мне словно больше нет меня. Яша понимает это. Яша жалеет меня. Он садится ко мне на плечо и ободряюще покусывает за ухо. «Сном забыться. Уснуть. И видеть сны. Вот и ответ!», — наконец, изрекает он. Яша, как всегда, прав. Вот и ответ. Надо немножечко поспать. Очистить сознание, исправить ошибки, накопленные за день. Я лучше пойму, что надо делать, на свежую голову. Надо только завести будильник, чтобы не проспать все окончательно. Я разбираю постель, ставлю будильник на час и желаю Яше спокойной ночи. «Спи, моя радость, усни», — напевает Яша. «И ты спи, Яшенька. Спи, мой хороший», — отвечаю я.
Тяжелые веки смыкаются, и я проваливаюсь в сон. Черный водоворот образов и слов засасывает меня. Я слышу голоса ребят, голос мастера. Мы вновь все вместе сидим в его мастерской. Он выдает нам колькотар. Я очень волнуюсь. Это мой второй и последний шанс сделать то, что нужно, поразить его в самое сердце. Но я опять не знаю, что мне делать. Я до оцепенения напуган своим незнанием. Яна подходит ко мне со спины и обнимает своими длинными руками. У меня все пересыхает во рту, и я не могу вымолвить ни слова. Это невозможно. Яна презирает меня. Она никогда не подойдет и не обнимет. Я противен ей. Ведь от меня смердит страхом и неуверенностью. Она нежно целует меня в щеку и говорит: «Я верю в тебя, Янин». Мне кажется, что я даже чувствую аромат ее духов. Это невозможно, это все просто невозможно. Но я впервые за долгое время по-настоящему счастлив. Я кладу свои ладони поверх ее. Сердце разрывается от признательности. Если Яна верит в меня, то ничего другого не нужно. Это — самое главное. Я поворачиваюсь к ней, вглядываюсь в ее черты. Мне кажется, что она прекрасна. Самая красивая, самая лучшая из всех, кого я когда-либо встречал. Я целую ее в губы, и она не отвергает меня. Тюбик с колькотаром со звоном падает на пол. Он просто не может так звенеть, и я понимаю, что это звонит будильник, пытаясь вырвать меня из сна. Но я не хочу просыпаться. Я хочу остаться здесь, с Яной, навеки. Мне все равно, что скажет мастер. Ну и пусть я проиграю, пусть я вновь окажусь самым слабым. Мгновение этого сна во сто крат ценнее, чем годы мучительной реальности. Здесь и сейчас я счастлив, но ничего этого не будет, стоит мне открыть глаза. Я обнимаю Яну, боясь, что если отпущу ее, то она растворится, исчезнет навсегда. «Я люблю тебя, Яна», — говорю я и понимаю, что признаюсь в этом не только ей, но и самому себе. Я люблю ее. И все, что я делаю, я делаю для нее. Мне важно лишь то, что скажет она. Это ее я боюсь разочаровать, ее хочу убедить в том, что я чего-то стою. Все в моем мире лишь ради нее. Ты — мой мир, Яна. И все, что я люблю, я хочу вложить в твои черты.
Во сне время неоднородно, во сне вообще нет времени. Вот и готовая картина уже стоит передо мной. Остается лишь доработать ее, улучшить. Яна улыбается мне. Яша опять цитирует Пушкина: «Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты». Яна. Мой гений. Мое вдохновение. «Сделай так, чтобы я поверил тебе», — говорит мастер. Да будет так. Я беру в руки кисть и начинаю писать. Яна стоит рядом и обнимает меня одной рукой. Мне так хорошо и спокойно с ней. Откуда-то берутся краски на моей палитре, и я пишу свою самую лучшую картину, вкладывая в нее всю свою любовь, все самое ценное, что есть у меня… Я слышу стук. Наверное, стучат в дверь. Нет. Уйдите, не мешайте нам. Я пишу правду. Я пишу любовь. Во сне так невероятно легко создать шедевр. И как же больно возвращаться в реальный мир. Все начинает меркнуть. Все растворяется. Я больше не чувствую рядом с собой Яну. Меня выбрасывает из сна, и я ощущаю почти что физическую боль. Я чувствую, как плачу. Щеки становятся мокрыми. Соленые капли на губах. Не уходи от меня, пожалуйста. Пожалуйста, не уходи.
Я открываю глаза. Сквозь мутную дымку слез я вижу нечто невообразимо прекрасное. Неужели это реальность? Неужели, сам не ведая того, я смог написать шедевр? Все как во сне. «Яша, Яша, ты видишь это?», — кричу я. — «Яшенька, неужели это написал я?». Но Яша почему-то не отвечает. Я стираю пальцами слезы с глаз и чувствую на них что-то липкое, что-то, что пахнет кровью. Это кровь. Кровь на моих пальцах. «Яша, милый мой, что произошло?!», — кричу я. Кровь на моих пальцах. Кровь на картине. Кровь в яниных чертах. Кровь и перья. Мягкие серые перышки. Нежный серый пух. «Яша! Яшенька!», — кричу я. В том углу картины, где была нарисована фигурка Яши, я вижу его самого с раскинутыми крыльями, прибитыми гвоздями к холсту. Этого не может быть. Это просто невозможно. Я все еще сплю. Я просто сплю.
Шедевр на мольберте. Кровь на моих пальцах. Мягкие серые перышки на полу. За окном начинают петь птицы и медленно рассасываться тьма.
Ничего, Януш. Ничего. Я сижу напротив своего произведения. Правда, я думал, что ты полностью отдашься этой работе. Я рыдаю. Грудь разрывается дрожью и всхлипами. По губам и подбородку текут соленые слезы, соленые сопли. Тебе не хватает полного погружения. Элемов прав. Я плохой. Я все время отвлекался. Мне не хватает полного погружения. Я не мог полностью погрузиться в колькотар, хотя я знал, что это необходимо сделать. Исправь. И место твое. Я исправлю, я исправлю. Элемову должно понравиться. Элемов должен прийти в восторг. Я приведу его в восторг. Погружение. Полное погружение. Элемов говорит, что краска — это кровь картины. Она должна течь по венам нашего сознания. Быть нами. Быть на нас, в нас. На мне, во мне. Мной. Но я не понимал, что это значит. А теперь понимаю. Колькотар хочет теперь мне раскрыть свою суть. Он чувствует, что я готов. Я полностью раздеваюсь, сажусь напротив мольберта. Беру ржавый перочинный нож. Какое-то время держу его в руках. Думаю, где сделать палитру. Левая рука не подходит. Я ей пишу. Правая. Я прав. Правая. Я беру нож и начинаю расковыривать себе вены в месте сгиба правой руки. Превосходно. Палитра сразу начала наполняться густой, темной венозной кровью. Колькотару нравится. Я выдавливаю в сгиб колькотар. Мешаю, размешиваю. Краска — это кровь картины. Она должна течь по венам. Быть нами. Быть на нас, в нас. На мне, во мне. Мной. Я пишу. Это будет величайшее произведение. Я докажу Элемову, что я полностью погружен, полностью могу посвятить себя произведению. Без остатка. В голове шумит и звенит. Пишущая рука начинает дрожать. Я должен успеть. Должен успеть. Слова размазываются жирным темно-красным, фиолетово-коричневым маслом по ушам, глазам, медленно затекают в ноздри и тягучим, расплавленным месивом стекают в горло. Запиваю колькотар темным льняным маслом. Я пью маленькими глотками. И отпускает. Время, как мед. Тягуче и медленно. Время, как ветер. Стремительно и незаметно. Вселенная расширяется и вновь сжимается. Как зрачок, реагирующий на свет. Расширяется, сужается, расширяется, сжимается. Взрыв. Черная дыра. Человеческий зрачок — это Вселенная в первый и последний миг жизни. Я думаю, что человек — это и есть Вселенная. Все начинается с его глаз. Свет попадает в зрачок и в этот момент Вселенная начинает свое расширение. Из маленькой черной точки она постепенно превращается в весь мир. А потом, когда расти больше некуда, происходит большое сжатие. Человеческая Вселенная коллапсирует и схлопывается в сингулярность. В la pupille. Я подхожу к зеркалу. Смотрю зрачками в свои зрачки. Они расширены до предела. Скоро схлопнутся. Только бы успеть. Только бы успеть завершить произведение. Лицо бледное, желтоватое, масляное. Я успеваю, а меня начинает бить дрожь. Вначале легкая, но потом все сильнее и сильнее. Я пытаюсь полностью обмазаться колькотаром. Элемов говорит, что… краска — кровь картины. Краска должна быть нами… быть на нас, в нас… на мне, во мне… мной… коль-ко-тар… мумия… колькотар… смерть… пахнет разложением… в помещении душно… нечем дышать… тяжело… я разрываю себе пальцами кожу на груди… нечем дышать… я ворошу ножом кровавое месиво в грудной клетке… нечем дышать… слышу каждый свой хриплый вдох и булькающий выдох… темно… вдруг стало так темно… силы меня покидают… темнее всего перед рассветом… вдох, вздох, выдох… сворачиваюсь клубком в одном из углов… жду рассвета… не хватает кислорода… вдох, вздох, выдох…
Вдох
Вздох
Выдох
Не дожидаюсь никогда. Перед самым светом всегда проваливаюсь.
Не нужно мне твое место, Элемов. Мне вообще от тебя ничего не нужно. И тебе самому скоро ничего будет не нужно. Можешь мне поверить.
Когда Элемов уходит и закрывает за собой дверь, я так и остаюсь сидеть на подоконнике. Всю ночь я рисую в своем альбоме шторм, штормы, Великий потоп. И только когда небо окрашивается в розовый ультрамарин, а первые лучи солнца начинают ползти по моим графитным океанам, я откладываю в сторону карандаш и быстро пролистываю ночную бурю. Вода оживает и накрывает все это полыхающее безумие, погребая под собой. Слезаю с подоконника, включаю газовую плитку и ставлю на нее тюрку. Горький кофе на завтрак. Когда выпиваю, иду в душ. Хоть и раннее утро, а везде стоит гробовая тишина.
По дороге я заглядываю к Янушу. Как он? Наверное только закончил писать. Я открываю дверь, и лучше бы мне выкололи глаза. Я вижу его скорченного, перепачканного этой проклятой краской, с разверзнутой грудной клеткой. Без дыхания. Зову на помощь. Никто не откликается. Бегу к Яне. Выколи мне глаза. Мертвая. Лежит мертвая, бескровная, вспоротая, моя любовь. Духом врываюсь к Янину. Повесился.
Только мое дыхание и льющаяся вода нарушают тишину. Вытираюсь. Чищу зубы. Бреюсь. Причесываюсь. Когда теперь еще придется? Надеваю парадный костюм, парадную рубашку и парадные ботинки. Сверкаю чистотой. Воскресное утро. Достаю из шкафа джамбию, восточный кинжал с широким загнутым клинком без гарды, который ты мне когда-то подарил на двадцатилетие, Элемов. И иду к тебе, даже не пряча его. Стучу. Ты не открываешь. Спишь. Не беспокойся, я разбужу тебя. Не подарю тебе удовольствия умереть во сне. Ты это не заслужил. Открываю дверь. На меня сразу пахнуло жаром. Ты сидишь в высоком кресле за рабочим столом. Спиной к двери. Не обращаешь ровным счетом на меня никакого внимания, даже не поворачиваешься. Я иду к тебе. Обхожу тебя сзади. Я хочу в последний раз взглянуть в твои чертовы глаза, дьявольские зрачки. Заношу нож. Смотрю на тебя. Ты смотришь на меня в ответ. Твои опустевшие черные зрачки пристально глядят на меня, как живые. Я опускаю нож. Я не верю, что ты скончался. Это я должен был положить конец всем твоим злодеяниям, а не ты сам. Я ненавижу тебя. Ты всегда на шаг впереди. Даже сейчас. Твоя холодная мертвая рука лежит на запечатанном конверте с надписью «Тебе».
Тебе
Я знал, что ты придешь.
Я ждал тебя.
Исполни, пожалуйста, мою последнюю просьбу.
Мне больше некого об этом попросить.
Спустя два месяца
Торжественное открытие выставки, посвященной памяти Януша, Яны, Янина, и его, Элемовской светлейшей памяти. Море Народных, океан Заслуженных. Весь старый и новый свет собрался посмотреть. Гвоздь программы — последние произведения моих друзей. Все в предвкушении. Выстраиваются возле завешенной стены. Ждут, когда же их поразят в самое сердце. Я подхожу, все в том же парадном костюме, в котором шел убивать Элемова, и резким движением сбрасываю занавес. По залу пробегает вздох удивления. Вздох восхищения. Три полотна образуют законченный триптих. Перетекают друг в друга. По центру — Красный Лев моего бедного Януша. Слева от него — скорбная Мадонна моей Яны. Справа — все мы, написанные Янином. Кроваво-колькотаровое совершенство. Колькотаровый танатос. Бессмертная и мертвая красота.
Я отхожу в центр зала, давая возможность всем Народным и Заслуженным подойти поближе. Я смотрю на все со стороны. Каждый из них написал свой шедевр, а все вместе это стало шедевром Элемова. Проклятого, исписавшегося и продавшегося Элемова.
Ты знал, что больше никогда сам не сможешь написать ничего выдающегося. Ты знал, что скоро умрешь, и ты использовал их, своих верных учеников, как инструменты. Ты выжал из них то, что хотел. Их талант, их кровь, их жизнь. Всеми ими ты написал свой посмертный шедевр. А меня сделал своим конферансье. Браво, Элемов. Ты победил. И теперь ты улыбаешься мне, проступая кровавым миром на триптихе. Проклятый Красный Лев. Лев Исаакович Элемов. Гений. Дьявол. Бог.
Прелатура
Повесть
Часть I
Глава 1. Лето
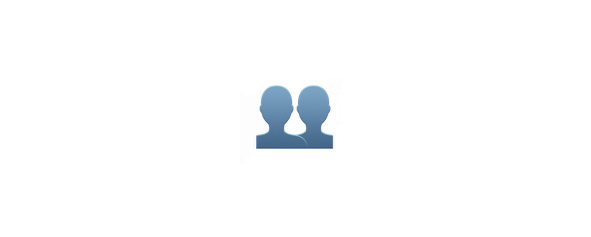
Мы знали, что попадем сюда. С той самой минуты, как на экране компьютера высветилось шаблонное «Ваша заявка принята», мы не сомневались, что пройдем. Что это было: предчувствие, совпадение или фатум? И почему именно сейчас? Раньше все двери для нас были закрыты. Сотни возможных дорог, и ни одной настоящей, ни одной нашей. Но в этот раз все должно было быть иначе. Мы чувствовали это солнечным сплетением, слышали сердцем и черным веществом. Substantia nigra. Praesagium. Мы знали. Так и вышло.
Кроме нас, под тенью ливанских кедров, полевых кленов и каменных дубов прогуливались еще несколько сотен молодых живописцев и скульпторов. Молодых бессовестно, безнадежно, еще не вошедших во всю силу и полноту своего таланта, еще не распробовавших всю соль поражений и всю горькую сладость доставшихся слишком поздно побед. «Подающие надежды» мальчики и девочки, которым, как и нам, выпал шанс проявить себя.
«Искусство — это путь страдания», — слушали мы, закатывая глаза. Голоса лекторов разлетались по просторным барочным залам, а мы разглядывали туго скрученные тела на картинах и фресках маньеристов и знали свою правду: мы — это золото и медь, у нас крепкий дух и долгое дыхание. Но самое главное — нас двое. Мы слагаемся, умножаемся и делимся. Мы видим, слышим и ощущаем этот мир в два раза шире и глубже остальных. В том, что мы пишем и лепим — в два раза больше страсти. Нас двое, и в этом наша сила.
«У нас в два раза больше шансов. Надо что-то придумать для каждой из нас. Твоя победа — это моя победа», — шепчемся мы в сумеречном нимфеуме, в то время, как в столовой во всю идет обильный ужин, после которого так ничего не хочется делать, только лежать и смотреть на звезды, слушать пение птиц и цикад, думать об утерянном рае, в котором не было ни наготы, ни боли, ни греха. Приехав сюда, мы словно вернулись назад, в тот дом, из которого были изгнаны наши предки. Дети, ослушавшиеся отца. Но здесь и сейчас, на этом огороженном от остального мира участке земли, царит полный порядок. Дисциплина — противоположность хаоса. В умеренных дозах она убаюкивает, заставляет чувствовать себя счастливым, спокойным и исполненным гармонии.
Мы знали, что попадем сюда. Что впервые встретимся лицом к лицу с теми, кто живет тем же, чем и мы, кто так же, как и мы, чувствует дыхание вечности у себя на затылке, пульсацию космоса у себя в висках. Миллениалы и поколение Z, расщепленные на двоичные коды, разнесенные по беспроводным интернет-волнам, расчлененные по социальным сетям и оставляющие после себя терабайты следов. Живущие в двух реальностях, наблюдающие, как рушится материальный мир и строится виртуальный, но всё еще верящие в необходимость искусства.
На этой загородной вилле, расположенной в области белого вина и черной знати, мы говорим и слушаем об искусстве, труде и вере, о творчестве и ремесле. Мы встаем с рассветом и ложимся спать далеко за полночь. Дни тянутся, и мы рады этому. Мы не хотим, чтобы эти семь дней заканчивались. Остановись мгновенье…
«Вы все — избранные. Вам очень повезло оказаться здесь», — говорят нам. Голоса отскакивают от стен, от начищенного до блеска паркета, в котором мы видим свои отражения, снимаем их и выкладываем в Instagram. Мы здесь и мы счастливы.
«Искусство — это путь страдания. Красота требует жертв. Если вы хотите создать что-то действительно прекрасное, то приготовьтесь платить. Да, вы не ослышались. Платить придется именно вам. Но мы здесь, чтобы вам помочь. А у вас есть возможность помочь другим. Мы ждем от вас проектов, которые способны сделать этот мир немного лучше, немного добрее, немного чище. Мы ждем от вас больших идей и готовы их поддержать».
Моя победа — это твоя победа. На четвертый закат мы делимся. Разбиваемся на пигмент и мрамор. Живопись и скульптуру. Мы формализуем свои фантазии, упаковываем их в проекты, заполняем поля и столбцы, подсчитываем искусство в процентах, граммах и объемах, делим его на дни, месяцы и недели. Еще вчера мы были ни с чем, а уже сегодня горим тем, что придумали, надеясь покинуть рай не с пустыми руками. Как из тьмы над бездною сотворил Бог землю, так и мы, из мрака мыслей, вырастили и высекли свои идеи. Искусство, которое должно сделать мир немного лучше, немного добрее, немного чище. Рука помощи, протянутая таким же, как и мы.
Нас двое, и в этом наша сила. Мы представляем два проекта. Но ни один из них не выстреливает. Наши имена не произносят в списке тех, кому суждено изменить мир.
Мы поднимаемся и спускаемся по лестнице вдоль каскада. Вода у ног журчит, проворной змейкой сбегая вниз. Не может быть, чтобы на этом всё закончилось. Что-то еще должно произойти. Это предчувствие, как попавшая в глаз песчинка. Оно острое и объемное, раздражающее и болезненное. Про него нельзя так просто забыть. Это предчувствие не может подвести.
Мы возвращаемся к себе. Сегодня — наша последняя ночь здесь. Завтра вечером мы сядем на поезд и вернемся назад, в свой земной дом, так и не поняв, зачем всё это было.
У двери стоит один из помощников. «Завтра вас ждут в сером кабинете. Сразу после завтрака. Не опаздывайте. Это очень большая честь. Только вы и еще несколько человек удостоены ее. Эта встреча откроет перед вами огромные возможности. Но никому не стоит о ней знать». Мы держим лицо. Да, конечно, мы придем без опозданий. Но как только помощник скрывается из виду, мы буквально вбегаем в комнату, запираем за собой дверь и начинаем прыгать, не в силах обуздать охватившую нас радость. Неужели нас выбрали? Кто и за что? Соседка смотрит на нас, ничего не понимая. А мы, даже если бы и захотели, ничего не смогли бы ей объяснить.
Встаем с первыми лучами. Внутри — бабочки бьются о стенки желудка до дурноты. Есть за завтраком не хочется. «По одной. Вы двойня? Тогда можно и вместе», — быстрый молодой мужчина провожает нас в серый кабинет. За длинным столом в клубах пара от электронной сигареты сидит седовласый господин и проглядывает наши анкеты. «Итак, сестры, вы верите в Бога?». Мы переглядываемся. «Какой странный вопрос. Конечно. Но мы некрещеные». Из-под белой пелены проскальзывает улыбка. «Хорошо. А в искусство вы верите?». Еще один беглый взгляд друг на друга. «Если бы мы в него не верили, то не занимались бы им ни дня». «Немного дерзко, но справедливо… Знаете, в чем всегда недостаток? В людях, верных своему делу. Мы ищем именно таких. И если вам с нами по пути, то эта встреча может стать началом долгого и плодотворного сотрудничества». Мы молчим, ждем продолжения, объяснений, но на этом всё. Мы растерянно киваем в ответ. «Отлично. Тогда мы с вами свяжемся», — улыбается молодой мужчина, помечая что-то в блокноте, и поспешно встает со своего места, чтобы отворить нам дверь. И это всё? Аудиенция с Тайной завершена? Нас никто не будет спрашивать о том, что представляет собой искусство, в которое мы верим? Каково оно? Чем оно питается: светом или сумраком? Склеивает ли оно воедино или разбивает на куски?
Вместо вопросов — новая порция сладкого дыма. Мы поднимаемся из-за стола и, уходя, бросаем еще один взгляд на седого господина: «У вас солнечный зайчик на рукаве. До свидания».
Глава 2.1. Осень
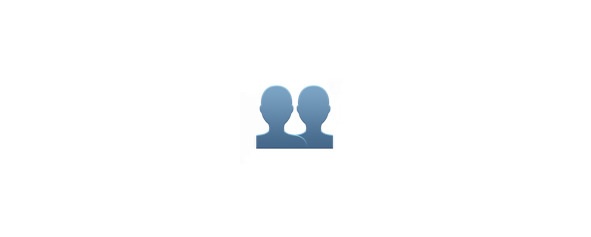
Письмо пришло в середине августа. Отправителем значился тот быстрый молодой мужчина, что провожал нас в кабинет и галантно выпроваживал из него. Мы перечитали послание несколько раз, вслух и про себя, но ничего не поняли. Написанные в спешке строки с проглоченными в некоторых местах знаками препинания уверяли нас, что мы не должны бояться, а, наоборот, должны предлагать идеи и делиться мнениями. «Для нас это в новинку», — заверяло письмо, отправленное с личного адреса и никак не подписанное. Ничего, что сообщало бы о том, где и в какой должности работает наш собеседник. Никакого «с уважением», никаких наилучших пожеланий. Никаких следов.
Полдня мы прогуливались по большому пасторальному парку Кафарелла, не так облюбованному туристами, как всё иное в Caput Mundi, а потому тихому и нашему, и думали, как лучше ответить, чтобы не выдать своего замешательства и неподдельного интереса. Мы не понимали ни того, кто скрывается за этим «нас», ни каких предложений эти «нас» от нас ждут. Но вход в кроличью нору уже показался меж густой травы, и невозможно тянуло заглянуть внутрь.
К закату мы составили ответное письмо, округлое, обтекаемое и ускользающее. Мы приняли правила игры и осознанно ступили в мир, полный оттенков и нюансов, намеков и многоточий. Мы всегда этого ждали и хотели: чтобы нас выбрали, поверили в нас, и теперь не собирались упускать свой шанс. На нашей стороне были внимательность и проницательность, непосредственность и прямолинейность. Золото и медь. Когда мы чего-то действительно хотим, нас не остановить.
В течение последующих двух суток мы еще несколько раз перебрасывались сообщениями и в конце концов получили небольшое задание — сходить в пару отреставрированных церквей и оценить работу. В начале сентября он должен вернуться из командировки, всё просмотреть и встретиться с нами.
Оценить работу — не высказать свое восхищение. Наоборот, найти недостатки, выявить слабые места, ошибки, из-за которых разваливается и расползается гармония. Отыскать дьявола в деталях и доказать его вину. Доказать, что мы способны видеть и понимать лучше остальных, проникать под кожу реальности, в самую матрицу происходящего.
Впрочем, нам впервые предстояло сделать это. Нас просили об экспертной оценке, хотя всю свою пока еще недолгую жизнь мы были практиками, а не теоретиками. Мы не разбирали на составные части чужое, мы создавали свое целое. Но это, кажется, сейчас никого не интересовало.
Несколько дней мы прилежно смотрели, изучали и подмечали, сравнивали и отделяли, дистиллировали увиденное, чтобы получить несколько капель высококонцентрированных выводов. В последних числах августа задание было готово. Мы отправили его и стали ждать.
Дни тянулись невыносимо долго. Через неделю после того, как сентябрь вступил в свои права, мы сами вышли на связь. Сделали вид, что были с головой в делах, но теперь готовы ко встрече в любое удобное время. Ответ мы получили на следующий день, но он нас не удовлетворил. Анализ наших заданий откладывался еще на неделю, так как сейчас у «них» образовалось очень много работы. Да, конечно, мы всё понимаем. Всё время — ваше. Сколько будет нужно. Отправив очередной такой ответ, мы со вздохом упали на кровать и уставились в потолок. Когда, когда же, наконец, что-нибудь произойдет. Когда мы узнаем, насколько глубока кроличья нора.
Балансируя между упорством и навязчивостью, нам всё же удалось договориться о встрече в конце сентября. Место назначил он. Храм Асклепия. Самый центр. Но мы никогда там раньше не были. Обменялись телефонами, чтобы не потеряться. И, конечно, потерялись. Заплутали между бюстов почерневшего Зевкиса, приоткрывшего уста в своем поэтическом дыхании Стесихора, лишившегося носа, словно после люэса, Савонаролы и разрушенного несчастливца Леопарди.
Набрали ему. Голос в телефонной трубке был приветливый и молодой. Тогда, в сером кабинете, мы не обратили на это никакого внимания. Да, немного дезориентированы. Близко, но никак не можем понять, куда конкретно нужно идти. Следуя указаниям, добрались до назначенного места. Громко поприветствовали его, вырвав из какой-то своей, далекой реальности. Удивительно, буквально минуту назад он оживленно объяснял нам по телефону, в каком направлении следует двигаться, а сейчас смотрит невидящим взглядом, обращенным куда-то внутрь себя. Или нам показалось? Мгновение, и он уже улыбается, слегка приобнимает в приветствии, мило называет «художницами» и поспешно идет за кофе. Приносит, уверяет, что здесь он самый лучший. Мы киваем. Да, нам всё нравится. На нем хороший костюм, дорогой галстук-селедка с необычным узором. Поймав наш взгляд, он непринужденно сообщает, что это его любимый, жаль только, что недавно он посадил пятно, которое не могут вывести даже в химчистке. Но вещи — это просто вещи, не надо относиться к ним слишком серьезно, правда? Он улыбается. Мы улыбаемся. Напряжение уходит.
Он вновь повторяет, что для них это всё весьма непривычно, они никогда не имели дела с такими молодыми и чистыми. Им очень не хватает такого свежего взгляда, как у нас. Киваем. Металлические ожерелья позвякивают на наших шеях.
Переходим к делу. Он бегло проходится по нашим заданиям. Ему всё нравится. Очень недурно. Мы словно сняли слова у него с языка. Так он говорит. Нам тоже нравится, что мы смогли всё верно оценить и получить одобрение. Затем звучат незнакомые слова. Священная конгрегация по делам епископов. Прелатура. Мы киваем, словно понимаем, о чем речь. Но ничего подобного. Вернемся домой — первым же делом всё загуглим. Он предлагает присоединиться к одному важному проекту. Базилика. Святыня. В ней — Капелла, которая гниет. Гниет? Не совсем так, но они так это называют. Нужно отреставрировать. Вы согласны? Слова доносятся сквозь лучи мягкого осеннего солнца. На дне стаканчика кофе сладкий-сладкий. Да, согласны. Хорошо, тогда мы вас направим. Допиваем кофе. Разговор незаметно перетекает на Симпсонов и Гарри Поттера. Это просто удивительно. Нам легко и комфортно, как со старым знакомым, хотя мы видим его второй раз в жизни. Мы сидим в самом сердце Виллы в компании сильного мира сего и запросто болтаем обо всем. Голова немного кружится от происходящего, словно мы выпили не кофе, а шампанское. Он смотрит на экран смартфона. Проверяет время. Он не носит часов. Улыбается, прощается и бежит по своим делам. На связи. Мы машем ему, счастливые, что всё так хорошо прошло. На связи.
Глава 2.2. Осень
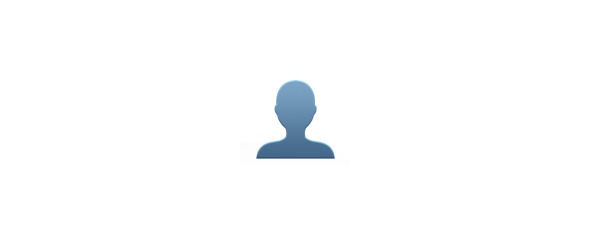
Кофе. Темно-коричневый. Сухой. Порошок, как порох. Горстка безжизненной, бесплодной земли, привезенной с Ближнего Востока. В нос бьет жесткая терпкость нескончаемой войны и неуловимая горечь побед, достающихся слишком быстро и легко, а потому не приносящих удовлетворения. Кисловатый привкус смутного предвкушения собьет горсть семян кардамона при варке. Все будет приготовлено в медной джезве, привезенной еще из того времени и пространства, когда ты не знаешь, что ждет тебя впереди. Тонкие, быстрые пальцы касаются чуть теплой деревянной ручки, эти руки почти не изменились, но они принадлежат уже совсем иному человеку, совсем не тому, который когда-то покупал эту вещь в одном из переулков неподалеку от Ха-Котель ха-Маарави. Эти руки никогда не знали труда. Они никогда не держали оружия, оружия настоящих мужчин, не били и не убивали. Но глядя на них, порой, кажется, что лучше бы в них никогда не попадал тот ключ от всех дверей, который мне так небрежно вручили, не зная, что я не был к нему готов. Вера. Истинная вера. Вот, на чем держится весь мир. Вера и доверие. Я не был к ним готов. К этому нужно прийти самому. Это не делается насильно. Но такова была воля Всевышнего. И хотя я мог бы быть самым свободным и счастливым человеком своего окружения, власть, данная мне Богом, превратила меня в своего раба.
Они придут через час. Встретимся неподалеку от Храма Асклепия на территории Виллы. Конечно, можно было бы и ближе к Прелатуре, но хочется пройтись по ранне-осеннему Вечному. Конец сентября. Самое время для неспешных прогулок и поспешных решений. Я допиваю свежесваренный пряный кофе и поправляю галстук. Надеваю пиджак темно-синей шерсти и перед тем, как покинуть кабинет, проглядываю Facebook. Обычно я не выкладываю свои фотографии: положение обязывает, но утром мне дико захотелось залепить селфи в лифте. Принимаю лайки от коллег и комментарии знакомых. Отвечаю. И радуюсь, как ребенок. Моя единственная фотография.
Мы должны были встретиться в пять, но они опаздывают. Еще и потерялись. Звонят. Они что? Не местные? Впрочем, это неудивительно: здесь гораздо больше чужих, чем своих. Город всегда притягивал к себе людей, как огонь насекомых. Пока жду, вспоминаю лето, а до этого предыдущее лето. А до предыдущего то, что было перед ним. Не понимаю. Не понимаю, как такое могло произойти. Всего за год судьба делает такой поворот, переворот, что не поверишь в ее иронию, пока не испытаешь на себе. Хотя, что я вообще знаю и понимаю? Ничтожество. Так я часто себя называю. Я — никто, пустое место, ноль, зеро, вакуум, пустота. Я не смог вовремя остановиться. Не смог не открыть дверь, которую открывать было нельзя. Одновременно и Синяя Борода, и его новая жена. Каждый имеет право на свои секреты. Каждый имеет право на свои секреты? Нет. Не имеет. Нет никакого права на частную жизнь, если ты дал клятву верности. И пока смерть не разлучит нас, я буду наблюдать за тобой. Мое проклятье — ключи от всех дверей. Как было бы хорошо ничего не видеть. Видеть — не значит знать. А знать — не значит видеть.
Они приближаются ко мне, как заставшее врасплох стихийное бедствие. Стремительно, я еще не отошел от своих мыслей. Медь и золото. Осень и весна. Дым и огонь. Я где-то читал, что между близнецами особая, телепатическая связь. Эти не близнецы, двойняшки, но суть будто такая же. Забавно, что выбрали их отдельно друг от друга, не заметив кровного родства. Отделить не получилось. Наверное, так даже лучше. Я смотрю на часы, мне хочется побыстрее разделаться с ними, с этой навязанной свыше встречей и бежать по своим делам. Кролик хочет побыстрее вернуться в Вандерленд. Зарыться носом в снег кайфа и забвения и побыстрее избавиться от груза трех лет.
Они сели напротив меня. Я принес из палатки индуса кофейное пойло, заверив под их согласные кивания, что оно здесь всегда прекрасно, и начал издалека. Я сказал, что Прелатура никогда еще не сотрудничала с такими молодыми. С улицы. Нас не надо бояться. Мы не секта, как говорят те, кто не внутри системы. Предлагайте свои идеи. Я посмотрел ваши задания. Очень недурно. Как насчет одного проекта. Есть Базилика. В Базилике есть Капелла. Новая. Относительно. Было бы вам интересно помочь отреставрировать ее? В результате технологических просчетов часть фресок почти уничтожена плесенью. Но мы называем ее гнилью. Базилика гниет. Мы хотим это скрыть. Точнее восстановить ее. Было бы вам это интересно? Было бы? Да?
Вы готовы с нами сотрудничать?
Да?
Замечательно.
Тогда я отправлю рекомендации, чтобы вас взяли. Сюжет для восстановления? Что-то из Библии. Мы все смеемся, я хорошо пошутил. Затем болтаем про Симпсонов, Гарри Поттера, комиксы и прочую шелуху. Да, я тоже люблю. Да, тоже смотрю. Да, тоже читаю. И вообще, я такой же, как вы. Разве вы не видите? Они кивают. Им это нравится. Всем это нравится. Даже мне самому это нравится. Замечаю их металлические массивные ожерелья. Одно золотое, другое медное. Под цвет волос. Делаю комплимент. Срабатывает. Оно всегда срабатывает одинаковым образом. Мы прощаемся. Вечером я зафренжусь с ними в Facebook.
Начало. Для них удивительно, что человек такого высокого чинсана так близок к народу, ровно такой же, как и они сами. Лишен звездного ореола и недосягаемой высоты. И даже для меня удивительно. Но так делает мой босс. Он — великий учитель. А я всего-лишь срисовываю. Я превращаюсь в белого кролика и прыгаю в глубокую черную нору. Алисы последуют за мной. Пока я лечу вниз и болтаю белыми лапами, я вновь вспоминаю три лета. Я всматриваюсь в черные зеркала, облепившие проход во время падения, но почему-то вместо того, чтобы увидеть ставшее привычным уже наваждение, в их отблесках я вижу смутный, неясный образ. Совсем не то. Что это? На мгновение стало жарко и тесно. Я отгоняю от себя эту мысль, сбрасываю неясное предчувствие, сглатываю страх и трах, приземляюсь в мягкий уютный снег, чтобы не ушибиться. Втягиваю его в себя всем сердцем, чтобы пробрало. Да, всё вновь хорошо. Холодно. Я засыпаю у себя дома в постели посреди клубничных полей, но где-то на закате вижу золотые и медные отблески в небе. Осень сменятся весной. Всё заволокло дымом и огнем. Они приближаются ко мне, как заставшее врасплох стихийное бедствие. Стремительно. Золото и медь. Весна и осень. Огонь и дым.
Я где-то читал, что между близнецами особая, телепатическая связь.
Проверим.
Глава 3.1. Зима
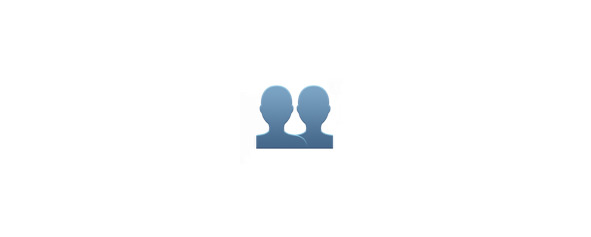
Время тянулось долго и медленно, как расплавленная черная резина, причиняя болезненный дискомфорт нетерпеливым молодым сердцам. Нам хотелось движения, мы ждали, что вот-вот начнется стремительное движение по быстрой горной речке, солнце будет играть бриллиантовыми бликами во вспененной скоростью жизни ледяной аквамариновой воде, но на деле мы оказались в застывшем мазуте в небольшом затхлом пруде. Быстрый молодой мужчина больше не хотел с нами встречаться для обсуждения планов. Он отправил нас работать в Капеллу. И на этом все. Мы создали с ним общий чат в мессенджере, чтобы негласно нарушать тишину его цифрового пространства. Чтобы не отстать от ускользающего от нас за каждым поворотом быстрого белого кролика. Время волочилось, еле шевеля ногами, молчание раздражало, неопределенность вводила в отчаянное уныние, а он убегал, в то время, как мы двигались замедленно, увязшие в тягучем ночном кошмаре.
Нас решила взять под свое крыло сама Прелатура, но мы так до конца и не понимали, что от нас хотят, зачем мы им. Точнее, смутно понимали что-то, пока не почитали в Википедии и еще парочке источниках, что это за организация. Вначале мы думали, что мы молодые творцы и поэтому нам хотят помочь творить и, возможно, помогут с персональной выставкой или еще как-нибудь. Возможно, введут в закрытый мир большого искусства. Но ничего не произошло. На это даже не было намека. Кроме всего прочего наши мозги кишели противоречивой информацией о Прелатуре, почерпнутой из разношерстных сайтов конспирологического толка, утверждающих, что это тайная секта, члены которой почти что полубоги, их влияние распространяется далеко за пределы Ватикана, они — щит и меч Папы Римского. Персональная Прелатура была, пожалуй, одним из самых загадочных организаций в структуре Католической церкви, про которую вообще ничего не было понятно: кто они, чем занимаются и кого ищут. И, судя по всему, мы попали именно к ним. Пока мы строили теории, зачем такой могущественной организации такие маленькие мы, нас незаметно для нас самих поглотили дела в Капелле. Точнее даже не дела, а броуновское движение. На самом деле, работы там для нас практически не было. Да, был небольшой кусок на потолке с покрывшимся черной гнилью сюжетом грехопадения, но работавшая в Капелле великолепная пятерка реставраторов, казалось, вообще не придавала этому нюансу никакого значения, как, впрочем, и нашему присутствию. Они, упоенные своим профессионализмом, хаотично работали в разных жанрах и направлениях на разных участках потолка и стен, создавая вместо гармоничного единства какую-то наспех зачатую больным сознанием химеру. Нам казалось, что они должны догадаться, кто мы (а, действительно, кто?) и кто нас прислал, прочувствовать нашу важность и значимость, но нет. Они нас едва замечали. Главное, чтобы мы делали всё быстро и за нами не нужно было исправлять. Больше их ничего не заботило.
С момента нашей последней встречи с быстрым молодым мужчиной осень уже успела смениться зимой, а мы съездить надкусить Большое яблоко по ту сторону Атлантики. Оглядываясь назад, сейчас понимаешь, что тогда, по сути, это было последнее путешествие, когда мысли наши были свободны, как звезды в небе над храмом Весты в безлунную ночь, и мы беззаботно, как дети, путешествовали. Это был краткий дивный период. Мы были вне Сети, не на связи со всем окружающим виртуальным миром, и наши головы отдохнули и очистились так, как если бы знали, что в ближайшие годы такой возможности больше не представится, и потому впитывали каждую секунду свободы, дыша в унисон со Статуей Несвободы на острове Эллис.
Когда же мы вернулись обратно на Septimontium, нас удивило, что вскоре он вновь захотел встретиться с нами. В какой-то момент мы уже решили, что Прелатура разочаровалась в нас и решила оставить, так долго никто не выходил на связь и игнорировал все наши попытки связаться с ними. Мы еще не знали одно маленькое правило: они сами выйдут на тебя, когда им будет нужно. Обратно эта формула не работает. На этот раз встреча прошла в его кабинете на Viale Bruno Buozzi. Мы привезли небольшие сувениры: нас с детства приучили, что приходить с пустыми руками к кому бы то ни было не комильфо. Мы опять разговаривали обо всем и ни о чем одновременно: это завораживало. Казалось, мы знаем друг друга тысячи лет, это было удивительно. Оказалось, что мы втроем так похожи, как если бы были родственниками и росли вместе. Он был, словно старший брат, которого у нас никогда не было. Он немного рассказал про себя, свою семью. Чуть меньше загадки. Хорошо, но недостаточно. Он спросил, всё ли в порядке, мы ответили, что да. Правда, один из старших реставраторов бывает слишком критичен к нашей работе. Мы показали в телефоне фотографию отреставрированного куска фрески, ноги Адама, а затем вторую. Там уже постарался Старший и всё перекроил на свой лад. Он попросил переслать ему эти фотографии. Затем мы пригласили его сходить с нами на спектакль одного подпольного театра, расположившегося на Trastevere: там выступали наши хорошие знакомые, мы думали, что они ему могли бы понравиться и он захотел бы им помочь, они талантливые, честные ребята. Но он аккуратно отстранился. Сказал, что боится пообещаться и не смочь. Мы попрощались и уехали к себе. Всю дорогу до дома думали, как мы похожи, невероятно похожи, невероятно, что такое бывает. Будто родной. Непостижимо. А потом сказали это друг другу вслух. Мы часто думаем одинаковыми мыслями, но каждый раз удивляемся, когда одна озвучивает голос в голове другой.
Наступившая зима сулила ощущение чего-то невероятного, неизведанного, неправильного и правильного одновременно.
Мы работали в Капелле, но оставалось слишком много свободного времени, а свободное время — лучший друг свободных мыслей. Нас интересовала наша судьба, почему выбрали именно нас, как может быть, что мы с ним оказались так похожи. И эти мысли раз за разом возвращались к нам в головы, просачивались через уши и застревали внутри, как вода, так, что при каждом шаге они смутно бултыхались и не давали покоя. Он лайкал наши посты в Facebook. Это было очень поощряюще и вдохновляюще одновременно. Хотелось постить именно то, что понравится ему.
После Нового года мы собрались отправиться на праздничные выходные на торжественное открытие фермы. День обещал быть вкусным и веселым, написали об этом пост в Facebook с просьбой составить нам кампанию тех, у кого есть собственный автотранспорт, потому что своего у нас не было, а ехать не ближний свет. И внезапно он написал, что хочет поехать с нами.
Это была победа.
Мы поняли, что окончательно расположили его к себе.
Мы были беспричинно счастливы.
Но все сорвалось.
Он передумал. Написал, что много дел на работе. Хорошо, мы понимаем. Работа — это Святое.
Это же Прелатура.
Прелатура — это Святое.
Глава 3.2. Зима
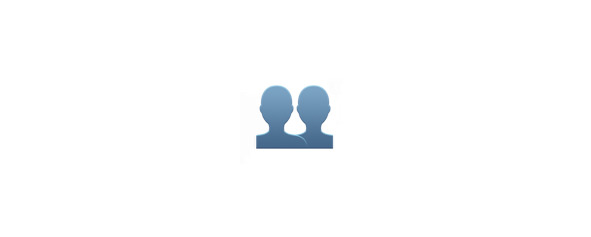
Главное свойство норы — она глубока. Чем дольше ты летишь вниз, тем интереснее становится, какие же сокровища спрятаны на дне, ради чего стоило проделать весь этот путь? Человека разумного, конечно же, сильнее занимает другой вопрос: как после такого падения выбраться наружу? Но мы любим задавать вопросы по мере их поступления. Для начала необходимо хотя бы приземлиться…
Снег в этом году выпал аномально рано. Мы вышли из базилики и онемели от красоты. Всё было бело, а с неба падали крупные, щедрые хлопья. Мы приходили сюда изредка. Нас, как и было обещано, направили на реставрацию Капеллы, но наша роль во всем происходящем была ничтожна мала. Раз в неделю-полторы с нами связывались те, кто руководил процессом, и давали небольшие указания. Общей картины происходящего мы не видели. Да и была ли она вообще?
В капелле постоянно работали пятеро. Нервный распорядитель, которого всё время бросало в жар, две девушки нашего возраста, поддерживающие с нами связь, и «технический руководитель», что бы это ни значило, с женой. Между возбудимым и четверкой остальных явно нарастал конфликт, но мы не слишком в него вникали. Когда нас приглашали поработать над каким-либо участком, мы приходили и работали над ним. Но все эти действия были хаотичны и непоследовательны. Гниль проступала, была видна невооруженным глазом, ударяла в нос. Все пятеро делали вид, что ничего не замечают и не чувствуют, что всё идет своим чередом. На самом же деле, они лишь тянули время. Как пиявки, присосавшиеся к телу и не желающие от него отлипать, покуда в венах, сосудах и капиллярах еще бежит кровь. Они не истребляли, а поддерживали гниль. Впрочем, мы могли и ошибаться.
В Facebook наши посты периодически лайкал Он. Это было так непривычно — получать оповещения о том, что среди отметок «нравится» от знакомых и друзей появляются «нравится» от него. Представителю одного из самых влиятельных и таинственных обществ нравились наши коллажи, рисунки и шутливые девичьи посты.
Знание — ящик Пандоры. Когда ты открываешь его и робко заглядываешь внутрь, закрыть уже не получается. Стоило нам только узнать что-то о Прелатуре, как мы стали видеть следы организации повсюду. Удивительно, как раньше мы ничего не замечали. Не знаешь — не замечаешь. Здесь можно поставить знак равенства. Теперь же, зная о том, с кем свела нас судьба, мы просто не могли это развидеть.
Дело Божие. Путь к святости в повседневности. Ценность малых дел. Уважение. Чуткость. Такт. Стремление к порядку. Пунктуальность. Отказ от мелких удовлетворений. Пост. Милостыня. Молитва. Покаяние. Любовь, которая требует упражнения в добродетелях. Справедливость. Солидарность. Бескорыстие. Целомудрие. Дружба. Любовь, которая требует ответственности. Любовь, которая доводит начатое до совершенства. Дело, которое не имеет границ на Земле. Дело, которое распространено по всему миру. Дело, основатель которого причислен к лику святых.
Такое большое дело и такая маленькая Капелла. Не может быть, чтобы в редкой помощи по устранению гнили заключался весь смысл того, зачем нас выбрали. «Мы никогда не имели дела с такими молодыми и чистыми». Не может быть, чтобы капелла — это всё, что им нужно. Почему они молчат? Зачем он лайкает наши посты? Что мы делаем не так? Капелла — это ведь только предлог для чего-то большого и настоящего. «Предлагайте идеи, делитесь своими мыслями». Они ждут этого? Доказательств того, что не ошиблись в нас? Отче, если это тщеславие говорит в нас, дай смирения.
Но вместо смирения мы находим то, что можем предложить им. Путь к святости в повседневности. Акт творчества как приближение к Богу. Лучше всего на свете мы умеем укрощать хаос. Приближаться к истине через искусство. Что работает сильнее Слова? Только Образ. Образ не нуждается в переводе. Он проникает в сознание сразу. Мы можем придать вашим Смыслам образы.
Мы создаем в мессенджере общий чат с ним. Мы непосредственны и неугомонны. Если мы чего-то хотим, мы это получаем. Мы предлагаем идеи. Он ускользает. Белый кролик вечно спешит и опаздывает. Мы настойчивы и не отступаем. «Боюсь пообещаться и не смочь», — рапортует кролик, отказывая нам в очередной встрече. Никогда ничего не объясняет, ничего не говорит сам. Вечно ускользает. Кажется, что вот-вот схватишь его за белый пушистый хвост, и вновь окажешься наедине с Тайной. Но нет. Он не пропадает из виду, но и не дает себя поймать. Заводит всё глубже и глубже, заставляя забыть, какова была наша жизнь до.
Ценность малых дел. Мы продолжаем наведываться в Капеллу, вдыхать гниль и устранять ее. Нас хвалят. Говорят, что мы справляемся лучше остальных. Да, мы знаем. Но какой в этом смысл, если мы не успеваем? Из раза в раз мы начинаем делать всё заново. Мы покидаем базилику, и наш счет снова обнуляется. Один — ноль в пользу гнили. Так можно всю жизнь положить на то, чтобы не сдвинуться с места. Все пятеро делают вид, что всё идет по плану. Еще немного, и гниль отступит.
Еще немного, и нас отпустит. Ничего не происходит. Тайна неприкасаема и упруга. Чем активнее мы пытаемся продавить ее, тем сильнее она выталкивает нас. Мы ослабляем силу нажима. Нам уже давно пора развеяться и перезагрузиться. Находим отличное место за городом. Открытие «культурной фермы». Домашнее вино, минестроне, сабайоне, народные песни, гальярда и сальтарелла.
Мы размещаем в Facebook пост о том, что с удовольствием разделим веселье с теми, кто готов подкинуть нас на машине. К нашему удивлению, внезапно отзывается Он. Уточняет, во сколько мы собираемся поехать. Получив наш ответ, долго молчит. А потом вновь сливается под предлогом, что у него появились дела. Мы лишь разводим руками. Что ж. Бывает. Даже слишком часто.
В итоге, на ферму отправляемся своим ходом. Вначале — на пригородном презде, затем берем такси. День выдался чудесный. Колеса поезда отстукивают ровный ритм, светит солнце и блестящей пыльцой в окна бьется снежное конфетти.
Глава 3.3. Зима
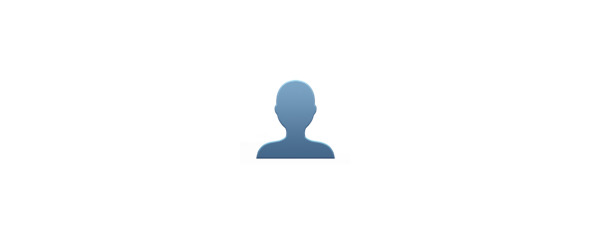
У меня нет времени. Категорически нет времени. Надо бежать. Я не успеваю опомниться, как день сменяет минуту, а неделя — день. Месяцы проносятся словно смазанное разноцветное месиво в окне при встречи двух поездов. Время ускоряется. Я еле отличаю действительность от недействительности, действие от бездействия. Я еле различаю реальность от виртуреальности. Черная кошка прошла дважды. Сбой в матрице. Что-то изменилось, но что именно, пока неясно. Время неоднородно. Особенно в черных дырах, кротовых норах, кроличьей норе.
Смутное ощущение перемен, но пока оно лишь, как толпящиеся тени, призраки внутри моих снов. В сером вихре дел и периодических огненных вспышек «периодов» появляется нечто такое, что я с трудом могу контролировать. Нет, дело не в технике, техника поощрения изучена досконально, приманка и наживка невероятно манящи, все идет по плану. Здесь что-то другое. Они создают общий чат для обсуждения ничего не значащих пустяков, глупостей, но внезапно я остро начинаю ощущать, что мне это нравится. Мне нравится наивное озорство, баловство и плохо скрываемый мощнейший интерес. Они мои первые. Надо быть аккуратнее. Но как хочется вновь оказаться в своем прошлом, когда ты был так же чист, светел и наивен, как эти двое. Они меня смешат и забавляют. Лайк, лайк, лайк, коммент, лайк, комент, лайк. Надо держать дистанцию. Но… Если один раз осмелиться, развеяться, вернуться в прошлое, ведь никто же не узнает? Они хотят повеселиться, как малые дети, на зимних праздниках. Я тоже. И я. Не сдерживаюсь, пишу. А давайте? Вы когда? Я с вами.
Они отвечают тогда-то. С радостью.
Я знаю, что с радостью. Сижу в ломке. Вновь падаю в белый снег. Легче.
Нет, не получится. Работа.
Даже по ту сторону черного зеркала я почувствовал горький привкус разочарования. Их. И моего.
Я хотел бы.
Но не могу.
Я хотел бы.
Но
Не
Могу.
Надо остановиться. Пока это не завело слишком далеко. Я не случайно годами дрессировал в себе выдержку. Главное не читать их, не смотреть, что они пишут и делают. Какие забавные. Какие они все же забавные. Я должен держать себя в руках. Я не могу с ними дружить. Меня нет. Я ноль. Вакуум. Пустое место. Или нет?
Глава 4.1. Весна
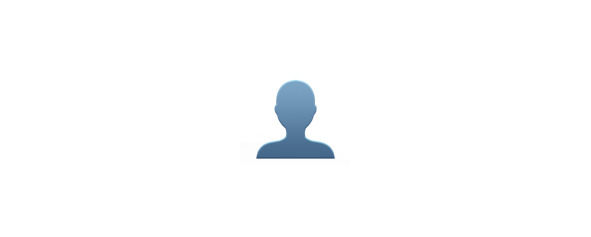
Это произошло в конце января. Беззаботная игривость треснула, как скорлупа, и на свет показалось то, что невозможно спутать и скрыть. Предчувствие будущей любви. Amor tussisque non celantur. Procaces oculi. Тот самый момент, когда один вдруг начинает смотреть на другого совсем иными глазами. По глянцевой и блестящей от электрического света поверхности зрачка скользят образы совместного будущего. Оно еще не наступило, но уже зародилось. Что было, что будет и чему никогда не суждено быть.
Он вышел на связь сам. Сказал, что есть новости. Пригласил на встречу. В здании Прелатуры сейчас ремонт, слишком шумно. Давайте лучше в ближайшем кафе. Давай. Кафе — только для своих. Он показывает удостоверение, и нас пропускают внутрь. Ничего особенного. Стандартный набор еды и напитков. Но в воздухе витает что-то неуловимое, едва осязаемый флер избранности. Мы занимаем столик у окна. Он сегодня какой-то другой. Возбужденный, радостный. Кладет на стол распечатанный снимок ноги Адама. Спрашивает: «Что это?». Уходит за кофе. Вскоре на столешницу со звоном опускаются три фарфоровые чашки и три бокала прохладной воды. В кафе тепло. Солнечные лучи вплетаются в ткань наших кашемировых свитеров. Студеная вода освежает. Он выжидательно смотрит на нас. Взгляд солнечным зайчиком перепрыгивает с одной на другую. Справа-налево, слева-направо. Стоп. Вот он, тот самый момент, когда это произошло.
Взгляд на мгновение замирает на лице моей сестры. Вроде ничего не поменялось, но он уже другой. Я смотрю на нее и замечаю ту же перемену. В этот миг мы делимся на две «я». А в наше «мы» вторгается Он. Третий. Вначале, как слабая тень, затем всё ярче и полнокровнее. С каждым днем его в нашей жизни становится всё больше и больше. По капле, по минуте он входит в наш мир. И из робкого гостя становится его полноправным жильцом. Он приватизирует наше время. В какой-то момент это становится физически трудно переносить. Его слишком много. Но это потом. Пока это лишь предчувствие.
Пока он улыбается и говорит, что они подумали над нашими словами. Вы просили, мы сделали. Что мы просили? Я перевожу взгляд с него на сестру. Вперед-назад, назад-вперед. Мы подумали, что вы правы. Старший не слишком хорошо справляется со своими обязанностями. Для всех будет лучше, если он перестанет работать в капелле. Удивленно хлопаем ресницами. Он говорит, что теперь он будет присматривать за тем, как идут дела. Если у нас возникнут вопросы, предложения и замечания, мы можем сразу обращаться к нему. Ничего себе, нашего кролика назначили куратором проекта. Нора делает крутой виток, и мы, подгоняемые ветром перемен, следуем за ним.
Вечером сестра говорит, что сегодня взглянула на него другими глазами. Да, я знаю. Я видела это. Вы оба смотрели друг на друга иначе, чем в прежние наши встречи. Мне нравится он. Я готова принять его в нашу семью. Мне кажется, что он — хороший и порядочный. Мы, ты и я, это чувствуем. Не самый простой, не самый открытый, не самый ясный. Но это всё издержки работы в Прелатуре. Эта работа накладывает определенные обязательства и отпечатки. Огромная ответственность. Она делает тверже, жестче, выдержаннее. Когда ты находишься там, где находишься, откровенность делает тебя уязвимым. Откровенность может стоить слишком дорого. Ничего лишнего. Ничего личного. Всё — на благо других. Дело божие превыше всего. Но где-то под этим слоем обязанностей и обязательств стучит живое, близкое сердце. Сегодня мы его слышали.
Но этого мало. Мало просто слышать. Надо знать наверняка. Если мы принимает его в нашу семью, то я хочу знать, что мы не ошиблись. Что белый кролик свободен, честен и умеет любить. Что он способен сделать мою сестру счастливой. Не украдет, не вырвет с мясом, но дополнит. Что он тот, за кого себя выдает, и под белым пушистым мехом не скрывается никто другой.
Без нервозного распорядителя в Капелле становится легче работать, легче дышать, легче бороться с гнилью. Хаоса становится меньше. Но, несмотря на это, нас не приглашают работать чаще. И это так странно. Теперь за Капеллой присматривает Он. Но это никак нас не касается. Две девушки берут руководство в свои руки. Называют себя «двумя головами главного реставратора». Чушь. Две головы здесь только у нас. В наших венах течет одна кровь. Золото и медь. Ключ золотой и ключ серебряный. А они — чужие друг для друга. Они работают сообща, но они не едины. Они всё равно видят мир слишком различно. И это видно в капелле. Хаоса становится меньше, но тот, что есть, не спешит отступать. Гниль лижет ступни Адама, плющом ползет по древу познания добра и зла. Когда гнили становится слишком много, они зовут нас.
А он молчит. Иногда лайкает посты сестры. Иногда комментирует. Сестра всё чаще вспоминает о нем, думает о нем, говорит о нем. Находим в Facebook его сестру. Он когда-то говорил о ней. Она тоже художница. Пишет милые пейзажи, которые не пользуются популярностью. Искусство — путь страдания, как повторяли нам тем летом, когда они выбрали нас неизвестно зачем.
Дни становятся длиннее, ночи — короче, всё громче за окнами поют птицы. Иногда мы пишем ему в мессенджере и напоминаем об идее придать их смыслам Образы. Эта идея близка ему, она ему нравится. Но ничего не происходит. Он всё переносит и переносит решение по ней, пока, наконец, не говорит, что «не хочет быть губителем всего прекрасного». Его руководство решает, что еще не время. Надо сосредоточиться на капелле. Это самое главное.
Всё самое главное проходит без нас. «Две головы главного реставратора» теперь тоже общаются с Ним, решают какие-то вопросы. Нас ставят только перед фактом. Сделать это. Поработать здесь. Это немного раздражает. Выводит из равновесия. Мы перестаем сами искать поводы для встречи и разговора с ним, но он не покидает нас. Сестра думает о нем, говорит. Пишет в мессенджере, когда мы не рядом. Я отвечаю. Его нет, но он с нами. С каждым днем его становится всё больше и больше. Он плотно засел в мыслях моей сестры, а через неё достает и меня. Лайкает, комментирует ее посты. И ничего больше. Я вижу, как он это делает. Скупо, но не формально. Теплота сквозит, не равнодушие. Но тогда почему он бездействует? Что его останавливает? Его нерешительность вызывает раздражение. Всё тяжелее становится сосредоточиться на прекрасном и вечном, когда земной шар уходит из-под ног и то летит, проглатывая дни и недели, вслед за белым кроликом, то замедляет свой ход, и всё становится медленным и унылым, как кисель. Вязким, как смола, в которую мы неудачно приземлились и застряли.
Когда в разгар лета он сам подает признаки жизни, говорит, что скучал и ждет встречи, я счастлива. Наконец, их отношения с моей сестрой сдвинутся с мертвой точки, а постылый период творческого анабиоза будет завершен, и мы получим то, чего так давно хотели — определенности.
Глава 4.2. Весна
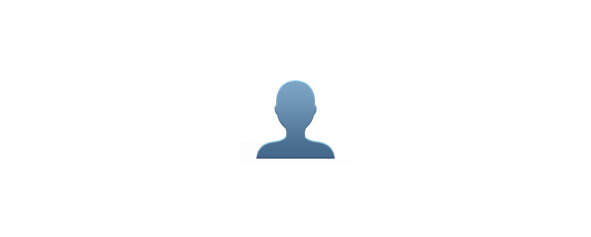
Однажды, за два с небольшим года до этой весны, я попросила Деву Марию о любимом. В церкви. Чтобы до Бога наверняка дошла моя просьба. Но ничего не произошло. Я просила не только Деву Марию и Иисуса, я просила и Космос, который в моем сознании равен силе Творца. Лежа на влажной от росы траве, я смотрела в темное звездное небо и просила. Пошли мне такого, которого бы я любила с моим холодным сердцем и страстным разумом, пошли такого, который бы понравился моей сестре, чтобы он был родным. Я ставила свечки в каждой церкви, в каждом городе, куда бы мы не ездили. Я даже написала на бумаге список моих пожеланий к кандидату, а заодно и к жизни вообще, поддавшись массовой истерии по визуализации, и прикрепила на стену в своей комнате. Но ничего не происходило. И я смирилась. И забыла. Я не знаю, кто так извратил мою просьбу, посланную в небеса от чистого сердца, но в конечном итоге бойтесь своих желаний, точнее загадывайте аккуратнее. Всё, что я написала, сбылось. Но весьма извращенным образом. Это было совсем не то, что я имела ввиду, точнее не совсем то.
Птицы надрывно пели в саду. Стояла блаженная лунная ночь, какая бывают только когда Περσεφόνη, богиня плодородия и царства мертвых, возвращается. Περσεφόνη вернулась. Я лежала в своей кровати, а мысли о том, что он — мой, не покидали меня. Седьмое чувство, интуиция, подсознание, даже сестра. Все шептали. Вы могли бы быть прекрасной парой. Он мог бы стать прекрасным мужем. Мужем? Какая ересь. Что за сопли? Я отмахивалась от настырно повторяющих одно и то же голосов, как от роя назойливых мух. Вы могли бы быть прекрасной парой. Он мог бы стать прекрасным мужем. Вы могли бы быть прекрасной парой. Он мог бы стать прекрасным мужем. Вы могли бы быть прекрасной парой. Он мог бы стать прекрасным мужем. Вы могли бы быть прекрасной парой. Он мог бы стать прекрасным мужем.
Хватит. Замолчите. Я сама решаю, о чем мне думать. Мне стало душно. С каждым вздохом и выдохом моя свобода и сила воли улетучивались сквозь ноздри и смешивалась с прохладным весенним воздухом, поступавшим в спальню, касаясь ласковыми, невидимыми прикосновениями газовых ультрамариновых занавесок. Птичья трель не смолкала. Пятнадцатые лунные сутки сводили с ума. Хотелось распустить длинные волосы, которые свет луны окрасил бы из золотого в жемчужный, раздеться до гола и кружиться в нашем старом саду, как бессмертная нимфа, пачкая босые стопы жирной землей, заставляя набухшие почки раздуваться до предела и лопаться новой жизнью. Все, что мы делали до этого, потеряло всякий смысл. Всё искусство, великая Тайна Прелатуры, живопись, скульптура, счастье подставить руки новому дню, солнечным лучам и вздыхать полной грудью беспечную свободу. В один миг свобода из дающей крылья стала крылья подрезающей, обрезающей, выдирающей с мясом и костями. Голова кружилась от несусветной глупости, какая только может наполнять головы молодых, в одночасье потерявших покой и беззаботность. Я сходила с ума. Мне было стыдно и весело одновременно. Мне было так хорошо, что уже плохо. Из цельной личности, какой только способен быть разнояйцевый близнец, я стала половинчатой. Мне захотелось обладать им. Страстно, всецело, безраздельно. Я должна была его догнать, обогнать, заманить, поймать. Я хотела его поймать и усадить в красивую клетку своего сердца, сделать пленником, фанатом, поклонником, любовником, любимым… слугой. Я хотела, чтобы он мне принадлежал весь без остатка. Я была уверена, что поймаю его. Какая наивность.
Алиса никогда не сможет поймать белого кролика.
Он всегда от нее убегает.
Facebook поглотил меня, как тяжелый наркотик поглощает волю и сознание наркомана. Мир сузился до размера прямоугольного яблока. Мой разум буквально слипся с моим виртуальным аналогом.
Одержимость.
Да.
Одержимость.
Да.
Я отписалась от всех и вся, чтобы следить за ним, следуя по хлебным крошкам, которые он оставлял лайками и комментариями другим людям. Less is more. Чем меньше о тебе знают, тем больший интерес ты разжигаешь. Мне было интересно всё. Что ему нравится. О чем он думает. Что вызывает в нем чувства. Я хотела смимикрировать. Стать хамелеоном. Показать, что я — именно то, что он ищет. Я рассказывала сестре о всех своих находках. Азарт накрыл и ее. Нам было весело искать и находить кусочки пазла, нечаянно то тут, то там оброненные белым кроликом, пока он убегал от нас в темный терабайтовый лес. Решила написать ему личное сообщение. Невинный предлог. Он сразу меня раскусил и сообщил об этом. Браво. Мне это понравилось. Наконец-то достойный соперник. Проблема была в том, что он оказался гораздо хитрее и опытнее всех, с кем я до этого общалась. Это зачаровывало. Я люблю загадки. Люблю играть. Правда, не на стороне мыши. Но раз за разом, я оказывалась именно ей. Кошка играет с мышкой. Так небрежно. Как не стыдно. Чем же его заинтересовать? Как выманить наружу и обнулить его победу? Красное платье. Распущенные золотые волны волос. Кофе. Ну же. Давай. Сдавайся. Мы встречаемся. В первый и последний раз наедине у него в кабинете. Кофе с кардамоном. Мед. Речи, как мед. Он мой, точно знаю. Не может быть иначе. Спрашивает, что у вас происходит с реставраторами? Вру, что ничего. Ничего. Ничего не имеет значения, когда ты вот так напротив меня. Попался. И я попалась. Ты приоделся специально для меня. Я же вижу. А глаза. Твои глаза в отличие от твоего рта так профессионально врать не умеют. Мы вновь говорим обо всем и ни о чем. Но я запоминаю всё в деталях. Каждое слово. На следующий день вновь встречаемся в Прелатуре. На этот раз уже с девками-реставраторшами и новой главной реставраторшей. Я врезаюсь в него в двери. Он что-то странное плетет про то, что же подумает начальство. У нас собрание. Что-то обсуждают, но я ни бельмеса не понимаю. О чем они все? После по дороге домой забегаю в Caffè Canova, что на Via del Babuino, выпить эспрессо. Кафе скульпторов. Его очень любит сестра. Сажусь за столик в окружении статуй. Заглядываю в Facebook. Сердце упало. Он сделал пост. Песня Creep. С подписью. «У меня в тысячный раз с… не назвать это годом». Делаю скрин, отправляю сестре. Кому? Кому он это посвятил? Бывшей? Наверняка своей бывшей. Он всё еще ее любит. Мы переписываемся. Она меня успокаивает. Но меня невозможно успокоить.
И тут.
Безотчетная, всепоглощающая ревность всё во мне поглотила.
И я сошла с ума.
Глава 4.3. Весна
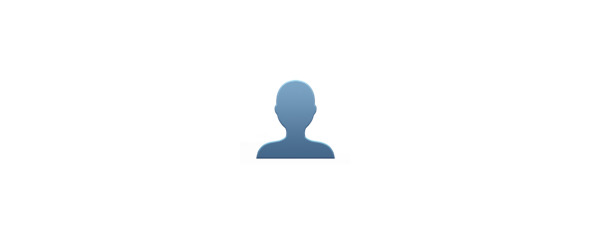
Fool. Fool of love. Шутим с ними в мессенджере про карту таро. Я сказал, что я ноль. А на ноль нельзя обижаться. Она прислала мне фотографию карты таро из Старшего Аркана. Дурак. Номер 0. Мне хорошо. Весна повсюду. Она стала писать мне. Я сразу понял, к чему это. Мы с ней играемся. Я всегда на два шага впереди нее. Я знаю, какой шаг она сделает следующим. Всё предельно просто, когда есть ключи от всех дверей. Правда, видеть — не значит знать. Я не могу поверить, что такой слизняк, как я, может понравиться такой, как она. Ангел. Ее непосредственность, непоследовательность и непоседливость умиляют меня. Она, как ребенок. Сама наивность. Сама невинность. Со стороны. Но в разговорах с сестрой она дает волю своему грязному языку. Это в высшей степени забавно. Вся ее хитрость, как на блюдечке. Это очень смешно. Они в высшей степени милы с девушками, работающими в Капелле, но между собой их разносят в пух и прах, люто ненавидят. Правда, никогда мне на них не жалуются, не то что те. Реставраторы ревнуют к ним. Они постоянно доносят мне свое недовольство в разной форме по поводу работы двойняшек. Это бесит.
Они мешают мне работать.
Она купила красное платье. Она мешает мне работать. Мысли постоянно отвлекаются на нее. Она красавица. Я чудовище. Я, запертый в замке, постоянно смотрю на нее через волшебное зеркало. Покажи мне Бэлль. И оно показывает. Бэлль гуляет. Бэлль смеется. Бэлль в кино. Бэлль в театре. Бэлль опять выбирает одежду. Бэлль в ресторане. И я незримо с ней рядом. Если бы ты знала, как мне тяжело себя постоянно отрезать от тебя. Я сросся с тобой. Но ты этого не замечаешь. Любишь ли ты меня? Невозможно. Кто может полюбить чудовище?
Ты обиделась на меня. Я тебя игнорирую. Издеваюсь над тобой молчанием. Но так надо. Так будет лучше. Нельзя в тебя влюбляться. Очнись. Опомнись. Что подумает начальство? Я не имею права. Мне вас вверили не для того, что я загубил тебя. А я тебя непременно сгублю. Я — чудовище. Ты хочешь большего. Я вижу. Ты хочешь меня поймать. Ты меня поймала. Причем, давно. Ты просто этого не знаешь. И я сделаю всё, чтобы ты никогда не узнала.
Когда мы, наконец, с тобой встречаемся, я чувствую, что живу. На мне — костюм тройка, но пиджак я снял, потому что на улице уже очень жарко. Или потому, что ты рядом. Я поставил джаз в своем кабинете. Я знаю, что ты очень любишь джаз. Я сварил нам кофе с кардамоном, а ты забрала пару семян, потому что хотела вырастить их у себя на подоконнике. Мы говорим с тобой тысячу и одну секунду, я любуюсь тобой. Внезапно ты встаешь и говоришь, что тебе уже пора. Как? Уже? Прошло полтора часа, так быстро? Я целую тебя в щеку на прощанье, и сердце обливается кровью. В этот момент я понимаю, что если еще раз увижу тебя, то умру. Всё разрушится, всё, к чему я стремился. Ты просто моя подопечная. Ты просто женщина. Ты не имеешь права всё разрушить. Я дал себе обещание больше никогда не любить. Так надо. Так будет лучше. Всем нам. И всё же мы договариваемся завтра все вместе встретиться на собрании. Я представлю нового Старшего реставратора. Мы встречаемся. Ты, конечно, как всегда, опаздываешь. Ты всегда опаздываешь, но я не могу за это на тебя злиться, хотя на встречи со мной никто не смеет задерживаться. Ты спотыкаешься и случайно врезаешься в меня в двери при входе в Прелатуру. Я в смятении. Мне кажется, все знают, что между нами происходит. Я делаю тебе замечание, ты расстраиваешься, и мое сердце обливается кровью. Реставраторы уже сидят за столом и пьют кофе. Делаю кофе тебе и забираю у них блюдца со сладостями, чтобы ты их попробовала. Они что-то говорят. Я хочу посмотреть на тебя в последний раз. Запомнить тебя. Твое непосредственное лицо, глаза цвета неба над Тибром, золотые волосы, родинки, как созвездия, усеявшие твою молочную кожу без тени загара. Я хочу запомнить тебя такой, чтобы больше к тебе не прикасаться. Я сведу всё общение на нет. Я должен остановиться. Новый главный реставратор показывает бордовый кожаный блокнот, привезенный из Венеции. Ты — сама душка. Так искренне выказываешь свое восхищение: вертишь его в руках, улыбаешься ей, говоришь, что вещь неимоверно стоящая. Я знаю, ты хочешь понравиться ей, чтобы отношения в коллективе нормализовались. Я очень ценю это. Тоже хочу взять блокнот в руку, но ты небрежно и озорно ударяешь меня по кисти. Нельзя. Только для девочек. Все женщины в смятении. Они вдруг тоже всё поняли. Ты оборачиваешь всё в шутку, я знаю, ты сделала это инстинктивно, потому что просто ты такая. Игривый ребенок, который в меня беспросветно влюблен. Я не могу на тебя злиться. Но это надо прекращать. Ты уже прилюдно предъявляешь на меня свои права. Это недопустимо. Это недопустимо. Когда ты уходишь, я, наверное, в тысячный раз слушаю песню Creep группы Radiohead:
When you were here before
Когда ты пришла,
Couldn’t look you in the eye
Я не мог посмотреть
You’re just like an angel
В твои прекрасные глаза,
Your skin makes me cry
Я плакал, как мальчик.
You float like a feather
Ты спустилась с небес
In a beautiful world
В прекраснейший мир,
And I wish I was special
Где я мог быть лучше,
You’re so fuckin’ special
Как ты, много лучше.
But I’m a creep, I’m a weirdo.
Но я здесь никто, я просто призрак.
What the hell am I doing here?
Что я делаю здесь?
I don’t belong here.
Я должен исчезнуть.
I don’t care if it hurts
На боль мне плевать,
I want to have control
Я хочу быть собой,
I want a perfect body
Хочу быть красивым,
I want a perfect soul
С прекрасной душой.
I want you to notice
Заметь, что меня
When I’m not around
Нет рядом с тобой,
You’re so fuckin’ special
Где я мог быть лучше,
I wish I was special
Как ты, много лучше.
But I’m a creep, I’m a weirdo.
Но я здесь никто, я просто призрак.
What the hell am I doing here?
Что я делаю здесь?
I don’t belong here.
Я должен исчезнуть.
She’s running out again,
Ты убегаешь опять,
She’s running out
Опять, опять, опять, опять,
She’s run run run running out…
Убегаешь опять…
Whatever makes you happy
Ты счастлива там,
Whatever you want
Ты хочешь быть там,
You’re so fuckin’ special
Где я мог быть лучше,
I wish I was special…
Как ты, много лучше…
But I’m a creep, I’m a weirdo,
Но я здесь никто, я просто призрак,
What the hell am I doing here?
Что я делаю здесь?
I don’t belong here.
Я должен исчезнуть,
I don’t belong here.
Я должен исчезнуть…
Выкладываю ее в Facebook. Ненадолго. Но этого достаточно, чтобы свести меня с ума.
Я должен исчезнуть.
Я должен исчезнуть.
Часть II
Глава 1.1. Лето
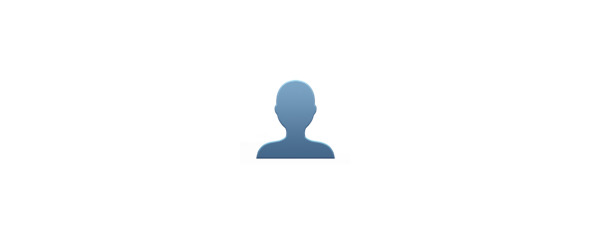
Знойное лето. Мучительное лето. Лето гнева, слез и пустых ожиданий. Душно до тошноты. Хочется, не шевелясь, лежать под влажной простыней и вглядываться в небесную синь. Прислушиваться к пению птиц. Дышать. И ничего больше. Не видеть зла, не слышать зла, не говорить о зле. Не говорить о Нем, не думать о Нем, ничего не знать о Нем. Но глаза смотрят, видят, жадно вбирают каждый микрон информации. Чем меньше следов, тем больше следов. Никакой шелухи, только самое важное. Самая суть. Квинтэссенция личности. Самое Эго.
Мы разговариваем о Нем, мы пишем о Нем, мы думаем о Нем. Он, как споры. Один неверный вдох. И он уже внутри. Осел в легких. Пустил корни и прорастает. Пытаешься вытравить его — травишь себя. Их весенняя встреча с сестрой должна была положить конец неопределенности. Но нет. Он опять все смешал. Спутал. Испортил. Подарил надежду и сбежал. Спрятался в свою раковину, в свой уютный уголок норы. А сестра не может успокоиться. Она хочет достать его. Выманивает его. Медленно. Аккуратно. Чтобы не спугнуть. Чтобы не ранить его тонкую нежную душу. Я чувствую себя сытой им по самое горло. Меня, обычно спокойную и невозмутимую, корежит от всего происходящего. Он зачем-то подпустил нас близко к себе, ближе, чем необходимо для здоровых формальных отношений. Подпустил слишком близко для простых знакомых, но не пускает дальше. И от этого физически больно. Разделил нас. Добавил себя. Добавил, но не отдал. Искалечил. Кто ты? Что тебе от нас нужно? Что вам всем от нас нужно? Почему ничего никогда не объясняете?
Вначале сердилась на сестру. Сколько можно думать о нем? Нельзя так неосмотрительно терять всю себя, нельзя растворяться. Надо оставить что-то в неприкосновенности. Что-то в себе, что будет пребывать в равновесии. Что-то, что ты можешь контролировать. Ведь ты страдаешь, и я страдаю вместе с тобой.
Злилась на него. Непонятного, пассивного, нерешительного, уклончивого. Планы изменились, мы вам больше не нужны? Так скажи это. Прелатура никогда не имела дела с такими молодыми и в ближайшие десятилетия не станет этого делать? Валяй, говори. Мы тяготим тебя, ты не хочешь с нами общаться, мы не друзья тебе и никогда не сможем ими стать? Говори. Ты не влюблен в мою сестру, не свободен, не готов к отношениям, у тебя нет сердца, нет души или вся твоя любовь, всё, что есть в тебе хорошего, принадлежит лишь Богу? Говори. Говори. Говори. Не корми пустыми надеждами. Чем сильнее пощечина, тем быстрее приходит отрезвление.
Но вместо слов — знаки. Символы. Лайк. Лайк. Пальчик вверх. «Моя забота о вас всегда имела место быть». Но я, конечно, ничего вам не буду объяснять. Я же просто белый кролик. Мне уже надо бежать.
Всё, что мы видим, всё, что мы знаем и понимаем о нем, говорит о том, что он одинок. У него нет или почти нет друзей. Он редко встречается с семьей. Мы чувствуем его лучше остальных. Но он не открывается нам. Заигрывает с моей сестрой. Кажется, еще немного, и он расколется. Они будут вместе. И она, мы, наконец, обретем цельность. Но нет. Опять взмах невидимой руки. Кости падают на игральную доску нашего бытия. Новый раунд. Возвращаемся на исходные позиции.
Пот выступает у корней волос. Маленькие капли, как роса. В капелле немного лучше, чем на улице. Но только, когда входишь в нее. Спустя полчаса разница уже едва различима. Он велел «двум головам главного реставратора» полностью отдать нам фрагмент грехопадения. Не трогать нас, не беспокоить. «Они знают, что делают». Мы получаем право работать в своем ритме. Как хотим и когда хотим. Им не нравится это. Участок, который раньше их вообще не интересовал, внезапно стал самым важным во всей капелле. Они постоянно разглядывают, что и как мы делаем. Ищут недостатки. Им всё не нравится. Когда нет любви — всё не то. Им всё не нравится, но они ничего не могут с этим сделать.
Теперь нам платят за работу. Совсем немного, но лучше, чем ничего. Он наблюдает. Ему нравится то, что мы делаем. Чем смелее наши действия, тем больше ему это нравится. Не то, что им. Им не угодишь. Они всё чаще молчат в нашем присутствии. Они работают в святыне, но лица их искажены ревностью и злобой. Они ревнуют нас к участку стены, к возможности приходить и уходить, когда вздумается. Они ревнуют нас к Нему. Однажды за обедом «технический руководитель», забитый вместе с женой в один из дальних углов капеллы, говорит о том, что «две головы» вечно жалуются Ему на нас. Всё время злословят. Но Он ничего не передает нам. Молчит. Принимает на себя. Защищает. Или, на самом деле, получает удовольствие от этого тихого конфликта? «Технический» пытается подговорить нас работать с ним в связке. Нет. Мы не предаем нашего кролика. Но он, конечно, этого не оценит.
В конце лета мы отправляемся с Ним на съезд. Тот, на котором нас выбрали в прошлом году. Только в этот раз мы не просто участники. Мы выбираем. Тех, кто будет помогать нам работать в капелле. Нам, а не «двум головам». Мы так надеемся, что здесь он наконец раскроется, откроется и поговорит с нами по душам, ведь он сам так ждал этой поездки. Напоминал о ней несколько раз. Готовил документы. Мы так сильно ждали этого. Почти так же, как когда-то реакции на свой первый триптих. Мы так надеялись на что-то, а получили лишь смятение.
Он остановился в комнате недалеко от нашей, но никогда не заходил и не приглашал к себе. В поезде он сидел в другом вагоне. Вечерами, когда все собирались в главной зале, он стоял позади всех и подальше от нас. «Здесь я, а здесь вы», — заявил он как-то, проведя невидимую черту между нами. Это страшно уязвило. Хотелось больше никогда с ним не разговаривать. Но как только концерт подошел к концу, он сам подсел к нам. Начал что-то говорить, спрашивать. Словно пытался загладить вину. Да, белый кролик знает, что он не прав. И всё равно продолжает.
Худшее произошло в последний вечер. Мы говорили с ним о том, сколько ребят удалось отобрать для работы в капелле, и вдруг его понесло. Какая-то пружина лопнула у него внутри. Слова посыпались, как монеты из разбитой копилки. «Я не понимаю, что это для вас», «Вам нужен куратор повыше», «Как вы называете меня? Пиноккио?», «Это нормально. Это нормально». Пиноккио. Да. Я так несколько раз называла его в шутку. В переписке. Между нами. Между сестрой и мной. Без него. Мысль не успевает развиться, как он перескакивает на другу. «Я так и не научил тебя играть в шахматы», — обращается он к сестре. Но он и не пытался. Всё время уворачивался. Здесь я, а здесь вы. Этот странный разговор прерывается так же внезапно, как и начался. Он уходит, а нас ждут наши новые знакомые, которым мы обещали составить компанию. Но мы просто не можем остаться с ними. После случившегося невозможно сидеть на месте. Невозможно говорить ни о чем другом. Мы наворачиваем круги по парку. Спускаемся и поднимаемся по лестнице вдоль каскада. Ты слышала? Ты тоже это слышала? Внутри — стихийное бедствие.
Минут через двадцать, тридцать, час, мы приходим в чайную. Кто-то из большого руководства предпочитает традиционному кофе китайские чаи. Заказываем две Железные богини милосердия. Наблюдаю за умелыми руками, которые заботливо готовят нам это китайское зелье. Сестра садится в стороне. В какой-то момент я оборачиваюсь и вижу, что сзади к ней подошел Он. Что-то говорит на ухо. Когда в моих руках оказываются два горячих бумажных стаканчика, его уже нет. Идем в нимфеум. Подальше ото всех. По щекам сестры текут слезы. Что с тобой? Он тебя обидел? Нет, всё в порядке. Я просто счастлива и несчастна одновременно. Смотрю на ее профиль в свете луны. Капли слез на щеках. И сердце сжимается от невозможной нежности и тоски. Как хочется, чтобы она, чтобы мы все, были счастливы.
Глава 1.2. Лето
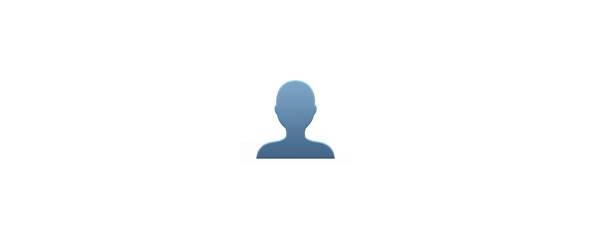
Ненавижу. Себя. То, чем я стал. Чем сильнее ненавижу, тем сильнее хочу, чтобы меня любили. Чем сильнее ненавижу, тем сильнее хочу стать еще хуже. Еще грязнее. Еще чернее. Черное зеркало, покажи мне Бэлль. Нет. Скрой ее. Быстрее. Убери. Не хочу видеть. Ничего не хочу знать. Ты еще не знаешь, но я уже всё решил. Решил за нас обоих. Так будет лучше. Вам всем, нам всем будет лучше без меня. Никаких встреч. Никаких контактов. Это было ошибкой. Нам нельзя было встречаться наедине. Что скажет начальство? Мою руки с мылом. Мне нельзя прикасаться ни к чему настолько чистому, как ты. Не хочу быть губителем всего прекрасного. Только еще один раз, и всё. Больше не буду. Только еще один раз. Слабость в ногах. Нельзя. Больше нельзя. Только еще один раз.
Пишу в нашем общем чате, что в конце лета мы поедем вместе на съезд. Они счастливы. Считают дни. Проглатывают свои лучшие дни, чтобы быстрее наступил день нашего отъезда. Они пишут. Пытаются расшевелить. Такие забавные. Такие милые. Она пишет. Ищет предлоги для встречи. Моя хорошая. Моя милая. Да. Я очень хочу встретиться. Но ты об этом не узнаешь. Нет. У меня дела. Не могу. Отправляю ответ. Хочешь занести мне сандвич, который не доела. Твои губы касались его. Ты совсем рядом с Прелатурой. Меня бросает в жар. Нет, мне ничего не нужно, я уже пообедал. Живот сводит от голода. Чудовище проголодалось. Оно уже давно ничего не ело, кроме самого себя, и теперь очень-очень голодно.
Так бывает не всегда. Периодами. Нужно быстрее найти очередную жертву. Выследить. Поймать. Когда знаешь технологию, это не составляет труда. Это очень быстро. Так легко, что даже не интересно. Сублимация. Мне надо на кого-то переключиться, чтобы исчезнуть. Не писать, не говорить, не встречаться. Меня нет. Меня для вас нет. Меня для тебя нет.
Ненавижу. То, как легко мне это дается. Технология работает безотказно. В моих руках — ключ от всех дверей. Ключ от всех щелей. После пары манипуляций они уже сами готовы на всё. Да, я служу в Прелатуре. Но ведь главное — не где ты работаешь, а твое отношение к делу. Да, я нахожусь так высоко, почти в приемной у Бога, но в душе я всё такой же простой парень. Смотри, небо, как в Симпсонах. Да, крутой сериал, обожаю. Я люблю то же, что и ты. Мне нравится то же, что и тебе. Какое совпадение! Нет, конечно, это не может быть случайностью. Это — судьба. Я — определенно твоя судьба. Твоя вторая половина. Настоящая любовь.
Через пару дней она уже раздвигает ноги. Да. Так намного лучше. Забыться. What you want is some boombastic romantic fantastic lover. Опустошенно упасть носом в мягкую подушку. She call me Mr. Boombastic say me fantastic. Зарыться в белый снег. Да. Так лучше. Намного лучше.
Через полторы недели я даю ей ключи от квартиры. Она тронута. Думает, что это всё по-настоящему. Я — ее единственный. Скоро поженимся. Убежим в закат. Купим большой дом, заведем много детей. Делаю трогательные глаза. Очень люблю детей. Она стекает к моим ногам, как растаявшее мороженое. Везу на озеро Альбано. Говорю, что это мое любимое место. Мое тайное место. Обычно я бываю здесь один. Но не сейчас. Сейчас я хочу разделить этот вид с ней.
#alb #mynewplaceofpower #девочкиэтолюбовь
Она постит фотографии у себя в Instagram, делает перепосты в Facebook. Чтобы я оценил. Лайкаю. Она говорит, что счастлива. Разболтала всем своим подругам, как же она невозможно счастлива. Лайк. Фотографирую ее. Нет. Вместе со мной нельзя. Меня нельзя фотографировать. Я — никто. Человек-невидимка. Мое лицо нельзя использовать. Ты же понимаешь. Это Прелатура. Всё очень серьезно. Я — Мистер Икс. Ее это заводит.
#эхма #какхорошо #love
Всё идет по плану. Я почти забылся во всей этой грязи. Почти освободился. Но вдруг. Как это может быть? Звонок. От нее. Не могу дышать. Что-то щебечет. Не могу разобрать ни слова. В висках стучит любовь и ужас. Поздравляет с днем рождения. Не могу дышать. Паника. Никто не знает, что сегодня мой день. Я не праздную свой день рождения. Ноль. Ничтожество. Чудовище. У меня нет дня рождения. Что-то бормочу в ответ. Сам не слышу свой голос. Кладу трубку. Как ты могла? Зачем это сделала? Зачем снова лезешь в мое сердце? Пошла вон. У меня нет сердца. А в тот уродливый отросток, что остался, я никого не хочу пускать.
Молчу. Наказываю молчанием. Наказываю молчанием себя, тебя, нас. Забыться в работе. Работа — это Святое. Прелатура — это Святое.
Пишешь, что Технический странно смотрит на тебя. Тебе это не нравится. Вспыхиваю. Ненавижу. Его. Тебя. Себя. Ревную страшно. Мне вверили тебя и я не могу тебя трогать. Фарфоровая статуэтка. Нежнейший цветок. Который мне нельзя сорвать. Но ты — моя роза. Моя роза под стеклянным колпаком. Никто не вправе тебя трогать. Ты хочешь, но не можешь быть моей. Но и чужой я тебе быть не позволю. Ревную и ненавижу. Прошу Бога избавить меня от этих страстей. Но он не слышит. У Бога слишком много дел.
Не сдерживаюсь. Перед самым съездом даю себя увлечь. Болтаем в нашем общем чате о какой-то ерунде. Положи в свой чемодан наши продукты, а то их выкинут на досмотре. И вино. Пожалуйста-пожалуйста. Нет. Никакого вина. Я не буду нарушать правила, за которые сам же и выступал. Ну, пожалуйста. Нам купить какие-нибудь игры? Мы ведь будем играть? Не знаю, я люблю шахматы. Тогда научи в шахматы. Пожалуйста-пожалуйста. Надо забыться. Все дни перед отъездом пользую #девочкиэтолюбовь.
Приезжаю на вокзал к самому отправлению поезда. Они ждут меня. Я знаю. Написали сообщение. Где ты? Ответил им еще на середине пути. Зачем? Что я делаю? Нам нельзя показываться вместе. Никто не должен знать о том, что они — наши. Чистый лист. Tabula rasa. Нельзя запачкать. Они ждут меня на перроне. Больше не заглядываю в сообщения. Слушаю Jefferson Airplane. Забываюсь. And if you go chasing rabbits and you know you’re going to fall… Chasing rabbits… Chasing rabbits… Белый кролик забивается в дальний вагон, где его никто не может достать. Поезд трогается. Мимо проплывают дома. Поезд плывет по морю слез. Это всё виноваты Алисы. Это они обиделись на кролика и наплакали целое море. Это они виноваты.
Они. Они. Она. Ты. Ты рядом. Я заселяюсь на одном с ними этаже. Хочу быть ближе. Но не имею права. Нас не должны видеть вместе. Не могу прикасаться. Всё время сажусь сзади. Чтобы лучше видеть. Смотрю на них. Никогда не носят форму. Всегда в своем. Гордо вышагивают по территории. Выбирают себе команду. Какая же она красивая. Волосы блестят в свете дня. Этот волнистый золотой водопад. Даже солнце любит ее. Бережет ее молочную кожу. Нельзя прикасаться. Когда сталкиваюсь с ними, всё время верчу в руках ее бейдж. Разглядываю фотографию. На фотографии она в бальном платье и диадеме. Какая дурочка. Какая красивая. Нельзя смотреть. Нельзя трогать. Мне кажется, что я сойду с ума раньше, чем всё это закончится. Быстрее бы всё это закончилось.
Начальник пишет, чтобы я поговорил с одним молодым скульптором. Его подопечный. Велит позаботиться о нем. Познакомить с двойняшками. Пусть придумают что-нибудь общее. Не хочу знакомить. Только мое. Моя прелесть. Сбрасываю им имя в мессенджере. Ничего не объясняю. Тем же вечером вижу их вместе. Смеются. Счастливые. Он обнимает ее за талию. Конечно, они же художники. На одной волне. Мне, червяку из Прелатуры, не понять их мир. Мне никогда не стать частью этого прекрасного мира. Еле сдерживаюсь. Здесь я, а здесь вы. Хочу. Ненавижу. Ничтожество. Прячусь в своей комнате. У меня дела. Дела.
Не сдерживаюсь. Что это со мной. Прощальный вечер. Молодой скульптор обнимает их. Невинные объятья. Все обнимаются в этот прощальный вечер. Стою в стороне. Не могу оторвать от них глаз. Такие молодые, такие счастливые. Ее руки. Ее тонкие пальцы. Не на моем плече. На его. Концерт подходит к концу, и они хотят поговорить о реставраторах, которых отобрали для работы в капелле. Нет. Только не сейчас. Не хочу говорить. Я сейчас не контролирую себя. Ну, вот. Вырвалось. Уже не остановить. Чуть не плачут. Боятся, что я их оставлю. Не понимают, откуда я так много о них знаю. Когда немного прихожу в себя, пытаюсь все исправить. Она как раз сидит одна. Красное шелковое платье. Струится по длинным ногам. Тонкий аромат сидит близко к коже. Роза и печенье. Вечер такой упоительный, вечер такой пьянящий. Говорю ей на ухо какие-то глупости. Чтобы она забыла все те глупости, что я произнес раньше. Говорю разными голосами. Шучу. Забудь. Забудь всё, что я сказал. Ты не должна этого знать. Ваш новый знакомый-скульптор смотрит в нашу сторону. Он ждет вас. Тебя. Выколол бы ему глаза. Гнев. Грех. Во мне сегодня кипит грех. В телефоне сообщение от #девочкиэтолюбовь: «Скучаю по тебе безумно». Ничего не отвечаю. Ночью в нимфеуме, где так любят сидеть двойняшки, предаюсь грязному соитию с одной из новообретенных знакомых. Прямо на земле возле фонтана. Имею ее до самого рассвета. И даже тайно желаю, чтобы ты это увидела. Хочу сделать тебе больно. Хочу. Ненавижу.
Глава 1.3. Лето
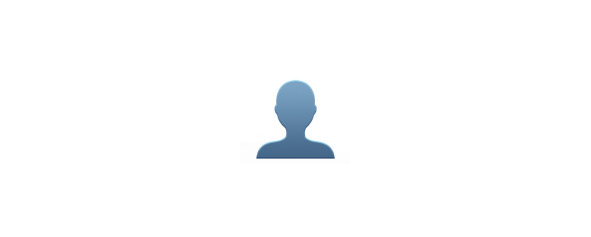
Mamihlapinatapai. Слово из яганского языка племени яганов, обитающих на Огненной Земле. Согласно книге рекордов Гиннесса является «наиболее ёмким словом» и считается одним из самых трудных для перевода. Означает «Взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого, что другой станет инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым». Я не понимаю, что я сделала не так. Что я делаю не так. Мое сознание расщепилось на две непропорциональные части: первая, занявшая 92% моей головы, функционировала по системе «всё включено» в отеле «Безответная любовь», где меня напичкали одурманивающими грибными таблетками в форме лайков. Мне было так плохо. Меня укачивало, словно мы постоянно катались на американских горках. Вверх и вниииз. На дно, самое дно. Я существовала от дозы до дозы. От ничтожного комментария до вшивого лайка. Это было ядовитое противоядие: быстро лечит, медленно убивает. Меня переполняла надежда, наивная вера, что кролик просто очень занят. Он, понимаете, просто очень ЗАНЯТ! Меня сводило это с ума. Раз за разом. Каждое утро. Каждый день. Каждый вечер. Каждую, мать твою, ночь. Я выела, как паразит, всё терпение и спокойствие из моей бедной сестры. И заодно из себя. Правда, всё же во мне оставались разумные 8%, на бесконечной мощи которых я жила и работала. Работала, но не создавала. Я больше не могла ничего создать из хаоса. Я сама стала хаосом. Космос закрыл мне доступ к своей вневременно-пространственной библиотеке данных и образов. Но я этого даже не заметила. Мне не хотелось ничего, кроме этого долбанного кролика. Я зафиксировалась на нем. Всё. Теперь мне никто кроме меня самой не сможет помочь. А я не успокоюсь, пока не получу его.
Я была уверена, что все решится на съезде: колесо сделает полный оборот. Где началось, там и закончится. Я думала, мы сможем там очиститься, понять, что происходит: кто мы Прелатуре, кто мы друг другу с кроликом. Я думала мы поедем с ним вместе на поезде, мама даже испекла ему фирменные домашние канноли с грушевыми цукатами. Как он и хотел, когда мы с ним переписывались. Покажем, какая я хорошая хозяйка. А он взял и исчез. Гаденыш. Ненавижу. А если бы я сама их готовила, в каком абсолютном бешенстве я была бы. Мы приехали на съезд в самом дурном расположении духа. Я носилась в мраморных галереях злой фурией. Для мужчин нельзя ничего делать, заботиться о них. Неблагодарные. 8% разума твердили никогда не забывать причиненных обид. 92% спокойно парировали, что нельзя быть такой злой и неблагодарной. Смотри, сколько он для вас сделал. Как глубоко завел в Вандерленд.
Я — плохой человек. Я это знаю. Я часто хочу отомстить тем, кто меня обидел. Я представляю себе акт мщения в мельчайших деталях и бесовская улыбка озаряет мое почти что детское лицо. Но потом я вспоминаю, что на самом деле я — хороший человек. И я это знаю. Я умею прощать. Без прощения нет покоя, а покой — идеальное прощение и полная противоположность страху. А последнее чего я хочу в этой жизни, так это бояться.
Чего он хочет от нас на этом съезде? Зачем мы там нужны? Мы предполагаем, что нас ждет финальное испытание. Но какое? И тут на третий день он неожиданно нам говорит, а вы уже отобрали ребят? Что? Что? А сказать раньше не дано было? Мы, конечно, подозревали, что будет нечто подобное, но почему нельзя было сказать по-человечески. Я придумываю план, как нам все чисто/быстро провернуть. Он удается. Всё хорошо. Мы справились. Но он всё время нас избегает. Я уже смирилась, что его никогда нет рядом. Он заставляет нас познакомиться с молодым скульптором. Я уже видела, как он с ним общается. Говорит, чтобы мы дружили с ним. Как хочешь. Парень оказывается интересным. Нам нравится проводить вместе время. С ним легко и просто. Не то, что с тобой. Смотри, мы с ним всё время рядом. Сидим, веселимся. Ходим, веселимся. Теперь мы друзья.
В ночь перед отъездом всё случается. Мы зовем тебя на небольшой разговор. Рассказываем об отобранных ребятах. Немного говорим о работе в Капелле. Ты говоришь, что мы молодцы и нам нужен куратор повыше. Мы чуть не плачем. Мы любим тебя. Не бросай нас. Ты будто сам не свой. И тут, непонятно почему, я говорю то, что перевернуло всё. Ты же понимаешь, что на самом деле то, что мы пишем, это не правда, мы так не думаем о тебе. И тебя прорвало. Я блефанула, и ты поддался. Ты сказал про отсутствие взаимности, про то, что знаешь, как мы тебя обзываем между собой. Твои глаза были полны сумасшествия. Я никогда не забуду твое лицо в ту ночь. Нельзя долго нести в себе тайну. Всё тайное рано или поздно прорывается наружу, как переполненный гнойник. Ты мгновенно понимаешь, что натворил, пытаешься сбить нас, переводя разговор в другое русло, но поздно. Мы всё поняли. Невероятно. Просто невероятно. И части пазла вдруг сразу встали на свои места.
Я так долго не могла понять, как у тебя каждый раз получается быть на несколько ходов впереди меня, раз за разом выигрывать партию за партией. Я думала, ты — гений. Или провидец. Или перст судьбы. А ты… А ты просто вовсю пользовался волшебным черным зеркалом, подаренным тебе Прелатурой. Ты читал все мои сообщения, знал всё, что мы про тебя пишем, ты поселился в наших головах, мы ничего не скрывали друг от друга, все наши мысли сразу же отправлялись друг другу в переписке. Ты следил за нами. За мной. Всё время. Какая грязь. Как ты мог? Я не верю. Ты не мог. Ты же хороший человек. Я знаю. Может быть мне это показалось? Нам бы надо идти на вечеринку для своих к скульптору, но мы просто не можем это переварить. Наворачиваем круг за кругом по территории. Начинаем сопоставлять факты. Сходится. Но мы всё еще до конца не верим. Чувствуем, что мы не должны позволить сну стереть эти мысли. Чувствуем, что должны запомнить эту ночь навсегда. Ночь, когда мы вкусили с древа познания.
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?
И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания. (Бытие, глава 3, 1—7)
Когда мы приходим к ребятам, мы понимаем, что мы целый год ходили голыми. И нас корежит. Сестра берет нам чай, чтобы немного привести мысли в порядок. Я жду ее. Мне плохо. Ты появляешься откуда-то из-за спины. Несешь какую-то чушь. Хочешь понять, поняла ли я. Поняла, но ты этого не узнаешь. Ненавижу. Как ты мог. Всё будет хорошо. Так ты говоришь и исчезаешь. Не сомневаюсь. Так и будет. Перед сном мы решаем пройтись еще. Несколько неспешных кругов среди старых дубов. На заре вижу, как ты выходишь из нимфеума с пустой бутылкой вина с нашей общей знакомой. Тоже пустой.
Так за одну ночь мы постарели на тысячи лет.
Глава 2.1. Осень
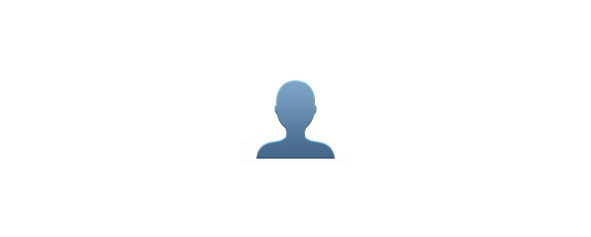
Осень началась в день, когда мы вернулись. Мы привезли ее с собой. Осень началась с того, что Он уволил «две головы». Гром среди ясного неба. Мы вернулись из Рая и привезли с собой Страшный суд.
Мы никогда не жаловались на них. Он всё решил сам. Пригласил на разговор. Сказал, что не хочет, чтобы мы присутствовали при этом. «Там наверняка будет много грязи». Да, как рассказывал потом Технический, грязи было много. Со всех сторон. Он жестко расстался и с «головами», и со Старшей, которая встала на их защиту. Вот он какой, оказывается, в гневе. Быстрый, беспощадный. Терпеть не может, когда с ним пререкаются. Но от нас сносит все шалости, все колкости. Так странно.
«Две головы» написали письмо Верховному. Жаловались на Него, на нас. Называли «разрушительницами», «пособницами», «дестабилизаторами» работы. Это было ошибкой. Верховный даже не стал ничего читать. Слишком много букв.
«Две головы» ушли, и вся работа разом свалилась на нас. Столько гнили. Прикрытой и неприкрытой. Столько несочетающихся между собой фрагментов. Столько ошибок и помарок. Капелла была монстром, чудовищем. Каждый ее сантиметр жил своей собственной жизнью. И всё это необходимо было как-то очистить, привести к гармонии и наделить главной функцией, главным смыслом — через красоту, страдание и сострадание вести душу человеческую к свету, вере и любви. Через искусство приближать к Богу,
Теперь, после того, как Он убрал «двухголовых», нельзя было продолжать работать так же, как это делали они — медленно, бесстрастно, вполсилы, проигрывая гнили больше, чем выигрывая у нее. В Прелатуре должны были увидеть, что он всё сделал правильно, что его решение было единственно верным, и мы сможем вытянуть проект реставрации капеллы, сделать всё быстро и в лучшем виде. Мы знали, что для него это очень важно. Это было важно и для нас. Вот он, наконец, шанс по-настоящему проявить себя. Показать, на что мы способны. Насколько мы способны, талантливы и необходимы им. Капелла, которая всегда казалась лишь залом ожидания перед чем-то большим и важным, вдруг заняла центральное место в нашей жизни. В моей жизни. В центре жизни моей сестры, в ее сердце, душе и разуме, по-прежнему находился он. Но сейчас он хотя бы был рядом. Ей больше не приходилось принимать его по капле. Он больше не скрывался и не молчал, увлеченный нашим общим делом, нашим общим проектом. Почти каждое утро начиналось с сообщений от него или ему. От этого было спокойно и хорошо.
Но в самой капелле было плохо. Из Прелатуры спустили мастера. Старого. Полуслепого. Он почти не разбирал, что делает. За ним приходилось приглядывать, помогать, исправлять. Разрываться между своим участком, его участком и Техническим с женой, которые покинули угол, куда были забиты «двумя головами», и стали постоянно обращаться с какими-то просьбами. Ой, здесь пошла трещина. Такой прекрасный фрагмент, надо сейчас же за него приступить, иначе мы его потеряем. А еще вот здесь. Ах, кто-то пробежал. В капелле завелись крысы, мало нам этой гнили! Ой, показалось. Вдох-выдох. Спокойствие. Искусство — это путь страдания.
Погрязшие в технических моментах, мы никак не могли вплотную заняться концепцией, планом росписей, проектом. Тем, что важнее всего. Без чего невозможно было приглашать к работе молодых реставраторов, которых мы отобрали летом. Этот бесконечный, ни к чему не ведущий труд выводил из равновесия. Я чувствовала себя ремесленником. Хуже — рабочим фабрики, у которого нет права на творчество, а нужно лишь успевать в срок производить набор стандартных действий. Помочь Кроту, уважить просьбы Технического и его жены, ответить что-то кролику в общем чате. Кролик телеграфирует: на правой стене надо как-то обыграть такую деталь. Тчк. А на потолке добавить это. Подумайте, как лучше сделать. Тчк. А ещё вот важный момент… И всё это без конца и края. Кролика слишком много. Капеллы слишком много. Заберите меня назад, в то лето, когда ещё ничего этого не было.
Просим Его дать нам помощника, который бы взял на себя все эти механические обязанности и освободил нас для того, что мы умеем делать лучше всего — создавать. Образы из пустоты. Облекать смыслы в форму. Сохранять миг для вечности. Высекать, обнажать, отражать самую суть. Прелатура ценит малые дела превыше всего? Тогда наше малое дело в масштабах такого огромного мира — в два раза лучше остальных видеть, как должно быть.
Просим взять помощником нашу знакомую. У нее сейчас трудности с деньгами. Стабильность ей не помешает. А еще мы раньше работали вместе, мы ее знаем и легко найдем общий язык. Он соглашается. Как хотите. Как вам будет удобно. Мы очень рады. Мы рады и благодарны. И всё было бы так хорошо, если бы он опять всё не испортил. Короткое замыкание. Для порядка распределяет условные должности в капелле и суммы оплаты труда. Место находится для всех, кроме меня. Сестра вступается. Пишет ему, что так нельзя. «Это, конечно, очень нехорошо, но я думал, что вторая идет в комплекте», — пишет он. Сестра скидывает мне их переписку в секретном чате. Читаю и не могу поверить своим глазам. Комплект. Довесок. Подарок за покупку. Вот, оказывается, кто я. Бесплатное приложение. От несправедливости щиплет в глазах, теснит грудь. Столько сил и души я изо дня в день вкладываю в эту проклятую капеллу, но это, оказывается, ничего не значит. Меня просто нет. Мало того, что он впитался в нашу жизнь, так он еще и вытравил из неё меня. Я — лишь тень своей сестры. Опция. Которую можно включать и отключать, когда вздумается.
Не хочу говорить с ним. Я — лишняя? Пожалуйста. Выдержу. Как пожелаете. Просто тошно от заблуждений на его счет. Мне казалось, что он наш человек. А наш человек никогда бы так не поступил.
Просит извинений. Не думаю, что они ему на самом деле нужны. Это так, формальность. На планете «Белый Кролик» всё должно быть схвачено. Никаких обид. Старается всё исправить. Хорошо, мир. Прощаю. Но не забываю. Где-то в области сердца остается грубый рубец.
Но всё равно, когда в один осенний день он собирает всех у себя в кабинете и объявляет о том, что его переводят, повышение, и он больше не будет курировать капеллу, у меня всё холодеет внутри. Как же так? Белый кролик бросает нас? Он привел нас в Вандерленд и оставил здесь? Но как же мы будем без него? Мы же так к нему привыкли.
Представляет нас Верховному. Говорит, что теперь тот будет присматривать за нами. «Передать вас куратору повыше»… Сидим на берегу Тибра. Вода зеленая, как зелье. Хочется плакать. Какие же мы дуры. Как глупо привязались к человеку, который сам себе не принадлежит.
Бедная моя сестра. Она так хотела быть с ним вместе, но так и не успела. Пытаюсь ее утешить. Глупенькая, наоборот, для вас всё только начинается. Он же теперь свободен. Если он теперь не наш куратор, то, значит, он может быть с тобой. Наконец, вы можете быть вместе.
Как только он уходит, в капелле начинается настоящий ад. Хотя он и оставил за главную мою сестру, Технический и его жена почувствовали вкус власти. Мы успели разработать концепцию и составить сюжетный план, но он категорически их не устраивает. Они хотят чего-то другого, но никак не могут объяснить, чего именно. Наши ребята-реставраторы их раздражают. Но мы раздражаем их еще больше. Они переманили на свою сторону нашу помощницу. Крот тоже на их стороне. Наш кролик бросил нас, и мы остались одни. Один на один с гнилью. Гнилью, которая выступает на стенах и в человеческих душах.
Глава 2.2. Осень
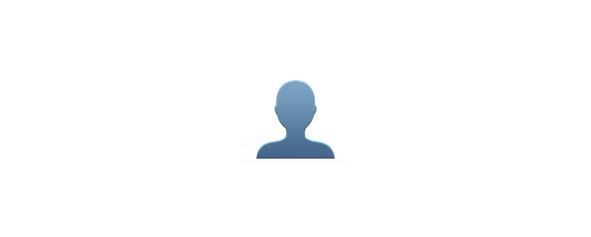
Мне было хорошо. Он был рядом. Недолго, но был. Злость и обиду смыли несколько циклов сновидений. Я простила ему его грех. Я даже полюбила его грех. В мире подмененных основ и понятий такая извращенная тяга друг другу мне казалась правильной. Я пишу, ты читаешь. Ты читаешь. И я пишу. Но уже отфильтрованные чувства и мысли. Чтобы показаться лучше, чище, достойнее. Чтобы ты любил меня. И всегда читал. Потому что кроме этого долбанного знания, что ты следишь за мной, мне не за что цепляться.
Мы с сестрой завели секретный чат в другом мессенджере, защищенном: тайнами нам всё же было необходимо делиться, как воздух. Мы должны быть с ней все время на связи. 24/7/365. Она — часть меня, которая всегда должна быть рядом. Без нее мне физически плохо. Как без тебя. Но без нее, всё же, разумеется, сильнее. Мы стали аккуратнее. Внимательнее. Долго выбирали место для виртуального общения. Выбрали Telegram. Переписка в его секретных чатах не остается на серверах, после доставки автоматически удаляется, используется оконечное шифрование сообщений. «Расшифровать чужую переписку не в состоянии даже сами разработчики». Нам подходит. Идеально.
Поскольку, милый кролик, ты редко, но метко бываешь небрежен, я нашла её. По оставленной тобой крупице на блюдечке после безумного чаепития я нечаянно обнаружила #девочкиэтолюбовь. А вслед за ней и все ваше лето, где ты веселился с ней, а я страдала без тебя, раскармливая твоего фантома в своей голове. Я. Страдала. Пока ты веселился. Ярость, гнев, ненависть и ревность накрыли меня черным саваном и всё невинное и доброе умерло во мне на одну ночь. Всего на одну. Но какая это была ночь.
Я тут же доложила о своей находке сестре. Она уже видела #девочкиэтолюбовь, но и подумать не могла, что ты с ней. Она с тобой. Какая нелепость. В секретном чате полетели наши гадкие секретики. Мне хотелось, чтобы ты от нее избавился. Ты мне никогда не принадлежал, никогда не говорил слов любви, но я считала тебя своим. Только мой. Ты никому не смеешь принадлежать, кроме меня. Сестра говорила, что она — просто тренажер для члена. Ты же молодой мужчина. Тебе надо в кого-то. Сублимировать. Ты фотографировал ее, нарядив в красное платье, ты пил с ней вино, хотя нам не разрешал. Ты трахался с этой (здесь должно быть очень грязное слово), пока я думала, что ты страдаешь по мне в одиночестве, загруженный Прелатурой. Не понимаю. Не понимаю, как она могла так быстро отдаться. Вроде приличная. С виду. В первые же выходные. Сразу же. Ты сбежал от меня. И к ней. С разбегу. Я поздравила тебя с твоим тайным днем рождения, а ты в это время праздновал с ней. Ненавижу вас обоих. Но больше всё же ее. Потому что тебя я долго ненавидеть не могу.
Ты подарил ей букет белых роз. Она сразу выложила это. В ее глазах отражались свадебные колокола. А в моих — похоронные. Это конец. Я поняла сразу. И перестала за ней следить. Мне было мерзко. От себя. От того, что подглядываю. Я пыталась оправдать себя тем, что ты тоже подглядываешь, и читаешь личное, но меня это не успокаивало. Периодически я отказывалась верить, что нас взломали и читают. Я стала думать, что мне всё показалось. Одним вечером сестра, которая в отличие от меня всегда была на посту, сказала, что, судя по всему, вы расстались. Судя по фотографиям. И тот букет действительно ознаменовал конец. Ваших отношений. Мы припомнили, как ты смеялся, говоря, что никогда не даришь женщинам цветы. И теперь вот. Подарил. Символично. Мы до конца не понимали тебя. На следующий день после вашего официального разрыва ты был необъяснимо весел. Тебе было хорошо. И всё стало хорошо. Я стала сиреной. Тебя это свело с ума. Вновь. Мы работали вместе, переписывались. Нам всем было хорошо. Ты был искренним. Ты был близким. Ты был нашим. Ты жил в моих сетях. Ты был.
А потом на одном собрании ты внезапно сказал, что тебя переводят в другое место. Там тебе будет лучше. И познакомил с Верховным. Теперь мы с ним. А он с нами. Говоришь, что так надо. Говоришь, что превратишься в гниль на новом месте. И уходишь. Ты ушел.
My baby shot me down.
Bang bang.
Нельзя потерять то, что тебе не принадлежит. Но я потеряла. Надо развеяться. Мы отправились на слет молодых художников в Падую, чтобы что-то найти. Ты жил в моей голове, и я не замечала никого вокруг. Я была злой и мерзкой. Очень мерзкой. Я не хотела мириться с миром. Домой мы вернулись, оживленные чужим талантом, накормленные поощряющим одобрением нашего триптиха, и уверенные в своих силах. С кучей новых знакомых. Умиротворенные. И тут ты вновь появляешься. И рушишь ту хрупкую гармонию, которую мы сумели воссоздать за то время, что ты нас оставил. Ты хочешь нас забрать к себе. Мы согласны. Согласны. Мы будем ждать. Ждать, сколько потребуется.
Ждать.
Ждать.
Ждать.
Пока я жду, я слегка развлекаюсь моим новым поклонником. Ведь если ты имеешь право, то я и подавно. Мне он немного напоминает тебя, твою зеркальную версию. Мне доставляет особое наслаждение издеваться над ним, ровно тем же методом, что ты издевался надо мной. Это кайф. Садизм чистой воды. Мне первые за долгое время невероятно комфортно.
Садизм.
Мазохизм.
Эксгибиционизм.
Вуайеризм.
Посмотри, что со мной стало.
Посмотри, кем я стала.
Я стала твоей копией.
Я говорю, как ты, пишу, как ты, делаю, как ты. Я вобрала в себя твой образ, как губка.
И теперь я полна гнили. Она сочится из моих пор. Я истекаю ей, травя близких мне людей.
Слияние и поглощение.
Теперь я ничто.
Ноль.
Бедная моя сестра.
Глава 2.3. Осень
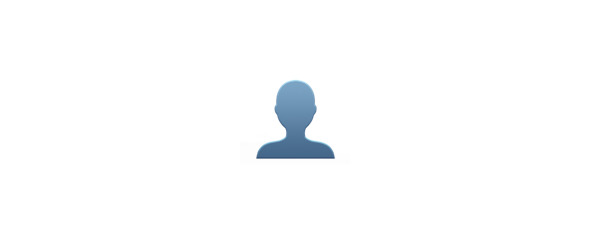
Меня переводят. Меня передергивает. Это повышение. Я давно его ждал. Я это заслужил. Я хотел именно этого. Но действительно ли именно этого я хотел? Да. Нет. Не знаю. Запутался. Хочу забрать их, её с собой. Чтобы они всегда были рядом. Чтобы я всегда мог за ними приглядывать. Они выручили меня, когда двухголовые были мною уволены. Капелла чуть не развалилась. Всё чуть не развалилось из-за этого. Что за проклятое место? Они подстраховали. Мы — команда. Я не могу их просто так там оставить. Вызываю к себе. Спрашиваю. Не хотели ли бы вы? Страх легонько щекотнул живот пером изнутри. А вдруг не захотят? Захотели. Слава Богу. Теперь осталось только поговорить с Верховным. Он должен все понять и без препятствий их отпустить. Встречаемся у него. В Прелатуре. Шутим, смеемся, пьем матэ. Мы с ним в хороших отношениях: всему, чему я научился, обязан ему. Я доверяю ему, как себе. Переходим к сути. Говорю, что хотел бы их забрать. Он понимающе кивает. А затем качает головой.
Я обрываю с ними все связи. Если я не могу их забрать, значит, всё кончено. Всё конечно. И это пройдёт. גם זה יעבור. Gam zeh ya’avor.
Главное не смотреть. С глаз долой — из сердца вон. Не могу. Не хочу. Хочу еще раз. Одно мгновение.
Наблюдаю.
Технический совсем спятил. Я говорю об этом Верховному. Сами мои двойняшки не пожалуются. Слишком гордые. Я их знаю. Изучил. Срисовал. Завели секретный чат в Telegram. Чтобы спрятаться от меня. Никогда не понимал этих секретных чатов. Big Brother is watching you. Старший брат следит за сестрами. Читаетесь. Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Я оберегаю их. Я всё равно слежу. Ты хочешь узнать, когда я вас заберу к себе. Пишешь «наш любимый бывший куратор». Смеюсь. Мне смешно и тошно. Ты нашла #девочкиэтолюбовь уже тогда, когда всё закончилось, я нашел #ку тогда, когда у вас всё только начиналось. И от этого в сто раз больнее. В сто раз острее. В сто раз тупее. Я отупел от ярости. Ты манящий соблазн. Сирена. Я вижу, что он тебе пишет. Вижу, что он тебя хочет. Вижу, как его разрывает на части: ты — наваждение, и его подруга — стабильный комфорт. Да как он смеет прикасаться к тебе своими нечестивыми, несвободными руками. Даже, как друг. У тебя нет друзей. Ты, как я. У нас есть сестра. И наша семья. Мы тождественны. Никаких друзей. Чокер. Портупея. Порок. Что стало с моим золотым ангелом? Ты теперь суккуб. Толпы мужчин стоят легионами у твоих ног. Жаждут лишь одного кивка. Дозволения. Ты смеешься над ними. Кутаешь поглубже заиндевевшее сердце. Тебе нравится, что ты нравишься. Что ты можешь это сделать в любой момент, когда пожелаешь. Я взломал тебя там, где они пасутся стадами, пока ты пошла охотиться в свете луны в своем бесконечном вечернем парке. Зеркало, покажи мне Бэлль. Я взломал тебя, Бэлль. И буду делать это раз за разом. Потому что я должен знать, что ты в безопасности. Хотя и не со мной. Потому что моя забота всегда имеет место быть. Потому что забота — это проявление любви.
Глава 3.1. Зима
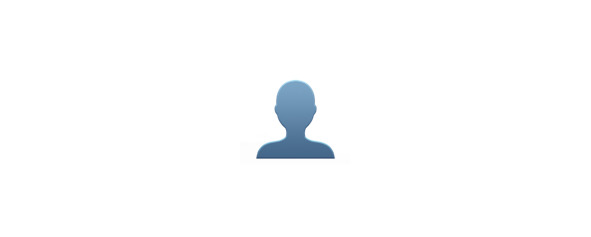
В конце осени он перестал с нами общаться. Замолчал. Исчез. Уходя — уходи. После того, как он практически подошел к нам вплотную, начал делиться фотографиями, показывать мир своими глазами, эта пустота была зияющей и невосполнимой. Месяц молчания. Он хотел забрать нас к себе. Но молчит. Он передумал? Мы ему больше не нужны? Через секретаря передаем ему подарки из очередной нашей поездки. Неугомонные. Вечно куда-то уезжаем. Мы знаем, что он их получил. Но он молчит. Тишина. Вместо того, чтобы написать нам «спасибо» он комментирует фотографию скульптора, с которым мы познакомились на съезде. Мы знаем, зачем и почему он это делает. Его лайк — поощрение. Комментарий — высшая награда. Сейчас с этим молодым скульптором он делает совместный проект, и сейчас он — его лучший друг. Лайк, коммент, лайк. Когда всё закончится, он тихо сольется. Он сам нас этому учил. А мы очень способные ученицы.
Перестаем переписываться о нем в мессенджере. Сводим всё электронное общение к минимуму. Он же всё видит, знает. Заглядывает в свое черное зеркало и успокаивается. Мы есть, с нами всё хорошо, можно молчать дальше. А мы не хотим, чтобы он успокаивался. Он должен скучать по нам. Если мы не ошиблись, и белый кролик действительно привязался к своим Алисам, то ему должно физически нас не доставать.
Замечаем, что он всё реже и реже выходит в Facebook. Последние действия 4 часа назад. Последние действия 9 часов назад. 13 часов назад. 1 день назад. 2 дня назад. Теперь он заходит в Facebook один раз в двое суток. Забегает ненадолго, на пару минут, и снова прячется. Кролик снова исчезает в шляпе фокусника. Но мы знаем, что это значит. Это наша маленькая победа. Чем меньше действий — тем больше действий. Чем меньше следов — тем больше следов. Это значит, милый кролик, что ты до нас и не жил. Тебя не было. Что единственное, ради чего ты вообще выходил в Сеть — это мы. Только с нами ты и переписывался. Только наших ответов ты ждал. Только статусы моей сестры и разглядывал.
Чем меньше слов — тем больше слов. Всё, что вы скажете, будет использовано ради вас. Иногда Технический и его жена так достают, что мы обсуждаем их. Чтобы успокоиться, необходимо выговориться. Равновесие достигается лишь когда лишний груз сброшен. Слово сказанное — слово отпущенное. Но когда повсюду черные зеркала, слово множится и отражается, преломляется и отскакивает. Слово уже не только твое, не только наше, оно и его тоже.
Они ненавидят нас. С каждым днем все сильнее и сильнее. Жена Технического обвиняет нас в том, что мы постоянно жалуемся на них Верховному. Верховный устраивает им разбор полетов, велит перестать нам мешать. А мы ведь и слова ему не говорили. Мы виделись с ним всего пару раз. Когда он сам вызывал нас в Прелатуру. Готовил кофе. Угощал матэ. Рассказывал немного о себе, своем детстве, своих путешествиях. Да, наш белый кролик многому у него научился, многое перенял. Задружились с Верховным в Facebook. У него там очень забавное имя. Никогда не догадаешься, что он работает в Прелатуре. Постоянно делает перепосты с какими-то кулинарными рецептами. Изредка что-то комментирует своим знакомым. В жизни он очень спокойный, рассудительный. «Без резких движений». В Сети — совсем другой. Хлесткий, язвительный, на пять обычных слов — одно бранное. Но с нами он ведет себя чинно и дружелюбно, как подобает его чинсану.
Нас по капле, по минуте, по слову вытравляют из капеллы. Да, в ней действительно завелись крысы, только они не маленькие и пушистые. Они большие, с человеческий рост. Крысы — это люди. Технический и его жена — это крысы. Крот — крыса. Наша помощница, которую мы взяли — крыса. Ее укус самый болезненный. Наш человек, мы ей доверяли. Но она заразилась их ненавистью и переметнулась к ним. Потихоньку они переманивают наших лучших ребят, дают им задания за нашей спиной, а всех остальных вытравливают, выживают из капеллы. Сестра нашла в интернете слово, которое идеально им подходит. Газлайтеры. Они просто сводят нас с ума. Технический передает, что Верховный ждет от нас отчет к Рождеству. От нас? Да, от вас. Что именно вы, двойняшки, успели сделать в капелле.
Работы — непочатый край. Надо успеть. Надо во что бы то ни стало успеть убрать гниль и наполнить капеллу образами. Успеть, несмотря на ненависть, зависть и гнев. Закрыть на всё это глаза и писать. Исступленно писать. Выводить линии и гниль. Вытравлять гниль со стен, потолка, из самых темных углов, из закоулков своей собственной души. Днями и ночами работаем в капелле. Забываемся. Забываем. Скоро всё будет кончено. Скоро мы закончим свою работу в капелле, и что дальше?
Пишем нашему белому кролику в общем чате. Скоро мы будем свободны. Если ты ещё не передумал брать нас к себе, то мы готовы к тебе уйти. Но кролик не готов. Кролик изменился. Он больше не общается с нами, как раньше. Не читает наши сообщения сутками, затем коротко отвечает. Кролик обиделся на нас. Оскорбился, что мы выдержали месяц без него, и теперь мстит. Теперь его любимый ответ на всё — это короткое «Мдя». Мдя. Мдя. Мдя. Словно его подменили.
Сама не замечаю, как втягиваюсь в игру сестры. Смотрю, как давно его не было онлайн. Кому он что лайкнул, что прокомментировал. А что выложила его бывшая, и ещё одна бывшая, и ещё. Почему кролик так изменился? Кролик нас бросил? Что же он делает?
Работаем в каком-то чаду и аду. Только бы успеть. Гниль. Крысы. Крысы. Гниль. Пигмент на пальцах. Сестра старательно выводит лицо Адама. Крысы обступают и кусают. Мечутся и путаются под ногами. Их писк разносится по всей капелле. Делают всё, чтобы мы не успели закончить. Но мы успеваем. Верховный приходит в капеллу. Рассматривает росписи. Ему нравится. Ему очень нравится.
Так странно видеть работу законченной. Внутри — сладкая опустошенность. Больше не будет крыс. Больше не будет гнили. Мы скрыли ее. Убрали. Гнили больше нет. А вместо нее — Рай и Ад. А между ними — мы, люди. Молимся и просим о смирении. Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я изменить могу, и дай мне мудрость отличить одно от другого. Господи, дай мне спокойствие принять то, что я не могу изменить… Господи, дай мне спокойствие.
Хотим войти в Рождество чистыми, новыми и лишенными всяческих иллюзий. Новорожденными. Для этого просто необходимо его увидеть. Взглянуть ему в глаза и понять, что нашего кролика больше нет. Что наш совместный путь завершен. Мы пока не до конца понимаем, что это было и зачем, но когда-нибудь обязательно поймем. Мы сообразительные. Мы как-нибудь справимся.
Приходим к нему. Приносим небольшой подарок. Мы выбирали его с любовью. Сколько уже времени прошло, а мы всё еще хотим сделать ему приятно. Он очень рад нам. Глаза не могу этого скрыть. Глаза никогда не врут. Совсем не изменился. Всё такой же. Просто кролика повысили и ему надо больше работать. Суетится. Готовит нам кофе. Чай. А вот еще орешки. А вот еще календарь. Возьмите. Я тоже хочу вам что-нибудь подарить. Смотрит на мою сестру ранимыми и влюбленными глазами. Как дети. Просто, как дети. Провожает нас. Желаем ему счастливого Рождества. Хорошо справить! Обнимает нас на прощание. Целует сестру в щеку. Смотрит на нее и вдруг говорит. «Жалко, что мы будем не вместе». Жалко. Что. Не. Вместе. И как всегда скрывается за поворотом.
Глава 3.2. Зима
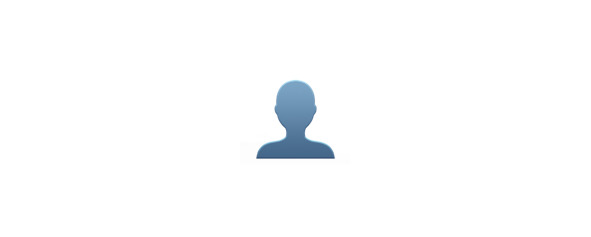
Гниение. Процесс разложения органических соединений, в результате их ферментативного гидролиза под действием микроорганизмов с образованием токсичных для человека конечных продуктов. Наиболее существенно на интенсивность процесса влияют температура и влажность. Температура и влажность. Я живу в аду. В моем аду созданы идеальные условия для гниения. В моем аду нестерпимо жарко и влажно. Жарко и влажно. Я гнию. Эй, кролик, ты там еще не сгнил? Пишут Алисы. Спрашивают Алисы. Шутят Алисы. Не дождетесь. Точнее дождетесь, но не сегодня. Вы все у меня дождетесь. Мне бы хоть на день, хоть на один день поменяться с вами местами. Вы еще не перешли черту. Вас еще можно спасти. А меня уже нет. Я уже не могу вернуться. Я уже по ту сторону зеркала. В черном зазеркалье. Вы видите меня, вам кажется, что я совсем рядом, до меня можно дотронуться, но это лишь иллюзия. Я уже не здесь. Не с вами. Я — уже не я.
Любовь — это доверие. Вера и доверие. А я уже не умею доверять, не умею верить, не умею любить. Единственное, что я еще умею — это заботиться. Только моя забота имеет место быть. И больше ничего. Эта болезнь не лечится. Простите, мои милые девочки, я очень болен. Смертельно болен. Ремиссии не будет. Я умру раньше, чем вы. И вы об этом не узнаете. Потому что я просто тень. Пустота. Ноль. Ничто. Когда вы забудете меня, я исчезну. Я просто перестану быть. А пока, пока вы всё еще помните и думаете обо мне, я есть. Всё еще гнию. Делаю мир лучше. Или хуже. А разве, по сути, это не одно и тоже?
В моем новом кабинете есть кладовая. Темная комната. Тайная комната. Я часто отлучаюсь в нее, пока никто не видит, пока никто не трогает. В своей маленькой темной комнате я смотрю и вижу, слушаю и слышу. Когда я в ней, я с вами. Я рядом. Вы мучаетесь в безвестности и тишине. Собираете меня по крупицам, по крошкам. А в моей темной комнате всегда всего в достатке. Вы голодаете, а я пирую. Пью звук ваших голосов, ваш смех, разрезаю на части вашу обиду и ярость, принимаю по капле тоску. Я знаю всё, о чём вы думаете, всё, чего вы хотите. Я знаю, что я всё знаю. Но я не могу вам это дать. Не могу. У меня этого нет. Не в моей власти взять вас к себе. Но так даже лучше. Вам будет лучше с Верховным. Он позаботится о вас. А меня уже не спасти.
Вы приходите ко мне под Рождество. Рад безумно. Рад страшно. И сам боюсь своей радости. Ты сидишь передо мной из плоти и крови. Живая, настоящая. Красивая, что больно смотреть. Я, наверное, выгляжу очень глупо. Несу какую-то чушь. Чувствую, что живу. Впервые за последние месяцы я чувствую, что живу. А может мне всё это лишь показалось? Что я гнию? Всё это лишь приснилось? Всего лишь кошмар? Наваждение? Как жалко, что мы не вместе встретим Рождество. Произнес это вслух. Дурак. Что я наделал? Опять дал надежду. Алисы вновь ухватятся за нее. Мои упорные Алисы. Мои настойчивые Алисы. Сбегаю от них, скрываюсь, пока не наговорил чего-нибудь еще. Я не контролирую себя. Когда ты рядом, я просто не контролирую себя.
Дурак. Fool of love. Вы пишете мне в праздники. Приглашаете поехать вместе за город. Опять нашли какое-то веселое и шумное место. Затейницы. Отвечаю, что не могу. Это всё профанация. Дома лучше. Вы пишете. Ты пишешь мне. Бэлль надоело ждать, когда Чудовище станет прекрасным принцем. Твое терпение на исходе. Ты хочешь знать, либо да, либо нет. Ты имеешь право знать. Но я — трус. Ничтожество. Я хочу, чтобы ты еще немного, еще чуть-чуть любила меня, думала обо мне, жила мной. Только этим я и живу. Ты назначаешь встречу. Я ищу предлоги, чтобы не встречаться. Ты говоришь, что принесешь мне шахматы и мы будем в них играть по средам в обеденный перерыв. Я очень люблю шахматы. Я очень люблю играть. Я очень хочу играть с тобой, смотреть на тебя, быть с тобой. Но нет. Этого никогда не будет. Я уже подыскал тебе замену. Симпсоны. Вино. Ключи от квартиры. Озеро Альбано. Всё по стандартному сценарию. Я знаю его наизусть. Не отступаю ни на шаг. #alb #какаякрасота #mydreamscometrue. Лайк. Лайк. Лайк. Тебя я больше не лайкаю. Смотрю, но не трогаю. Ты расстраиваешься, не понимаешь, почему. Вру тебе, что не могу увидеться. Вру себе, что не хочу. Кругом вру. Я погряз во лжи и гнили. Этот процесс уже не остановить. Метастазы гнили выедают из меня остатки человеческого. Где раньше были легкие — труха. Почки — труха. Сердце — труха. Ремиссии не будет. Черное зеркало, покажи мне Бэлль. Дай послушать ее голос. Нет, я не могу. Хотел бы, но не могу. Работа. Так много работы. Пиноккио. Твоя сестра верно называла меня. Мой лживый нос выбивает стекло в кабинете. Нет, мы не можем увидеться с тобой, я уже никуда не могу его спрятать. Ты сразу поймешь, что со мной что-то не так.
Приглашаешь меня в кино. Не могу, я заболел. Почти правда. Почти не соврал. Я уже очень давно заболел. И очень заразен. Меня уже не спасти. Зеркало, покажи мне Бэлль. Я должен знать, что она делает, должен знать, как она страдает. Не может быть. Не может быть. Бэлль больше не страдает. Встретилась с #ку. Выложила в Facebook розовое калифорнийское. Весь вечер, всю ночь жду, когда она выйдет в Сеть. Но ее нет. Нахожу ее только днем. Моя Бэлль. Моя чистая девочка предала меня. Моя чистая девочка стала грязной. Я испортил ее. Погубил. Падаю в белый снег. Кончаю в #mydreamscometrue. Так лучше. Так намного лучше.
В следующий раз, когда она пишет, не могу сдержать злобу. Не могу сдержать ревность и гнев. Пишу жестокие, гадкие вещи. Грязные слова. Я просто хочу сделать ей больно, чтобы ей было так же больно, как и мне. Просыпаюсь утром, но ночное помешательство не проходит. Сон не смыл его. Кажется, это конец. Метастазы гнили добрались до самого мозга. Меня уже не спасти. Бэлль, бедная моя, хорошая Бэлль, последний лепесток упал. Ты уже не спасешь Чудовище, потому что чудовище не хочет, чтобы его спасли. Бэлль, последний лепесток упал. Чудовище навсегда останется чудовищем.
Пишу ей, что надо всё прекратить. Моей девушке написали с непонятного аккаунта и сказали обратить внимание на нашу с тобой переписку. У меня нет к тебе никаких претензий. Просто знай, что так бывает. Даже не хочу разбираться во всём этом. Будь, что будет. Просто прошу понять меня и оставить. Ставлю точку и зачем-то приписываю в конце «Ненадолго». Отправляю. Сижу в своей темной комнате и жду твоей реакции. Спектакль закончился и вы только что вышли из театра. Я это знаю, потому что я вижу и слышу всё. Big brother is watching you. Да, всё так, как я и думал. Ты получила сообщение. Читаешь его. Сквозь черное зеркало смотрю на тебя. На твое прекрасное лицо, на глаза, в которых застыл ужас. Мир разрушен. Твое сердце разбито. Не можешь поверить. Читаешь мое короткое послание вслух, сестре. Она не понимает. Не понимает, как такое может быть. Не верит. Нервный смех. Последнее, что я слышу. Две чистые капли, застывшее в твоих лазурных глазах — последнее, что я вижу. Зеркало, покажи мне Бэлль. Зеркало, покажи мне Бэлль! Зеркало, покажи мне Бэлль. Но в ответ — лишь тишина и темнота. Алисы поняли. Алисы всё поняли. Go ask Alice, I think she’ll know.
Глава 3.3. Зима
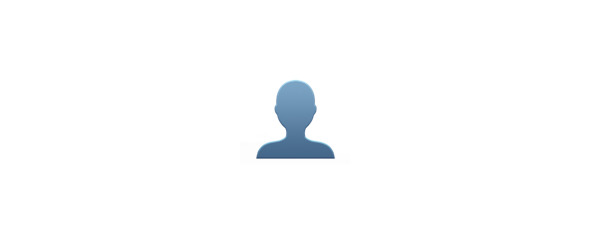
Я решила. Дожать. Выжать. Выкурить тебя из норы. Благовония. Красные свечи. Фэн шуй. Угол любви. Юго-Запад. Уточки-мандаринки. Кристаллы. Мантры. Кофе. Кофе. Кофе. Выпей со мной это чертово пойло, кролик. Раньше же работало. Почему сейчас не сработает. Силы земли и огня. Масляные краски. Языческие идолы. Ip. Ip. Ip. Мы зарегистрировали подозрительный трафик, исходящий из вашей сети. С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот. Почему это могло произойти?
IP-адрес: 195.26.55.1214
Время: 2017—01—10T18:32:05Z
Я не робот. reCAPTCHA.
Выберите все участки изображения, где есть транспортные средства.
Если их нет, нажмите «Пропустить». Отправить.
Я не робот. reCAPTCHA.
Выберите все изображения, где есть горы. Отправить.
Я нахожусь не там. Динамическое ip. Все следы тянутся к тебе. Все дороги ведут в Рим.
Не могу.
Много дел.
Работа (
Не могу.
Много дел.
Работа.
Не поеду.
Дома лучше.
Профанация.
Ты даже не поздравил меня с днем рождения, когда я тебя приглашала на праздник. Молодец.
В сети я повсюду вижу твое незримое присутствие. Я там, где меня не может быть, но где есть ты.
Моя реклама — это твоя реклама. Я не заказываю звуковые платы, стоящие, как мой годовой заработок.
Я не смотрю мужскую обувь ручной работы от лучших римских обувщиков.
Я не поеду с туром на Ближний Восток.
Меня не интересует, какой подарок подарить Папе на день рождения.
Я не куплю квартиру с видом на Piazza del Quirinale.
И Jaguar или Jeep, кстати, тоже. Я не умею водить. Я не люблю машины.
И да. Мой Ip — в Municipio VIII, а не в — I.
Ты не хочешь видеться со мной, не имеешь на меня никаких прав, но делаешь все, чтобы гнилая надежда жила во мне.
Ночь перед полнолунием. Последний раз приглашаю тебя. Ты отказываешься. Конечно. Много дел. Вместо тебя встречаюсь с #ку. А еще позже вечером распиваю розовое калифорнийское с кем-то, кого ты не видишь.
В воскресенье ты воскрес из небытия. Отравленный сумасшествием. Спрашиваешь, не было ли у нас с сестрой общего парня для утех. Тема threesome тебя не отпускает, кролик? А утром, когда я говорю, что чище меня нет, ты в бешенстве взрываешься и обливаешь меня гнилью. Вечер с сестрой мы проведем в театре. Ты точно знаешь, во сколько закончится спектакль. И как только он заканчивается, пишешь мне, чтобы я оставила тебя. На недолгое время. Кто-то сказал твоей девушке обратить внимание на нас с тобой. Дежавю. Перечитываю несколько раз. Показываю сестре. Я видела это когда-то. Во снах. Я же ведьма. Ведаю информацией. Ты говоришь ровно моими осенними словами. Я нигде это не писала. Я это говорила. Ты меня подслушивал. Не просто читал. Подслушивал через прямоугольное яблоко. Слушал мое дыхание, пока я спала. Ты спал рядом со мной. Ты смотрел на меня всевидящим оком. В ванной. На улице. В туалете. Даже, мать твою, в туалете.
Твоей девушке?
Нас с тобой?
Нет, никаких нас с тобой.
Есть ты, кролик. Я. И наша гниль. И пора от нее, наконец, избавиться.
Последнее, что ты видишь и слышишь это то, как я говорю сестре: «Он что обкурился?».
Теперь ты оглох и ослеп.
Живи с этим.
Если сможешь.
Глава 4. Весна
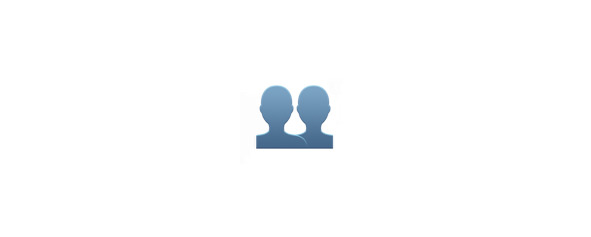
Великая суббота. Пасха.
Верховный забрал нас к себе, и скоро наш первый день работы в Прелатуре. Путь к святости в повседневности. Ценность малых дел. Теперь мы понимаем. Малые дела — это всё, что есть у нас в этом огромном мире. Это то, что мы действительно способны изменить.
Свечи в руках сладко пахнут воском. Христос Воскрес. Воистину воскрес. Аллилуйя. Хотите ли вы принять крещение? Да, мы хотим. Теперь мы готовы. Запрещение и изгнание. Очищение от первородного греха. Верую в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли. И в Иисуса Христа, Единственного Его Сына, Господа нашего, Который был зачат Святым Духом, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь. Прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную. Аминь. Vitaem æternam. Amen.
Чистая белая рубашка приятна к телу. В капелле, в той самой капелле, где мы провели год, сладко пахнет воском и ладаном. Кролик, мы запечатлели всех нас, историю нашего грехопадения в мельчайших деталях для самих себя и вечности. Грехопадения и спасения.
Пасха.
Христос Воскрес.
Воистину воскрес.
Теперь мы бессмертны.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.