
Бесплатный фрагмент - Художественный транс: природа, культура, техника
От автора
Художественный транс — это что еще такое? «Техника художественного транса» — это о чем? Что-то еще новенькое об измененных состояниях сознания (ИСС)? Или все же об искусстве?
В первую очередь и главным образом, об искусстве.
Тема измененных состояний сознания в последние три десятилетия набирала популярность и стала модной. Было выпущено множество книг, где этот предмет рассматривался с разных позиций, под разными углами зрения и в разных контекстах. Многие разновидности ИСС и разнообразные способы их достижения стали достоянием широкой публики. На фоне этого впечатляющего многообразия феномен художественного транса выглядит более чем скромно. Как Золушка до ее встречи с феей. Правда, во многих текстах, посвященных данной проблеме, в числе факторов, способствующих достижению ИСС, упоминается также и искусство, в первую очередь, музыка. Но по непосредственной силе воздействия, по яркости производимого эффекта «художественный фактор» уступает и гипнотическому внушению, и различного рода медитативным техникам, и холотропному дыханию и психоделическим препаратам… Так, во всяком случае, представляется на первый взгляд.
Впрочем, вопрос об отношении художественного транса к иным ИСС является на страницах данной работы далеко не главным. Художественный транс рассматривается здесь не столько в системе измененных состояний, сколько в системе художественной культуры, как необходимый ее элемент. Художественный транс предстает как особое, специфическое состояние, необходимое для полноценного (глубокого, интенсивного) взаимодействия человека с искусством. Без этого условия, подлинный контакт с произведением оказывается невозможным, искусство остается закрытым для человека. Хотя, он может рассуждать о нем как знаток и разбирать «до винтика» как тонкий аналитик.
Мы будем вести разговор о художественном трансе в том числе и с эстетических, а также культурологических позиций, что, в какой-то мере, уводит нас из сферы популярного. Эстетика и культурология не завоевали пока массового интереса. Предмет сложный и запутанный, популярных работ в этой области значительно меньше чем по психологии. Да и общественный статус искусства меняется, как кажется, не в лучшую сторону.
Когда-то, хотя и не слишком давно, художественная культура претендовала на значительную роль в жизни общества. Теперь искусство в значительной мере смирилось с тем, что его основное место — сфера обслуживания, а еще конкретнее — развлечение. Плоды осознания этой «новой правды» можно наблюдать и в филармоническом концерте, и в театральной постановке, и в музейной экспозиции, и в кинематографе… Во всех сферах прекрасного.
Нечто похожее произошло с образованием. Отношение к нему в последние десятилетия заметно изменилось, стало значительно более прагматичным; фигура учителя поблекла и потускнела: никакого ореола, никакого Учителя с большой буквы. Теперь это просто человек, оказывающий образовательные услуги. Такова общая тенденция. За ней — более широкая система представлений и ценностей, получившая в обществе широкое распространение. Весьма условно её можно было бы назвать «потребительским прагматизмом». Сегодня это — господствующая идея.
Господствующая, но все же не единственная. Есть другие. Что-то сохраняется от прошлого. Что-то возникает в ответ, в противовес доминирующей позиции.
К этому «другому» я бы хотел отнести и свою книгу о художественной психотехнике.
Для начала скажу о нескольких вещах, вызывавших мое постоянное удивление и, как следствие, желание разобраться.
Удивление первое: Автор художественного произведения (писатель, поэт, актер, живописец…) обнаруживает такую осведомленность о законах жизни общества и человеческой души, о мироустройстве вообще, которую невозможно объяснить ни блестящей образованностью, ни богатым жизненным опытом. Порой складывается впечатление, что художник просто «видит насквозь» или обладает неким «изначальным знанием». Этот феномен «художественного ясновидения» поражал многих, и этому пытались найти самые разные объяснения. Одно из них таково: рукой гения водят высшие силы. Другое объяснение апеллирует к могуществу подсознания. Вспоминают и о коллективном бессознательном, и о ноосфере…
Сказанное касается не только содержания, но и формы. До сих пор наука не открыла алгоритмов, в соответствии с которыми интуиция художника находит самые совершенные решения. Когда занимаешься анализом музыкальных произведений, это просто ошеломляет: открываются такие закономерности и связи, что остается лишь удивляться, как автор мог все это заранее «просчитать». Хотя известно, что сознательно «просчитывается» лишь незначительная часть связей и закономерностей, организующих художественный текст. Остальное достигается каким-то иным путем. Каким?
Удивление второе. Оно относится к нам — читателям, слушателям, зрителям. Какими оказываемся мы понятливыми, наблюдательными, проницательными, когда смотрим фильм или спектакль, читаем книгу! Как будто клапан какой-то в мозгу открывается. Мы становимся более чувствительными (сенситивными), редкостная интуиция пробуждается в нас. Мы подмечаем каждую деталь и во всем умеем увидеть глубинный смысл. Мы реагируем на всякое несовершенство формы, а значит, каким-то образом знаем, какой она должна быть. Мы чувствуем всякую неправду, а значит, в душе догадываемся, в чем состоит правда! Иными словами, читатель, зритель, слушатель, соприкасаясь с искусством, тоже обретает, хотя и временно, способность «художественного ясновидения». Чему больше удивляться: тому ли, что все это к нам откуда-то приходит, когда мы контактируем с искусством, или тому, что это куда-то исчезает, когда мы возвращаемся к «нормальной» жизни? А ведь неплохо было бы пользоваться этими дарами всегда!
Удивление третье: Много всего сказано и написано о могуществе искусства! Оно и воспитывает, и лечит, и пробуждает в людях совесть, сострадание, чувство человеческого достоинства, оно очищает душу, дарит вдохновение, включает творческую интуицию… Искусство сообщает каждому отдельному человеку мудрость человечества, накопленную веками. Искусство развивает способности, которые затем можно с успехом применять в любой деятельности. И все это — правда! Удивительное же состоит в том, что все сказанное в девяноста девяти процентах из ста на практике не работает! Благодаря СМК искусство стало предельно доступным. Но где толпы исцеленных, пробужденных и очищенных? Где мудрецы и гении? Они, возможно, есть, но не так много, как можно было бы ожидать.
Есть здесь какое-то таинственное противоречие. Соприкасаясь с искусством, мы как будто попадаем в волшебный мир, где обретаем дары. Но вынести их оттуда мы почему-то не можем, а если и можем, то в очень незначительной степени.
Вот тут-то и возникают вопросы: Что это за мир? Как о устроен? Как туда попадают и как оттуда возвращаются? И почему его сокровища «не подлежат выносу»? Есть ли возможность построить мост, надежно соединяющий этот мир с пространством нашей обычной жизни? Собственно, об этом и пойдет речь в дальнейшем.
А пока, предельно кратко, попытаюсь обозначить свой взгляд на эту проблему, который и развивается в данной книге. Состоит он в следующем. То, что мы назвали метафорически «попаданием в особый мир», означает, что мы, соприкасаясь с искусством, входим в иное, специфическое состояние сознания. В этом состоянии наша психика работает несколько иначе, не так как обычно. В частности, как-то изменяется характер взаимодействия сознания со сферой бессознательного. Это (хотя и не только это) объясняет обретение новых, более широких духовных возможностей. Когда мы «возвращаемся назад», мы приходим в обычное (обыденное) состояние сознания, душа «складывает крылья» и летать уже не может. Обретаемые дары мы вновь утрачиваем, хотя ценный опыт остается с нами.
Это специфическое состояние, связанное с искусством, мы условимся называть «художественный транс». Художественный транс обладает сложной природой. Он опирается на закономерности высшей нервной деятельни человека и имеет определенное биологическое основание. Будучи неразрывно смязян с искусством, он все же имеет не столько биологическую, сколько культурную природу. Он — такая же часть художественной культуры, как и художественные произведения. С той разницей, что художественные произведения (тексты) могут храниться отдельно от человека, а художественный транс, являясь важнейшим элементом культуросообразного способа взаимодействия человека с искусством, существует лишь в контексте человеческого бытия (реализуется в человеке).
Художественное сознание имеет культурную природу, хотя и опирается на естественное устроение психического аппарата человека. Механизмы взаимодействия человека с искусством включаются спонтанно, помимо нашей воли и сознательного контроля. Мы входим в художественный транс, даже не подозревая об этом, и так же выходим.
Возникает новый вопрос: нельзя ли овладеть этим культурным механизмом, подчинив его сознательному контролю, превратив его тем самым в технику?
Речь не идет о том, чтобы привносить в художественную культуру извне какие-то психологические приемы и техники. Напротив, мы говорим о возможности извлечь эту технику из контекста самой художественной культуры. Мы, таким образом, исходим из того, что она уже в ней заложена. Иными словами, вопрос ставится так: можно ли превратить то, что происходит с человеком, в то, что он сам делает? Возможно это, или нет?
С ним связан другой вопрос: кому и для чего это нужно? К нему мы еще вернемся. Пока же замечу следующее. Все люди, вниманию которых я предлагал нечто на эту тему (в форме лекций, семинаров, практических занятий или даже в частной беседе), резко делились на две категории. Одни, также как и я, интуитивно считали это ценным, а также интересным и увлекательным, помимо всякой пользы. Другие же ставили под сомнение саму необходимость заниматься подобными вещами (действительно, многие без этого прекрасно обходятся, достигая значительных высот и в искусстве и в иных видах деятельности). Что же касается интереса, то ни интересным, ни увлекательным это им не казалось. Более того, какую-то опасность, какое-то нарушение табу они чувствовали в этом, стараясь держаться подальше от подобных материй.
Что же, каждый выбирает свою позицию сам, следуя своему характеру и убеждениям. И в каждой из двух позиций есть своя правда. В чем-то правы и противники. В частности, в вопросе об опасности. Всякая техника может быть опасной, если ей пользоваться неразумно и без необходимой предосторожности. Все эффективное опасно. Об этом мы будем помнить и стараться соблюдать то, что называется «техникой безопасности».
Многое из того, что здесь написано, является результатом долгого личного интереса к данной теме, разнообразного личного опыта и поиска путей его осмысления. За этим последовали попытки делиться результатами этих поисков. В разных формах — лекции, семинары, беседы, практические занятия. … На эту тему была написана и издана в 2001 году книга «Психотехника художественной деятельности: арт-тренинг». Сегодня многое в ней меня уже не удовлетворяет. От термина «арт-тренинг» я отказался, так как он активно используется другими людьми, вкладывающими в него совершенно иной смысл. Это создавало бы неизбежную путаницу. Кроме того, многие содержательные моменты сейчас видятся мне иначе, и акценты во многих случаях хочется расставить по-другому, и способы объяснения изменить… В определенный момент я почувствовал потребность написать новую книгу.
Она была написана издана в 2011 г. под грифом Государственного института искусствознания, где я в то время работал. Однако прошло время, и теперь, увидев ряд недостатков этой, уже второй книги, я почувствовал потребность что-то в ней исправить, а что-то и добавить. Так появился данный ее вариант.
Введение
— Вот где водится Снарк! — закричал Благозвон,
Выгружая с любовью людей:
Чтоб не сбило волной, их придерживал он
За власы пятернею своей.
— Вот где водится Снарк! Объясню я потом,
Что слова нас такие бодрят.
Вот где водится Снарк! Знайте — истина в том,
Что повторено трижды подряд!
(Л. Кэрролл «Охота на Снарка»)
Действительно, бывает так, что ложь, повторенная множество раз, начинает вызывать все большее доверие, к ней привыкают. Бывает, к сожалению, и наоборот: мысль истинная от слишком частого ее проговаривания как бы теряет силу, «занашивается», и ее очередное произнесение воспринимается как чисто формальное ритуальное действие. К ней тоже привыкают. Похоже, нечто подобное произошло с представлением о магической силе искусства. Оно стало привычным, а привычка — почти забвение.
Признание существования этой силы — фундаментальный факт культуры, имеющий древнейшую природу. В любой мифологии мы находим соответствующие образы. Находим их мы и в фольклоре, в сказках, в художественной литературе. В медицинской практике, в медицинской науке, в психиатрии, в практической психологии этому также уделяется достаточное внимание. Устойчивым мотивом является здесь поиск возможностей практического использования этой силы. Практический аспект проблемы интересует и нас. Именно это обстоятельство объясняет присутствие слова «техника» в названии книги.
Под словом «техника» мы будем подразумевать систему приемов, обеспечивающих высокую эффективность и качество той или иной деятельности. Не овладев в совершенстве техникой, не доведя выполнение соответствующих приемов до автоматизма, невозможно достичь мастерства.
Именно в таком смысле это слово часто употребляется, скажем, в спорте. Когда говорят, что боксер (футболист, пловец, прыгун и т. д.) техничен (обладает хорошей техникой), как раз и имеют в виду, что все его движения, все его действия обеспечивают системную реализацию приемов, ведущих к успеху (к желаемому результату). Техника в таком понимании — средство, но такое средство, которое неотделимо от меня самого. Автомобиль — тоже техника, и тоже средство. Но он не является органической частью меня самого, он — внешний по отношению ко мне предмет. Другое дело — техника вождения автомобиля.
В этом же смысле мы говорим о технике разных видов художественной деятельности: о технике в живописи, о технике танца, о технике фортепианной игры, о вокальной технике. Точно также мы можем говорить о технике владения словом — о поэтической или писательской технике. Сюда же относится и композиторская техника. Заметим, что композиторская техника не есть что-то единое и неделимое, раз и навсегда данное. Есть мелодическая техника, техника контрапункта (полифоническая техника), гармоническая техника, техника владения формой, включающая технику музыкального (тематического) развития и т. д. Причем, разные эпохи рождают разные композиторские техники, пример — техника додекафонного письма. То же самое справедливо и для всех остальных видов искусства. Богатство художественных техник — такая же важная составляющая богатства художественной культуры, как и богатство самих художественных произведений (текстов).
Техника в таком ее понимании, тесно связана с культурой. Едва ли не важнейшая функция культуры состоит в том, чтобы обеспечивать накопление и передачу образцов деятельности. В том числе (и в первую очередь) образцов совершенной деятельности, эталонных образцов культуры. Таким образом, культура вырабатывает, фиксирует и передает образцы совершенной деятельности, а техника деятельности фиксируется и хранится в культуре, является частью культуры этой деятельности. Когда человек осваивает культуру той или иной деятельности, он присваивает и эти образцы, доводит до совершенства, а в какой-то мере и до автоматизма. Тогда о нем могут сказать, что он в совершенстве владеет техникой данной деятельности.
Говоря о технике деятельности, зафиксированной в культуре, мы эту самую технику рассматриваем двояко: а) в отношении к деятельности и б) в отношении к культуре. В отношении к деятельности техника — всего лишь средство, хотя и очень важное, средство, обеспечивающее эффективность, результативность, качество, экономию сил и времени и т. п. В отношении к культуре техника — часть культурного достояния, она несет в себе собственное культурное содержание, смыслы и обладает самостоятельной культурной ценностью.
Возьмем простой пример — исполнение народной песни. Здесь, как и во всяком деле, нужна какая-то техника (умение, сноровка). Если брать эту технику только в первом ее значении, то мы обратим внимание на такие вещи, как правильная осанка, правильное дыхание, хорошая постановка голоса, позволяющая без лишнего напряжения, красивым и достаточно громким звуком исполнить песню (вокальное произведение). Примеров такого абстрактного понимания техники исполнения народных песен мы видели немало. Взгляд на эту же проблему этнографа или фольклориста будет существенно иным. Для них техника исполнения — прежде всего органическая составляющая конкретной культуры, конкретного стиля, жанра и местной традиции. Приемы звукоизвлечения, дыхания, фразировки и прочее не мыслятся вне культурного контекста, ибо сами являются важнейшими смыслонесущими элементами. Все эти вопросы настолько значимы, что вокруг них велись и ведутся горячие споры. И тем современным городским жителям, которые осваивают песенный фольклор как традиционную народную культуру, свойственно именно такое отношение к технике пения, в котором значимой становится ее связь с культурой.
Художественная деятельность обладает очень сложной организацией. И есть у этой деятельности две взаимосвязанные стороны — внешняя и внутренняя. Обе стороны одинаково важны, отсутствие одной из них в конечном итоге ведет к невозможности осуществлять эту деятельность. Соответственно, и культура и техника художественной деятельности имеет отношение к обеим сторонам процесса, организует, направляет, оптимизирует эту деятельность, как на внешнем, так и на внутреннем плане.
Еще раз вспомним о спорте. Здесь уже давно развивается и практикуется специальная «спортивная психотехника». Для того чтобы действия спортсмена были безупречными на внешнем (телесном, физическом) плане, они должны быть безупречно организованы на плане внутреннем. Это подтвердит любой борец, стрелок… Вспомним также о традиционных боевых искусствах. Вспомним и воздержимся от комментариев — они излишни.
Теперь возьмем любой пример из области искусства. Пусть это будет музыкант-исполнитель, например, пианист. Здесь привычным является употребление слова «техника» применительно к внешнему плану его исполнительского мастерства. Говорят: «у него блестящая октавная техника» или «мелкая техника у этого пианиста слабовата» и т. п. Во всех таких случаях имеется в виду некий способ движения рук и пальцев.
Не смотря на такую традицию словоупотребления, никто ведь не будет отрицать важности внутренней стороны процесса — внимания, воли, эмоциональной организации исполнительского процесса, формирования и осуществления исполнительского замысла, образного мышления… Это — внутренняя сторона исполнительского процесса. Здесь также проявляется мастерство, и этому также необходимо учиться. Правда, у музыкантов-исполнителей по этому поводу, как правило, слово «техника» не используется. Тем не менее, важность внутренней, психической составляющей в исполнительской технике музыкантами осознается. «Различные авторитеты наших дней… взяли на себя задачу научно обосновать последние достижения скрипичного искусства. Углубив теорию скрипичной игры, они включили в нее тщательный анализ физических элементов искусства, подходя к вопросу с естественнонаучной точки зрения и подтверждая свои выводы анатомическими таблицами, показывающими строение руки вплоть до ее мельчайших деталей. Тем не менее, до сих пор, — принимая во внимание, что целью этих старательно сформулированных принципов является их практический результат, — упускался из виду наиболее важный фактор, а именно фактор психический. Еще никогда не придавали достаточного значения психической работе, мозговой активности, контролирующей работу пальцев. Между тем, если данное лицо не способно к тяжелому умственному труду и длительной сосредоточенности, сложный путь к овладению столь трудным инструментом, как скрипка, является простой потерей времени». Эти слова великого музыканта-педагога сохраняют свою актуальность и в наши дня.
А вот у актеров есть своя актерская психотехника. Все, по-видимому, зависит от специфики художественной специальности и от сложившихся в ее недрах традиций.
Техника художественного транса (составляющая главный предмет этой книги) — всего лишь элемент художественной психотехники в ее широком понимании, но элемент, обладающий ключевым значением. «Художественная психотехника» — понятие более широкое. Любой поиск путей, методов, приемов управления психическими процессами, направленный на совершенствование художественной деятельности, можно по праву считать исследованием в области художественной психотехники. Например, тренировка внимания или творческого воображения, управление сценическим самочувствием или развитие контактности у актеров, борьба со сценическим волнением у музыкантов-исполнителей… Для решения подобных задач могут использоваться самые разные методы: различного рода медитативные техники, гипноз, аутогенная тренировка, йога, НЛП и т. д. Предмет наших интересов конкретнее. Нас интересуют не вообще разные психические процессы и управление ими в интересах художественной деятельности, а тот особый способ организации сознания, который связан с формированием художественной реальности. Или, другими словами, способ осознания реальности, который и превращает ее в художественную реальность.
Это «волшебство» превращения и есть, по сути, художественный транс.
Предмет нашего исследования соединяет в себе множество разнонаправленных моментов, своего рода полюсов. И мы должны будем выработать такой подход к предмету, который бы схватывал и удерживал это многообразие. Этот подход не может быть традиционно искусствоведческим, так как последний делает явный акцент на объективной, предметной стороне художественной деятельности, а если сказать точнее, на предметном ее результате — на художественном произведении (тексте). Нас же интересует художественная деятельность, процесс, причем, прежде всего, внутренний аспект этой деятельности. Но это не может быть собственно и психологическое исследование. Его предмет выходит за рамки психологии, ибо последняя не обязана интересоваться собственно культурной спецификой художественной деятельности и художественного сознания.
Нам еще предстоит попытка найти адекватный подход, отвечающий особенностям предмета. Некоторые такие особенности мы можем назвать уже сейчас.
• Субъектно-объектное единство художественного действия. Это значит, что художественное действие не разворачивается лишь на внешнем плане, или только на внутреннем. Оба плана находятся в теснейшей взаимосвязи и взаимопревращении. Оно само есть соединение этих «полюсов». Тот факт, что мы делаем акцент на художественном сознании, на психотехнике, ничего в этом смысле не меняет. Художественное сознание, а, следовательно, и художественная психотехника не существуют вне отношения к своему объекту, вне направленности как на объект, так и на субъект. Внешнее и внутреннее, объективное и субъективное, материальное и духовное соединены в предмете нашего исследования. Точно также они должны соединяться в методе, в подходе.
• Единство культуры и техники художественного действия (художественной деятельности). Культура действия и техника действия имеют непосредственное отношение к способу действия. С технической точки зрения способ действия раскрывается в таких своих характеристиках, как эргономичность, эффективность, сложность или простота, оптимальность, легкость или трудность освоения (обучения) и т. д. С культурологической точки зрения, способ действия (деятельности) есть важнейшая составляющая содержания культуры. Он несет смыслы и ценности, за ним стоит определенная картина мира. Способ действия включен в культурный контекст, в традицию. В одной традиции некий конкретный способ действия может быть приемлемым, в другом — неприемлемым и т. п. Сказанное справедливо для любого способа действия. Тем большее значение подобные моменты имеют для искусства, для художественной деятельности.
• Единство художественного сознания и художественной реальности. Если рассматривать художественное сознание именно как способ, то оно, прежде всего, есть способ формирования особой художественной реальности. Об этом мы уже сказали вкратце. Теперь же существенно подчеркнуть, что единство сознания и реальности — не просто принцип, который желательно учитывать, а существенная характеристика самого предмета исследования. А с точки зрения метода он может иметь ключевое значение.
• Единство спонтанности и произвольности технического (психотехнического) действия (единство «я делаю» и «со мной происходит»), возможность переходить от первого ко второму и обратно. Это существенно для любого освоения и совершенствования деятельности. С одной стороны, важно понять «естественные» алгоритмы действия, как это происходит по природе. С другой стороны, отрабатывая отдельные приемы, мы превращаем произвольное, сознательно управляемое действие в автоматическую привычку. Единство спонтанности и произвольности имеет отношение к любой технике (борьбы, вождения автомобиля, фортепианной игры и пр.). Соответственно, эта проблема очень важна и для психотехники. И это тоже особенность нашего предмета.
Культура и техника — эта пара имеет смысл лишь по отношению к некоторому действию. Именно действие и есть то, что осуществляет связь упомянутых полюсов. Говоря о художественном сознании в плане техники, мы, тем самым, акцентируем момент действия. Действие сознания, действие по отношению к сознанию, действие с помощью сознания.
Помимо этого, нам придется иметь дело с неким специфическим действием, которое можно обозначить как психотехническое действие. Психотехническое действие есть особое действие, направленное на овладение процессами сознания, его ресурсами и возможностями. Психотехническое действие в нашем смысловом контексте, с одной стороны, генетически связано с художественным действием, с другой стороны, отличается от него. Оно является преобразованным (превращенным в упражнение или в осознанный технический прием) художественным действием. Так элементы любой деятельности могут быть превращены в специальные упражнения, помогающие развивать способности, которые нужны для успешной реализации этой деятельности. Так во всем. Наш случай — не исключение.
Непосредственным же предметом, в исследовании которого должны быть реализованы все вышеперечисленные принципы, выступает художественный транс.
Можно сказать, что перед нами одна цель, но цель эта имеет две стороны.
А. Построение теоретической модели, описывающей художественный транс, его механизмы и закономерности в единстве его внешней и внутренней сторон, то есть, как переход в иную реальность = переход в иное состояние сознания. Теоретическая модель рассматривает этот процесс в аспекте того, как он происходит.
Б. Формирование практического метода освоения художественного транса и связанных с ним возможностей. Это значит, что мы должны будем построить систему приемов, техник, упражнений, методик, направленных на то, чтобы обеспечить возможность контролируемого (сознательного, произвольного) вхождения в иную реальность (измененное сознание) и выхода из него, а также (и это главное) возможность целенаправленного и осознанного действия в этой реальности. Можно сказать иначе: нам нужно превратить художественный транс и все его эффекты из того, что происходит в то, что мы делаем. И для этого нам необходимо построить особую систему психотехнической практики — психотехнический практикум.
Таким образом, мы хотим получить в свои руки инструмент теоретического и практического освоения культуры и техники художественного транса, а через него — художественного сознания.
В чем смысл подобных попыток? Какова гипотетическая ценность предполагаемых результатов, и какова возможная практическая польза? Кому, зачем и почему это может быть нужным (ценным) в принципе?
Отвечая на этот вопрос, выделим два основных момента. Во-первых, потребность исследовать проблемы художественной психотехники (в самом широком смысле слова), а также потребность формировать и совершенствовать практические методы психотехнической работы существует внутри художественной культуры. Движение в этом направлении отвечает нуждам художественной практики, как в плане в плане творческой деятельности, так и в плане художественного образования (профессионального, прежде всего). Логика здесь предельно простая: совершенное владение деятельностью предполагает освоение техники этой деятельности.
Во-вторых, развитие художественной психотехники может оказаться ценным и за пределами собственно искусства. Психотехнический потенциал искусства огромен. Он может быть с успехом использован для решения гуманитарных задач достаточно широкого круга. Сюда относится развитие творческих способностей человека и применение их в сферах, не имеющих прямого отношения к искусству. Сюда относится и возможность использования приемов и практик художественной психотехники для решения тех или иных психологических проблем (например, в психотерапии), или в сфере педагогики, или в качестве инструмента личностного роста, гармонизации сознания и т. п.
Теперь об этих двух моментах чуть более подробно.
Начнем с первого момента, с того, что мы обозначили с помощь слова «внутри» — внутри искусства, художественной культуры, художественной деятельности, художественного образования. В этом смысловом поле наше теоретическое исследование выглядит как работа в области теории искусства, как попытка узнать что-то еще о механизмах художественного восприятия, художественного мышления, а главное, о законах художественной реальности, существование которой мы, фактически, постулируем. В любом случае, знание, которое мы можем получить, двигаясь в этом направлении, будет знанием об искусстве. Что же касается практической стороны вопроса, то здесь, соответственно, речь может идти о технологии формирования духовных качеств, необходимых, в первую очередь, для людей, так или иначе, связавших себя с искусством.
А что, разве в этой области возникла проблемная ситуация? Разве художественная деятельность и без того не умеет воспроизводить сама себя? Разве уровень современных профессионалов в искусстве (композиторов, музыкантов-исполнителей, художников, актеров…) не говорит о том, что художественная культура ни в чем подобном не нуждается, что она вполне самодостаточна? Зачем привносить что-то иное туда, где и так все хорошо? Эти и подобные вопросы вполне справедливы и могут даже, поначалу, поставить в тупик. Однако ответ на них существует.
Дело в том, что эти вопросы сами по себе справедливы, но за исключением некоторых предпосылок, которые в них неявно содержатся. Вопросы эти как бы возражают против произвольных попыток привнести в художественную практику (и художественную педагогику) нечто извне, нечто такое, что не вырастает органическим образом из самой художественной культуры, а, следовательно, чужеродное. А чужеродное, вообще говоря, может оказаться вредным или, как минимум, опасным. Тут вступают в силу соображения из области «экологии культуры», пафос которых можно свести к двум словам: «не навреди». И это действительно очень серьезно.
А что, мы действительно намерены «привносить» в художественную практику (культуру) нечто «извне», нечто «чужеродное»? На этот вопрос мы должны дать отрицательный ответ. Нет нужды что-либо привносить извне. Художественная культура всегда включала в себя соответствующую художественную психотехнику, а художественная психотехника была и остается важнейшим элементом художественной культуры. Этот элемент нередко содержится в культуре, так сказать, латентно, в неявной, скрытой форме. И передается соответствующий аспект художественного мастерства от Учителя к Ученику, не будучи выделенным в самостоятельную дисциплину. Такая передача, собственно, входит в традиционное понятие «Школы». Психотехнический опыт как бы вплетен (или растворен) в том художественном опыте, который приобретает ученик, общаясь с учителем. Например, у пианиста нет такого учебного предмета «психотехника музыкального исполнительства», но психотехническую культуру, так или иначе он приобретает на уроках по специальности.
Итак, психотехническая культура существует внутри художественной культуры латентно и диффузно, она в ней скрыта и растворена, не выделена в самостоятельную часть передаваемого от поколения к поколению художественного опыта. Такова картина в целом. Хотя в деталях, это не вполне так и не всегда так. Искусству присуща тенденция рефлектировать себя, быть самому себе зеркалом. В этом зеркале нередко отражаются глубинные сущностные моменты, которые не даны непосредственному наблюдению. Из самого искусства, из художественных произведений (из художественной литературы, прежде всего) мы можем почерпнуть знание о художественной реальности и художественном трансе. Другое дело, что знание это содержится в зашифрованном виде, его понимание — специальная задача. Помимо художественных произведений есть иные культурные тексты, где соответствующие вопросы ставятся и обсуждаются в явном виде. К этому всему мы еще вернемся в свое время.
Теперь же заметим, что тезис о латентном и диффузном характере психотехнического знания в искусстве, не имеет столь универсального значения. Из этого правила есть исключения. И весьма значимые. Самый убедительный и яркий пример — профессия актера, а именно, то, что называется школа актерского мастерства. Актерская психотехника — специальный предмет и теоретического изучения, и практического освоения. Теория и практика профессиональной художественной (актерской) психотехники давно имеет постоянную прописку, как в теории театра, так и в системе актерского образования, то есть, в практике. И этим, пожалуй, система профессиональной подготовки актера существенно отличается от всех остальных профессиональных художественных школ.
У музыкантов, например, такого отдельного предмета не существует. Зато стремление тем или иным образом скомпенсировать его отсутствие проявляется с достаточной отчетливостью. В свое время возникло устойчивое словосочетание — «психотехническая школа». Под этим подразумевалась неформальная общность учеников и последователей Г. Г. Нейгауза, придававших особое значение именно внутренней стороне исполнительского искусства (и, соответственно, музыкальной педагогики). Автор известной среди музыкантов книги «У врат мастерства» Г. Коган, идейно примыкавший к психотехнической школе, писал (в предисловии к этой книге): «Из числа деятелей искусств в настоящей книге особенно часто вспоминается Станиславский. В этом нет ничего удивительного. Общеизвестна роль, какую сыграл Станиславский в разработке вопросов психологии исполнительского творчества». В этом смысле Г. Коган далеко не одинок. Многие музыканты отдают должное системе Станиславского, и даже испытывают нередко к актерам своего рода зависть по поводу того, что именно актерская специальность имеет развитую профессиональную психотехнику. При этом иногда делаются попытки как-то приспособить ее отдельные элементы к своим нуждам.
Интересно, что Станиславский в свою очередь испытывал к музыкальной профессии встречное чувство «белой зависти». Вот что он по этому поводу пишет в книге «Моя жизнь в искусстве»: «Какое счастье иметь в своем распоряжении такты, паузы, метроном, камертон, гармонизацию, контрапункт, выработанные упражнения для развития техники, терминологию, обозначающую те или иные артистические представления о творческих ощущениях и переживаниях. Значение и необходимость этой терминологии давно уже признаны в музыке. Там есть узаконенные основы, на которые можно опираться, чтобы творить не на авось, как у нас».
Парадокс? Только кажущийся. Приглядимся внимательнее и постараемся понять, кто чему завидует. Станиславский, говоря о преимуществах музыкантов, обращает внимание на более детализированную проработку именно объективной стороны музыкальной деятельности, того, что составляет ее, так сказать, внешний план. «Такты, паузы, метроном, камертон, гармонизация, контрапункт» — все это суть объективации музыки, то, что можно «положить на стол». Когда же музыканты обращаются к работам Станиславского, они стремятся получить в свои руки инструмент, позволяющий обрести больший контроль над субъективной стороной творческой деятельности, над тем, что составляет ее внутренний план. Если, таким образом, попытаться выявить то общее, что объединяет эти противоположные (встречные) устремления, то этим общим окажется пересечение, соединение, синергизм действия субъективной и объективной сторон художественной деятельности, ее внутреннего и внешнего планов. Таким образом, мы видим две встречные тенденции, за которыми стоит один смысл — стремление к гармоническому равновесию внешней и внутренней (объектной и субъектной) сторон творческой деятельности в своем виде искусства и формирование такой технологии, которая обеспечивала бы это равновесие. Строго говоря, это одна тенденция, но развивается она в разных условиях и из разных исходных предпосылок, имея единую целевую направленность.
За этой тенденцией, как правило, обнаруживается и другая — стремление к достижению гибкого взаимодействия и гармонического равновесия сознательного и бессознательного, произвольного и непроизвольного, преднамеренного и спонтанного, «я делаю» и «со мной происходит». «Одна из главных задач, преследуемых „системой“, заключается в естественном возбуждении творчества органической природы с ее подсознанием», — так сформулировал эту идею К. С. Станиславский. Для музыкантов эта мысль также близка и естественна, как и для актеров. Здесь ничего и никому не нужно объяснять и доказывать. Вмешательство и поддержка бессознательного в деятельности музыканта — очевидный и постоянный элемент ежедневной практики музыканта.
Таким образом, и музыка, и театральное искусство — и есть все основания считать, что в этом с ними окажутся солидарными и другие искусства — обнаруживают потребность в постоянном развитии и совершенствовании такой творческой технологии, которая отвечала бы, как минимум, двум взаимосвязанным задачам: а) установление гармонического единства и взаимодействия внешней и внутренней сторон художественной деятельности, б) установление гармонического единства и взаимодействия сознательного и бессознательного аспектов художественной деятельности.
Это — идеал, недостижимая цель, но она диктует общее направление движения. Ее легко выразить в следующей схеме:
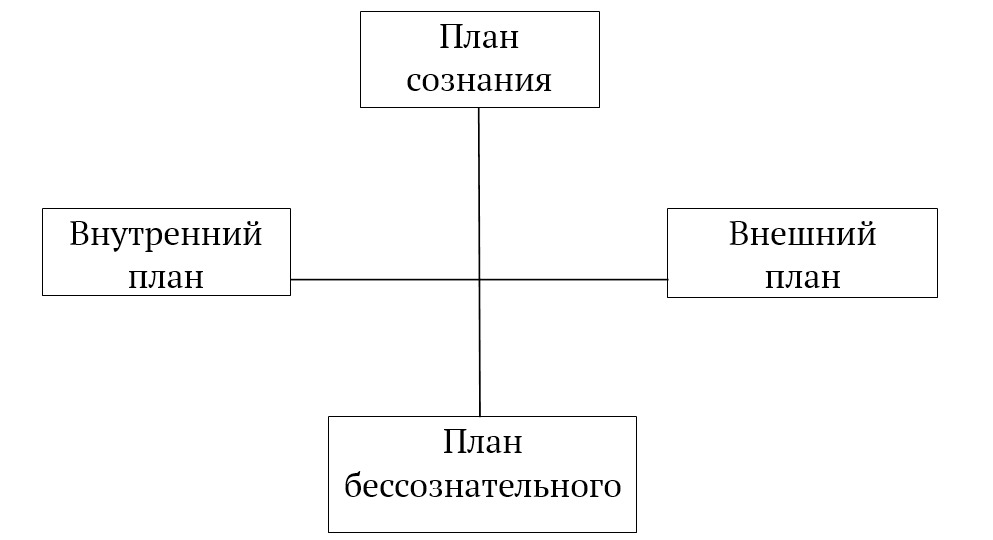
Поиски в области художественной психотехники не есть некий странный изыск или прихоть, не есть нечто искусственно привносимое в художественную культуру извне, тем более, не есть нечто ей чуждое. Это — движение, имманентное самой художественной культуре, выходящее из нее самой. Наши намерения никак не выходят за пределы того, чтобы осознано по мере двигаться в этом потоке. В перекрестье двух смыслов — культура и техника — находится предмет нашего интереса. Нас здесь интересует та сторона художественной культуры, которая несет в себе нормы художественного сознания, и нас интересует только такая психотехника, которая соответствует этим культурным нормы.
Теперь вернемся к проблемной ситуации. Мне представляется, что она все же есть, причем, весьма драматическая. И возникла она не сегодня, а созревала постепенно. Эта проблема досталась нам в наследство от ХХ века, когда все более и более накапливалось противоречие между внутренним и внешним, сознательным и бессознательным аспектами художественной деятельности. Трещина между ними постепенно разрасталась, достигая, порой, катастрофических масштабов.
С одной стороны, прошедшее столетие дает нам немало ярких примеров того, как рациональное, рассудочное, умозрительное отрывается от живой органики художественного процесса, от непосредственной душевной жизни художника, его интуиции, чувств и пр. Произведение при этом как бы полностью объективируется, превращается в вещь, существующую отдельно от человека. В частности, сочинение музыки могло становиться полностью алгоритмизированным процессом. Эта тенденция в пределе стремилась к тому, чтобы полностью «эмансипировать» музыку и музыкальное произведение от человека и всего человеческого.
С другой стороны, не меньше примеров и прямо противоположного характера, когда именно иррациональное, алогичное, спонтанное оказывается наиболее значимым и ценным, когда именно бессознательное (глубинно внутреннее) возводится на пьедестал и объявляется главным источником художественного. Все эти примеры хорошо известны, и здесь мы их рассматривать не будем. Мы просто воспользуемся вышеприведенной схемой, чтобы эту тенденцию проиллюстрировать:
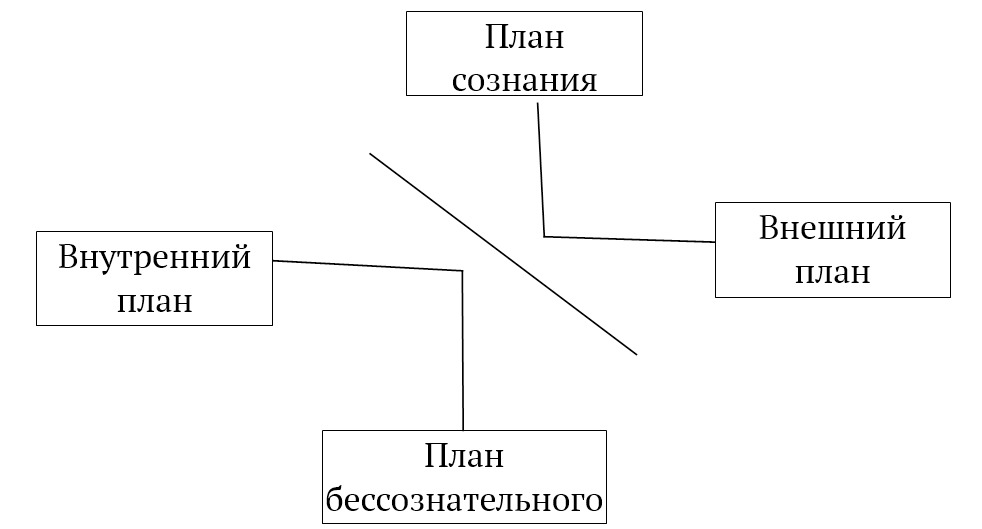
С одной стороны — объективация и рационализация, акцент на сознательность. С другой — уход в субъективное и иррациональное, акцент на бессознательном.
Эти кризисные явления неоднократно подвергались подробному критическому анализу. Название одной из книг Ханса Зедльмайра звучит как прямой диагноз ситуации — «Утрата середины». Мне кажется, что именно ощущение утраты середины (гармонии, равновесия и целостности) и стремление к ее новому обретению рождает тенденции противоположной направленности, возникающие как реакция на кризис и попытки поиска выхода.
Сказанное можно понимать в качестве одного из ответов на вопрос «Зачем?». Все, что так или иначе может работать в направлении обретения середины, оправдывает затраченные усилия.
Есть и иные соображения, быть может, не столь фундаментальные. Приведу лишь одно из них. Сравним две ситуации (два сценария):
Ситуация первая. Художественная культура развивается сравнительно медленно. При этом существует некоторый известный и относительно устойчивый набор стилей, форм, жанров, творческих амплуа и т. п. Человек может выбрать себе что-то определенное в соответствии со своими склонностями и развиваться в выбранном направлении, практически, всю жизнь. В этой «нише» нет проблемы взаимопонимания, ибо все ее «обитатели» говорят примерно на одном и том же языке.
Ситуация вторая. Художественная культура развивается стремительно. За период времени приблизительно равный человеческой жизни она успевает проделать огромный путь. Горизонты художественной культуры распахнуты. Коммуникативное пространство перенасыщено, языки перемешаны. Возможность существовать «в нише» призрачна. Проблема понимания встает во весь рост.
Ситуация первая вполне позволяет обойтись без того, чтобы ставить проблему художественной психотехники в явном виде. Целостность освоения культуры обеспечивается целостным характером существования внутри собственного, достаточно стабильного культурного пространства. Психотехническая культура осваивается как бы в теневом режиме, будучи интегрированной в поток опыта, транслируемый от учителей к ученикам.
Ситуация вторая лишает нас подобной счастливой возможности. Она ставит перед необходимостью постоянно «учить языки», осваивать новые горизонты смыслов, непрерывно учиться понимать и чувствовать. И вот здесь-то специальная система профессиональной художественной психотехники оказывается как нельзя более кстати.
Нужно ли доказывать, что наша культурная ситуация значительно ближе к этому второму варианту?
Теперь несколько слов о ценности (возможной полезности) художественной психотехники за пределами искусства. Здесь мы попадаем в существенно иное смысловое пространство. Если до этого места мы понимали теоретическое исследование проблем художественного сознания и художественной реальности как работу в области знания об искусстве, то тут мы сталкиваемся с необходимостью понимать это как работу в области знания о человеке. При этом вовсе не обязательно сразу же ассоциировать это именно с психологией, хотя последнее как бы напрашивается. Ведь это именно человек обладает способностью организовывать свое сознание разными способами и помещать себя, таким образом, в разные системы реальности. И если он получает в свои руки инструмент контролируемого изменения сознания и перехода в соответствующую реальность, то, тем самым, он расширяет сферу своей свободы. Как ему этой свободой воспользоваться — открытый вопрос, и ему его решать. Мы же пока ограничимся следующей констатацией: в иной реальности и связи явлений могут быть иными, а значит, могут открываются иные, не доступные ранее возможности познания и действия. Какие именно? Ответу на этот вопрос мы еще посвятим достаточное количество страниц.
Иным становится и смысл практических методик. Они здесь выступают уже в качестве технологии личностного развития (роста), решения личностных проблем, а также развития профессиональных качеств. Таких как развитие творческого потенциала, интуиции, способности ориентироваться в социальном пространстве, саморегуляции, воздействия на других людей и т. п. Для художественной психотехники эти задачи не являются специфическими, но потенциалом для их решения она обладает. И потенциалом весьма серьезным.
* * * * *
Теперь несколько слов о внутренней содержательной логике книги. Как и в большинстве исследовательских работ, в ней есть некая центральная идея, составляющая ее смысловое ядро и иные, более широкие смысловые контексты, в которых эта главная идея рассматривается, анализируется, развивается. Некоторое представление о смысловом контексте мы постарались дать. Теперь очередь дошла до смыслового ядра.
Смысловым ядром данной работы является идея художественного транса — особого состояния сознания, связанного с искусством. Здесь я должен сразу расставить точки над «и». Я безоговорочно отношу себя к числу тех, кто считает, что такое состояние существует, что оно является необходимым условием полноценного контакта человека с художественным произведением, независимо от позиции (автор, исполнитель, реципиент), занимаемой человеком по отношению к произведению. Эту идею я, с одной стороны, просто принимаю, ибо она представляется мне убедительной и многое объясняющей. С другой стороны, практические опыты постоянно давали мне многочисленные подтверждения ее верности, о чем я и постараюсь сказать подробнее в дальнейшем изложении.
Художественный транс предстает перед нами в двух основных качествах.
А. Как атрибут художественной культуры, как один из важнейших внутренних механизмов искусства, необходимое условие художественной деятельности и, одновременно, естественное следствие полноценного контакта человека с художественным произведением. Взятый в таком его качестве, художественный транс правомерно назвать спонтанным художественным трансом. Он — то, что с нами происходит. Даже в том случае, если мы об этом и не подозреваем. А ведь в большинстве случаев мы действительно об этом не подозреваем. Во всяком случае, не задумываемся.
Б. Как предмет сознательного и целенаправленного освоения. Здесь он — то, что мы делаем. И наша задача — найти приемы и способы произвольного вхождения в данное состояние, произвольного выхода из него, а также управляемого пребывания в этом состоянии и использования его специфических возможностей для решения тех или иных (творческих) задач. Последнее означает, что мы можем не только находиться в этом состоянии, произвольно регулируя его глубину, но и что-то делать в этом состоянии. В этом качестве художественный транс интересен не столько своей спонтанностью, сколько своей контролируемостью. И его уместно назвать контролируемым художественным трансом.
Можем ли мы ответить на вопрос, какой художественный транс — спонтанный или контролируемый — интересует нас в большей степени? Думаю, что такой вопрос не имеет смыла даже ставить. Ведь для того, чтобы его освоить, для того, чтобы его контролировать, мы должны понимать, как он происходит. С другой стороны, приобретая опыт произвольного вхождения в транс, опыт сознательного «путешествия» по его пространствам, мы больше узнаем о нем самом. Так аквалангист, совершая произвольные погружения в морские глубины, узнает все больше и больше о том, что в них таится.
Это — две стороны одной медали и разорвать их мы не можем. Да и намерений таких у нас нет. Мы можем сделать другое. Мы можем в своем изложении делать акцент в одном случае на спонтанном художественном трансе, изучая его как некий естественный механизм, трактуя его как предмет теоретического исследования, в другом случае — на контролируемом художественном трансе, трактуя его как предмет нашей целенаправленной практической деятельности. Эту практическую сторону мы будем специально рассматривать в практических приложениях («практикумах») к некоторым теоретическим главам.
Здесь мы подведем черту под нашей и без того затянувшейся вводной частью.
Часть первая.
Художественный транс
Глава первая.
К истории вопроса
Комплекс идей, в русле которых движется предлагаемая вашему вниманию работа, имеет длинную историю. Многие из них стали предметом теоретического осмысления не просто давно, а очень давно. Разные проблемы встречаются здесь, и каждая из них имеет свою историю. Эта многогранность ставит перед нами задачу объединения разных смысловых линий в единую картину. Поэтому поступим следующим образом. Поставим во главу угла задачу воссоздания панорамы идей и проблем, с которыми связано содержание данной работы. Что же касается исторической последовательности их появления во времени, то эту сторону вопроса будем считать подчиненной и второстепенной. Иными словами, структура идейно-смыслового контекста, в рамках которого определяется содержание данной работы, для нас гораздо важней, чем процесс развития этого контекста.
Начнем с того, что в работе есть ряд ключевых тем, проходящих от начала до конца, постоянно обсуждаемых, так или иначе взаимодействующих между собой и составляющих в своей совокупности нечто вроде идейного каркаса всей конструкции. Темы эти не открыты автором, не им изобретены и не им введены в оборот. Они существовали, они изучались, они обсуждались и раньше. Перечислим некоторые из них, а затем дадим чуть более подробную их характеристику.
К таким темам мы отнесем следующие:
1. искусство и особые состояния сознания,
2. художественная реальность,
3. художественная психотехника.
Для нас существенным является единство, связь перечисленных моментов, у нас они выступают в качестве разных граней одной темы. Вопрос об особых состояниях сознания можно использовать в качестве отправного пункта нашего обзора. С него и начнем
Искусство и особые состояния сознания. Этой темы касались многие. Она стала «общим местом», а это, между прочим, хороший повод, чтобы отодвинуть ее в сторону, сделать фоновой и, в конце концов, вообще перестать обращать не нее внимание. Такая тенденция действительно существует. Но вопреки этому, проблема измененного сознания, связанного с искусством, возвращается, настойчиво напоминает о себе, заявляет о своей исключительной важности. Это тем более дает нам право, не концентрируя внимания на логике последовательного развития данной проблемы, попытаться найти ряд выразительных и, главное, разных примеров подхода к ней с тем, чтобы увидеть ее внутреннее разнообразие и многогранность. Представим это как некий набор разных взглядов на один предмет. Быть может, эти разные взгляды помогут нам сформировать некую цельную картину?
Известный диалог Платона «Ион» имеет прямое отношение к обсуждаемой теме. В нем, во-первых, утверждается и обосновывается исключительно высокая роль особых состояний в творческой работе художника и, во-вторых, выстраивается, говоря современным языком, такая модель художественного творчества и художественной коммуникации (здесь оба процесса оказываются абсолютно нерасчленимыми), где этому измененному состоянию принадлежит ключевая роль. Характеризуя состояние творческого вдохновения художника, актера и тот эффект, который производит их искусство на людей, Платон предлагает метафору магнита. Все знают, что магнит «не только притягивает железные кольца, но и сообщает им такую силу, что и они способны делать то же самое… то есть притягивать другие кольца, так что иногда получается очень длинная цепь из кусочков железа и колец, висящих одно за другим, и вся их сила зависит от того камня. Так и Муза — сама делает вдохновенными одних, а от них тянется цепь других, одержимых божественным вдохновением».
Обратим внимание на три существенных момента. Во-первых, Платон, безусловно, считает и состояние творчества, и состояние, возникающее в процессе художественного восприятия измененным, необычным состоянием, то есть трансом. Во-вторых, состояния художника, исполнителя и зрителя, будучи состояниями одной и той же природы, способны передаваться от одного к другому, создавая единую цепь. В-третьих, Платон характеризует это состояние как одержимость в точном и прямом, а не в переносном смысле этого слова, специально акцентируя внимание на этом: «Все хорошие эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости; точно так и хорошие мелические поэты: подобно тому как корибанты пляшут в исступлении, так и они в исступлении творят эти свои прекрасные песнопения; ими овладевают гармония и ритм, и они становятся вакханками и одержимыми. Вакханки, когда они одержимы, черпают из рек мед и молоко, а в здравом уме не черпают: так бывает и с душою мелических поэтов, — как они сами о том свидетельствуют». Возможно, что эта идея идет от его учителя — Сократа. Последний неоднократно говорил, что у него в душе постоянно звучал некий вещий голос: «Раньше все время обычный для меня вещий голос моего гения слышался мне постоянно и удерживал меня даже в маловажных случаях, если я намеревался сделать что-нибудь неправильное».
Сказанное можно интерпретировать как некий психический феномен присутствия во внутреннем мире человека иного сознания, своеобразное непатологическое расщепление сознания. Такое расщепление можно считать одним из важных компонентов художественного транса. Это, как правило, остается не замеченным при обычном художественном восприятии, а вот в актерской деятельности целенаправленное освоение данного феномена является профессионально необходимым. Вот как пишет об этом Ф. И. Шаляпин: «Актер стоит перед очень трудной задачей — задачей раздвоения на сцене. Когда я пою, воплощаемый образ передо мною всегда на смотру. Он перед моими глазами каждый миг. Я пою и слушаю, действую и наблюдаю. Я никогда не бываю на сцене один…. На сцене два Шаляпина. Один играет, другой контролирует».
У нас еще неоднократно будет возможность убедиться в том, что аналогичное частичное расщепление сознания характерно не только для актерского труда, но и для состояния художественного восприятия. А сейчас обратим внимание на то, что Шаляпин, во многом развивая, по сути, платоновский взгляд на художественное вдохновение, добавляет к нему некий новый момент. Это — сознательный контроль. Такое уточнение платоновской позиции вполне объяснимо. Шаляпин пишет об этом с позиции профессионального творца. Его не может удовлетворить роль пассивного проводника творческих эманаций, проистекающих от высших сил (или из сферы бессознательного), пассивно ожидающего прихода вдохновения. У Платона художник выступает в модусе «со мной происходит», активная роль принадлежит не ему, а той силе, которая действует через него. Заметим, что Шаляпин не разрушает этой картины, не отрицает этого механизма, а существенно его дополняет. Помимо художника, находящегося целиком внутри процесса и транслирующего творческую энергию, идущую «откуда-то», существует еще один художник-двойник, контролирующей весь этот процесс извне, и не просто контролирующий, но и направляющий его в то или иное русло, и не просто направляющий, но способный вызвать, запустить весь этот механизм или же остановить его. Это и есть «раздвоение», о котором писал Шаляпин.
Вот отрывок из цитированной уже книги Ф. И. Шаляпина «Маска и душа», где со всей отчетливостью выражена его позиция по поводу взаимодействия спонтанного и произвольного, бессознательного и сознательного, «со мной происходит» и «я делаю»: «Есть в искусстве такие вещи, о которых словами сказать нельзя. Я думаю, что есть такие же вещи и в религии. Вот почему и об искусстве, и о религии можно говорить много, но договорить до конца невозможно. Доходишь до какой-то черты — я предпочитаю говорить, до какого-то забора, и хотя знаешь, что за этим забором лежат необъятные пространства, что есть не этих пространствах, объяснить нет возможности. Не хватает человеческих слов. Это переходит в область невыразимого чувства. Есть буквы в алфавите, и есть знаки в музыке. Все вы можете написать этими буквами, начертить этими знаками. Все слова, все ноты. Но…. Есть интонация вздоха — как написать или начертать эту интонацию? Таких букв нет.
Как у актера возникает и формируется сценический образ, можно сказать только приблизительно. Это будет, вероятно, какая-нибудь половина сложного процесса — то, что лежит по ту стороны забора. Скажу, однако, что сознательная часть работы актера имеет чрезвычайно большое, может быть даже решающее значение — она возбуждает и питает интуицию, оплодотворяет ее.
Для того чтобы полететь на аэроплане в неведомые высоты стратосферы, необходимо оттолкнуться от куска плотной земли, разумно для этой цели выбранного и известным образом приспособленного. Какие там осенят актера вдохновения при дальнейшей разработке роли — это дело позднейшее. Этого он и знать не может и думать об этом не должен — придет это как-то помимо его сознания; никаким усердием, никакой волей он этого предопределить не может. Но вот от чего ему оттолкнуться в его творческом порыве, это он должен знать твердо. Именно знать».
Концепцию Платона очень легко изобразить на схеме, настолько она проста наглядна:

А это — та же схема, но с Шаляпинскими добавлениями:
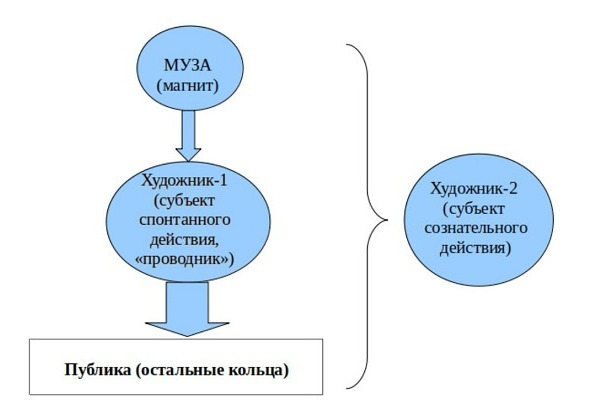
Как мы видим, она отличается тем, что в ней появился новый элемент — активное и сознательное «я» художника, который, с одной стороны, остается включенным в платоновскую схему и испытывает воздействие «Музы», с другой стороны, помещает себя вне этого механизма и оказывает на его работу свое управляющее воздействие («раздвоенность»). Это, собственно, и есть контролируемый художественный транс. В этой схеме один человек выступает в двух функциональных ролях: а) как субъект спонтанного действия, б) как субъект сознательного действия.
Признаемся, рисуя вторую схему, мы не были до конца последовательными. У Платона она имела однонаправленный характер. С введением «дополнительного элемента» картина меняется, вообще говоря, более радикальным образом. Прежде всего, это должно было бы коснуться стрелок, изображающих направленность действия. Здесь действие становится взаимодействием и все значительно усложняется. Но мы пока оставляем эти моменты в стороне.
Было бы неверным называть эту схему «Шаляпинской» без всяких оговорок. Во-первых, сам автор книги «Маска и душа» подобных схем не рисовал. Во-вторых, творческий метод Шаляпина никоим образом не сводится к данной (и какой бы то ни было) схеме. В-третьих, значение сознательного контроля над процессами взаимодействия с бессознательным, хорошо понимал и отстаивал не только Шаляпин. На этой же позиции, фактически, стояли многие другие великие творцы, среди которых мы найдем имена К. С. Станиславского, М. А. Чехова, Г. Г. Нейгауза и других художников и педагогов, понимавших роль бессознательного и значение сознательного, волевого творческого действия. Кроме того (и это для нас особенно важно), эта схема носит достаточно обобщенный характер, она допускает различные толкования и различные расстановки акцентов. Эта гибкость схемы позволит использовать ее для лучшего понимания различий между разными позициями по отношению к проблеме измененного (особого) состояния сознания (творческого состояния), в искусстве.
Мы выделим три группы таких различий.
Первая группа касается трактовки смысла самого верхнего элемента схемы, обозначенного словами «муза» или «магнит». Речь, собственно, идет об источнике изменений. Здесь существенно выделить два момента: а) природа источника, б) роль (или функция) источника.
Вторая группа относится к различиям в понимании среднего элемента (или средних элементов) схемы. У нас этот элемент (уровень) обозначен словом «художник». И здесь, в первую очередь, стоит вопрос о его роли в процессе, насколько эта роль активна или пассивна.
Третья группа связана с возможностью по-разному относиться к роли публики или, если речь идет об отдельном человеке (зрителе, слушателе, читателе), к роли реципиента. Сюда же относится вопрос взаимосвязи между художественным трансом и художественной коммуникацией.
Наибольший интерес для нас представляет первая группа, так как именно с ней связана, в первую очередь, сама динамика трансовых состояний. И ей мы уделим, поэтому, больше внимания, чем двум другим.
Вернемся в этой связи к платоновской модели. Как раскрывалась в ее контексте природа верхнего элемента? Если не понимать платоновский текст иносказательно, на что он сам не дает никаких оснований, то источник вдохновения имеет здесь божественную (в буквальном, а не переносном смысле) природу. Он трансцендентен относительно художника и его деятельности. При этом активная роль принадлежит именно источнику. Талант художника состоит, следовательно, в его пригодности для выполнения функции пассивного транслятора творческих эманаций некой высшей силы: «Муза — сама (выделено мной, Ю.Д.) делает вдохновенными одних, а от них тянется цепь других, одержимых божественным вдохновением». Обратим внимание на то, что в этой схеме, специфика собственно художественно-творческого состояния не подчеркивается никоим образом. Напротив, проводится недвусмысленная параллель (можно сказать, ставится знак равенства) между художественным вдохновением и экстатическим состоянием вакханок и корибантов. Чем отличается художник от вакханки, шамана или спирита из этой схемы мы узнать не можем.
Платоновский ответ, очевидно, не является точкой зрения исключительно данного философа. Он представляет собой распространенную точку зрения, хотя в разных культурах, в разные эпохи проявлявшую себя по-разному. Само собой разумеется, что представление о музах и их функциях есть не что иное, как мифологическая форма утверждения именно этой мысли. Однако вплоть до настоящего времени мы можем и услышать, и прочитать нечто о музах или о внезапно посетившем художника вдохновении, что, пусть метафорически, но выражает нередко эту же идею: художник — транслятор, а истинный источник находится в высших сферах. Эта идея очень часто артикулируется и утверждается самим искусством. Когда-то в переносном, а когда-то и в прямом смысле. Вспомним пушкинского «Пророка». Его же «Египетские ночи». Его же «Моцарта и Сальери»…
Иное, тоже весьма влиятельное понимание природы верхнего элемента модели заключается в отождествлении его с личным бессознательным (или подсознанием) человека. Это, собственно, та сила, которая находится в самом человеке, так сказать, внутри него, но, тем не менее, не принадлежит ему в том смысле, что он не способен её контролировать, ею управлять. Он даже не способен ее видеть. Зато она его видит, им управляет, организует его жизнь, режиссирует его судьбу. Она координирует работу всех его органов, всего его организма… И даже содержание его сознания, его мысли и чувства во многом определяются ею. Как тут не заметить аналогию между этим, вполне естественным явлением и рядом мифологических сущностей, наделенных властью над человеком и его жизнью. Понятно, что отношение к этому источнику могущества может быть различным — от предельно почтительного, близкого к религиозному, сочетающему безграничную веру, благоговейные трепет и молитвенную просьбу, до цинично-утилитарного, «хакерского». В последнем случае подсознание рассматривается просто как некий «ресурс», которым необходимо поскорее овладеть и воспользоваться, неважно каким способом. В одном случае к подсознанию относятся уважительно, как к субъекту, быть может даже как к существу высшего порядка. В другом — как к объекту, как к своего рода машине, пусть и очень сложной. Между этими крайностями лежит отношение к нему как к части меня, части важной и сокровенной.
Однако нас интересуют не столько различные подходы к бессознательному, сколько различные подходы к проблеме художественных творческих состояний. Их много, но у нас нет задачи, разбирать их по отдельности. Мы позволим себе сильное огрубление реальной картины и сведем все многообразие оттенков к трем позициям — двум крайним и одной средней. Условно говоря, если представить себе отношение сознательной и бессознательной компоненты художественно-творческого процесса в виде весов, то в одном случае явно перевешивает чаша, соответствующая роли сознательных процессов, в другом — чаша, соответствующая роли подсознания. Но есть еще и вариант относительного динамического равновесия.
Начнем с варианта, где явно доминируют сознательные процессы. Заметим, что соответствующая позиция проявляется себя не только и не столько в текстах и высказываниях, сколько в практике, в учебной, прежде всего. Забавно то, что эта установка, утверждающая приоритет сознания, сама чаще всего не осознается. Не осознается, прежде всего, сама проблема и, следовательно, способ ее решения. Все как бы, само собой разумеется. Само собой разумеется, что искусство, как и все на свете подчиняется неким законам. Эти законы постигаются разумом, ибо разум на то и существует, чтобы постигать законы. Художник не первым пришел в этот мир и не первым начал постигать законы мира и, в частности, законы красоты (законы художественного совершенства). До него это делали другие, чей опыт зафиксирован в культуре. Учись, постигай мир, постигай законы твоего вида искусства, осваивай опыт великих, осваивай культуру. Развивай способности, прежде всего процессы сознательного характера — внимание, волю, наблюдательность, сообразительность, эмоциональную устойчивость и т. д. — вот императивы этого «солнечного», «аполлонийского» пути. Без всяких специальных на то деклараций именно так построено обучение большинству художественных специальностей. Описание подобного пути к вершинам мастерства в несколько иронической форме Пушкин вложил в уста своего Сальери.
Понятно, что делая сознательный акцент на сознательных же способностях, человек, независимо от своих намерений, развивает также и подсознательные механизмы, на которые опираются функции сознания. Но акцент, безоговорочно сделанный на сознательном, может в иных случаях, стать камнем преткновения на пути развития иной стороны целого, а, следовательно и на самом целом.
Акцент на «солнечной стороне», на сознательности не обязательно связан именно с рационализмом, как это может показаться. Речь может идти также и о сознательной воле. Не о шопенгауэровской воле, которая скорее ассоциируется с бессознательным, а именно о человеческом сознательно-волевом действии. Такая установка имеет определенный психотехнический аспект, ибо от нее, в частности, зависит способ организации своего внимания и иных сознательных процессов в процессе творческой работы. В частности, особое значение приобретает вопрос о возможностях и путях произвольного приведения в состояние мобилизации своего психического аппарата, об управлении вниманием, воображением, мышлением, о синтезе чувства, разума и воли и т. п. И этот путь вовсе не является тупиковым, хотя, как может показаться, здесь игнорируются бессознательные процессы. Они, фактически, не игнорируются, просто не на них здесь заостряется внимание. В качестве примера укажем работу К. А. Мартинсена «Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано». Вторая глава этой книги имеет выразительное название — «Звукотворческая воля». «Творческое начало, — пишет он, — зарождаясь в душе, как своем первоисточнике, превращается в чувство, становится переживанием и перевоплощается в действие, только возбудив мысль (в музыке — через слух), и уж таким путем включает в указанный процесс и тело. И действительно, существуют некие физические предощущения (исходящие от тела) подлинного творческого акта, которые к тому же непосредственно связаны с действенным переживанием звукотворческой воли. Я хочу объединить их формулой: приведение в состояние готовности нервов и мышечной системы». В этой формуле замечательным образом связаны, как минимум, две важные идеи. Во-первых, идея художественно-творческого состояния как особой мобилизации душевных сил, состояния активного, состояния повышенной осознанности. Во-вторых, идея синтеза многих процессов и функций в едином творческом акте. Обращает также внимание неоднократное подчеркивание автором значения телесных ощущений и даже «предощущений». Таким образом особое творческое состояние в искусстве предстает здесь как а) состояние повышенной активности душевных сил, состояние их мобилизации, б) состояние повышенной осознанности, в) состояние синтеза душевных сил (функционального синтеза), г) состояние с особой ролью телесных ощущений, которые органически включаются в развитие творческого процесса, то есть приобретают далеко не только телесный смысл.
Противоположным вариантом подхода к пониманию творческого (измененного) состояния в искусстве является, как мы уже сказали выше, подчеркивание особой роли бессознательной компоненты. Заметим, что утверждение значимости бессознательного начала в искусстве может быть никоим образом не связано ни с проблемами художественной психотехники, ни с разговором об измененных состояниях сознания. Нас же сейчас интересует именно эта последняя тема. Поэтому оставим в стороне известные идеи романтиков о бессознательной народной душе и волю Шопенгауэра. Поищем примеров, где роль бессознательного начала связывается с проблемой измененных состояний в искусстве. Таких примеров, вообще, немало, особенно если не ограничивать их поиски книгами, а посмотреть на практику обыденного словоупотребления, отражающую, так или иначе, представления, бытующие на уровне массового сознания.
Искусство как гипноз, как магия, как шаманство — все это довольно привычные слова. Правда, воспринимаются они чаще всего не буквально. Иногда в этих сравнениях присутствует негативный оттенок. В свое время в печати регулярно публиковались статьи, в которых уничтожительной критике подвергалась рок-музыка как таковая. И в качестве одного из аргументов с достаточным постоянством всплывал мотив «рок-шаманства», то есть достижения измененных (трансовых) состояний сознания с помощью рок-музыки. Иногда ее воздействие даже сравнивалось с наркотическим. Аналогичным образом когда-то критиковали джаз; не избежала этой участи дискотека и даже фольклор.
Когда в начале 80-х годов стал приобретать известность фольклорный ансамбль Дмитрия Покровского, те же самые обвинения посыпались и в его адрес. Правда, к обвинениям типа «массовый гипноз», «шаманство», «музыкальный наркотик» прибавилось новое: «не фольклор, а какой-то рок (джаз)». Интересно, что наличие трансового эффекта не ставилось под сомнение ни противниками, ни сторонниками. Но поклонники ансамбля (так теперь говорят, фанаты) видели в этом особую ценность, и, по-видимому, были по-своему правы.
В XX веке проблема художественного транса вообще обсуждалась достаточно активно. И не только в связи с джазом, роком и подобными феноменами массовой (и молодежной) культуры. Для сюрреализма, идейно опиравшегося на концепцию Фрейда, сон, сновидение, «сноподобные» состояния сознания имели значение важнейшего источника творческого вдохновения. Умение произвольно входить в транс ценилось как необходимая творческая способность. Сон воспринимался как транс недостаточно полный, ибо в нем присутствуют остатки сознательного контроля. Акцент постепенно перемещался в сторону психических расстройств, в которых происходит более полное раскрепощение бессознательного.
Связь искусства, особенно музыки с измененными состояниями сознания легла в основу не только особых «элитарных» художественных течений, но и была активно воспринята массовой культурой, молодежными субкультурами, прежде всего. Впрочем, такие явления, как психоделическая музыка не вполне отвечают теме нашего исследования. Нас-то ведь интересует транс, вызываемый самим искусством, транс художественный по своей природе. Что касается психоделической музыки, то здесь в создании трансового эффекта активная роль принадлежит различного рода химическим веществам. Обратим лишь внимание на одно очень важное обстоятельство: субъектом трансовых переживание здесь становится не только художник (автор, исполнитель), но и реципиент (слушатель, зритель). Эта сторона процесса художественной коммуникации в данной субкультуре почему-то становится очень важной, она осознается и сознательно культивируется.
Обе позиции, и ту, что делает акцент на активизации сознательных аспектов творческого состояния, и ту, что отдает пальму первенства бессознательному, мы, конечно, охарактеризовали крайне поверхностно. Но и этого достаточно, чтобы увидеть явное противоречие, как минимум, в одном пункте. Если в первом случае переход в творческое состояние связан с повышением осознанности и волевого контроля над деятельностью, то во втором случае, сознание и сознательная воля как бы выпускают из рук бразды правления. Это что — два совершенно разных состояния? А может быть это два взгляда на нечто более сложное, каким-то странным образом сочетающее в себе эти, казалось бы, взаимоисключающие моменты? Как на эти вопросы отвечают представители «средней позиции»?
Как уже было сказано, представители этой позиции признают важную роль, как за сознательной, так и бессознательной стороной процесса. Фактически, мы уже привели вполне достойный пример подобной позиции, упомянув имена К. С. Станиславского, Ф. М. Шаляпина, М. А. Чехова. Позиция Станиславского детально прописана в его знаменитой «Работе актера над собой». Вот одно из кратких афористичных высказываний по обсуждаемой проблеме: «Одна из главных задач, преследуемых „системой“ заключается в естественном возбуждении творчества органической природы с ее подсознанием»
Отношение Шаляпина к этому вопросу хорошо иллюстрируют приведенные уже высказывания. Подробно она проанализирована в книге Ирины Силантьевой «Шаляпин, каким его знали книги» Его идея «раздвоения» или «расщепления» актерского «я» на активное сознательно-волевое, контролирующее, с одной стороны, и «пассивное», спонтанно действующее, с другой стороны, очень важна для нас. Им, фактически, предложен способ взаимодействия, если хотите, своеобразной творческой игры сознания и подсознания. Собственно, спонтанное «я» и есть канал выхода бессознательного, а органика актера, его тело — тот пункт, где встречаются, пересекаются сила сознания с силой бессознательного. Возможно, здесь мы находим ответ (или вариант ответа) на вопросы, сформулированные выше. Одна сторона натуры художника, его, так сказать, «часть», изменяет свое состояние в сторону повышения уровня осознанности и волевого контроля, другая движется в противоположном направлении. Возникает своеобразный симбиоз, «союз луны и солнца». М. А. Чехов подходит к этой проблеме по-своему, делая особый акцент на работе с образами. Теоретически, конкретных методик может быть достаточно много. Однако, общей особенностью «средней позиции» является то, что вопрос о доминировании одного из начал здесь заменяется вопросом о способе их творческого взаимодействия.
Итак, обсуждая природу верхнего элемента модели, условно названной «муза» или «магнит», мы выделили два ответа: а) источник транса — высшая сила, б) источник транса — сам человек, точнее, его подсознание. Собственно, есть возможность и для своеобразного «смешанного ответа», при котором источник, хотя и не связан с высшими силами, тем не менее, не теряет своего трансцендентного характера. Это может быть «бессознательная душа народа», юнговское «коллективное бессознательное», или нечто в духе трансперсональной психологии. Мы позволим себе сейчас не рассматривать подобных вариантов, хотя будем иметь в виду сам факт их существования.
Теперь же скажем, что существует и третий ответ на вопрос об источнике транса (творческого состояния, вдохновения и т.п.). Он звучит так: источником транса является само искусство. Художественное произведение, в частности. Это не стоит трактовать в «магическом» или «экстрасенсорном» духе, как если бы художественное произведение обладало какими-то волшебными силами, способными очаровывать человека подобно пению сирен. Речь идет скорее о том, что художественное произведение — атрибут художественной деятельности, которая, с одной стороны, закреплена в культуре, а с другой, опирается не естественные законы человеческой психики. Элементом этой деятельности, столь же атрибутивным, как и художественный текст, является особое состояние, адекватное природе, задачам и условиям этой деятельности. И без этого состояния невозможно полноценное включение ни в процесс художественного творчества, ни в процесс художественной коммуникации.
Ярким примером такого подхода является концепция М. Е. Маркова. Несколько слов о ее авторе, чрезвычайно талантливом и незаслуженно забытом человеке. Марк Ефимович Марков. Психолог, гипнолог, он обладал ярко выраженными способностями, которые теперь принято называть словом «экстрасенсорные». Но главным предметом его интересов были научные исследования в области, которую он сам обозначил как «функциональная теория искусства». Основные ее положения он изложил в немногочисленных статьях и книге «Искусство как процесс». Перескажу для краткости своими словами некоторые положения его теории, имеющие прямое отношение к нашей теме.
1. Искусство доставляет человеку наслаждение. Это указывает на то, что с его помощью человек удовлетворяет какие-то очень существенные свои потребности. Главная из них состоит в обогащении жизненного опыта. Достигается это путем присвоения, «впитывания» огромных информационных ресурсов, содержащихся в художественном произведении. Опыт передается не отвлеченно, а личностно, как пережитый.
2. Главным (реализационным) звеном всего процесса функционирования искусства является художественное восприятие. Именно в этом акте осуществляется передача жизненных программ. Присвоение этих программ отвечает собственным потребностям индивида и интересам всего общества. Таким образом, вся система художественной культуры как бы «нацелена» на художественное восприятие
3. Личностное переживание художественного содержания обеспечивает силу воздействия искусства на людей. Оно достигается за счет того, что искусство способно изменять общее психофизиологическое состояние человека. В этом состоянии человек становится значительно более восприимчивым к воздействию художественной информации. Получается, что искусство, с одной стороны, приспособлено к восприятию именно в этом особом состоянии сознания, с другой — обладает способностью приспосабливать человека к себе, приводя его в соответствующее состояние.
Суть производимых изменений можно свести к следующим четырем позициям.
Изменение порогов. На восприятие художественной информации, идущей от произведения, пороги значительно снижаются, что делает человека более восприимчивым. На восприятие всей прочей (конкурирующей) информации пороги, напротив, повышаются, как бы защищая внимание человека от отвлекающих его факторов. Все это создает временную монополию произведения искусства на владение сознанием человека.
«Артефазное состояние». Еще И. П. Павлов на основе своих экспериментальных исследований сформулировал концепцию, согласно которой кора головного мозга по мере перехода от бодрствования ко сну проходит ряд промежуточных состояний. Эти состояния были названы фазовыми. В состоянии бодрствования действует «закон сил», в соответствии с которым сильный раздражитель вызывает сильную реакцию, а слабый — слабую. Первая переходная фаза называется «уравнительная». Название говорит само за себя: и сильный раздражитель, и слабый дают одинаковую по силе реакцию. Далее следует «парадоксальная фаза». Здесь все переворачивается «вверх ногами»: слабый раздражитель вызывает сильную реакцию, а сильный — слабую. Третья фаза — «ультрапарадоксальная». Она меняет качественную направленность реакции: положительные раздражители приобретают значение отрицательных и наоборот.
Для психотерапии и гипноза особое значение имеет парадоксальная фаза, позволяющая усилить воздействие словесных внушений и иных факторов информационного воздействия, ослабив критику, вызываемую жизненным опытом и привычными установками. В соответствии с теорией М. Е. Маркова восприятие произведения вызывает у человека переход в фазовое состояние (в основном речь идет о парадоксальной фазе). Артефазным оно названо потому, что вызывается контактом с произведением искусства и, кроме того, избирательно направлено на приоритетное восприятие художественной информации. Благодаря этому «на слабые, но художественные раздражители мозг отвечает сильными эмоциональными реакциями, а такой мощный фактор, как ранее накопленный жизненный опыт, ослабляется до степени, допускающей диффузию, проникновение в него и его изменение, за счет чего и осуществляется… воздействие художественного произведения».
Смещение на смысл. Любое явление человек оценивает двояко: с точки зрения его объективного значения и с точки зрения его личностного смысла. В зависимости от ситуации, от контекста та или иная сторона оказывается преобладающей. Так, роза на столе ботаника скорее воспринимается со стороны ее объективного значения, а роза в букете цветов — со стороны личностного смысла. Влияние искусства на человека таково, что преимущество приобретают именно личностные (и культурные) смыслы. Восприятие и осознание здесь являются принципиально смысловыми.
Перенесение. Так называется особый психологический механизм, благодаря действию которого зритель, читатель, слушатель «не просто узнает о событиях, описанных в книге, фильме и т.д., а эмоционально переживает их, причем с психологической позиции героя произведения (в некоторых видах и жанрах искусства — автора и интерпретатора). Воспринимающий неосознанно живет в образе героя, испытывая его радости и горести, страхи и надежды, все его эмоции, и таким путем усваивает его эмоциональное отношение к действительности, его чувства. Это не сопереживание или сочувствие… не фрейдовская идентификация и не „вчувствование“ Липпса, а совершенно особый, только художественному восприятию свойственный, порядок организации мозговых связей: „перенесение“».
Хочется сразу обратить внимание на то, что все эти позиции сформулированы человеком, идущим не от искусства к психологии, а, наоборот, от практической психологии к искусству. Это взгляд на искусство психотерапевта, гипнотизера, обладавшего, помимо прочего, сильными экстрасенсорными способностями. И вот, он увидел в искусстве совершенно особый по своим возможностям способ позитивного воздействия на личность, в том числе на психику человека и его здоровье в целом. Он почувствовал, что искусство может существенно расширить его и без того значительные возможности. В обращении к искусству он видел будущее медицины, педагогики, практической психологии. Им были проведены различного рода экспериментальные исследования и даже отсняты фильмы (также в порядке эксперимента), нацеленные специально на достижение тех или иных психофизиологических и терапевтических результатов, в частности фильм, обезболивающий роды.
Как гипнотизер он не мог не обратить внимания на то, что восприятие искусства изменяет состояние сознания, погружая человека в особый художественный транс. Для гипнотизера это ключевой момент. Приведенные выше позиции его теории, касающиеся изменения порогов, артефазного состояния, смещения на смысл и перенесения, раскрывают разные грани художественного транса — те грани, которые он обнаружил и оценил как наиболее существенные.
И дело не в том, насколько полно и точно он их сформулировал, и не упустил ли он при этом еще чего-то существенного. Как геолог-разведчик находит месторождение и говорит: «Копать здесь», — так и он нашел то место, где нужно копать. Проблема художественного транса оказывается ключевой для всякого, кто хочет освоить искусство как инструмент воздействия или самоизменения. Заслуга М. Е. Маркова в том, прежде всего, и состоит, что он сформулировал значение этого транса как важнейшего функционального звена искусства и предпринял попытку его системного описания.
Результаты его исследований ставят перед нами целый ряд вопросов. Если существует особый художественный транс, то можно ли освоить технику самостоятельного вхождения в этот транс? Можно ли сознательно управлять этим состоянием, усиливать или ослаблять его, произвольно менять какие-то иные его параметры? Можно ли с помощью художественного транса решать какие-то практические задачи, то есть не только погружаться в него, но и работать в нем? Ведь и гипноз нужен не для того, чтобы в него просто погружаться (погружать), а для того, чтобы работать, используя открываемые им возможности. Для того чтобы отвечать на эти и другие возникающие вопросы, существовал только один путь. Необходимо было исследовать этот транс. Причем не только и не столько отвлеченно теоретически, но и практически. А значит, нужно в первую очередь входить в него самому, наблюдая, запоминая все эффекты и впечатления, встречавшиеся на этом пути, осмысливая новый и необычный опыт.
Мы видим на этом примере, как теоретическая концепция, на определенной стадии развития сама «толкает» нас в сферу практики. Ведь, что такое техника самостоятельного вхождения с художественные состояния, или возможность сознательной работы в этих состояниях? Это, собственно, и есть художественная психотехника. Однако было нечто, что мешало, во всяком случае, мне, воспользоваться концепцией М. Е. Маркова непосредственно в практике. Я не сразу понял, что именно. Потом понял. Оказалось, что это — психологический (психофизиологический) язык описания. У меня, поэтому, есть сознательное стремление, обсуждая вопросы художественной психотехники, отойти от языка психологии искусства. На то есть свои причины.
Одна из них состоит в том, что художественное сознание содержит в себе множество разных эффектов, известных и описанных в разных, часто плохо стыкующихся, разделах психологической науки. Это не позволяет построить единую, достаточно полную и последовательную психологию искусства, основанную на каком-либо внутренне цельном разделе психологии. Но для практической работы нужен единый подход, а главное единый язык, способный стать языком практического действия. Это должен быть язык помогающий, а не мешающий формировать образ тех действий, которые предполагается осуществить, тех состояний, которые предлагается пережить. Я глубоко убежден в правильности положений о фазовых состояниях, являющихся элементом художественного транса. Но мне совершенно непонятно, как на языке фазовых состояний можно сформулировать конкретную психотехническую задачу. Неужели можно сказать ученику: «Войди в парадоксальную фазу»? Интересно, как он будет это делать?
Язык психофизиологических состояний и процессов не удобен для этого в принципе. Язык действия должен опираться на предметность действия. В этом отношении вообще значительно удобнее иметь дело с процессами исполнительской деятельности или с художественным творчеством, особенно с таким, где четко представлена материальная компонента творческого процесса. Легче выстраивать деятельность тогда, когда есть некая внешняя предметность. Гораздо сложнее в этом отношении работать с процессом художественного восприятия. Вопрос, как это делать, ведь предметная внешняя деятельность здесь минимизирована. Практически, все сведено к внутренним состояниям и переживаниям. Переживания — это осознаваемая часть процесса. Но едва ли не самые главные его составляющие не осознаются, то есть не воспринимаются не только на внешнем плане, но и на внутреннем. Как работать с такими процессами? Что вообще можно делать с таким материалом, с которым непонятно как манипулировать?
Выход из этого тупика я вижу в том, чтобы перейти с языка психических состояний на язык «реальностей», соответствующих этим состояниям. Условимся о некоторых рабочих понятиях, примем некие рабочие определения. Мы уже касались вопроса многозначности понятия «сознание». Теперь договоримся понимать под этим термином собственно конкретный способ осознания всех впечатлений, ощущений и прочего. Можно сказать так: сознание мы будем понимать как способ организации опыта. Изменилось состояние сознания, — меняется способ структурирования опыта. Результатом этого процесса оказывается собственно опыт, организованный тем или иным способом. Его-то мы и будем называть реальностью. В соответствии с таким пониманием изменение состояния сознания влечет «переход» в иную реальность. Относится сказанное и к художественному трансу, который есть одновременно и переход в особое «художественное состояние сознания», и попадание в «художественную реальность». Строить художественную психотехнику как технику практического действия в контексте особой реальности, манипулируя с элементами этой реальности, несомненно, удобнее, нежели копаться в собственной душе. Мы, таким образом, приходим к проблеме художественной реальности.
Для этого необходимо, конечно, построить соответствующий язык и задать определенную картину этой художественной реальности, описать ее и метафорически, и теоретически. Метафорическое описание необходимо нам, прежде всего, из чисто практических соображений, ибо этот язык более «понятен» душе (в том числе и подсознанию), нежели теоретический язык. В свою очередь, без языка теоретического у нас не будет прочных концептуальных оснований и мы «поплывем» под парусами фантазии, оставив дома компас.
Язык перехода в иную реальность важен для нас, помимо прочего, еще и потому, что он активно используется самими художниками для описания соответствующих творческих состояний. Приведу несколько примеров. Для начала позволю себе довольно длинную цитату из «Доктора Живаго»:
«После двух-трех легко вылившихся строф и нескольких, его самого поразивших сравнений, работа завладела им, и он испытал приближение того, что называется вдохновением. Соотношение сил, управляющих творчеством, как бы становится на голову. Первенство получает не человек и состояние его души, которому он ищет выражения, а язык, которым он хочет его выразить. Язык, родина и вместилище красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека и весь становится музыкой, не в отношении внешне слухового звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда подобно катящейся громаде речного потока, самым движением своим обтачивающей камни дна и ворочающей колеса мельниц, льющаяся речь сама, силой своих законов создает по пути, мимоходом, размер и рифму, и тысячи других форм и образований еще более важных, но до сих пор неузнанных, неучтенных, неназванных.
В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состояние мировой мысли и поэзии, и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в её историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение».
Заметим, что, описывая суть происходящего изменения, Пастернак выходит за рамки собственно душевных процессов и состояний. Иным становятся отношение между человеком и языком. А это уже — иная (иначе организованная) реальность. Язык становится главной действующей силой, источником творческой воли, а человек — проводником этой творческой воли. Язык, таким образом, оказывается здесь тем «магнитом», о котором столь выразительно написал Платон.
Теперь другое известное свидетельство:
X
И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.
XI
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.
(А. С. Пушкин. Осень)
Это тоже язык другой реальности. Здесь поэзия пробуждается, мысли волнуются в отваге, рифмы навстречу им бегут, перо тянется к бумаге, стихи свободно текут. Обратим также внимание на «незримый рой гостей». Со всем этим нам еще предстоит встретиться. Можно сказать, что это просто такой поэтический язык. Да, но этот язык устроен так, что описывает психический процесс творческого вдохновения в образах другой реальности, где вещи ведут себя несколько иначе. Именно так искусство понимает и выражает само себя.
А вот еще:
«Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо…
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь».
(Анна Ахматова. Тайны ремесла. Творчество)
Пока без комментариев.
А теперь совсем коротко о том же:
«И труд нелеп, и бестолкова праздность,
И с плеч долой все та же голова,
Когда приходит бешеная ясность,
Насилуя притихшие слова».
(Александр Башлачев)
Скажете, что это «всего лишь» поэтическая образность? Тогда обратимся к свидетельству великого практика:
«Образы фантазии живут самостоятельной жизнью… Ваши забытые, полузабытые желания, мечты, цели, удачи и неудачи встают перед вами. Правда, они не так точны, как образы воспоминаний сегодняшнего дня, они уже «подменены» кем-то, кто фантазировал над ними в то время как вы «забыли» о них, но все же вы узнаете их. И вот среди всех видений прошлого и настоящего вы замечаете: то тут, то там проскальзывает образ совсем незнакомый вам. Он исчезает и снова появляется, приводя с собой других незнакомцев. Они вступают во взаимоотношения друг с другом, разыгрывают перед вами сцены, вы следите за новыми для вас событиями, вас захватывают странные, неожиданные настроения. Незнакомые образы вовлекают вас в события их жизни, и вы уже активно начитаете принимать участие в их борьбе, дружбе, любви, счастье и несчастье. Воспоминания отошли на задний план — новые образы сильнее воспоминаний. Они заставляют вас плакать или смеяться, негодовать или радоваться с большей силой, чем простые воспоминания. Вы с волнением следите за этими откуда-то пришедшими, самостоятельной жизнь живущими образами, и целая гамма чувств пробуждается в вашей душе. Вы сами становитесь одним из них, ваше утомление прошло, сон отлетел, вы в приподнятом творческом состоянии.
Актер и режиссер, как и всякий художник, знают такие минуты. «Меня всегда окружают образы, — говорит Макс Рейнгардт. «Все утро, — писал Диккенс, — я сижу в своем кабинете, ожидая Оливера Твиста, но он все еще не приходит». Гёте сказал: «Вдохновляющие нас образы сами являются перед нами, говоря: «Мы здесь!» Рафаэль видел образ, прошедший перед ним в его комнате, — это была Сикстинская мадонна. Микеланджело воскликнул в отчаянии: «Образы преследуют меня и понуждают ваять их формы из скал!»
Если бы современный актер захотел выразить старым мастерам свои сомнения по поводу их веры в самостоятельное существование творческих образов, они ответили бы ему: «Ты заблуждаешься, предполагая, что можешь творить исключительно из самого себя. Твой матерьялистический век привел тебя даже к мысли, что твое творчество есть продукт мозговой деятельности. Ее ты называешь вдохновением! Куда ведет оно тебя? Наше вдохновение вело нас за пределы чувственного мира. Оно выводило нас из узких рамок личного. Ты сосредоточен на самом себе. Ты копируешь свои собственные эмоции и с фотографической точностью изображаешь факты окружающей тебя жизни. Мы, следуя за нашими образами, проникли в сферы, для нас новые, нам дотоле неизвестные. Творя, мы познавали!»…
«Власть над образами… Но если в вас достаточно смелости, чтобы признать самостоятельное существование образов, вы всеже не должны довольствоваться их случайной, хаотической игрой, как бы много радости она ни доставляла вам. Имея определенную художественную задачу, вы должны научиться властвовать над ними, организовывать и направлять их соответственно вашей цели. (Упражнения на внимание помогут вам в этом.) Тогда, подчиненные вашей воле, образы будут являться перед вами не только в вечерней тишине, но и днем, когда сияет солнце, и на шумной улице, и в толпе, и среди дневных забот»
Я прошу сейчас обратить особенное внимание на те места из приведенного отрывка, где автор прямо-таки настаивает на необходимости признать «самостоятельное существование образов». Они, по мысли Михаила Чехова не только существуют, но как бы обладают и собственной волей, и собственным сознанием. Ко всему этому нам еще предстоит вернуться, а пока отметим лишь одно: в обыденной реальность такое признать трудновато. А в альтернативной реальности, построенной по иным законам, — пожалуй, возможно.
Вообще, в словах «художественная реальность» мало нового. Они употребляются достаточно часто. Имеет смысл лишь уточнить грани их смысла. Было бы полезным различать следующие две стороны этого понятия.
Во-первых, под художественной реальностью часто подразумевается то обстоятельство, что мир, создаваемый художником в своих произведениях не тождественен объективной реальности. Он всегда чем-то отличается. Это и позволяет говорить о существовании особой художественной реальности. В этом случае художественная реальность выступает как характеристика содержания художественного произведения.
Во-вторых, художественная реальность может пониматься как характеристика художественного сознания и художественного восприятия (мировосприятия). Речь здесь уже идет о том, что человек, контактирующий тем или иным образом с искусством, претерпевает некие изменения (перестройки) своего когнитивного аппарата, в результате чего начинает воспринимать реальность иначе. В приведенном выше отрывке из книги Михаила Чехова, нет словосочетания «художественная реальность», но речь, фактически, идет именно о ней, причем, во втором смысле. Это, как легко догадаться, интересует в первую очередь и нас. Впрочем, речь здесь может идти лишь о расстановке акцентов. Оторвать один смысл от второго не представляется возможным. Обе стороны тесно связаны друг с другом.
В том же отрывке говорится о необходимости психотехнической работы, хотя, опять-таки, слов таких здесь нет. Прочтем соответствующее место вновь: «Имея определенную художественную задачу, вы должны научиться властвовать над ними, организовывать и направлять их соответственно вашей цели. (Упражнения на внимание помогут вам в этом.) Тогда, подчиненные вашей воле, образы будут являться перед вами не только в вечерней тишине, но и днем, когда сияет солнце, и на шумной улице, и в толпе, и среди дневных забот». Сам М. Чехов разработал ставшую известной систему актерской психотехники. И она, конечно же, не сводиться только к упражнениям на внимание, но затрагивает многие существенные стороны творчества артиста. В этом смысле он, безусловно, идет вслед за его великим учителем — К. С. Станиславский, который вполне недвусмысленно говорил о профессиональной психотехнике актера. Например, так: «Через сознательную психотехнику артиста — подсознательное творчество органической природы».
Благодаря Станиславскому, его последователям и единомышленникам, слово «психотехника» и соответствующая проблематика прочно вошли в состав актерского профессионализма. О других художественных специальностях этого сказать нельзя. Не имея собственных психотехнических систем, они иногда ощущают эту нехватку и пытаются как-то скомпенсировать ее. В том числе, и за счет обращения к опыту и знаниям актеров и режиссеров. Многие музыканты отдают должное системе Станиславского, испытывая к актерам некоторую зависть по поводу того, что именно актерская специальность имеет развитую профессиональную психотехнику. Музыканты иногда пытаются как-то приспособить ее отдельные элементы к своим нуждам. В цитированной выше книге Г. Когана «У врат мастерства» речь идет об искусстве фортепианной игры, о музыкальном исполнительстве. А вот в работах М Карасевой речь идет в вещах более специальных, в частности о психотехнических вопросах преподавания сольфеджио, о психотехнике развития музыкального слуха.
Однако целостной системы музыкальной психотехники пока не существует. Примерно такая же ситуация с прочими видами искусства (за исключением искусства актера). Одна из причин, почему театр оказался в этом деле впереди других искусств, мне кажется, лежит на поверхности. Сам предмет актерской и режиссерской работы в значительной степени совпадает с предметом психологии: это человеческое действие, поведение, человеческие отношения, человеческие переживания и т. д. От практического овладения этим предметом непосредственно зависит надежность и художественное качество актерской игры, и режиссерской работы. При этом не только театр способен получать нечто ценное для себя от психологии и иных наук о человеке. Он сам может в чем-то обогатить эти науки. Вот свидетельство крупнейшего отечественного психофизиолога. В предисловии к книге П. М. Ершова «Искусство толкования», академик П. В. Симонов пишет: «Для П. М. Ершова режиссерское искусство стало инструментом анализа параметров (измерений) взаимодействия людей, их борьбы, понимаемой в смысле достаточно широком, сопоставимым с термином „игра“ в современной математической теории игр. Мы не будем комментировать каждое из предложенных автором „измерений“. Заметим только, что результаты проведенного анализа существенно дополняют психологию межличностных отношений».
Связь других видов искусства с психологией, ее предметом и методами, носит гораздо более опосредованный характер. Это порождает неизбежные трудности, которые станут еще большими, если попытаться строить на основе конкретных художественных психотехник (заметим, еще не созданных) общую для всего искусства систему художественной психотехники.
Я понимаю всю серьезность этих трудностей, однако хочу попытаться сделать шаг в направлении художественной психотехники, общей для всех видов искусства. Всего лишь шаг, но именно в этом направлении.
Что за самоуверенность! Как вы собираетесь разрешать проблемы, которые только что обозначили?
Никак…
Есть другой путь, где этих проблем нет.
О нем я уже, фактически, сказал. Ответ этот разбросан по разным страницам, а теперь соберем его воедино.
1. В центр внимания поставить не автора и не исполнителя, а реципиента (слушателя, зрителя, читателя). То есть, начать с психотехники художественного восприятия. В пользу такого решения есть, как минимум, три соображения.
Соображение первое: Профессиональная деятельность музыканта отличается от профессиональной деятельности, скажем, живописца значительно сильнее, чем внутренняя активность слушателя от активности зрителя. Иными словами, у субъектов художественного восприятия значительно больше общего, чем у субъектов профессионального творчества, нагруженных многими специфическими моментами.
Соображение второе. Художественное восприятие входит в состав любой художественной деятельности в качестве важнейшего элемента. Художник должен видеть, то, что он рисует, а музыкант должен слышать. Поэтому художественное восприятие есть непосредственно общее для всех видов искусства, и при этом, существенно общее.
Соображение третье. Художественное восприятие — необходимая составляющая процесса художественной коммуникации и, одновременно, существенный элемент художественной культуры. Культура и техника художественного восприятия имеют ценность как таковые. Они не врожденны человеку, не передаются автоматически, а требуют воспитания, развития. «Дело вовсе не обстоит так просто, будто каждый может увидеть то, что есть на самом деле. Истолкование памятника искусства в смысле управления глазом зрителя составляет, прежде всего, необходимую часть историко-художественного воспитания». Художественное восприятие есть, таким образом, особое мастерство, если хотите, особое искусство. И было бы полезным получить в свои руки надежный инструмент, позволяющий это мастерство развивать и совершенствовать.
2. Отказаться от психологического подхода (психологических моделей и понятий) в пользу другого подхода, который мы условно назовем «реальностным». Главным предметом исследования при таком походе оказывается непосредственно художественная реальность, динамика перехода в художественную реальность (и обратно), возможности познания и действия в этой реальности. При этом, вопрос о том, какими психическими механизмами и процессами обуславливаются (обеспечиваются) все подобные феномены, мы оставляем профессиональным психологам, позволяя себе лишь редкие комментарии на сей счет. Главная наша задача — ухватить суть художественной реальности. Впрочем, как мы вскоре увидим, до нас это давно сделали другие.
Многое из того, о чем говорилось в этой главе, будет использовано в дальнейшем. Попробуем сейчас перечислить некоторые наиболее важные идеи, на которые мы будем, так или иначе, опираться.
• Художественный транс, измененное состояние, связанное с искусством.
• Творческое состояние как повышение уровня активности и сознательности, мобилизация и творческих сил и их функциональный синтез.
• Воздействие искусства как особого рода «гипноз».
• Творческое состояние как форма выхода бессознательных импульсов.
• Творческая игра сознания и бессознательного, художественный транс как способ взаимодействия сознания и бессознательного.
• Идея контролируемого расщепления «я» художника.
• Художественная реальность.
• Художественная психотехника.
• Особое значение художественного восприятия.
Используя «реальностный подход» к исследованию (и построению) техники художественного сознания, мы постараемся не растерять смысл этих идей, хотя, возможно, они найдут несколько иной способ выражения.
Глава вторая.
Художественная реальность
Как и любое осмысленное действие, построение теоретической модели (чего бы то ни было) предполагает наличие неких задач, для решения которых эта модель выступает в качестве средства (служит инструментом). Наш случай не является исключением и мы, прежде всего, должны хотя бы в самом общем виде обозначить эти задачи. С известной долей условности они могут быть подразделены на теоретические и практические. Первые связаны с потребностью найти более удобные средства описания и объяснения, разрешить противоречия и иные затруднения… Иными словами речь идет о совершенствовании структуры самого теоретического знания. В этом случае теоретическая модель порождается проблемами теоретического знания и направлена на их решение.
Однако теоретическая модель может служить также и решению задач практического характера. Она помогает лучше понимать (интерпретировать, объяснять) результаты наблюдений и экспериментов и, собственно, организовывать наблюдение и эксперимент. В нашем же случае особое значение приобретает то обстоятельство, что теоретическая модель может оказаться методологической основой для формирования различного рода психотехнических практик, упражнений, тренингов и пр.
Отвечая на вопрос, для чего мы приступаем к построению теоретической модели, мы укажем три основные позиции:
1. Создание методологической и теоретической базы для дальнейшей работы по формированию практической технологии развития художественного сознания, а также соответствующих техник, комплексов упражнений и иных практик в сфере профессиональной художественной психотехники.
2. Построение единой теоретической базы для интерпретации и объяснения (понимания) практического опыта (наблюдаемых и переживаемых феноменов), накопленного в практике (в том числе и в практике автора, в его личном опыте и в опыте работы с группами).
3. Дальнейшее развитие теоретических представлений, касающихся особенностей художественного сознания и художественной реальности, а также того особого (измененного) состояния сознания, которое мы будем называть «Художественный транс». Собственно, художественный транс и составляет центральный пункт нашего теоретического поиска. Теоретическую модель художественного транса мы и должны, прежде всего, построить.
В понятии «художественный транс» конкретизируется наш подход к художественному сознанию. Фактически, мы уже изложили наш подход к этому предмету. Мы опираемся на представление о существовании особого (измененного) состояния сознания, в котором осуществляется адекватное взаимодействие человека (человеческой психики) с художественным произведением. Независимо от того, что это за взаимодействие — авторское творчество, художественное исполнительство, восприятие художественного текста — оно должно протекать в соответствующем состоянии сознания.
Это состояние — особое, оно — другое. Из этой особости, из этой инаковости следует, что мы, так или иначе, должны говорить о переходе из одного состояния сознания (не художественного, обыкновенного, обычного, обыденного) в другое состояние, от этого обычного чем-то отличающееся. Таким образом, на самом верхнем (нулевом) уровне представление о художественном трансе включает как минимум три элемента: а) некое условное «исходное», не трансовое состояние сознания, б) особым образом измененное, специфическое состояние сознания, в) отношение первого и второго, их связь. Последнее трактуется двояко: с одной стороны, как разность, отличие их друг от друга, с другой стороны, как переход от первого ко второму и обратно.
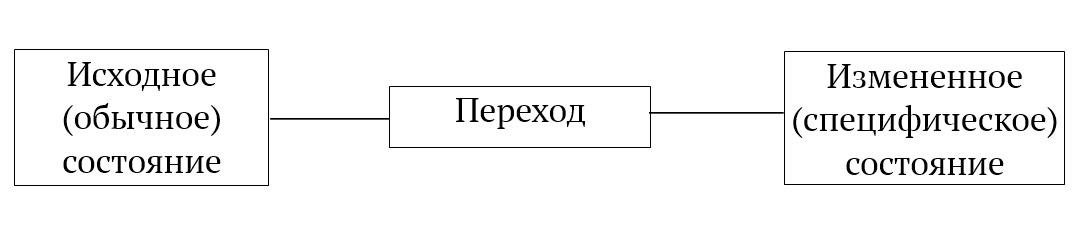
На практике под словом «транс» понимается или третий элемент этой схемы, то есть, измененное состояние, или второй элемент, то есть, собственно переход, движение от первого к третьему. Однако очевидно, что и то, и другое имеет смысл лишь при наличии первого элемента: измененное состояние является измененным относительно чего-то, а переход к чему-то есть одновременно переход от чего-то. Мы поэтому будем иметь в виду систему из трех элементов. Это не означает, что нам необходимо стремиться описывать «исходное» или «обычное» состояние с максимальной полнотой. Это, во-первых, невозможно, а во вторых и не нужно. Нам необходимо лишь задать те признаки «исходного» состояния, относительно которых будет удобно определить и описать изменения, сопутствующие переходу и собственные параметры измененного специфического состояния. Такое описание исходного состояния «с прицелом» на измененное (специфическое) означает, что мы концентрируем свое внимание, прежде всего, на моментах отличия одного от другого.
Мы здесь используем выражение «специфическое состояние», стремясь подчеркнуть его специфическую связь с искусством, с художественной деятельностью и художественной реальностью. Это — такое именно измененное состояние, которое специфично для искусства.
Поскольку сам художественный транс интересует нас не просто сам по себе, а как предмет его технического освоения, это влечет за собой некоторую особую расстановку акцентов. Ведь технический (психотехнический) подход к этой проблеме заставляет, не ограничиваясь вопросом о том, как это происходит, идти дальше и выяснять, как это можно делать. Тогда предметом исследования становится не просто художественный транс, а контролируемый художественный транс. От художественного транса, который как-то со мной происходит (случается), к художественному трансу, который я сам произвожу (вхожу в него произвольно) и далее к художественному трансу, с помощью которого я могу что-то делать, добиваться каких-то сознательно поставленных целей. На этом последнем шаге художественный транс из предмета непосредственного освоения превращается в инструмент для решения каких-то иных творческих задач.
Под этим техническим (деятельностным) углом зрения мы будем рассматривать три элемента модели транса, о которых только что шла речь. Элемент первый — исходное (обычное) состояние. Может показаться, что этот элемент не представляет серьезного интереса для формирования художественной психотехники. Это, однако, не так. Именно исходное состояние представляет собой базу (платформу) для движения к иному, именно здесь содержатся те моменты, развитие которых приводят затем к интересующим нас результатам. Можно сказать, что именно в привычном и обыденном скрываются семена неведомого и необычного. Их необходимо научиться видеть и чувствовать, знать и понимать; их нужно уметь выращивать. Можно сказать, мир волшебного скрывается в складках обыденности. Именно поэтому важнейшим аспектом всей техники является именно работа с привычным. Непонимание значения привычного, обыденного и банального, игнорирование его блокирует движение к необычному, оригинальному и яркому.
Способность «прозревания» необычного в обычном, яркого в неброском, свежего и оригинального в обыденном, способность подняться до масштабных обобщений, отталкиваясь от простых и конкретных вещей свойственно искусству, художественному сознанию вообще. И было бы неверным связывать этот лишь с «особыми» задачами (принципами) той или иной психотехнической системы. Примеры тому весьма многочисленны, от волшебных сказок («Золушка», «Золотой ключик», «Золотой горшок» …) до использования бытовых жанров и бытовых интонаций в серьезной симфонической музыке. В психотехнику искусства (в технику художественного сознания) это попадает естественным образом, поскольку это присуще художественному сознанию как культуре. Эта особенность художественного сознания отчетливо сформулирована в следующих строках из Уильяма Блейка: «В одном мгновенье видеть вечность, огромный мир — в зерне песка, в единой горсти — бесконечность и небо — в чашечке цветка» («Прорицания невинности»).
Мы уже приводили отрывок из стихотворения Анны Ахматовой «творчество». Вот другой фрагмент этого же стихотворения:
«Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене…
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне».
Итак, в соответствии с нашими рабочими определениями между понятиями «сознание» и «реальность» устанавливается очень тесная взаимосвязь. Тип реальности, в которой человек находится (в которую он «попадает»), зависит от типа или состояния его сознания. Сознание в нашем понимании есть способ структурирования опыта. Результат такого структурирования (то есть опыт, структурированный неким определенным способом) и есть в нашем понимании реальность, в соответствии с нашим словоупотреблением, — структурированный определенным способом опыт.
Измененное состояние сознания перемещает человека в измененную реальность. Само по себе понятие «измененная реальность», равно как и «измененное сознание», объясняют мало. Ведь нужно еще разобраться, относительно чего мы считаем его измененным и в каком отношении, в каком направлении происходит изменение.
Возникает необходимость что-то принять за условную норму, за точку отсчета. Такая точка отсчета будет условна хотя бы потому, что сознание никогда не находится в состоянии покоя, но непрерывно движется, меняется, подобно поверхности моря.
В качестве такой условной точки отсчета мы возьмем объективно ориентированный обыденный «здравый смысл». Это наиболее распространенное, «трезвое» (взрослое) сознание. Оно относится с уважением к науке и «научности». Оно стремится отличать то, что есть «на самом деле» от того, что «только кажется», правду от вымысла, объективное от субъективного, действительное от иллюзорного.
Фактически мы только что указали существенный признак такого рода сознания. Остается придумать ему подходящее название. Пусть это будет «субъектно-объектная диссоциация», что означает установку на разграничение, разделение объекта и субъекта, объективного и субъективного, внешней реальности и реальности внутренней. Кто будет спорить с важностью этой установки! Ее отсутствие не только лишает человека возможности адекватно ориентироваться в «реальном мире» и делает его жертвой иллюзий и заблуждений, но и ставит вопрос о его психической «нормальности». Ведь если человек не может отличить реальность от воображения, если его мышление целиком зависит от эмоций, то ему все труднее и труднее будет сохранять свою «адекватность».
Такая установка тем более необходима для научного мышления. Наука ориентирована на получение объективного знания, а значит такого знания, которое может быть «отделено» от субъекта, носит общезначимый характер, может быть получено и многократно воспроизведено разными субъектами, представлено в объективной форме. Без четкого и ясного водораздела между объективным и субъективным, фактом и отношением к нему, реальным и кажущимся наука существовать не может.
Построенная на научной основе технология также предполагает господство именно этой установки. Например, для того, чтобы предприятие работало независимо от прихода и ухода тех или иных работников, оно должно быть построено на объективных основаниях, по возможности не зависеть от внутреннего мира людей и их субъективных состояний. Но, поскольку такой зависимости вовсе избежать нельзя, необходимо учесть ее как один из объективных факторов (и, хотя этот фактор часто называют «субъективным», попытка его учитывать означает его объективацию).
Здесь возникает естественный вопрос о предмете психологии, которая вроде бы изучает внутренний мир человека, его субъективные переживания и при этом остается наукой. Однако она может делать это лишь постольку, поскольку ей удается объективировать свой предмет, выразить его в моделях и на соответствующем языке, задать процедуры получения эмпирических данных и их проверки и т. д. Без этого психология перестала бы существовать как наука. Без этого она не смогла бы нести в себе никакого сколько-нибудь надежного объективного знания.
Но между объективностью научной и объективностью обыденной есть существенное различие. Обыденное сознание не ставит вопрос о критериях установления этих границ. Они представляются ему «само собой разумеющимися», то есть как бы объективными. Научное мышление, особенно современное (воспитанное на гносеологических проблемах теории относительности, квантовой механики, кибернетики, современной логики и прочее), должно отвечать на вопросы о критериях объективности сознательно.
Все это говорит о том, что сама способность сознающего субъекта отличать себя от своего объекта, внутреннюю реальность от реальности внешней является величайшей ценностью, важнейшим обретением. Однако было бы странно, если бы за столь большую ценность не нужно было бы ничем расплачиваться, если бы за обретением не стояли и определенные утраты. Они действительно есть. Они были бы неизмеримо большими, если бы человек не обладал иными способами структурирования своего опыта. Но он ими обладает.
Существует множество типов сознания, построенных на иных основаниях, то есть так или иначе допускающих и использующих субъектно-объектную ассоциацию. Наиболее последовательной, развитой и одновременно широко распространенной формой такого сознания является художественное сознание. На его основе рождается соответствующая ему художественная реальность.
Художественное сознание является едва ли не наиболее развитой формой сознания эстетического. Попробуем чуть подробнее разобраться в этом, используя только что сформулированный признак (субъектно-объектная ассоциация).
Познающее (научное, теоретическое) сознание имеет дело с объектно-объектными отношениями (отношениями между объектами и между свойствами, качествами, параметрами объектов). Любой научный закон, любое научное описание, так или иначе, задает такого рода отношение.
В противоположность этому, этическое сознание оперирует субъектно-субъектными отношениями, отношениями между субъектами. Эти субъекты обладают волей, сознанием, интересами, ответственностью, способностью переживать, желать, сожалеть, страдать и сострадать, радоваться и «со-радоваться». И все это имеет для этического сознания существенное значение.
Эстетическое сознание объединяет эти полюса. Его стихия — субъектно-объектные отношения (взаимодействия).
Эстетическое отношение всегда удерживает и фокусирует это субъектно-объектное живое единство. В эстетическом отношении всегда представлен и объект, и субъект, и их взаимодействие. Без этого оно перестает быть эстетическим.
Эстетическое восприятие всегда двунаправлено — на объект и на субъект. Здесь, в общем-то, нет ничего особенно сложного для понимания. При эстетическом восприятии я смотрю на объект через призму моих собственных живых реакций на него. Любуясь красивым цветком, я одновременно фиксирую свое внимание и на том действии, которое цветок оказывает на мои чувства. Так же я воспринимаю поэзию, живопись, музыку, любое произведение искусства.
Субъектно-объектное отношение подобно струне, вибрирующей между двух «колков» — между субъектом и объектом. Ее вибрация, ее музыка и есть собственно эстетическое переживание. Именно это жизненно-конкретное субъектно-объектное взаимодействие и есть собственный предмет эстетического освоения. Объект плюс эффект, который он производит на субъект. Как вслед за нашим криком в горах мы вслушиваемся в эхо, так эстетическое восприятие предполагает умение вслушиваться в «эхо», раздающееся в глубинах «я».
Усложняющим понимание моментом выступает проекция переживания на объект, его вызвавший. Тем самым этот объект наделяется не присущими ему «чисто объективно» «эстетическими» качествами. Туча становится мрачной, лужайка — веселой и т. д. Это означает, что данные объекты вызывают в нас соответствующие субъективные реакции, которые затем проецируются вовне. Они как бы встраиваются, «вплетаются» в образы этих объектов. С позиций теоретического (объективно ориентированного) сознания подобные проекции суть иллюзии. Для эстетического сознания это норма, свойственный ему способ организации опыта.
Примеров, иллюстрирующих такого рода эффекты восприятия и осознания, существует бесчисленное количество. Но для эстетического и художественного сознания этот эффект имеет значение не помехи, не побочного явления, а основы, фундамента, на котором строится особый способ освоения мира и жизни.
Вспомним классический пример: мажорное трезвучие звучит весело (воспринимается нами как веселое), а минорное — грустно (кажется печальным). Попытаемся осознать эти феномены на основе субъектно-объектной диссоциации, тщательно отделив объективное от субъективного, внешнюю реальность от внутренней. В результате от мажорного трезвучия как элемента музыки (музыкальной реальности) у нас ничего не останется. Художественная реальность будет разрушена. То же самое можно сказать о ритмах, тембрах, ладах и других музыкальных средствах, которые вне их воздействия на нас теряют, какой бы то ни было, художественный смысл.
Высказываемая словами эстетическая оценка (реакция) чаще всего оказывается некоторой образной «заменой» эстетического переживания, попыткой не столько объяснить его, сколько навести на сопереживание. При этом, выраженный в языке эстетический конструкт определяет эстетический объект как фактор, детерминирующий определенное состояние субъекта. Таковы, прежде всего, все эстетические категории: прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое. Каждая из них обладает двойной направленностью: а) на те или иные особенности объекта, б) на определяемые этими особенностями реакции субъекта эстетического восприятия-отношения. К этим реакциям относится, прежде всего, определенный круг эмоциональных переживаний.
Однако эстетическими категориями не ограничиваются конструкты такого рода. Это предельно общие эстетические конструкты, подчиняющие себе более конкретные, не столь общие и фундаментальные, зато несущие в себе разнообразные смысловые оттенки. Высказывания с их использованием можно найти в изобилии на страницах художественной и художественно-критической литературы. Но и в обыденной речи немало подобных оборотов. «Потрясающий фильм» — фильм, обладающий такими качествами, что его воздействие на меня можно выразить словом «потрясение». «Захватывающая книга» — книга, в силу каких-то своих особенностей оказавшаяся способной вызвать у меня столь сильный интерес, что мне трудно было оторваться от чтения. «Жизнеутверждающая симфония» — симфония, обладающая такими качествами, что ее прослушивание вызывает во мне прилив жизненных сил, оптимизм, жажду активного действия. «Веселые обои» — обои, цветовая гамма и рисунок которых таковы, что их восприятие поднимает мое настроение.
При этом «воздействие на меня» предполагает возможность аналогичного «воздействия на тебя», что, однако, оказывается всегда под вопросом и требует выяснения. Эстетический конструкт, выражающий то или иное эстетическое взаимодействие (отношение), выступает, таким образом, перекрестком двух связей: а) объект — субъект, б) субъект — другой субъект.
Этой далеко не полной характеристики достаточно, чтобы понять: эстетическое сознание принципиально не укладывается в схему субъектно-объектной диссоциации. Оно базируется на прямо противоположной установке, на изначальном единстве субъективного и объективного, внешнего и внутреннего, то есть на принципе субъектно-объектной ассоциации. Это движение внешнего и внутреннему навстречу друг другу, это стремление к субъектно-объектной ассоциации лежит, по-видимому, в самой природе человеческого сознания. «Внешний мир строится внутри, а внутренний мир строится вовне, — пишет В. П. Зинченко. — Едва ли следует говорить, что акты построения миров не изолированы один от другого. Если воспользоваться модным нынче словом, они синергичны. Эта синергия обеспечивает два встречных процесса: субъективацию объективного и объективацию субъективного. Живое существо не просто поворачивается к миру, а как бы выворачивает себя навстречу ему. … Вот эти особые, цельные образования, субъективно-объективные сращения, кентаврические объекты (образы, переживания, интенции и т.д.) сохраняются во всем последующем функционировании психики как (порой скрытые) определения, как детерминистические связующие воздействий и побуждений».
Теперь дадим несколько рабочих определений. Разобьем их на три группы.
1. Объектной мы будем называть направленность сознания на объекты и объектно-объектные отношения.
Сознание, которое характеризуется такого рода направленностью, мы будем называть объективным.
Реальность, формируемая объективным сознанием, будет называться объективной или внешней реальностью.
2. Субъектной мы будем называть направленность сознания на собственные внутренние состояния, переживания, ассоциации и т. п. аспекты внутреннего, субъективного мира.
Сознание, которое характеризуется такого рода направленностью, мы будем называть субъективным.
Реальность, формируемая субъективным сознанием, будет называться субъективной или внутренней реальностью.
3. Комплексной мы будем называть направленность сознания на целостные феномены, представляющие собой единство объективного и субъективного, внешнего и внутреннего.
Сознание, которое характеризуется такого рода направленностью, мы будем называть комплексным.
Реальность, формируемая комплексным сознанием, будет называться комплексной реальностью.
Мы определили девять рабочих понятий, составляющих три группы по три понятия в каждой:
1) объектная ориентация сознания, объективное сознание, объективная или внешняя реальность
2) субъектная ориентация сознания, субъективное сознание, субъективная или внутренняя реальность
3) комплексная ориентация сознания, комплексное сознание, комплексная реальность.
Нетрудно догадаться, что самыми «работающими» у нас будут понятия третьей группы, ибо художественная реальность является ярко выраженным случаем комплексной реальности. Понятия первой и второй группы будут иметь скорее вспомогательное значение: они нужны нам для выработки более полного и точного представления о комплексном сознании и соответствующей ему комплексной реальности.
Понятия «комплексная реальность» и «художественная реальность» не тождественны. Комплексная реальность — шире. Помимо художественной реальности есть и другие формы комплексной реальности. Но в художественной реальности свойства комплексной реальности проявляются с особенной полнотой и рельефностью.
Как внутренняя, так и внешняя реальность отличаются от комплексной реальности тем, что они связаны с установкой на субъектно-объектную диссоциацию, тогда как комплексная реальность порождается прямо противоположной тенденцией — субъектно-объектной ассоциацией. Эта их общность позволяет подвести их под одно понятие — сепарированная реальность. Сепарированная реальность является противоположностью комплексной реальности и включает в свой состав внутреннюю и внешнюю реальность при условии из взаимной изоляции. Сепарированной называется реальность, возникающая в результате разделения внешней и внутренней реальности.
Слово «сепарированный», помимо прочего, позволяет дать всему сказанному метафорическое пояснение. Существует прибор — сепаратор, отделяющий сливки от сыворотки. Представим себе, что в нас тоже находится некий «сепаратор», отделяющий ощущения, восприятия, образы, исходящие их внешнего мира, от импульсов, ощущений, переживаний, относящихся к миру внутреннему. Так вот, когда этот сепаратор почему-либо выключается или даже начинает работать в противоположном направлении, смешивая наподобие миксера то, что он до этого разделял, тогда мы и оказываемся в комплексной реальности.
Теперь нам необходимо каким-то образом обозначать элементы комплексной реальности, ее единицы. Причем необходимо сделать это так, чтобы они были сопоставимы с единицами объективной (внешней) и субъективной (внутренней) реальности.
Единицы объективной реальности суть объекты и их акциденции (свойства и состояния). «Объект» (позднелат. objectum — предмет, от лат. objicio — бросаю вперед, противопоставляю) — то, что противостоит субъекту в его предметно-практической деятельности.
Единицы субъективной реальности суть субъекты и их акциденции. «Субъект» (от лат. subjectus — лежащий внизу, находящийся в основе, от sub — под и jacio — бросаю, кладу основание) — носитель деятельности, познания, сознания, источник активности, направленной на объект.
Для обозначения единицы комплексной реальности мы будем использовать специально сконструированный термин — «конъект».
Здесь лат. «con» (с, вместе) подчеркивает принципиальное единство, нерасторжимость объективного и субъективного, внешнего и внутреннего. «Jacio» в данном случае как бы «бросает» субъект и объект навстречу (в объятия) друг другу, «кладет» их единство в качестве основания комплексной реальности. Таким образом, конъект есть единица комплексной реальности, элемент опыта, представляющий собой конкретную субъектно-объектную целостность.
Используя этот термин, можно было бы назвать комплексную реальность «конъективной реальностью». Можно также говорить о конъективном сознании и конъективном восприятии.
Конъект выступает как единство субъекта и объекта (субъектности и объектности). С точки зрения формы это единство предстает как единство внешней и внутренней реальности, с точки зрения содержания — как единство чтойности и ктойности. Термин «ктойность» мы используем здесь по аналогии с известным термином «чтойность» (quidditas) и в качестве парного к нему. Если «чтойность» суть признаки объекта, сообщающие ему качественную определенность, делающие его чем-то, то «ктойность» суть то, что делает субъекта кем-то, то, что сообщает ему определенность как персоны. Таковы, например, все черты характера или темперамента человека.
Но конъект не просто сочетает в себе и те и другие характеристики. Здесь происходит нечто большее: чтойность способна превращаться в ктойность и наоборот. Например, такие качества как «твердый» или «мягкий», «горячий» или «холодный», «угловатый» или «обтекаемый» с равным успехом используются и в качестве характеристик объекта (чтойность), и в качестве характеристик субъекта (чтойность). В конъекте преодолевается их противопоставление, они обнаруживают свое внутреннее тождество. Одни и те же характеристики «прочитываются» и в том и в другом смысле.
Существует близкое термину «конъект» латинское слово «conjecto», которое означает «соображать», «догадываться», «идти наугад». Если вдуматься, то станет понятным, что во всех этих случаях речь идет о некотором взаимодействии исходной, заведомо неполной, недостаточной информации об объекте и активности субъекта, который каким-то образом компенсирует недостаточность информации, включая свои знания, интуицию, творчество. Таким образом, это слово является близким не только по звучанию, но и по смыслу.
Конъект есть предметно сфокусированный процесс тотального взаимодействия внутренней и внешней реальности.
Конъект — это еще не собственно комплексная реальность, а тот «кирпичик», из которого она может быть построена. Комплексная реальность представляет собой связь, композицию, систему конъектов. В разрозненном виде они присутствуют постоянно, представляя собой как бы «конъективную пыль», скапливающуюся в порах объективной реальности.
Художественная реальность является комплексной. Ее единицы суть конъекты. Она имеет высокоорганизованный, системный характер. Вообще же отдельные, разрозненные феномены такого рода встречаются буквально на каждом шагу. В большинстве случаев от них просто абстрагируются.
Разберем простой пример. Вы подходите к доске, берете кусок мела и чертите девять прямых отрезков, соединенных таким образом, что получается изображение куба. Спросите любого, что он видит, и он ответит: «Куб». Значительно реже вы услышите в ответ: «Рисунок, изображающий куб». Так скажет человек, привыкший мыслить «строго объективно».
Затруднения начнутся с того момента, когда вы попытаетесь ответить, где находится этот куб. На доске? Но доска плоская, и линии, из которых составлен рисунок, «на самом деле» расположены на плоскости, а значит «объективно» не могут составлять объемную фигуру. В мозгу? Но в мозгу «объективно» тоже нет ничего похожего на куб. Там происходят химические реакции, рождаются сложнейшие комбинации электрических импульсов, идут информационные процессы, но куба там тоже нет. В сознании? Это уже ближе к истине, но где находится сознание? В голове? Вместе с кубом? Значит, и куб тоже в голове? Но там его, как мы уже выяснили, нет. Получается, что в объективной реальности этого куба вообще не существует.
Может быть, он относится к субъективной, внутренней реальности? Так могло бы быть, если бы речь шла о кубе, который вы просто представили себе, сидя с закрытыми глазами. Но ведь речь идет о том, что нарисовано на доске. А доска вместе с рисунком существует вне нас.
Куб, нарисованный на доске, является фактом комплексной реальности, конъектом (хотя в данном своем качестве он может не использоваться и не осознаваться). В процессе восприятия линии, нарисованные на плоскости, становятся частью субъективной реальности, перемещаются из внешней реальности во внутреннюю. Там на их основе «реконструируется» объемная фигура, которая при этом проецируется на доску, «возвращается туда, откуда взяли». Так замыкается цикл («цепь»): внешняя реальность трансформируется, перемещается во внутреннюю реальность, где она творчески преобразуется и вновь возвращается во внешний план. Этот непрерывно возобновляющийся цикл («творческий вихрь») имеет для комплексной реальности значение способа ее существования. В этом смысле конъект оказывается предметно сфокусированным взаимодействием объективной и субъективной реальности. И это взаимодействие развивается, расширяется и углубляется, захватывает все новые содержательные пласты.
Нет постоянного взаимопревращения внешней и внутренней реальности — нет и комплексной реальности. Но тогда нарушается вообще вся система сознания, ибо наивно думать, что комплексная реальность механически складывается из внешней и внутренней.
Процесс идет в обе стороны. Можно сказать, что комплексная реальность есть результат синтеза внешней и внутренней реальности. Однако справедливо и обратное: внешняя (как и внутренняя) реальность рождается из комплексной в результате аналитического абстрагирования, расщепления исходного целого.
Циклический процесс, описанный выше, является тем зерном, из которого вырастают все высокоорганизованные и культурно значимые формы комплексной реальности, художественной реальности в том числе. Этот процесс происходит всегда; он имеет фундаментальный характер для жизни сознания. Но в разных случаях ведущую роль приобретают разные его стороны. Для научного мышления, например, необходимым является абстрагирование от субъективных моментов и выделение объективного. Для искусства, напротив, важен синтез комплексной реальности как таковой, в ее единстве внутреннего и внешнего.
Как уже было сказано, комплексная реальность проявляет себя не только в искусстве. В мифологии, в игре, в магии и шаманизме, во многих традиционных системах духовной практики, в педагогике и других областях она имеет сущностное значение. Кроме того, она сопровождает нас постоянно как некий фон, играющий то положительную, то негативную, то нейтральную роль. Одним из примеров такого рода и является куб, нарисованный на плоскости. Для геометрии, для практической инженерной деятельности не имеет существенного значения, вызывает ли фигура, нарисованная на плоскости, иллюзию объемности. Существуют строгие правила, позволяющие интерпретировать плоское изображение как объемную фигуру, то есть совершать переход от одних понятий (связанных с плоскостью) к другим (связанным с объемом). И этого достаточно. Иными словами, конъективная природа этого куба не имеет существенного значения ни в геометрии, ни в работе инженера.
Теперь возьмем другой пример, на этот раз из области искусства. На стене висит некий портрет. Если вы спросите кого-нибудь, что это такое, то вам, скорее всего, скажут, что это портрет. Возможно, прибавят, чей он и кем написан. Однако если вы сформулируете свой вопрос иначе: «Кто это?» — это также не вызовет недоумения, и вам либо назовут человека, изображенного на портрете, либо ответят: «Не знаю». Существует едва уловимая, но очень существенная смысловая разница между выражениями «Я вижу картину, изображающую человека» и «Я вижу человека, изображенного на картине». Эта разница, как правило, не принимается во внимание. Однако если вдумаемся, поймем, что картина, на которой изображен человек, может быть интерпретирована как единица объективной реальности, как некий объект. Что же касается человека, изображенного на картине и глядящего на вас с полотна, то это уже комплексная реальность, сущностное единство объектности и субъектности, конъект. И это уже принципиально, по крайней мере, до тех пор, пока мы находимся в сфере художественного. Переход из объективной реальности в комплексную, как правило, совершается незаметно, однако, когда мы заходим достаточно глубоко, ее нетривиальный характер становится все ощутимее.
Если пытаться говорить объективно, то никакого человека на картине нет. Есть плоское полотно, на поверхность которого в определенном порядке нанесены разные краски. Таков объект, находящийся непосредственно в поле нашего зрения. Мы воспринимаем этот объект, то есть «перемещаем» его во внутреннюю реальность, превращаем в элемент внутренней реальности. Здесь он приходит во взаимодействие с другими элементами нашей внутренней реальности. В результате формируется, «реконструируется» образ человека, который помещается нашим сознанием в контекст внешней реальности, проецируется, возвращается на картину, висящую на стене. Так появляется человек, «глядящий на нас» с полотна. Существует ли этот человек? В объективной реальности — нет, а в комплексной — да.
И нет никаких логических оснований для того, чтобы считать комплексную реальность «менее реальной», чем реальность объективная.
Не следует смешивать понятия «внешний» и «внутренний», с одной стороны, и «материальный» и «идеальный», с другой. Подобно тому, как принято говорить о материальных и идеальный объектах, можно различать материальные и идеальные конъекты. Конъектом становится любой объект (как материальный, так и идеальный) в той мере, в какой он способствует проявлению содержания внутреннего, субъективного мира, понимаясь при этом как внешний. Решающее значение имеет способ восприятия и осознания.
Как любое произведение искусства, так и художественная деятельность являет собой неразрывное единство духовной и материально предметной сторон. Только в художественной деятельности оно раскрывается в процессе, а художественное произведение дает его как результат. Расторгнуть это единство практически невозможно. Можно лишь чрезмерно преувеличивать значение одной стороны и игнорировать другую — но этим мы нанесем ущерб целому. Можно также из познавательных соображений встать на ту или иную позицию, взглянуть на целое с той или с другой стороны — но то, что мы увидим в том и в другом случае, будет существенно различаться.
С материально-предметной, объективной точки зрения скульптура, стоящая в музее, и зритель, рассматривающий ее, есть две разные сущности, два разных объекта, по-разному устроенных, по разным законам существующих, имеющих разные траектории движения, но пересекшиеся в какой-то момент времени. С конъективной точки зрения они — единое целое. Между ними замкнута «цепь», по которой циркулируют «духовные токи». То же самое получается, если с этих двух точек зрения посмотреть на соотношение разных видов искусства. В материально-предметном аспекте музыка, живопись, литература имею мало общего, хотя бы в силу того, что у них очень разный материал (звук, краски, слово). В конъективном плане на первое место выступает связь между разными видами искусства, обмен, взаимовлияние, диалог, в результате которых они оказываются частями единого «потока».
В практических занятиях зачастую гораздо удобнее и продуктивнее использование не теоретических, а метафорических объяснений. Метафоры бывают более наглядными, емкими, стимулируют творческий процесс и помогают установлению более глубокого творческого взаимопонимания. Приведем несколько метафор, с помощью которых можно сформировать некие первоначальные представления о конъекте и комплексной реальности.
Метафора первая — «вихрь» («волчок»). Суть метафоры в том, что комплексная реальность и любой ее элемент, любая ее единица (конъект) могут существовать и развиваться (существуют они лишь развиваясь) тогда и только тогда, когда имеет место процесс постоянного взаимопревращения внешней и внутренней реальности. Этот циклический процесс, этот круговорот объектности и субъектности, внешнего и внутреннего имеет здесь значение способа существования комплексной реальности. Без этого она «умирает», как прекращается жизнь без обмена веществ и иных сущностных процессов, которые также имеют циркулярный, вихревой характер (например, так называемый «метаболический вихрь»). Так и волчок может сохранять свое положение, свою устойчивость лишь вращаясь. Когда вращение прекращается, он падает. Между прочим, слово «умирает» здесь можно было бы использовать и без кавычек, ибо субъектность, как одно из субстанциальных оснований комплексной реальности делает эту реальность живой.
Метафора вторая — «зеркала». Представим себе два одинаковых зеркала, направленных отражающими поверхностями навстречу друг другу. В каждом зеркале отражено другое зеркало вместе со всем тем, что оно в себе отражает. Теоретически эти каскады взаимных отражений устремлены в бесконечность. Аналогичным образом субъективное и объективное, внешнее и внутреннее взаимодействуют в контексте комплексной реальности, превращая любую конечность в потенциальную бесконечность, трансформируя любую данность в непрерывный процесс порождения.
Метафора третья — «электрическая цепь». Перед нами обыкновенная электрическая батарейка. Вот «плюс», а вот «минус». Возьмем кусочек провода и соединим с его помощью полюса батарейки. Замкнем цепь. Укажем произвольно выбранную точку на проводе и зададим себе вопрос: «Что в этой точке находится — „плюс“ или „минус“?». Правильный ответ — «Ни то, ни другое; в любой точке течет ток, представляющий собой единство и взаимопревращение полюсов». Причем с того самого момента, как была замкнута цепь, полюса батарейки тоже перестали существовать в их первоначальном качестве. В любой произвольно выбранной точке цепи есть эти полюса — и одновременно их нет нигде.
Так комплексная реальность «замыкает» полюса объективного и субъективного в единую цепь, уничтожая и одновременно сохраняя их противоположность, «снимая» эту фундаментальную оппозицию в движении генерируемого ими духовного тока.
Метафора четвертая — «кольцо Мёбиуса». Возьмем обыкновенную полоску бумаги и склеим ее в кольцо, не перекручивая. Пусть внешняя сторона (поверхность) кольца символизирует внешнюю реальность, а внутренняя — внутреннюю. Каждая поверхность представляет собой свой собственный замкнутый мир. Плавных переходов между этими мирами не существует.
Теперь разрежем это кольцо и склеим его вновь, предварительно перевернув один из его концов на 180° относительно продольной оси. У нас получилось так называемое «кольцо Мёбиуса». Оно заключает в себе некий парадокс. В каждой отдельно взятой точке этого кольца сохраняется противоположность двух сторон, и постепенного перехода между ними. И сколько бы мы ни двигались по кольцу, мы так и не найдем этих переходов. Но если мы возьмем кольцо целиком, то окажется, что у него нет двух поверхностей, а есть только одна, вобравшая в себя обе. И если мы возьмем карандаш, и будем вести его вдоль кольца, то мы, в конце концов, вернемся к исходной точке, прочертив линию по всей суммарной поверхности кольца. Два оказываются одним.
Как показывает практика, существует риск ошибочного толкования понятий «конъект» и «комплексная реальность» и их смешения с другими, в чем-то похожими, но иными по смыслу понятиями. Поэтому необходимо сразу же ввести соответствующие разграничения.
Во-первых, понятие «конъект» не следует путать с понятием «сакральный предмет». Конъект соединяет субъективное и объективное, план внутренний и план внешний. Когда говорят о сакральных предметах, понимают нечто иное, а именно соединение (установление связи) «мира дольнего» и «мира горнего», земного и небесного, этого света и того света и т. п. Это, согласитесь, нечто существенно иное. Общее здесь лишь то, что и первое, и второе служит соединению двух разных планов бытия (разных миров), являясь как бы мостом между ними.
Во-вторых, нередко понятие «комплексная реальность» трактуется не так, как оно дается в определении, а совершенно произвольно, в результате чего оно смешивается с духовной реальностью, магической реальностью, расширенной реальностью, а ее проявления интерпретируются в духе подключения к ноосфере, установления связи и иными временами, экстрасенсорными феноменами и пр. Достаточно внимательно прочитать определения обсуждаемых понятий, чтобы путаница стала очевидной.
Глава третья.
Объекты и конъекты
Введя два новых понятия — «комплексная реальность» и «конъект» — мы всего лишь получили возможность увидеть нечто общее и существенное в вещах, которые хотя и раньше были для нас хорошо знакомыми, но не связывались воедино, не подводились под одно объединяющее их понятие. Поэтому сделаем небольшую паузу в нашем теоретическом движении и оглядимся в этой комплексной реальности, чтобы узнать в ней давно известные вещи и, одновременно, взглянуть на них под несколько иным углом зрения.
Обычно мы не различаем объекты и конъекты. И для этого у нас есть определенные резоны. Ведь любой конъект по определению включает в себя множество объективных свойств и характеристик. И если нас интересуют именно они, то от субъективных «добавок» можно абстрагироваться, и тогда мы имеем все основания, обращаться с ними, как с объектами, относиться к ним, как к объектам и мыслить о них, как об объектах. В подавляющем большинстве случаев именно так и происходит.
Но для наших целей различение объекта и конъекта представляется существенным. Потому-то мы и вводим соответствующий понятийный аппарат.
Сейчас мы, не вдаваясь в детали, выделим некоторые типы конъектов, с которыми мы постоянно, или достаточно часто сталкиваемся в своей жизни.
Бытовые конъекты
Как понятно из самого названия, сфера их «обитания» — наш непосредственный быт. Любой объект из нашего бытового окружения, вызывающий определенную, устойчивую реакцию, а главное, осознаваемый в единстве с этой реакцией становится такого рода конъектом. Это может быть эмоциональная реакция, положительная или отрицательная, или же какое-то более сложное чувство. Это может быть изменение общего тонуса, опять-таки в положительную или отрицательную сторону. Это может быть некий комплекс идей или образных ассоциаций. Это, в конце концов, может быть общее изменение внутреннего состояния. В любом случае имеет место некая существенная связь внешнего и внутреннего планов моего бытия. К бытовым конъектам относятся предметы нашего быта, дом и все его элементы, с которыми мы имеем дело. Элементы природного ландшафта. Растения и животные, которые нам небезразличны. Состояния природы — времена года и погода. К такого рода конъектам относятся также близкие нам люди и определенные жизненные ситуации.
Нетрудно понять, что объекты, превращаясь в конъекты, делают это не одинаково. Во-первых, конъективация объекта (превращение объекта в конъект) может иметь разную степень глубины и интенсивности. Во-вторых, «врастая» в наше внутреннее пространство, объект делает это как бы избирательно, то есть может вступать во взаимодействие с разными его элементами, то чего существенным образом зависят его конъективные свойства. В-третьих, он столь же избирательно может вступать (или не вступать) во взаимодействия в другими конъектами, в результате чего образуются разные конъективные конфигурации в нашем жизненном пространстве. Продемонстрируем сказанное на примере такого важного для любого человека конъекта, как его жилище.
Дом как конъект. Сегодня мы отчетливо видим, что это важнейшее качество дома реализуется далеко не всегда и далеко не лучшим образом. Ведь конъективность дома и всех находящихся в нем предметов означает, что внешняя среда обитания получает доступ во внутреннее пространство личности, а значит, любые изменения в этой внешней среде влекут за собой соответствующие внутренние изменения. Если вы чувствуете, что способны, манипулируя с этой средой, улучшать свое внутреннее состояние, вы, скорее всего, будете усиливать эту интимную эмоциональную связь со средой. А если нет, то предпочтете поставить внутреннюю перегородку и эту связь ослабить. То есть, ваш дом будет для вас в этом втором случае слабым конъектом, что в какой-то мере избавит вас от неприятных переживаний, а может быть и недугов. Чисто утилитарное отношение к окружающим вещам способствует такой деконъективации жизненной среды, если у вас нет возможностей управлять ею в позитивном для вас плане.
Однако люди все же предпочитают управлять этим процессом, чтобы он развивался в позитивном направлении. Для этого выработано немало средств. Оставим в стороне очевидное — архитектуру и дизайн. Есть еще тонкий процесс обживания дома и одомашнивания всех находящихся в нем предметов. И в этом, между прочим, одна из функций звучащей в доме музыки.
Музыка для дома? Какая тут, собственно, проблема? Сегодня существует достаточное количество различных средств, позволяющих заполнить до отказа пространство вашего дома музыкой на любой вкус. Современная звукозапись, радио, телевидение, компьютерные диски с музыкой, Интернет.… Что еще появится в скором будущем? Мы не знаем. Но, скорее всего, будет еще много новых изобретений, одно удивительней другого. И все они действуют в едином направлении — обеспечивают доступность любой информации, (в том числе и музыкальной), постоянно повышая ее качество и скорость получения. Теперь наш дом как никогда открыт для музыки. Любой! И это прекрасно! Но… Проблема, все-таки, есть. Не в количестве музыки, не в ее качестве, не в доступности или возможности выбора…
Мне почему-то не кажется, что любая музыка, прозвучавшая в моем доме, уже тем самым стала домашней музыкой, тем более, музыкой моего дома. Не назовем же мы любое живое существо домашним животным на том только основании, что привели или принесли его в свой дом. Оно должно еще стать домашним, а главное, оно должно сделать более домашним сам дом. Кошка это сделать может, крокодил — вряд ли. Сказанное относится и к музыке. Симфонии И. Гайдна обладали качеством домашней музыки. Правда, не для всякого дома. Но они органически вписывались в жизненный уклад и ритм жизни соответствующего дома, поддерживая и укрепляя его строй, его атмосферу. Во всяком случае, думаю, что князь Эстергази достаточно отчетливо представлял, «вино какой страны» он предпочитает вкушать под музыку Гайдна. Домашней в истинном смысле слова можно назвать музыку, которая является органической частью дома как особого культурного пространства, когда она включена в жизнь дома — особую форму культурной жизни. Это при условии, конечно, что наш дом и наша жизнь в нем обладают такого рода характеристиками. А если нет?
Только что я позволил себе усомниться в том, что любая музыка, звучащая в доме, может быть названа домашней музыкой. Теперь, вынужден сделать следующий шаг и усомниться в том, что любая жилплощадь является в полном смысле домом. Даже в том случае, если она обустроена в соответствии с самыми высокими стандартами. Действительно, всем нам интуитивно ясно, что существует не только «дом тела», но и «дом души». И тело и душа нуждаются в доме. Один и тот же предмет может быть составной частью дома тела и дома души. Кресло или плед, создавая определенный телесный комфорт, еще и отвечают нашему вкусу, связаны с теми или иными воспоминаниями, рождают ассоциации и тому подобное. Все предметы в качестве элементов дома души сами как бы обретают душу и вступают друг с другом во взаимоотношения, образуя своего рода «миф дома» или его «сказку». В этом новом контексте они насыщаются новыми смыслами и наделяются новыми качествами. Только в чужом доме стул может быть просто стулом, а вешалка — просто вешалкой. В моем доме они должны быть чем-то большим. Дом без такой «сказки» не является вполне законченным домом. М. Чехов называл эту невидимую составляющую словом «атмосфера», говоря, что у каждого помещения есть своя атмосфера, а приходящие в него люди могут с этой атмосферой гармонировать или вступать с ней в конфликт. Каждый одомашненный предмет — чуть-чуть «домовой». Мы сами живем в этом мифе, вступаем в эти отношения, оказываемся персонажами сказки. В идеале, эти отношения гармоничны и позитивны. Тогда мы чувствуем, что дома уютно. Только в этом случае наше жилье действительно является домом.
Что общего у дома тела и дома души? Мне кажется, это можно выразить словами «защищать», «хранить». Я защищаю, храню свой дом — дом хранит меня. Мой дом — хранимая мной и хранящая меня сфера моего жизненного пространства. А жизненное пространство — это пространство и физическое, и психическое (смысловое, эмоциональное, культурное, ценностное). Дом души является в определенном смысле продолжением души, как дом черепахи есть одновременно продолжением ее тела. Парадокс истинного дома состоит в том, что он, будучи особой частью среды моего обитания, является частью меня самого. В нем нельзя просто поселиться и жить. Его необходимо созидать изо дня в день. Что выступает в качестве строительного материала? Согретые и одушевленные нами материальные предметы, организованные и осмысленные (наделенные смыслами). Книги, присутствие которых означает присутствие в вашем доме их авторов, и их персонажей. Взаимоотношения совместно живущих людей. Люди, которые приходят к вам в дом, оставляя в нем память о себе. Наши собственные мысли и чувства, которые мы, сами не замечая, разбрасываем по всему дому. Картины, репродукции, фотографии. И, конечно, музыка. Все это должно вступить во взаимодействие, создать гармонию, лад.
Сегодня любой дом открыт для музыки настежь. Маленький блестящий диск, помещающийся у меня на ладони — это огромное окно в огромный звучащий мир. Однако размеры окна невозможно увеличивать беспредельно. Лишь пока существуют стены, имеет смысл говорить об окнах. Присутствие музыки в доме еще не означает ее участия в его строительстве. Она может и разрушать дом, так сказать, «преодолевать» его. Не такова ли, в основном, молодежная музыка? Ведь и сам молодежный возраст — не слишком домашний. Стремление вырваться на широкий простор здесь явно преобладает над потребностью обустраивать ближайшее жизненное пространство. Быть может, действительно имеет смысл слушать такую музыку в наушниках: это перемещает слушателя в иное пространство, тогда как музыка, созидающая дом, должна наполнять его собой, не оставляя ни одного островка запустения.
Боюсь, что у читателя уже начал складываться образ «музыки дома» как музыки специфического предназначения и узкой направленности, так сказать, музыки халата и тапочек. Такой образ возникает лишь из-за того, что понятие дома и роль дома в нашей жизни очень сильно сузились. Кто вообще сказал, что взгляд на мир из дома является ограниченным? Когда дом становится малым космосом, тогда и большой космос оказывается ближе и понятней — как большой дом. Является ли слушание музыки дома ухудшенной копией концерта? Или сам концерт является копией того, что некогда происходило в домах? Правда, в домах несколько иных, чем те, в которых живет большинство из нас. Но и наши дома и даже кухни, не являются ли местом, где мы ведем самые глубокие и неспешные разговоры? И давайте вспомним, что, по большей части, именно у себя дома творили и творят большинство ученых, философов, художников, композиторов. Самые глубокие, самые прекрасные книги лучше всего читаются именно дома. Дом — важнейшая и необходимая часть культурного пространства человека. Музыка, созидающая дом, приносит в него весь мир, не разрушая дом и не упрощая мир. В этом и состоит ее «узкая направленность».
Говоря о конъективации дома, мы невольно обратили внимание на процесс выстраивания большой и сложной конъективной системы. Конъективная динамика дома ясно демонстрируют, что разные конъекты не равнодушны друг к другу, они притягиваются или отталкиваются, в результате чего образуются сложно организованные конъективные миры. Здесь мы вынуждены были слегка забежать вперед, ибо тема конъективных миров еще впереди.
А сейчас особо обратим внимание на еще один важный момент, который иллюстрируется примером с домом. Превращение объекта в конъект (конъективация) — не внезапный акт, а длительный процесс, в развитии которого мы сами принимаем активное участие, и его результат во многом зависит от нас самих. Этот процесс, с одной стороны, есть то, что с нами происходит, а с другой, — то, что мы делаем. Он, следовательно, имеет прямое отношение к проблемам психотехники, а значит, представляет для нас непосредственный интерес. И, говоря о бытовых конъектах, нельзя обойти вниманием процесс их генезиса.
Конъективация вещи выглядит иногда как ее одомашнивание или очеловечивание.
Простой пример — камин. В техническом отношении — явный анахронизм. Его практическая полезность в наши дни более чем сомнительна. Но это лишь подчеркивает его неутилитарную — культурную и эстетическую ценность для современного человека. Камин — очеловеченная вещь, причем, давно очеловеченная. Он несет в себе историческую память, а обращение с ним — почти ритуал. Самая совершенная система, автоматически поддерживающая температуру, влажность и иные параметры, заботится о нашем комфорте, а сама скромно остается в тени, не требуя от нас даже минимального внимания. Это ее безусловное преимущество. Но основой для накопления смыслов и образования ритуала она вряд ли способна стать.
Очеловечивается лишь та вещь, которая притягивает наше внимание, с которой необходимо взаимодействовать, причем, желательно, по определенным, зафиксированным в культуре правилам. Она служит нам, а мы — ей. Но это еще не все. Очеловечиванию вещи (или домашнего животного) служит прикосновение, передача «тепла руки», ласка. Так мотогонщик может ласково похлопывать свой мотоцикл. Ему действительно нужен очеловеченный мотоцикл, партнер, друг, а не мертвый механизм. Наконец, есть такое «сильное средство» — наделение именем. Именем чаще всего наделяются те предметы, от которых в значительной мере зависит наше благополучие, здоровье и даже жизнь, — рыцарский меч, корабль…. Все это — не какие-то антропологические «раскопки», не архаика, а обыденная практика людей вполне современных. В наши дни многие автолюбители (особенно, женщины) воспринимают свою машину не просто как живое существо, но и как существо, наделенное полом, характером, а иногда дают этому существу человеческое имя (которое, как правило, держат в тайне). В конечном итоге имеет значение не столько прикосновение или наделение именем, сколько та или иная настройка сознания. Мы можем смотреть на вещи очеловечивающим взглядом. Это делает мир вокруг нас живым. Но есть возможность смотреть на даже на человека «расчеловечивающим» взглядом — и он превращается в вещь. Так смотрят на раба, слугу, вообще на того, кто интересует нас лишь как носитель определенной функции.
Здесь возможна альтернатива: хотим ли мы жить среди очеловеченных вещей, или предпочитаем внешний («объективный») комфорт, где вещи лишь создают удобство, помогают в достижении целей, позволяют экономить силы, время и внимание, никак не претендуя на эти столь важные для нас ресурсы. Говоря строго, это не совсем альтернатива, это, скорее, спектр возможностей. А решение, отчасти, мы выбираем сами, отчасти, его нам «диктует жизнь».
Разобранные выше примеры позволяют сделать некоторые предварительные обобщения.
— Характер бытового конъекта в значительной мере индивидуализирован. Его особенности определяются особенностями субъекта, его характера, его воспитания, его судьбы, рядом случайных факторов.
— Одновременно с этим здесь велика регулирующая роль культуры, несущей в себе соответствующий набор программ. Это в значительной мере сокращает возможный разброс и вводит действие индивидуализирующих факторов в определенное русло.
— Бытовой конъект, при всем своем индидуализированном и в известной степени случайном характере, обладает выраженной тенденцией к установлению системных связей с другими конъектами. Он как бы ищет контексты, в которые мог бы органически встроиться. Назовем это тенденцией контекстуализации.
Человек, обладающий развитым восприятием комплексной реальности, нередко замечает такого рода тенденции. Например, он может почувствовать, что его любимые тапочки с симпатией относятся, скажем, к кофейнику и относятся с опаской к совку для мусора. Впрочем, от подобных впечатлений мы чаще отмахиваемся и попросту их не замечаем, а если замечаем, то реагируем с юмором — «показалось». В этом взаимодействии конъектов, в их взаимном притяжении и отталкивании нет ничего странного. Ведь конъект лишь одной своей стороной погружен во внешнюю реальность и выглядит как обычный объект. Другая его сторона погружена во внутренний мир человека. Ну, а во внутреннем мире человека все, так или иначе связано, все движется, живет и «относится». Именно это и «намагничивает» конъекты, заставляя проявлять свои симпатии и антипатии.
То, что мы образно назвали «намагниченностью» конъектов, может иметь различную степень выраженности. По всей видимости, существуют культурные нормы, регулирующие силу конъектов, составляющих личную комплексную реальность человека. В случае тех или иных отклонений от культурой нормы, особенно, в случае патологий сила конъекта может резко отличаться от нормы в ту или иную стороны. Конъект чрезмерно слабый, «размагниченный» оставляет человека равнодушным и холодным тогда, когда, по идее, он должен реагировать. Конъект чрезмерно сильный может причинять человеку боль или делать его зависимым.
Сфера бытовых конъектов в современном цивилизованном мире не является в значительной мере систематизированным и тем более органичным (организмичным) конъективным миром, чего нельзя сказать о традиционных культурах, где все элементы бытового окружения наполнены смыслами и образуют сложные (и достаточно сильные) связи. Нередко конъективные свойства предметов не только не используются в практической жизни, но и вообще игнорируются. С ними не считаются, от них стараются абстрагироваться. Когда же сталкиваются с системами, построенными на иных ментальных основаниях, где конъективные свойства предметов раскрываются как общезначимые и потому нашей публикой воспринимаются по привычке как «объективные», это сначала вызывает удивление, как некая экзотика, а затем ими начинают «увлекаться». Один из примеров подобных увлечений — судьба в России китайской культуры «фен шуй».
Сфера бытовых конъектов в традиционных культурах в значительно большей мере образует органическую целостность, управляемую определенными законами. Когда люди по каким-либо причинам начинают осваивать те или иные элементы традиционной культуры, они, рано или поздно, начинают «почему-то» ощущать потребность в восстановлении органической целостности собственного жизненного контекста. Например, разучивание и исполнение народных песен с достаточным постоянством порождает потребность реконструировать жизненные ситуации и жизненную среду, где они создавались и к которой они приспособлены.
В начале восьмидесятых годов, став участником так называемого «фольклорного движения», я имел возможность пережить то, что переживали тогда многие другие его участники — почти физически ощутить взаимное притяжение Земли и Песни. Проявлялось это двояко. С одной стороны, выучивая все новые песни, осваивая по мере сил, исполнительские традиции, мы обнаруживали, что остается чувство неудовлетворенности, если не осуществить одно очень важное действие. Оказалось, что песню обязательно нужно спеть в естественной природной среде, стоя на земле, лучше рядом с рекой или другим водоемом. То есть, включить песню в ландшафт.
С другой стороны, выезжая за город, в условиях природной (ландшафтной) среды, мы испытывали некую неполноту ее восприятия, недостаточную включённость в нее нас самих, если мы не озвучивали ландшафт исполнением известных нам народных песен. Здесь важен был и звук, специально адаптированный к особенностям открытого пространства. Мы с помощью этого звука как бы расширяли пространство своего присутствия внутри ландшафта. Куда долетал звук, там были и мы сами. Для проникновения в песню был нужен ландшафт. Для проникновения в ландшафт нужна была песня. И то и другое было нужно для полноты жизни.
Может ли стать конъектом другой человек? Вопрос этот включает в себя, мне кажется, некоторую неточность. Человеку не нужно становиться конъектом. Он и так им является изначально. Но сознание может быть перестроено таким образом, что других людей мы будем воспринимать как объекты. И тогда нужно возвращать себе способность живого человеческого мировосприятия. Будет правильнее ставить вопроса о силе конъекта. Тогда мы должны признать, что конкретные люди нередко становятся для нас очень сильными конъектами. Подобный процесс превращения другого человека в конъект большой силы и глубины замечательно описан известной в книге Стендаля «О любви». Стендаль этот процесс назвал «кристаллизацией»: «Нам доставляет удовольствие украшать тысячью совершенств женщину, в любви которой мы уверены; мы с бесконечной радостью перебираем подробности нашего блаженства. Это сводится к тому, что мы преувеличиваем великолепное достояние, которое упало нам с неба, которого мы еще не знаем и в обладании которым мы уверены.
Дайте поработать уму влюбленного в течение двадцати четырех часов, и вот что вы увидите.
В соляных копях Зальцбурга, в заброшенные глубины этих копей кидают ветку дерева, оголившуюся за зиму; два или три месяца спустя ее извлекают оттуда, покрытую блестящими кристаллами; даже самые маленькие веточки, которые не больше лапки синицы, украшены бесчисленным множеством подвижных и ослепительных алмазов; прежнюю ветку невозможно узнать.
То, что я называю кристаллизацией, есть особая деятельность ума, который из всего, с чем он сталкивается, извлекает открытие, что любимый предмет обладает новыми совершенствами».
То, что Стендаль описал, назвав «кристаллизацией», является в нашей терминологии вариантом конъективации, ибо результатом подобной творческой деятельности души является объект, обогащенный работой творческой фантазии, причем, тесно связанный с душой, внутренним миром любящего человека. Он являет собой, таким образом, единство субъективного и объективного, внутреннего и внешнего, то есть конъект.
Игровые конъекты
Сфера игры, игровая реальность обладает своими специфическими конъектами и содержит особые игровые нормы, регулирующие образование этих конъектов, их свойства и способы обращения с ними. На тему игры существует огромная литература, здесь мы найдем большое разнообразие подходов и не меньшее разнообразие определений самой игры. Мы намеренно оставляем эту поистине неисчерпаемую проблематику в стороне, сосредоточив внимание на игровых конъектах. Здесь мы хотели бы показать, что игра является постоянным источником конъектов, что конъекты имеют для игры атрибутивный характер, что игровая реальность выступает, таким образом, как особый случай комплексной реальности. Последнее обстоятельство, как нам представляется, и определяет ее «родственное» отношение с искусством.
Мы рассмотрим три типа игровых конъектов, не утверждая, что этим полностью исчерпывается их возможный перечень.
Игровой предмет не является просто объектом, вступающим в отношения с иными объектами. Система игровых предметов не ограничивается лишь объектно-объектными отношениями. Этого одного уже достаточно, чтобы сделать вывод о том, что игровая реальность не отвечает требованиям объективной реальности (как мы ее определили выше). Однако мы не сможем описать игровой предмет и как элемент субъективной, внутренней реальности. Чтобы играть с ним, чтобы манипулировать им, тем более, чтобы делать это не в одиночку, а совместно с другими играющими, необходимо существование игрового предмета также и во внешней реальности. Мы, таким образом, получаем здесь то, что подпадает под определение комплексной реальности и ее элемента — конъекта.
Возьмем любой самый банальный пример: мальчик играет в танкиста, он перевернул стул и стул теперь стал танком; или девочка, баюкающая куклу (а ведь в качестве куклы может быть использован даже обычный деревянный брусок, завернутый в тряпочку) обращается с ней, как с живым ребенком. И стул, и кукла существуют сразу в двух планах — внешнем и внутреннем и, что существенно, замыкают в себе оба плана, обеспечивая их единство. Стул в качестве танка есть конъект, и лишь как конъект он может выполнять подобную функцию. То же самое мы должны сказать и о деревянном бруске в качестве ребенка.
Игровое действие также обнаруживает свою конъективную природу, причем, по нескольким причинам.
Во-первых, те или иные движения (телодвижения) и манипуляции с игровыми предметами, также, как и сами игровые предметы, имеют свой внешний (объектный) и внутренний (субъектный) план. Например, взмах рукой или прыжок в контексте игры обретают особый игровой смысл (дотронуться до партнера может означать «осалить» или наоборот — «расколдовать»).
Во-вторых, игровое действие в ряде случаев имеет существенный психо-энергетический аспект. Играть — значит актуализировать скрытые потенциалы, реализовывать запасы энергии и т. п. На более высоком уровне это становится игрой творческих сил (в кантовском или шиллеровском смысле). Здесь нет нужды доказывать, что внешнее действие, движимое внутренними причинами и непосредственно удовлетворяющее внутренние потребности есть единство внутреннего и внешнего (субъектного и объектного) планов.
В-третьих, игровое действие — действие, субъективно переживаемое и оказывающее при этом воздействие на состояние, а в дальнейшем и на содержание сознания. Так, игры соревновательные, а также игры азартные сильно влияют на состояние сознания. А в том случае, если человек привыкает к ним, оказываясь от них в зависимости, можно говорить не только об изменении содержания сознания, но и о существенной деформации самой личности. Впрочем, сказанное относится не только к азартным и соревновательным играм, а вообще к любым играм, но в разной степени. Так, игры, направленные на освоение социальных ролей не в меньшей, а возможно и в большей степени ведут к изменению содержания сознания, а также сопровождаются разнообразными внутренними переживаниями. И здесь мы видим «замыкание цепи», внешнего и внутреннего, и здесь это «замыкание» имеет сущностное значение.
Играющий субъект осознает себя двояким образом: а) в игровой роли (функции), то есть он мыслит себя не самим собой, а кем-то другим, б) в качестве самого себя, т. е. во время игры он продолжает сохранять собственную идентичность. Например, мальчик, превративший стул в танк, одновременно превращает себя в танкиста и остается самим собой. Он и танкист, и мальчик, играющий в танкиста. Такого рода «раздвоенность» самосознания является атрибутивной характеристикой игры, которая проявляется с наибольшей отчетливостью в играх ролевого характера. Существенно то, что подобная «раздвоенность» усиливает момент рефлексии. Оба субъекта смотрятся друг в друга, как в зеркало. Когда я един в двух лицах, тогда каждое мое «я», оказывается одновременно и объектом, и субъектном, и тем, кто смотрит, и тем, на кого смотрят. Так я сам внутри себя актуализирую и как бы дополнительно акцентирую единство субъекта и объекта. Но это единство и есть существенный признак конъекта.
Все это вместе образует игровую реальность, которая, как мы уже поняли, является особой формой комплексной реальности. Система игровых предметов, игровых действий (разворачивающихся по определенным игровым правилам), играющих субъектов (каковых, как правило, несколько) создают коллективную игровую реальность. И эта игровая реальность есть особого рода комплексная реальность. Отличается она от бытовой (спонтанной) комплексной реальности целым рядом характеристик. В частности, тем, что она имеет срок существования: начинается с началом игры и заканчивается с ее концом. Игра может быть весьма короткой, но может длиться и очень долго. Пример такой длительной игры описан в известной повести Льва Кассиля «Швамбрания». В последнее время усилилась мода на пролонгированные «ролевые игры». Участники игры строят свой мир, в котором частично живут (то есть, живут, отчасти в нем, а отчасти в обычной реальности). Например, так называемые «толкинисты». Нередко, помимо временных границ, существуют аналогичные пространственные ограничения (играют на столе, во дворе, на специальной игровой площадке и т.п.). Другой важный момент — эта реальность создается намеренно и строится по определенным формализованным или неформально закрепленным в культуре правилам. Может быть и так, что правила создаются самими играющими. Важно то, что эти правила действуют и то, что они играющими осознаются. Когда люди «заигрываются» они перестают различать игровой и неигровой планы своей жизни. Последствия подобной потери игровой осознанности могут оказаться весьма плачевными.
Мифические конъекты
О мифах, мифическом сознании написано никак не меньше, чем на тему игры. Но нас и здесь интересует лишь одно — мифическая реальность как разновидность комплексной реальности и, соответственно, мифические конъекты. Среди огромного множество различных определений мифа существуют такие, которые с определенностью указывают на его конъективную природу. Вот как пишет по этому поводу Алексей Лосев в работе «Диалектика мифа»: «Миф не есть научное, и в частности примитивно-научное, построение, но — живое субъект-объектное взаимообщение (выделено мной, Ю.Д.), содержащую в себе свою собственную, ненаучную, чисто мифическую же истинность, достоверность, принципиальную закономерность и структуру». И далее: «миф есть бытие личностное или, точнее, образ бытия личностного, личностная форма, лик личности». Что же такое «личностное» по Лосеву? «Личность предполагает, прежде всего, самосознание, интеллигенцию. Личность именно этим отличается от вещи…. Поэтому антитеза внутреннего и внешнего также совершенно необходима для понятия личности…. Я противопоставляю себя внешнему. Но это значит, что я имею какой-то образ внешнего, который создан как самим внешним, так и мною самим. И в нем я и окружающая среда сливаемся до полной неразличимости». «Я склонен идти еще дальше. По-моему, даже всякая неодушевленная вещь или явление, если их брать как предметы не абстрактно-изолированные, но как предметы живого человеческого опыта, обязательно суть мифы». Возможно, последнее толкование мифа и является расширительным, но эта расширительность акцентирует именно конъективную суть мифа. Эта конъективность, в частности, проявляется и в том, что в мифе (а затем и в волшебной сказке) неодушевленные предметы одушевляются, предстают, говоря словами Лосева в «личностной форме».
Если приведенные высказывания покажутся кому-то выражением исключительно лосевской индивидуальной точки зрения, приведу отрывок из статьи «Мифы» в БСЭ, написанной С. С. Аверинцевым: «Мифы (греч. mýtan — предание, сказание, миф) в литературе, создания коллективной общенародной фантазии, обобщённо отражающие действительность в виде чувственно-конкретных персонификаций и одушевлённых существ, которые мыслятся первобытным сознанием вполне реальными». Согласитесь, что «отражение в виде чувственно-конкретных персонификаций и одушевленных существ» — это и есть «личностная форма». Но понимаемая таким образом личностная форма также есть своего рода конъект.
Мифическая реальность предстает перед нами как особая культурно-историческая форма комплексной реальности, уходящая в глубокую древность, как и игра, о которой Й. Хейзинга сказал, что «игра старше культуры».
Символические конъекты
Символ генетически связан с мифом, и неудивительно, что конъективная природа мифа обнаруживается и в символе. Ю. М. Лотман в статье «Символ в системе культуры» специально подчеркивает эту связь: «В символе всегда есть что-то архаическое. Каждая культура нуждается в пласте текстов, выполняющих функцию архаики. Сгущение символов здесь особенно заметно. Такое восприятие символов не случайно: стержневая группа их действительно имеет глубоко архаическую природу и восходит к дописьменой эпохе, когда определенные (и, как правило, элементарные в начертательном отношении) знаки представляли собой свернутые мнемонические программы текстов и сюжетов, хранящихся в устной памяти коллектива». Носителями устной памяти являются люди. Следовательно, лишь в живом контакте с человеком, с его сознанием и его подсознанием обретает и раскрывает символ свое внутреннее содержание.
Отдача символом смысла, разворачивание этого смысла есть процесс, который никогда не находит своего полного, окончательного завершения. Это своего рода жизнь. Существенной особенностью символа является его неотчужденность (неотчуждаемость). Его нельзя полностью оторвать от человека, от его души и «положить на стол», как некую вещь. «Всякий символ есть образ (и всякий образ есть, хотя бы в некоторой мере, символ); но если категория образа предполагает предметное тождество самому себе, то категория символ делает акцент на другой стороне той же сути — на выхождении образа за собственные пределы, на присутствии некоего смысла, интимно слитого с образом, но ему не тождественного. Предметный образ и глубинный смысл выступают в структуре символа как два полюса, немыслимые один без другого (ибо смысл теряет вне образа свою явленность, а образ вне смысла рассыпается на свои компоненты), но и разведенные между собой и порождающие между собой напряжение, в котором и состоит сущность символа. Переходя в символ, образ становится «прозрачным»; смысл «просвечивает» сквозь него, будучи дан именно как смысловая глубина, смысловая перспектива, требующая нелегкого «вхождения» в себя.
Смысл символа нельзя дешифровать простым усилием рассудка, в него надо «вжиться».
Мы видим, что в понятии «символ» фиксируется такой важный для нашего исследования признак, как неразрывная (причем, творческая) связь объекта и субъекта, внешней и внутренней реальности. Но только связь эта здесь рассматривается в своеобразном семиотическом аспекте. Здесь мы опять сталкиваемся с конъектом, с еще одной гранью его бытия.
Аксиологические конъекты
Наш обзор видов конъекта, или, точнее, аспектов конъекта был бы не достаточен, если бы мы оставили без внимания еще одну его грань — ценностную. Конъект аксиологически активен. Это вполне понятно. Если отношение человека к самому себе, к своей жизни, а следовательно и к своей внутренней жизни является ценностно окрашенным, то отношение к конъекту также не может не быть таковым. Ведь в конъекте наше внутреннее как бы глядит на нас извне, оставаясь, при этом, нашим внутренним, нашим собственным сокровенным бытием, нашей жизнью. Я не могу быть равнодушен к конъекту по той же самой причине, почему я не могу быть равнодушен к самому себе, с собственной жизни.
Любой конъект, поэтому, есть также и некоторая ценность (или анти-ценность). Но справедливо и обратное: любая ценность, если только это не умозрительная, а реально переживаемая, экзистенциально значимая ценность, есть конъект. Любой предмет становится ценностью тогда, когда он оказывается вовлеченным в процесс человеческой жизни и жизни общества. Сам по себе, точнее на уровне объектно-объектных отношений он не выступает в качестве ценности. Объективные его свойства должны быть соотнесены с субъективными ожиданиями, потребностями, целеполаганием людей, человеческих общностей. Эта связь объекта и субъект всегда присутствует в ценностном отношении. Даже в том случае, если сама ценность понимается как некий, стоящий выше субъекта и обращенный к нему императив. «Система ценностный ориентаций образует содержательную сторону направленности личности и выражает внутреннюю основу ее отношений к действительности».
Получается, таким образом, что ценность есть конъект.
Возникает вопрос, почему и игра, и миф, и символ, и ценность оказываются конъектами? Нет ли в этом некоторой подтасовки, своего рода «подгонки под ответ», возникающей из-за того, что мы просто хотим почему-то везде и во всем видеть столь полюбившиеся нам конъекы. Думаю, что нет. Дело в том, что в понятии конъект фиксируется один очень важный момент человеческого бытия — отношение субъекта и объекта. Конъект есть такой элемент человеческого опыта, где это отношение проявляется как существенное, причем, проявляется отчетливо и убедительно. Игра, миф, символ, ценность (да и, возможно, не только они) каждый со своей стороны обращены именно к этому фундаментальному отношению, вырастают из него, опираются на него, выявляют ту или иную его грань. Все они суть конъекты, а точнее — разные стороны конъекта, конъективной реальности.
Художественные конъекты
Искусство наследует многим культурным формам комплексной реальности, синтезируя их в себе. Многие «конъективные реки» питают собой художественную реальность, которая несет в себе и бытовые конъекты, и мифологические, и символические и аксиологические. Все эти грани комплексной реальности соединяются искусством воедино, становятся гранями единой художественной реальности. Потому-то видим мы в искусстве и игру, и миф, и символ, и ценность, и, конечно же, реальность человеческой жизни, которая, как мы уже показали, насыщена особого рода конъектами.
Художественная реальность является едва ли не самой полной, последовательной и органической системой комплексной реальности. Искусство — истинная стихия конъективности. Можно сказать сильнее — в искусстве нет ничего не конъективного, во всяком случае, ничего художественно значимого, что не обладало бы конъективной природой. Искусство в этом смысле выступает в качестве культуры освоения конъективного. Попробуем как-то обосновать, чем-то подкрепить это утверждение, которое может на первый взгляд показаться чрезмерно сильным. Сделать это («в первом приближении») нетрудно, ибо большинство важнейших понятий, относящихся к искусству, достаточно органично укладываются в рамки конъектологического подхода. Рассмотрим некоторые из этих понятий с этой точки зрения.
Художественный образ — «всеобщая категория художественного творчества: присущая искусству форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни путём создания эстетически воздействующих объектов. Под образом нередко понимается элемент или часть художественного целого, обыкновенно — такой фрагмент, который обладает как бы самостоятельной жизнью и содержанием (например, характер в литературе, символические образы вроде «паруса» у М. Ю. Лермонтова). Но в более общем смысле Х. о. — самый способ существования произведения, взятого со стороны его выразительности, впечатляющей энергии и значности». Так говорится о категории «художественный образ в БСЭ (автор статья — И. Б. Роднянская). Нетрудно видеть, что в этом определении указывается на существенную связь внешнего, объективного («воспроизведение», «освоение жизни»), и внутреннего субъективного («выразительность», «впечатляющая энергия», «значимость»). А словосочетание «воздействующих объектов» прямо указывает на связь внешнего и внутреннего: ведь речь идет об объектах, воздействующих на субъект, а не на другие объекты.
Приведем другой пример, где также обнаруживается единство субъектности и объектности. «Образ художественный — специфическая для искусства форма отражения действительности и выражения мыслей и чувств художника. О. х. Рождается в воображении художника, воплощается в создаваемом им произведении в той или иной материальной форме (пластической, звуковой, жестомимической, словесной) и воссоздается воображением воспринимающего искусство зрителя, читателя, слушателя». Здесь также соединяется и как бы уравновешивается в своем значении объективное («форма отражения действительности», «воплощается в создаваемом произведении в той или иной материальной форме») и субъективное («рождается в воображении художника», «воссоздается воображением воспринимающего»). И здесь также указывается связь, выстраивается мост между объективным и субъективным: «выражение мыслей и чувств», что иначе можно назвать «опредмечиванием». Есть, конечно, и другие определения, где подчеркивается объективная сторона художественного образа. Но нас интересуют такие трактовки (с которыми мы солидаризируемся), где художественный образ обнаруживает единство субъективного и объективного, то есть, согласно нашим определениям, является конъектом.
Художественный материал
Обратим внимание на тот интересный факт, что поиски действительного материала художественного творчества как в музыкальном искусстве, так и в театре приводят формулированию идей, по самой своей сути совпадающих с идеей комплексной реальности. Так, академик Б. Асафьев определяет музыку как искусство «интонируемого смысла». Саму же интонацию он понимает именно как единство внешнего и внутреннего планов, интонация для него не есть просто некий акустический феномен, но именно смысл и чувство, проявившиеся вовне в форме акустического феномена. Человек, воспринимающий интонацию, вновь распредмечивает заложенное в ней внутреннее содержание. Таким образом, интонация есть не что иное, как конъект.
С другой стороны, отвечая на вопрос, что является материалом искусства актера, П. М. Ершов определяет его как действие. И далее, анализируя сущность действия, Ершов постоянно акцентирует внимание на связи внутреннего и внешнего моментов действия. Таким образом, и интонация, и действие раскрывают себя в качестве конъектов, а именно базовых конъектов музыкального и актерского искусства. Нетрудно показать, что материалом любого вида искусства является тот или иной тип конъектов. Иными словами, материал любого искусство всегда конъективен.
Художественные средства обладают конъективной природой, что понятно и без обращения к определениям. Ведь среди художественных средств значительная часть связана с выражением смыслов, с эмоциональным воздействием, с управлением вниманием и пр. Все это и есть реализация неких субъектно-объектных отношений.
Художественный прием — понятие, близкое предыдущему по смыслу. Художественный прием служит формированию художественного образа, художественный прием служит передаче художественного содержания и является, поэтому, элементом системы художественной коммуникации, художественный прием — средство выразительности, художественный прием — средство воздействия на сознание и состояние реципиента. Мы видим, что и художественный прием обнаруживает свою двунаправленную природу, реализуя себя одновременно на двух планах — плане внешнем и плане внутреннем. И он по-своему осуществляет связь этих двух планов, актуализирует их единство.
Художественная форма может показаться вещью вполне объективной. Вот это музыкальное произведение написано в трехчастной форме, это — в сонатной. И то, и другое можно показать на схеме, так сказать, «положить на стол». Все бы так, если бы не одно обстоятельство: от совершенства художественной формы зависит совершенство художественного восприятия. От способа формальной организации произведения зависит способ деятельности (внутренней деятельности) субъекта художественного восприятия, а, следовательно, и способ понимания (осознания) как самого произведения, так и моего взаимодействия с ним. Именно такой взгляд на форму отстаивал Б. Асафьев в своей острополемической по духу статье «О направленности формы у Чайковского». «Талант — талантом, умение строить — умением. Но это еще не все, ибо надо связать эти качества с пониманием закономерностей человеческого восприятия, а значит, и с умением иного порядка, чем самодовлеющая логика музыкальных построек. Синтаксис музыки как „речи в точных интервалах“ немыслим вне учета особенностей живой интонации и без умения общаться и быть общительным». То, что для Асафьева направленность на восприятие и живое общение не дополнение к совершенной форме, а функция самой формы видно из следующего отрывка: «Чайковский буквально держит в своей власти дыхание слушателей, владея ритмически организованной „лепкой формы“, с постоянным умением выгодно для восприятия распределить материал».
Асафьевский подход к вопросам музыкального формообразования на словах принимается большинством музыковедов. Но действительных последователей Асафьева, реализующих его на деле, всеже не так много. Один из таких — В. В. Медушевский. Его кандидатская диссертация так и называлась: «Строение музыкального произведения в связи с его направленностью на слушателя». А в его книге «О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки» читаем следующее»: «Художественная форма в широком смысле слова — в изобразительных искусствах, литературе, в музыкальном произведении — служит, как известно, отражению действительности, фиксирует ценностные отношения человека к миру. Но она также и особым образом воздействует на слушателя, управляет его восприятием, организует результативное впечатление». Такое понимание художественной формы соответствует утверждению: «художественная форма обладает конъективной природой».
Художественное содержание
Все, что связано с проблемой содержания художественного произведения, было и остается предметом дискуссий. Главным предметом традиционно является отношение искусства и действительности. В предельно упрощенном виде вопрос стоит так: отражает ли искусство некую внехудожественную действительность (попросту, жизнь), и если отражает, то как? Эту «опасную» тему мы сейчас можем оставить в стороне, ибо не это составляет предмет нашего разговора. Зато обратим внимание на другой аспект проблемы — на отношение содержания искусства к человеку. И здесь мы обнаружим большее согласие. А именно, не многие решатся отрицать, что это содержание как-то относится к человеку, а человек, в свою очередь, как-то относится к этому содержанию. Даже в том случае, если этим содержанием объявляется сама художественная форма, как считал Э. Ганслик, объявляя содержанием музыки движущиеся формы. Ведь даже в этом случае, человек к этим формам небезразличен и сами эти формы окрашиваются определенным эмоциональным отношением. Здесь мы опять приходим к той же самой фундаментальной для искусства связи объекта и субъекта, внешнего и внутреннего, которая под самыми разными концептуальными одеждами появляется на всех этапах развития эстетической мысли. Именно это мы находим у Аристотеля, когда, например, он определяет саму природу искусства на основе понятия «подражание»: «Как кажется, поэтическое искусство породили вообще две и притом естественные причины. Во-первых, подражание присуще людям с детства, и они тем отличаются от прочих животных, что наиболее способны к подражанию, благодаря которым приобретают и первые знания; а во-вторых, продукты подражания всем доставляют удовольствие». Здесь совершенно отчетливо задается связь объективных и субъективных моментов. С одной стороны, то, чему подражают, с другой стороны, подражание, как чья-то деятельность, а, следовательно, субъект этой деятельности и удовольствие, как субъективное переживание. А ведь подражание в контексте концепции Аристотеля — это и есть источник художественного содержания. А вот другой, не менее широко известный фрагмент из «Поэтики»: «трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, подражание при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенной; посредством действия, а не рассказа, совершающее путем сострадания и страха очищение подобных аффектов» Обратим внимание на то, что и здесь соблюдено все тоже классическое равновесие объективного и субъективного аспектов. Страх, сострадание и очищение выступают здесь равноправными существенными признаками трагедии наряду с иными («объективными») ее характеристиками. В этом смысле, аристотелевский подход к искусству и художественному содержанию, в частности, считать классическим образцам того, что мы могли бы обозначить с помощью термина «конъектология» (изучение предметов конъективной природы).
Перенесемся в другую эпоху и в другую страну. В 60-е — 70-е годы в нашей стране наблюдался значительный подъем интереса к эстетике и, в частности, к теории искусства (художественной деятельности). Характерным элементом этого «бума» было активное обращение к методам и данным разных наук, включая теорию информации, теорию систем, кибернетику, семиотику, физиологию, психологию, социологию… В перекрестье этих многих «прожекторов» и искусство раскрывало свою многогранную синкретическую (или синтетическую) суть. Формировались разнообразные гипотезы, строились различные модели. Характерно, что важнейшим моментом и здесь оставался все тот же вопрос об отношении и взаимодействии (единстве) субъективного и объективного, внешнего и внутреннего. При всем разнообразии конкретных теорий и схем.
Но и без всяких теорий, без всяких моделей и схем, достаточно обратиться к самому художественному произведению, чтобы убедиться в том, что содержанием искусства является не просто некая реальность, но человеческая (или очеловеченная) реальность, реальность самого человека и его чувств или то, к чему человек как-то относится, что связано с его внутренней жизнью.
Художественное произведение есть особого рода конъект, отличающийся высокой степенью своей организации, обладающий своими специфическими механизмами взаимодействия с человеком, социумом, культурой. Мы здесь пока не будем доказывать этот тезис, и раскрывать его в деталях. Этой теме еще будет уделено значительное внимание. Практическому постижению конъективной природы художественного произведения и искусства в целом в значительной мере посвящена практическая часть данного труда. Поэтому пока ограничимся тезисом — художественное произведение есть высокоорганизованный конъект.
Художественная реальность, есть частный случай комплексной реальности. Но такой частный случай, который синтезирует в себе все жизненно значимые формы (и аспекты) комплексной реальности и поднимает их на уровень культурного образца.
У понятия «комплексная реальность» есть равнозначное понятие «конъективная реальность». Они равны по объему, но различаются по содержанию, ибо делают смысловой акцент на разных сторонах целого. Выражение «комплексная реальность» акцентирует внимание на объединении воедино двух планов существования — внешнем и внутреннем. Комплексная реальность означает единство внешнего и внутреннего планов бытия. Выражение «конъективная реальность» указывает на наличии множества конъектов и многообразных связей между ними. Когда мы исследуем художественную реальность, то можем делать акцент как на одной, так и на другой смысловой составляющей этого понятия. С одной стороны, нас может интересовать способ достижения единства объектной и субъектной сторон, скажем, художественного образа. С другой стороны, предметом анализа может оказаться система конъектов и их связей того или иного произведения, или, например, художественного стиля. В любом случае понятия «конъект», «конъективная реальность» и «комплексная реальность» оказываются инструментами, с помощью которых мы будем исследовать свойства художественной реальности, а также строить системы практических психотехнических занятий.
Конъектологический подход
После того, как мы предприняли беглый обзор различного рода предметов конъективной природы и имели возможность убедиться в их многообразии и значимости, трудно отделаться от вопроса, в какой мере и каким образом конъективная природа этих предметов находит отражение в науках, их изучающих? Дело ведь не в том, применяют ли исследователи такие термины, как «конъект» и «комплексная реальность», а в том, как они задают и структурируют свой предмет, какие свойства и связи выделяют в качестве существенных, какие средства используют для его изучения и описания. Иными словами, конъектологический подход может быть в той или иной мере реализован и без применения слов «конъект», «конъективный» и т.п.. И действительно, интереснейших примеров конъектологического подхода (конъектологического анализа) существует множество. Укажем некоторые из них.
Попытка найти наиболее исторически ранний образец такого рода вряд ли может увенчаться успехом, зато мы должны будем признать, что конъектология (стихийная) стара как мир. Можно сказать, что наиболее ранние формы знания были в значительной степени конъектологическими. Примеры подобного рода хорошо известны. Это, во-первых, миф (о чем, фактически, уже сказано выше) и, во-вторых, не вполне отпочковавшиеся от мифологического мышления традиционные системы знания типа йоги, аюрведы, ци-гун, фен-шуй и т. п. В определенном смысле, к этому типу источников конъективного знания можно отнести и более поздние системы, восходящие к древним, опирающиеся на них и сохраняющие ряд их особенностей (алхимия, астрология и пр.). Важнейшая черта этого знания — отсутствие четкой границы между природным и человеческим, физическим и психическим, внутренним и внешним. Эта особенность нередко выступает в качестве своеобразного «методологического» принципа, который артикулируется с помощью формул типа «что внутри, то и снаружи; что снаружи, то и внутри», «что наверху, то и внизу; что внизу, то и наверху», или принцип единства микрокосмоса и макрокосмоса и т. п.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.