
Бесплатный фрагмент - Катана для оргáна
««Tobi Rinksi. Catana per Organo
Перевод с итальянского
Text: ©2023 Copyright by Itkin Boris
Cover: ©2023 Copyright by Itkin Boris
Жизнь — это поиск ответов на вопросы, а вопросы у каждого человека свои, поэтому и жизнь одного не похожа на жизнь другого.
Взять хотя бы Роберто Кармини — молодого дирижера симфонического оркестра в Неаполе бурных 1970-х. Его предназначение — это Музыка, в которой он с упорством средневекового алхимика ищет формулу небесной последовательности звуков, для чего добавляет в звучание такие ингредиенты, как надежда, любовь, вера и… немного славы. Но в его возрасте ответы на одни вопросы лишь рождают новые. Слава Богу, в Неаполе есть к кому обратиться за советом и по музыкальным, и по личным вопросам.
И совсем другое дело — безликий и наивный чужестранец Иш’ар, очутившийся в стране «развитого социализма» застойных 1980-х. Если он будет задавать свои непонятные вопросы всем подряд, куда это его приведёт? Скорее всего, прямиком к неприятностям. А если эти неприятности имеют сколь заметные, столь и необычные последствия?
Тогда ответы (уже на свои вопросы) начнут искать «специально обученные товарищи», а также их неизвестные коллеги из разных стран. Поэтому ничем хорошим для Иш’ара это кончиться не может, если только… Если только ему на помощь не придёт тот, о чьём существовании не знает никто. Или почти никто.
Но настолько ли наивен наш чужестранец, повторяющий как попугай фразу: «Так устроена наша цивилизация»? И не скрывается ли за его поисками хитросплетение нитей судьбы участников более глобального шоу, в котором перепутаны вопросы и ответы всех, кто выходит на сцену?
Яркие персонажи, остроумные диалоги, сюжетные виражи и всё это на фоне музыки — итальянский писатель и его переводчик постарались сделать всё, чтобы любознательный читатель получил пищу для ума и удовольствие от погружения в эту историю.
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
По поводу всего написанного ниже Автор ответственно заявляет следующее:
— Имена и должности всех персонажей в данном произведении полностью вымышленные, а любые совпадения случайны. Общеизвестные исторические личности и авторы музыкальных или литературных трудов не являются персонажами и упоминаются исключительно для обозначения временного и сюжетного контекста.
— Также абсолютным вымыслом являются приведенные в тексте подлинные документы, включая секретные, в т.ч. с подписями.
— Даты, места и содержание реальных исторических, предполагаемых и вымышленных событий перемешаны в произведении произвольным образом с использованием алгоритмов генератора случайных чисел, найденного на неизвестном полигоне промышленных отходов и утерянного сразу же после применения неустановленными лицами.
— Автор предполагает, что некоторые упоминаемые в произведении географические объекты (например, город Неаполь) действительно существуют, а некоторые исторические личности (например, Мацуо Басё) когда-то жили. Однако полной уверенности в этом у Автора нет по причинам, изложенным в одной из последних глав.
— Что касается самих описанных событий, то они совершенно точно произошли на самом деле. Во-первых, потому что их непосредственные участники самолично поклялись в этом Автору (а некоторые даже по несколько раз), а во-вторых, потому что некоторые из этих событий происходили буквально у него на глазах.
ПРОЛОГ
Шёл теплый мартовский дождь, умывая заспанное лицо предрассветного Неаполя. Капли весело выбивали стаккато по красным крышам и мостовым, водосточные трубы фаготами и кларнетами изливали партии бурлящих ручейков, а ритм этому мокрому весеннему оркестру, возможно, задавали беззвучные в общем шуме шаги единственного прохожего, спокойно и размеренно идущего под большим чёрным зонтом по узким пустынным улицам от набережной в сторону кафедрального собора Сан Дженнаро.
Звучание симфонии весеннего дождя не могло проникнуть под величественные своды собора, там всё ещё царила во мраке прозрачная тишина. Но глубокая ферматная пауза ночного покоя подошла к концу, когда в восточном углу едва слышно затворилась внутренняя дверь, и застывшее пространство лёгкой рябью пропустило сквозь себя звук всё тех же размеренных шагов, каждый из которых сопровождался эхом отголосков, испуганным шёпотом разлетающихся по нефам. Шаги вошедшего простучали сначала справа от мраморных ступеней, ведущих в основной зал, потом налево к центру и замерли возле органной консоли. Сонные колонны основного зала снова укутала тишина. Теперь, однако, она властвовала недолго.
Высокий сочный звук Grande Organo Ruffatti солнечной стрелой пронзил холодную полутьму и, рассыпавшись между колоннами, стряхнул невидимую паутину сна со статуй и фресок, словно оживляя лики святых. А вслед за ним торжественный аккорд тяжело и уверенно раздвинул эфир, чтобы впустить мощные волны божественной мелодии. Музыка органа взорвала пространство и время словно сверхновая звезда. Ее потоки, льющиеся со всех сторон, мерцали и пульсировали, наполняя воздух таким светом, таким восторгом, который мог бы ощутить всем телом даже глухой, если бы он оказался здесь в этот момент.
Но никого другого из смертных в этот час в соборе не было. Органист был единственным исполнителем и единственным внимающим, да и был ли он смертным в эти мгновенья? Кто знает? Он играл и слушал, закрыв глаза. Его сильные пальцы уверенно касались клавиш, заставляя орган дышать и окутывать всё вокруг плотными струями поющих регистров.
Только Бог. Только Бах. В этот миг великого откровения больше ничего не существовало в целой Вселенной. Даже время приостановило свой бег, чтобы послушать.
Наконец, заключительная трель, словно нехотя, увенчалась торжественным мажорным аккордом, завершающим этот утренний гимн, и его затухающие волны унеслись в разверзнутые небеса словно стая белых птиц. Наступила тишина. Но странно, эта тишина была уже другой. Она была живой, светлой и солнечной, несмотря на темноту и продолжавшийся за окнами дождь.
Органист открыл глаза и взглянул вверх. Там светло-золотистым хороводом кружились и беззвучно смеялись шесть ангелов. Глаза его улыбнулись, как улыбаются, когда встречают старых знакомых.
— Господи, спасибо тебе за новый день, — сказал он тихо, затем осенил себя крестным знамением и медленно встал. Его высокая фигура двинулась к выходу. Через минуту где-то справа внизу еле слышно захлопнулась дверь, и всё стихло.
До восхода солнца оставалось ещё полчаса.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА I. Einzug der Gladiatoren
Давно, ещё на службе в армии, Глеб Борисович Пуляев, теперь полковник милиции, перенял у своего старшины привычку чётко, по-военному, проговаривать самому себе всё, что он делает — словно зачитывал инструкцию перед строем. Делал он это, правда, не вслух, как товарищ старшина, а про себя, но тем не менее с подобающим выражением — раскатывая дробью букву «р» и выделяя ударением последний слог, словно щелкая каблуком. Это, считал он, помогает ему быть сосредоточенным и держаться в командном тонусе, поскольку был он не какой-нибудь там хрен-с-горы, или отставной козы барабанщик, а служил в должности начальника РУВД Центрального района в областном центре.
Понедельник для полковника начинался, как и должен был начинаться типичный понедельник — чётко, строго, как положено. Согласно рраспорядкА, рабочий день начинался в 8—00 рровнА. В данный момент малая стрелка часов была рровнА между цифрами семь и восемь, а большая — внизу — на шести рровнА. Корроче, часы показывали 7—30 рровнА!
Полковник Пуляев находился в своём кресле, за своим рабочим столом, в своём кабинете, в своём РУВД своего города и в своей любимой стране. Это чрезвычайно удачное сочетание условий придавало его самоощущению такую степень удовлетворённости, что начало новой рабочей недели воспринималось не как будни, а как праздник. Был май, светало рано, и он взял за правило не спеша идти на работу пешком, чтобы приходить в 7—30 рровнА. Во-первых, чтобы спокойно выпить чай (с лимоном, три ложки сахару); во-вторых, из стакана в начищенном до блеска серебряном подстаканнике с гербом СССР (подарили на 50-летие); в третьих, чтобы успеть до оперативки просмотреть бумаги, которые ложены были на его стол секретарем в 7 утра (рровнА).
В этот раз поверх аккуратной стопки бумаг находилась тонкая серая папка с двумя белыми завязками. Полковник развязал завязки — ать-два! — открыл папку, сказал «Так!», потом сделал глоток чая, поставил стакан в подстаканнике на стол и вынул из папки документ в виде нескольких рыхлых страниц, сколотых стальной скрепкой. В верхнем углу был приклеен плотный листок–«бегунок», на котором размашистым почерком генерала, толстыми голубыми линиями чернильной авторучки было написано:
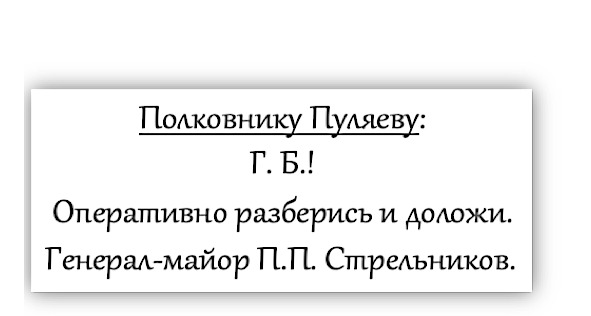
Есть оперативно разобраться и доложить! (Оперативно означало в десятидневный срок). РразберемсЯ! Однако ж… Что за народ, а? На один божий день нельзя оставить!
В прошлую пятницу полковнику пришлось смотаться в область. На обратном пути на его УАЗике пробило колесо, из-за чего в город он вернулся поздно, на работу уже не поехал, но позвонил дежурному — узнать обстановку. И дежурный, сукин сын, доложил ведь, что «особняков» не было, всё, сказал, «боле-мене тихо».
С чего же это вдруг «оперативно разобраться и доложить»? Не, ну что за народ, а?
Полковник открепил скрепку, положил ее в магнитное блюдечко и взял первую страницу. Необычного вида, надо сказать, страницу. Это был ранее смятый, но затем, кое-как разглаженный, тетрадный листок. В линейку. На листке: стррочки хорошо рразличимы, написаны шариковой рручкой, стало быть, от рруки. Снизу имеется бурое пятно. Чем-то, значит, капнули. Полковник понюхал лист. Хм… Чаем. Похоже, что лист достали из мусорной корзины. Так. И что? Полковник начал читать.
Начальнику ОВД №6
Центрального района г. Т-ска
Подполковнику Рукастому В. И.
Объяснительная
Я, капитан милиции Войнов, 18 мая находился на дежурстве, в 19:20 стал свидетелем хулиганского нападения неизвестных на личный состав отделения. Я какраз устанавливал личность одного из задержанных нарядом ППС, когда кто–то чтоли видать неустановленные лица незаметно проникнув в отделение через задний проход, заднюю дверь, бросили моим же стулом в сержанта Казлаева, попав ему по е по мозгам незначительную травму головы, чем и воспользовался задержанный чтобы скрыться, т.к. я не имел права оставить пост, а помощник дежурного, лейтенант Круглых, отошел посс какраз находился конкретно в туалете. После чего наряд ППС, посланный на направленный на поиски по горячим следам, обошел здание по кругу, но ниху таковых нигде не обнаружил.
Приметы задержанного подозреваемого убежавшего: мужчина, среднего роста, молодой, лет 23–25. Одет невзрачно. Назвался Ишаком. Особых примет нет. Внешность неприметная. Полученным ранее ориентировкам на разыскиваемых лиц не соответствует.
Так. Даты нет. Подписи нет. Похоже на черновик. Капитана Войнова полковник Пуляев помнил. Перевели из Казахстана, три года назад. Нормальный офицер. Не оставил пост. Молодец. Однако ж… Это что ещё за нападение? Генерал уже в курсе, а я ещё нет, мать вашу! Так. А где рапорт Рукастого? Ага, вот он. Полковник взял следующий лист. Это был машинописный текст на тонкой желтоватой бумаге, второй сорт. Такую бумагу централизованно получали все отделения.
Начальнику РУВД
Центрального района г. Т-ска
Полковнику Пуляеву Г. Б.
Рапорт
Докладываю, что за прошедшие сутки на вверенной мне для охраны правопорядка территории района ни одного правонарушения не зарегистрировано, за исключением трёх мелких, о которых дежурный докладал ещё в пятницу. По факту поломатой в отделении мебели мною, начальником о/м №6 подполковником Рукастым В. И., проведено внутреннее расследование.
Установлено, шо 18 мая в 18—00 в районе пивного ресторана на ул. Ново-Садовой д.14, нашим нарядом ППС был задержан и доставлен в отделение для установления личности гражданин, который выглядел подозрительно (был трезвым). Со слов задержанного, его имя Икар, фамилию назвать не смог, документов при себе не имел. Под имеющиеся в наличии ориентировки задержанный не подходил. Во время регистрации факта привода в книге учета задержанный внезапно повел себя агрессивно, оттолкнул сержанта ППС стулом и выбежал на улицу. Поиски по горячим следам, немедленно организованные капитаном Войновым за отсутствием у гражданина особых примет результатов не дали.
Последующих происшествий или противоправных действий в связи с этим на территории района не отмечено, жалоб со стороны населения не поступало.
Помощнику дежурного, лейтенанту Круглых, объявлен выговор.
Дата. Подпись.
Ну вот, совсем другое дело, Василий Игнатыч. Чётко и ясно. А то нападение! Икар, Икар… Это что-то с авиацией связано. Как пить дать, из Средней Азии парень, это там такие имена любят детям давать. Помню, был один такой под Уральском — Трактор Моторович… А Круглых, Круглых — это который недавно к нам из училища? Так точно. Ну и в чём сыр-бор?
Последний лист также был напечатан на машинке, но явно не на раздолбанной служебной — это сразу бросалось в глаза. Мелкие аккуратные буквы в строке шли слишком уж ровно, как строй гвардейцев на параде. Похоже на импортную — гэдээровскую или даже югославскую.
Начальнику ГУВД г.Т-ска
Генерал-майору Стрельникову П. П.
копия: начальнику РУВД Центрального района
полковнику Пуляеву Г. Б.
Рапорт
Товарищ генерал-майор!
Довожу до Вашего сведения, что начальник о/м №6 Центрального района подполковник Рукастый В. И. объявил мне выговор получается только за то, что я пошёл в туалет, на что я по Уставу имею полное право.
А там, где у нас запасный выход, все двери были заперты — я сам проверял перед заступлением. Поэтому я так считаю, что стулом швырнули на самом деле никакие не хулиганы, а самый настоящий полтергейст! О чём я сразу доложил подполковнику Рукастому, потому что я был недавно на лекции об этом редком явлении в обществе «Знание», и всё совпадает.
В подтверждение, моих слов, что я не виноват, вот черновик рапорта капитана Войнова, который он в нарушение инструкции не уничтожил как положено.
Кроме того, это именно мной было найдено на полу в отделении оторванное ухо этого задержанного, а это — вещдок.
А мне вместо благодарности — выговор! Прошу поручить объективно разобраться.
Лейтенант о/м №6 Центрального района,
член ВЛКСМ Круглых Д. Р. Дата. Подпись.
— Сукины дети! — сказал вслух полковник Пуляев, — это что же они, ухо ему оторвали? Это же сто четырнадцатая! ЁКЛМН, и главное, генерал Пиф-Паф уже в курсе! Ну, Крруглых! Ну, Ррукастый! Услужили, мать вашу!
Полковник встал и зашагал по кабинету. Общество «Знание»! Умник! И откуда у тебя, советского, понимаешь, милиционера импортная пишущая машинка? Руками писать вас не научили в училище? Или это в училище вас теперь учат в мусорных корзинах копаться и доносы через головы строчить? А Рукастый? Тоже! Ладно, я ему… — Пуляев посмотрел на часы — было без двух восемь.
Он подошёл к столу, сложил бумаги назад в серую папку и уже собрался закрыть её и завязать, но тут увидел на внутренней стороне обложки надпись, которую не заметил сразу. Начертанная красным цветом генеральского карандаша, она состояла из трёх слов и одного вопросительного знака: «Дело Ван Гога?»
Полковник взял было стакан, потом поставил его и задумался. Все знали, что генерал Стрельников увлекался разгадыванием кроссвордов и обожал придумывать для новых дел заковыристые рабочие названия, которые потом в разговорах использовались вместо длинных порядковых номеров. Красно-карандашная заметка генерала неофициально как бы намекала, что, может, и новое дело придётся открывать, раз события выглядят как-то странновато, и что ежели открывать, то вот я вам и рабочее название уже придумал.
Полковник стал перебирать в памяти всех криминальных элементов по кличке Гога. Таковых вспомнилось несколько, но среди них не было ни одного Вана или Вано. Гога Седой был. Гога Чёрный был. А Вана Гоги… нет, не было.
Он снова сел, оторвал от перекидного календаря листок и написал на нём «ванна-гога». Затем сложил листок вдвое, положил его в нагрудный карман рубашки, застегнул на пуговку и слегка прихлопнул — ать-два!
— Разрешите? — дверь открылась, и в кабинет стали заходить начальники отделений Центрального района.
Оперативка заняла 27 минут. Из них промывание мозгов начальнику ОВД подполковнику Рукастому (без свидетелей, конечно) — 7 минут рровнА. После чего полковник снова остался наедине с собой и своей ответственностью. Он допил остывший чай, сделал несколько телефонных звонков и подписал несколько документов. До обеда оставалось ещё о-го-го, и полковник решил осуществить уже высказанное Рукастому намерение, а именно — лично приехать и проверить шестое отделение. А то распустились, понимаешь…
Пронзительный звонок прервал боевой ход мыслей полковника и заставил его посмотреть на столик, на котором стояло несколько телефонов. Звонил белый, с золотистым гербом на диске. АТС-2. Пуляев встал, дождался второго звонка и снял трубку.
— Полковник Пуляев!
— Из Комитета беспокоят, — раздался в трубке вкрадчивый голос.
— Узнал, Сергей Сергеевич, — полковник снова сел за стол и взял в руку карандаш, приготовившись записывать.
— Нет, записывать не надо, — сказал голос из трубки. — Постарайся просто запомнить, Глеб Борисович… В общем, у нас к тебе просьба. На заводе, на Пятом, у главного инженера кресло сπ… ли. Ты не поверишь — прямо из кабинета. Нужно поискать, может, где в городе всплывёт. Но неофициально так, по-тихому.
— Понял… Поищем.
— Да-да, именно по-тихому. Поручи кому-нибудь, лично. Чтобы слухов не было никаких. Ты ведь знаешь, что такое Пятый завод.
— Никак нет, — на всякий случай ответил полковник, хотя, разумеется, прекрасно знал.
— Вот именно. Ориентировку даю: кресло югославское, фабрики «Стол Камник», крутится вокруг оси, светло–коричневая обивка под кожу, ножки крестом, металлические, снизу колёсики. Сзади на спинке значится инвентарный номер: триста двадцать один, дефис, пэ, как «пуля». Повторить, Глеб Борисович?
— Да, если можно.
— Три, два, один, потом чёрточка и буква «п», как пуля.
— Запомнил, Сергей Сергеевич, три-два-один… три-два-один-пуск! Так-так.
— Если будут зацепки — сразу же позвони, — и в трубке вдруг стало тихо-тихо, как в зимнем лесу ночью.
Полковник медленно положил трубку на место. Потом подышал на золотистый герб на номеронабирателе и слегка полакировал манжетой мундира. Он думал. Кресло? На кой ляд оно кому сдалось? И вообще, как это с номерного завода можно что-то вынести?! Там же охраны, как в тюрьме! Машины досматривают, сумки запрещены… Нет, вынести не могли. Значит, оно осталось там… Просто кто-то решил подшутить? Над главным инженером, ага. Кто может посметь подшутить над вторым лицом предприятия? Правильно, только первое лицо. Директор завода. Зачем? Бред какой-то…
Глеб Борисович подошёл к окну. Потом назад к столу и снова к окну.
А рапортовали, стало быть, сразу в Комитет, а не в милицию. Значит, внутри завода коллеги из КГБ уже ищут сами. А нас попросили, так сказать, снаружи посмотреть, на всякий случай… Так-так-так-так-та-ак. Раз-два-три, огонь пали…
Полковник подошёл к двери, приоткрыл её и коротко бросил:
— ТТ ко мне!
Через две минуты на пороге бесшумно возник ТТ — так в управлении называли майора Крюкова, следователя по особо важным делам. Откуда и когда взялось это прозвище — никто не помнил. Но все называли его именно так. То ли из-за его любимого личного оружия, то ли из-за его имени — Тимур Тенгизович, то ли ещё почему. На майора милиции ТТ внешне не походил ну никак, скорее на фарцовщика. Невысокий, плечистый, по–кошачьи гибкий в движениях, с симпатичным лицом, но с нескромным взглядом карих глаз, он был одет в обтягивающие его мускулистые бедра дефицитные импортные джинсы и в отечественную (но сделанную под зарубежную) тёмно-синюю футболку с белыми иностранными буквами «Sovintorg» на груди. Ноги же были вызывающе украшены ещё более дефицитными кроссовками «Адидас» с тремя полосками.
Майор не спеша приблизился к столу, плавным движением не столько сел, сколько переместился на стул напротив полковника, потом замер и пристально посмотрел ему в глаза.
— В-общем так, — негромко, но строго начал Пуляев. — Надо кресло одно поискать, импортное. Неофициальный запрос оттуда (он показал глазами наверх). Краденое. Коричневая кожа. На ножках колесики, и к тому же крутится, так вот, — полковник нарисовал пальцем в воздухе над столом два круга — по часовой и против часовой стрелки. — В комиссионках посмотри, в ремонте мебели. Объявления «куплю-продам» и все такое. Выяснить местоположение, короче. Только надо, чтобы все было по-тихому, никого не трогать, никого чтобы не спугнуть. Да, чуть не забыл! Ещё там сзади на спинке кресла номерок может быть, простой такой… щас… как бишь его… чёрт. А! Раз-два-три-огонь-пали, вот! Да, точно. Один два три. Потому что сπ… ли его аккурат на нашем ракетном заводе. Вопросы есть? Тогда свободен.
ТТ медленно помотал головой, не мигая глядя в глаза полковнику, потом, всё так же молча и грациозно, перетёк из сидячего положения в вертикальное и бесшумно вышел.
«Кошак хренов! — подумал полковник, провожая его глазами, — хоть бы мяукнул что ли в ответ!» Потом он встал, взял фуражку с вешалки возле двери и вышел из кабинета.
— Я в шестое, — сказал он дежурному офицеру.
Подполковник Рукастый времени зря не терял: пол в отделении был свежепомыт, корзины для мусора — пустые, пахло гуталином. Никакого наличия последствий нападения неустановленных хулиганов, а тем более полтергейста, не наблюдалось.
Рукастый провёл начальство в свой кабинет и предложил ему коньяку (армянского, пять звёзд). Начальство не отказалось.
— Личный состав собрать? — спросил он доверительным тоном после первой.
— Пока не надо, — полковник был сух и строг. — Ты вот что… Давай ухо показывай, где оно у тебя?
— Здесь, в сейфе.
— Открывай!
Под суровым взглядом начальника Рукастый вынул из нижнего ящика стола ключ, открыл им верхний ящик стола, оттуда достал другой ключ, которым отпер замок сейфа. Открыв дверку сейфа, он достал из него полиэтиленовый пакет, а из него — небольшой бумажный сверток. Поместив его на стол перед начальником, он очень аккуратно его развернул.
Уха внутри свертка не оказалось. Внутри оказался порошок. С полпригоршни. Беловато-розоватый. Похожий на стиральный, но без запаха.
Полковник и подполковник подняли головы, посмотрели друг на друга и одновременно произнесли: — Что за х… ня?!
Тридцать минут спустя, дверь кабинета открылась, и в коридор высунулась голова Василия Игнатьевича с изрядно раскрасневшимся лицом.
— Лейтенанта Круглых ко мне! — мощно гаркнула голова и снова исчезла за дверью.
Когда лейтенант вошёл в кабинет и вытянулся — повашприказприбыл! — сквозь табачный дым с примесью запаха спиртного он разглядел над столом два красных лица, направленных на него словно две пушки главного калибра.
— Ухо было левое или правое? — спросило одно красное лицо.
Лейтенант задумался, сделал несколько движений руками, словно примеряя воображаемое ухо к своей голове, и неуверенно ответил: — Кажись, левое.
— Ага. Ну и где оно? — спросило другое красное лицо.
— Так товарищ подполковник, вы же ж сами… Я же ж сам вам… Не могу знать!
— Не можешь знать, а шо тогда генералу кляузы строчишь?!
— Это не кляузы, тов…
— А импортную машинку ты, случайно, где достал, писарь? — перебил его полковник Пуляев вкрадчиво.
— У маминого дяди одолжил, тащполковник. Он на ней мемуары пишет, а ему подарили на юбилей.
— Ишь ты! — ехидно произнес Пуляев, обращаясь к Рукастому. — Значит, у него там вся семья такая… писательская!
— Никак нет! Деда, то есть Прохор Пафнутьевич, он не писатель, он тоже из органов.
Начальники переглянулись.
— Погоди-ка, а фамилия его, случайно не…
— Так точно, Стрельников… Генерал-майор! — лейтенант Круглых явно был доволен, сообщая эту информацию начальству, хотя и пытался придать лицу невинно-глуповатое выражение.
Возникла неловкая пауза, в ходе которой полковник продолжал пристально смотреть на подполковника, а тот, не менее пристально — в окно. В окне сквозь молодую листву сияло чистое весеннее небо. В клеточку.
— Ну вот, что, лейтенант, — наконец сказал полковник Пуляев, встав и подойдя вплотную к Круглых. — Выговор я с тебя снимаю. Объявляю благодарность за… мм.. наблюдательность и рвение. Но приказываю. Нет, прошу. Больше никакого сора из избы не выносить. Понял меня, сынок? Если для тебя честь мундира что-то значит.
— Так точно, товарищ полковник!
— Так. И что, по-твоему, я должен доложить товарищу генерал-майору?
— Не могу знать!
— Ну иди, орёл.
Лейтенант вышел и закрыл дверь. Полковник, всё ещё стоя возле двери, повернулся и задумчиво посмотрел на Василия Игнатьевича, старательно делавшего вид, что всё это его не очень касается. Потом похлопал себя по нагрудному карману и спросил:
— Василий, а ты… про ванну Гоги слышал когда-нибудь?
— Шо? Ванну Гоги? Нет… Ремонт квартиры, что ли, затеял?
Полковник не успел ответить. Дверь вдруг приоткрылась, и в неё просунулась голова лейтенанта Круглых, который, совершенно очевидно, подслушивал за дверью.
— Я, я слышал, товарищ полковник! На лекции рассказывали! Они, короче, в этой ванне его водой лечили. В психушке.
— Кого?!
— Ну, Ван Гога! Ну, это был голландский художник такой, но жил во Франции — псих! И он уже давно умер. Застрелился случайно! А перед этим взял бритву и — хрясь! — ухо себе! Отхватил! Псих был в общем, но его картины…
— Круглых!!! — вдруг заорал Рукастый.
— Я!
— Головка от х**! Шагом марш отсюда, умник!
Ещё через полчаса «внезапная» проверка шестого отделения благополучно завершилась: коньяк был весь выпит, странный порошок из сейфа утилизирован в виде водного раствора в кадку с фикусом, все распоряжения были даны, а соответствующие обязательства взяты.
Вернувшись к себе, остаток рабочего дня и ещё пару часов после его окончания полковник Пуляев потратил на написание рапорта генералу Стрельникову.
Невозможно передать, как он ненавидел писать вообще, а рапорты в особенности. После того, как он израсходовал на черновики все двенадцать листов школьной тетрадки и плюс к тому две обоймы патронов (спускался в подвальный тир, чтобы отвести душу), ему, наконец, удалось выдавить из себя полстраницы текста, глядя на который он сказал самому себе: «Стой! Раз-два!», что означало «хватит, лучше всё равно уже не получится».
Затем рапорт был напечатан двумя указательными пальцами собственноручно на печатной машинке «Башкирия» (секретарша, Зоя Филипповна, была отпущена домой в восемнадцать часов рровнА). Наконец, вынув сэндвич из двух листов с копиркой между ними из машинки, полковник перечитал свой труд и, вздохнув, поставил под ним свою подпись.
Начальнику ГУВД г. Т-ска,
генералу-майору П. П. Стрельникову
от начальника РУВД Центрального р-на
полковника Пуляева Г. Б.
Рапорт
Уважаемый Прохор Пафнутьевич!
Согласно Вашего поручения от 20.05. мною собственноручно проведена беседа с руководством и личным составом о/м №6 и проверены факты, изложенные в рапортах подполковника Рукастого и лейтенанта Круглых.
Установлено, что в пятницу, 18.05. наряд ППС осуществил привод в указанное о/м гражданина для установления его личности. Личность была установлена капитаном отделения Войновым, при этом занесена в журнал привода под неразборчивой фамилией Икаш или Имар.
Гражданин был трезв, но не подходил под описание разыскиваемых лиц, а поскольку претензий к сотрудникам ППС не заявлял, в силу чего был отпущен по месту жительства.
Сведения относительно действий хулигана по кличке «Полтергейст» и прочих нештатных ситуаций фактами не подтвердились. Капитан Войнов официального рапорта начальнику отделения не подавал. Вся казённая мебель в отделении согласно инвентарной книге налицо в удовлетворительном состоянии.
Также установлено, что кусок лейкопластыря с пола (впоследствии утилизирован), который по ошибке был принят лейтенантом Круглых за анатомическую часть тела (ухо), как таковой частью тела предполагаемого иностранного гражданина Вана Гога являться никак не мог, ввиду того, что указанный гражданин давно умер, причем вообще даже не у нас, а за рубежом, предположительно в капиталистической Франции, да ещё и практически до Великой Октябрьской Революции.
Исходя из результатов проверки, мною отданы распоряжения и приняты следующие меры:
1. Л-ту Круглых объявлена благодарность за проявленную бдительность.
2. К-ну Войнову сделано замечание за неразборчивый почерк при занесении записей в журнал привода.
3. Подполковнику Рукастому поставлено на вид, чтобы он тщательнее соблюдал инструкции по управлению молодыми кадрами при работе с личным составом отделения.
Дата. Подпись.
Шёл десятый час вечера. День выдался каким-то нескладным, впрочем, как всегда. «Такая у нас служба», — сказал сам себе Глеб Борисович устало, покидая кабинет и не чувствуя удовлетворения от проделанной за день работы. Что-то тревожило его, то ли какая-то ускользнувшая мысль, то ли что-то недосказанное. Он пару секунд постоял возле двери, пытаясь понять, что же это именно, но озарения не случилось. «Ладно, завтра», — махнул он рукой.
Глава II. Mona Lisa. Overture
— Смелее, маэстро, смелее! — ободряюще произнес синьор Мокинелли, распахивая перед молодым человеком дверь и привычным взмахом головы встряхивая свою пышную седую шевелюру. — Признаться, я тоже, впервые представ перед оркестром, скорчил от страха такую гримасу, что меня приняли за налогового инспектора.
Молодой человек, в адрес которого были произнесены эти слова, решительно шагнул в репетиционный зал, испытывая те же ощущения, что и купальщик, впервые входящий в море и преодолевающий натиск волн.
Прошла всего одна неделя, как он приехал в Неаполь из Бари, где недавно закончил учебу в консерватории, и всего три недели с того дня, как он получил от синьора Мокинелли письмо с приглашением. И всё это произошло потому, что пару месяцев назад он разослал в разные известные оркестры письма с просьбой о стажировке в качестве начинающего дирижёра. Конечно же, он надеялся получить положительный ответ от нескольких адресатов, чтобы потом можно было выбирать. Ну, хотя бы, между Триестом и Венецией, или между Неаполем и Миланом (в Ла Скала, ему хотелось попасть больше всего). К счастью или к несчастью, но трудности мучительного выбора его миновали совершенно, ибо ответ на веер его писем пришёл всего один. Один!!! Хорошо, один. Но зато из Неаполя! Из Неаполя, да. Но отнюдь не из театра Сан-Карло. А вовсе даже от какого-то совершенно не известного ему Католического симфонического оркестра. Точнее, от руководящего этим оркестром маэстро Сержио Мокинелли (о котором ни он, ни кто-либо из его знакомых в консерватории ранее не слышал).
В письме синьор Мокинелли сообщал некоторые детали. Что в его оркестре двадцать шесть музыкантов, и он частично спонсируется Архиепархией Неаполя. Что, так как объявлено о создании Симфонического оркестра Итальянского радио в Неаполе (звучит неплохо!), перед его коллективом поставлена амбициозная цель — войти в основной состав этого формирующегося оркестра. Что для этого нужно победить на конкурсе своих конкурентов в лице другого муниципального оркестра (столь же неизвестного здесь, в Бари). И что им нужен молодой и энергичный концертмейстер/дирижёр для репетиций, пока сам Мокинелли «по уши занят организационными делами», связанными с подготовкой к конкурсу. Наконец, что работа эта неоплачиваемая, но он даёт честное слово, что что-нибудь придумает (чтобы концертмейстер-дирижёр не умер с голоду до конкурса).
Выбор у свежеиспечённого выпускника Conservatorio di Musica Niccolo Piccinni Bari, разумеется, был. Он мог, например, поискать место дирижёра церковного хора в какой-нибудь Казории или в Кремоне. Или начать преподавать в сельской музыкальной школе, как ему советовала мама. Лучше держаться подальше от больших городов, где теперь творится сущий ад, говорила она, имея в виду вооруженные столкновения ультралевых, ультраправых, анархистов, мафиози и прочих террористов, о которых каждый день писали газеты.
Мама, конечно, была права. Менять la camorra barese на la camorra napoletana смысла не имело никакого, а в маленьких городках и нравы поспокойнее. Но… Молодая и бурлящая эмоциями душа просила большего. Хотелось яркого света, громких звуков и вулканической энергии большого города. И он направился в сторону Везувия.
На первой встрече двух маэстро три дня назад они понравились друг другу. Мокинелли расспросил молодого человека о музыкальных пристрастиях, рассказал о конкурсной программе и передал ему копии партитур трёх произведений, которые он отобрал для конкурса (из них только одно было знакомо молодому маэстро). Затем Мокинелли сообщил адрес театра Политеама, который безвозмездно предоставлял оркестру помещение для репетиций, и дату встречи. Роберто понимал, что изучить партитуры за оставшееся до репетиции время было практически невозможно, но такая героическая попытка всё же была им предпринята.
Итак, молодой человек решительно вошёл в репетиционный зал. Отсчитав про себя четыре шага, он мужественно посмотрел в сторону оркестрантов, думая, что все их взгляды нацелены на него. Увы! Его дерзкое вторжение осталось практически незамеченным — духовики резались в карты, струнники громко и оживленно обсуждали вчерашний матч Napoli и Roma, а представительницы прекрасной половины оркестра, отгородившись от остальных музыкантов поднятой крышкой рояля, кажется, что-то примеряли. Один лишь ударник, с большим аппетитом уплетавший завтрак, составные части которого удобно располагались на салфетках, постеленных на литаврах, заметил вошедших и, указав на них половинкой огурца (вторая половинка была только что помещена за щеку), громко пробухтел: «Метроном привёл ассистента».
Последовавшей за этим объявлением восьмитактовой паузы хватило на то, чтобы музыканты поспешили на свои места, а их дирижёр — синьор Мокинелли — мог начать свою несколько напыщенную речь.
— Друзья! — торжественно начал он красивым бархатным баритоном, — представляю вам этого молодого дирижёра, синьора Роберто Кармини. Он будет проходить у нас стажировку, помогая нам готовиться к конкурсу, а мы, что совершенно естественно, будем во всем помогать ему, не правда ли, синьор Дженти? — последнее относилось к первой скрипке — небольшого роста лысеющему мужчине, лет за сорок. — Я уверен, что вы легко найдете с синьором Кармини общий язык, ибо наш общий язык — это Музыка. Итак, с вашего позволения, сегодня репетицию проведёт мой коллега, маэстро Кармини! — после сказанных таким тоном слов сами собой напрашивались бурные аплодисменты. Однако оваций не последовало, и Мокинелли подвел молодого человека к дирижёрскому пульту в тишине.
— Погоняйте с ними увертюру, — вполголоса сказал Мокинелли молодому человеку и удалился, попрощавшись со всеми царственным жестом.
Роберто выдохнул — именно с этим произведением он успел познакомиться лучше всего. Взгляд Роберто скользил по лицам и фигурам музыкантов, а мозг производил несложный подсчёт. Двенадцать струнников (маловато), шесть деревянных духовых, семь медников (ничего себе!), литавры — всего двадцать шесть. И это называется симфонический оркестр?
Музыканты, не спеша готовясь играть, тоже поглядывали на молодого человека и негромко обсуждали его внешний вид. Вид этот был не слишком импозантным: молодой человек выглядел довольно высоким, отчасти потому, что держался очень прямо, и был скорее худым, чем стройным. Темно-русые слегка вьющиеся волосы обрамляли его бледное лицо, на котором выделялись большие темно-серые глаза. В глазах читалось смущение и любопытство.
— Похож на испанский восклицательный знак, — низким, прокуренным голосом подытожила дама не определяемого вслух возраста. Это была синьора Гуччо — вторая виолончель.
— Добрый день, синьорины и синьоры, — начал синьор Кармини негромко. — Очень рад с вами познакомиться, если вы готовы, давайте начнём с увертюры. Прошу вас, — он взял палочку и поднял руки.
Музыканты приготовились. Наступила тишина.
Взмах палочки, и комната вдруг наполнилась тревожными бегущими по небу облаками, подсвеченными драматическим светом кровавого заката, рождённого музыкой увертюры к опере Винченцо Перуджа «Мона Лиза».
Роберто обожал самый первый момент рождения звука из ничего, из тишины. Это, по его мнению, было сродни Большому Взрыву. Вот только что во Вселенной не было ничего, ни пространства, ни времени, да и самой Вселенной ещё не было. И вдруг она зарождалась вместе со звуком и из звука! Конечно, если звук этот был правильным.
Однако в этот раз звук был не совсем правильным, и молодой дирижёр, видимо, обладающий абсолютным слухом, быстро понял, почему.
— Я прошу прощения, один момент, синьоры, — он остановил оркестр. — Это же не ре мажор!
— Ну вот, начинается, — проворчала синьора Гуччо.
— Синьор Кармини, позвольте, я объясню, — сказал синьор Дженти, вставая и кладя скрипку и смычок на стул, чтобы освободить для разговора обе руки. — Мы начинали репетиции именно в ре мажоре, как в оригинале у автора, однако у синьоры Гуччо с этой тональностью связаны настолько неприятные личные воспоминания, что начинается мигрень, в общем, она попросила синьора Мокинелли сменить тональность на любую другую, и он был так великодушен, что не смог ей отказать. Поэтому да, мы играем в ми бемоль. Все мы согласились, ведь не очень гуманно ради всего лишь полутона доставлять головную боль уважаемой даме, — голос и жестикуляция одновременно закончилась, и Дженти, легонько поклонившись, взял свой инструмент и снова сел.
Кармини посмотрел на синьору Гуччо. Весь её облик говорил: «Да, это правда, я ужасно страдала. Ужасно. И только посмей мне возразить, щенок!»
— Ну, хорошо, — растерялся Кармини, — продолжим. От цифры четыре, — он снова взмахнул палочкой.
На этот раз музыка продолжалась на несколько тактов дольше. Когда Кармини взглянул на ударника, который должен был вступить в следующее мгновение, тот одной рукой вытирал салфеткой поверхность литавры, а у другой облизывал пальцы.
— Buon appetito, — сказал дирижёр вежливо, останавливая оркестр. — Нам подождать, пока вы закончите трапезу, или можно продолжать? — в интонации Кармини не было и намёка на иронию, но его выдавало выражение лица.
— О! Спасибо. Продолжайте, я вас догоню, — ничуть не смутившись, ответил ударник, хватая палочки. — Нет проблем.
— – Простите, как вас зовут? — обратился он к ударнику.
— Можете называть меня Бартоломео, — важно ответил тот.
— Теперь вы готовы, синьор Бартоломео? Давайте-ка, — Кармини заглянул в партитуру, — сразу с 25-го такта.
Взмах палочки, и гром литавр прокатился по залу словно пушечное ядро. Громовое соло продолжалось четыре такта несмотря на то, что уже на втором Кармини опустил руки и с нескрываемым ужасом уставился на ударника. Тот, не обращая внимания на дирижёра, поскольку его глаза были закрыты, продолжал самозабвенно лупить по литаврам, словно пытался проверить на прочность натянутую на них кожу, пока не завершил своё соло картинным взмахом обеих рук, и не открыл глаза. Оркестранты перестали зажимать уши и как ни в чём не бывало снова взяли инструменты.
Возникла пауза, которую нарушил Кармини.
— А вы не обратили внимание, синьор Бартоломео, что там стоит знак «piano»?
— А что, по-вашему, я играл? — снисходительно вопросил ударник.
— Аха, это и было piano!? — уточнил Кармини. — Если бы вы соизволили вдруг узнать моё мнение, то это больше похоже на sforzando. А вы как считаете? — обратился он ко всем музыкантам.
— Синьор Кармини, ну что вы сразу придираетесь? — подняла смычок синьора Гуччо. — Это ведь единственное место во всей увертюре, где Бартоломео может показать себя. Когда мы будем выступать перед публикой, придёт его мама, ей 87 лет, и она почти не слышит, и знаете, что она скажет, когда её сын будет играть piano? Она скажет, что её слуховой аппарат ни на что не годится, и она не может услышать игру собственного сына! А вы знаете сколько стоит новый слуховой аппарат?
Этого Кармини не знал. Однако, имея некоторое представление (впрочем, вполне возможно, ошибочное) о том, что такое игра оркестра, он знал, как он должен звучать вообще и в этом произведении, в частности.
— Синьоры, — начал он немного взволнованно. — Я допускаю, что у нас с вами несколько разный… Оркестр — это единое целое. Это не совокупность отдельных инструментов и музыкантов. То есть… если мы собрались, чтобы исполнить Произведение… целое должно превалировать над частью. Иначе не получится… Не будет правильного звука… не будет магии… ничего…
— Я вас умоляю, синьор Кармини, — взмахнула смычком синьора Гуччо. — Бросьте вы эти теоретические условности! Кто тут из нас целое, а кто часть — это тот ещё вопрос.
— Простите, синьор Кармини, — синьор Дженти снова встал. — Можно вас попросить двигаться дальше, не останавливаясь пока на мелочах? Иначе у вас может так и не сложиться общей картины. Того целого, которое, как вы справедливо заметили, мы должны вместе создать.
Это звучало вполне резонно, и Кармини решил, не обращая внимания на возможные ошибки, пройти всю увертюру целиком.
— Хорошо, синьоры, давайте сыграем с начала и до конца, — и он взмахнул руками.
Музыка вновь наполнила воздух. Местами она звучала сносно, местами ухо маэстро коробили неточности, однако он не останавливал музыкантов, стараясь запомнить как можно больше их ошибок, чтобы потом разобрать каждую из них. Музыканты, как ему казалось, играли формально, если не сказать равнодушно. Так ученики обычно играют скучные гаммы. Они вполне уверенно держали темп, но слаженности в оттенках не было, как не было и однородного полотна звука. Звуковая картинка была похожа больше на заросший сорняками пустырь, чем на мягкие изгибы постриженного на склоне газона, каким, по ощущению маэстро, могло бы выглядеть изображение исполняемой мелодии, сумей он её нарисовать.
И всё же, когда отзвучал финальный аккорд, Роберто передумал говорить об ошибках. Ему пришла в голову мысль, что это будет бесполезно, может быть, не вообще, но именно сейчас, в первый день знакомства с оркестром. Он осознавал, что ему не достаёт опыта руководства реальным коллективом оркестра, и партитура вряд ли могла тут помочь. Нужно было импровизировать и оставаться дипломатичным, что предполагало, в том числе, и неискренность, которая была неизбежной обратной стороной тактичности. От этого ему было не по себе — он не умел и не любил кривить душой.
— Ну что же, синьоры музыканты…. Это было… Вполне… Я должен сказать… Нет… Могу я вас спросить? Вам самим, насколько это понравилось? Ваше исполнение? Что вы чувствуете? Какие эмоции вызывает у вас это звучание?
Оркестранты переглянулись, что-то бормоча, -казалось, каждый что-то произнёс, но даже по тону невозможно было понять, есть ли общее мнение и какое оно. Единственное, что он разобрал, была чья-то отчетливая фраза: «ну мы же не Берлинский филармонический оркестр, да и вы не фон Караян». И ещё Бартоломео поделился мнением, что пора бы уже прерваться на обед.
— Синьор Кармини! — это опять была синьора Гуччо, — если вам не понравилось, вы так и скажите, и нас это опять-таки не удивит.
— Отчего же? — тут Роберто задумался — что бы он сейчас ни сказал, это могло прозвучать фальшивыми штампами из американских фильмов про «единую команду», «совместные усилия», «общие цели», вперёд и ура.
— Давайте не будем тратить время на разговоры, мы же не политики, — сказал он совершенно другим тоном, удивляясь самому себе. — Сейчас я попрошу сыграть то же самое, но в два раза медленнее и в три раза тише, включая вас, синьор Бартоломео. Только один раз. Покажите мне пиано. Представьте, что вы… мм… решили ограбить банк и крадётесь ночью вдоль высокого забора.
Музыканты заиграли вновь. На последних тактах дверь в зал открылась, и вошёл синьор Мокинелли. Его лицо изображало наигранное недоумение.
— Прошу прощения, синьор Кармини, — сказал он громким шепотом, когда музыка стихла. — Синьоры? Что это было? Создаёте саундтрек для детектива? Или мне это только показалось, будто вы крадётесь по ночной улице? — он встал на цыпочки, вжал голову в плечи и изобразил крадущуюся походку.
Все рассмеялись. Кармини облегченно вздохнул. Мозаика звуковой картинки, пусть и в виде упражнения, но сложилась, хотя с первоначальным замыслом автора её, пожалуй, роднили, разве что те же ноты.
— Если бы Перуджа услышал это, — тихо сказал Мокинелли своему молодому коллеге, слегка притянув его за лацкан пиджака, — он перевернулся бы в гробу.
Кармини не смог определить, шутит маэстро или нет.
После небольшого перерыва репетиция возобновилась. Напряжение, державшее молодого человека с самого начала, несколько спало. Это дало ему возможность расширить фокус своего внимания. Успокоившись, он смог наблюдать не только за игрой, но и за двадцатью шестью оркестрантами, постепенно улавливая некоторые странности в их поведении.
Так, например, он заметил, что синьор Дженти время от времени закрывает один глаз — правый, будто прицеливался своей скрипкой как ружьём. А синьора Гуччо умудрялась помимо игры делать множество «вспомогательных» операций — поправлять прическу, подправлять бретельку, сморкаться в платочек, трогать виски с гримасой, должно быть означающей головную боль, и поглядывать на часы, висящие позади Кармини на стене. На молодого дирижёра она при этом почти не смотрела, что, впрочем, не так волновало молодого человека, как взгляд тубиста — короткостриженого крепыша, сидящего в заднем ряду справа. Казалось, он внимательно следил за дирижёром, однако по презрительному выражению его лица было ясно, что следит он отнюдь не для того, чтобы наиболее точно следовать указаниям маэстро. Скорее он смотрел на дирижёра как на мошенника, случайно занявшего несвойственное ему место. По крайней мере, мнительному Кармини так казалось. Этот откровенно недружелюбный взгляд заставлял молодого человека нервничать. И чтобы не отвлекаться на переживания по этому поводу, он расфокусировал свой взгляд, стараясь смотреть сразу на всех оркестрантов, но ни на кого конкретно. Это было нетрудно хотя бы потому, что ни одного симпатичного лица среди них он пока не обнаружил.
Когда время репетиции вышло, Роберто чувствовал себя как выжатый лимон. Он простился с музыкантами, делая вид, что продолжает изучать партитуры, а после того, как последний из них вышел, опустился на стул и закрыл глаза. Мгновенно заснув, он очевидно потерял равновесие и завалился набок. Удар неприветливого дощатого пола пришёлся на правое ухо и щёку, разбудив маэстро. Первое мгновение он не понимал, где находится, растирая ладонью щёку и слушая зуммер си третьей октавы, которым звенело ухо. Вот именно в этом состоянии сидящий на полу и потирающий ухо стажёр предстал перед маэстро Мокинелли, который в этот момент зашёл в зал.
— Я всегда говорил, синьор Кармини, что хорошая увертюра способна буквально сбить с ног, — пошутил он своим театральным баритоном. — Если вам там не очень комфортно сидеть, то предлагаю переместиться в более мягкую обстановку — отметим ваш первый день в оркестре. Разумеется, я угощаю.
— Спасибо, — Роберто поднялся с пола и отряхнул брюки и рукав пиджака. — Сочту за честь.
«Da Clementina» на Виа Санта Лючия действительно оказался очень уютным ресторанчиком, в котором синьор Мокинелли, похоже, был завсегдатаем — столик на двоих быстро «нашёлся», несмотря на полную загруженность.
— Синьор Мокинелли, — обратился к собеседнику Роберто, когда они сделали заказ, — можно вас попросить поделиться впечатлением от сегодняшней репетиции?
— Друг мой, это же первая репетиция, так сказать, пристрелка. Ещё рано делать какие-либо выводы.
— И всё же. Мне важно ваше мнение. Понимаете, я не почувствовал такого контакта с музыкантами, на который внутренне рассчитывал. Хотя от первой встречи трудно ожидать…
— Ну, разумеется, разумеется. Вы же не ожидаете от первой встречи с девушкой интимной близости? Впрочем, это неудачный пример. Если говорить о впечатлении… То, что музыканты, которые впервые видят вас, вам не доверяют — совершенно естественно, да? Но вот почему вы не доверяете им? Это было заметно.
— У меня не было недоверия априори. Лишь когда я услышал небрежность в игре и попытался её себе объяснить…
— Небрежность? Это не то, что вы могли услышать. Это уже ярлык — ваша оценка. Услышать вы могли неточность — гармонические гуляния, кашицу, тембровый расползон — все, что угодно. Но с чего вы взяли, что причиной этих неточностей является именно небрежность? Даже очень старательный и прилежный ученик может допустить ошибку, не так ли? Небрежностью её можно объяснить только в том случае, если вы точно знаете, что он, умея делать безошибочно, витает мыслями где-то вовне или не старается, или ему что-то не нравится, например.
Роберто задумался над словами маэстро. Потом сказал:
— Не могу не согласиться, вы безусловно правы. В целом. Но вот если в частности… Когда музыкант вовремя не вступает, потому что в этот момент, извините, жр… принимает пищу, это, по-вашему, неточность, небрежность или… вызов?
— Вы конечно же о Бартоломео Стоцци, — улыбнулся Мокинелли. — Взгляните на это под другим углом, для дирижёра это бывает полезно.
Роберто хотел в ответ сказать что-то едкое, но сдержался.
— У него в партитуре всего несколько тактов. Естественно, свою партию он знает наизусть, и лично ему нет нужды репетировать. Так что он приходит на репетиции исключительно ради всех остальных, чтобы оркестр звучал так, как он должен звучать — с литаврами. Большую часть репетиционного времени он просто ничего не делает, слушает повторы игры других. А разве вы по себе не замечали, что когда делать особенно нечего, то всё время хочется перекусить, пожевать, полакомиться чем-то?
— Нет, не замечал. Наверное, потому что у меня никогда под рукой не было такого количества съестных припасов.
В этот момент официант принёс блюда.
— Ну вот теперь они у вас появились! — рассмеялся Мокинелли. — Buon appetito. Хороший аппетит — это всегда признак хорошего здоровья, — Мокинелли приподнял бокал, — Alla vostra! В прошлом году мы разучивали Первую симфонию Брамса — наверное, помните — там на литаврах не заскучаешь. Так Бартоломео успевал за репетицию так проголодаться, что становился злым как собака. Впрочем, это неудачное сравнение. После этого я стал искать произведения, где у него было бы время подкрепиться.
— Между прочим, знаете, как они меня называют за глаза? — спросил Мокинелли.
— Нет, — соврал Роберто, краснея и выдавая себя.
— Бросьте, вы же слышали сегодня. Метрономом. Как вы думаете, это комплимент или оскорбление для дирижёра?
— Не берусь судить, — уклонился от ответа Роберто, — по крайней мере, это относится к музыке, а не к письму.
— К письму?
— Да, дама-виолончель сравнила меня с восклицательным знаком наоборот. Вслух. Не стал выяснять, что она имела в виду.
— Антуанетта Гуччо, — кивнул Мокинелли, — дама с тяжелым прошлым. Не обращайте внимания.
— А что у неё за странная аллергия на ре мажор, которой вы, по её словам, благоволите?
— Иногда приходится уступать в мелочах, чтобы настоять на своём в чём-то существенном. Она может прекрасно играть, несмотря на своеобразный характер.
— Тональность — это разве мелочи?
— Когда я был в вашем возрасте, Роберто, я понимал принцип как абсолют. Но с годами и принципы становятся относительной величиной. Да и кто имеет право на единственно верный ответ? Если мы транспонируем арию под конкретного вокалиста, почему нельзя сделать это и в других случаях? Играй мы, скажем, симфонию Моцарта соль минор, разумеется, никто бы не покусился. А увертюра к опере, о которой мало кто знает…
— Да, — снова вынужден был согласиться Роберто, — я чувствую, что мне ещё учиться и учиться.
— Боже мой, какие ваши годы! Вы позволите мне обратить ваше внимание ещё на один аспект? Скажите, что сегодня было для вас наиболее сложным? Притирка? Психология, так? Не музыка и не её исполнение, я имею в виду.
Роберто задумался. Сложным ему казалось буквально всё.
— Сначала я не мог понять, почему в таком небольшом оркестре такая большая группа медных духовых. Они диссонируют…
— Это не имеет отношения к музыке, — отмахнулся Мокинелли.
— Как это?
— Вопрос финансов. Камерный струнный ансамбль и городской духовой оркестр власти решили объединить, просто чтобы сократить расходы на аренду помещения. А когда театр предложил нам одну из своих комнат для репетиций за спасибо, экономия бюджета получилась и вовсе заметной. Кстати, о медной группе. Вы уже успели заметить во второй партитуре моё маленькое преступление против великих композиторов?
— Нет. К сожалению, у меня было мало времени.
Напустив на себя вид заговорщика, за которым следят, Мокинелли осторожно посмотрел налево и направо, потом наклонился над столом и сказал:
— Благодаря мне, Чайковский вступил в интимную связь с Брамсом, которого он ненавидел.
— Я понимаю, что вы шутите, синьор Мокинелли, но не понимаю о чём.
— Какие могут быть шутки, — произнёс маэстро понизив голос, — я не мог допустить, чтобы мой духовой оркестр скучал, иначе бы они стали резаться в карты прямо во время игры. Поэтому я взял интермедию из Четвертой симфонии Чайковского, где сплошные фанфары, и совокупил её с адажио до мажор Брамса в четвертой части.
— Но… простите, насколько я помню, у Чайковского же фа минор!
— Именно! Получается совершенно умопомрачительная каденция. И главное, все вовлечены в процесс соития… Впрочем, это, наверное, не очень подходящая аллегория, — добавил он лукаво. — А вы чью-нибудь игру отметили?
— Не могу выделить кого-то одного, — осторожно высказался Роберто. — Впрочем, нет. Наверное, синьор Дженти. Я услышал в нём большого профессионала.
— Да, это так, — подтвердил Мокинелли. — Но я бы хотел обратить ваше внимание на основной язык, на котором вам придётся говорить с музыкантами во время исполнения — о движениях.
— О! Можете не продолжать! Я прекрасно понимаю и чувствую свою деревянную ограниченность в этом.
— Ну-ка поподробнее. Ничего, если я буду в это время жевать?
Роберто бы и сам насладился вкусом еды, тем более что за целый день он изрядно проголодался, но рассуждать о высоких материях с набитым ртом он не мог себе позволить. Поэтому он лишь отпил немного воды из стакана.
— Нас учили, что язык движений дирижёра — это не такие естественные для человека движения, как походка, работа рук или ног при занятии спортом или даже в танцах. Поэтому и не сложилось единого языка. Это раз. Но если каждый будет выражать музыкальную мысль своим собственным невербальным набором, то как же его поймут оркестранты, особенно в случае с приглашённым дирижёром?
— Вы не упомянули, что у каждого оркестранта тоже имеется свой собственный опыт восприятия дирижёров и выражения эмоций. И соответственно свои ожидания.
— Значит, музыканты и дирижёр уже до первой встречи должны иметь какое-то базовое общее понимание произведения, на основе которого можно уже далее спорить и договариваться о вариантах в интерпретации, если таковая вообще возможна — ведь композитор мог быть настолько однозначным, что исполнять его произведение по-другому — значит оскорбить его… или его память… Это два. Что остаётся? Остаётся лишь эмоция, которую я должен передать языком тела. А если у нас разный темперамент? Для исполнителя-холерика поднятая бровь всё равно, что окрик. А для флегматика хоть ты подпрыгни с поднятыми руками и сломай в воздухе палочку — он лишь чуть добавит громкости. Разве не так?
— Вы действительно пробовали так прыгать? — сыронизировал Мокинелли.
— Нет, это… метафора.
— Я уверен, что от меня они точно не ожидают пируэта в воздухе. Поэтому если я себе такое позволю, их реакция будет самой непредсказуемой. Я, правда, не собираюсь… На самом деле, магия, если и существует, то вовсе не в движениях дирижёра, а в его авторитете на репетиции, потому что для хорошего звучания оркестра нужно всего лишь репетировать, репетировать и репетировать. А всё, что вы хотите получить от музыкантов, нужно говорить словами. В конце концов, даже собаки понимают язык людей, чего уж говорить об оркестрантах. Впрочем, это неудачный пример.
У Роберто оставалось ещё много вопросов к синьору Мокинелли, но понимая, что ужин заканчивается, он в ускоренном темпе работал челюстями, иногда кивая головой, в знак согласия. «Пусть я представляю сейчас жалкое зрелище, — думал он, — но хотя бы не лягу спать голодным».
Глава III. Pink panther theme
Майор Крюков (в миру — ТТ) шёл по широкому тротуару прогулочным шагом сытого леопарда, старательно разглядывая каждую встречную кошечку. Этот процесс был инстинктивным и практически не затрагивал его сознания. Сначала его зрительные детекторы дальнего привода выявляли из толпы прохожих женскую фигуру, фильтруя основные параметры — рост, объем, наличие талии, стиль одежды. Затем, если объект проходил первую степень фильтрации, взгляд сканировал приближающуюся особу снизу-вверх на предмет наиболее привлекательных женских черт — бедра, бюст и общая грациозность движений. Попутно, в фоновом режиме, периферическое зрение оценивало помехи — например, наличие рядом с прохожей сопровождающего мужского пола и степень его маскулинности — так, на всякий случай, тут ТТ не особо волновался — его спортивное тело в сочетании с удостоверением майора милиции могло быстро поставить (или уложить!) на место любого ревнивца.
Наконец, когда женская особь подходила ещё ближе, включались детекторы ближнего привода, которые быстро оценивали возраст, черты лица, выражение глаз и запах, интегрируя всю полученную информацию в цельный образ. Заодно происходило дешифрирование того, был ли он сам аналогичным образом замечен и проанализирован и произвёл ли какой-либо эффект. А точнее удостовериться, что эффект этот по-прежнему ожидаемый и соответствующий.
Нет, конечно же, никто из дам не поворачивал головы и тем более не оглядывался. Но за жалюзи напускного равнодушия, обычно прикрывающими женские молниеносные взгляды, ТТ умел безошибочно считывать нечто большее. В автоматическом режиме распознавая нюансы мимики, его мозг со скоростью ЭВМ выдавал результат, причём — как и ЭВМ — в двоичной системе. Только вместо единицы и нуля анализатор ТТ использовал пару «даст» или «не даст». Женщины из второй категории ТТ практически не попадались. Возможно, они выпадали из его поля зрения ещё на дальних подступах. Или же незамысловатая программа, управляющая поведением ТТ, выдавала желаемое за действительное. Впрочем, внушительная коллекция трофеев позволяла ТТ полагать, что он был просто неотразимым.
Задание полковника его совершенно не вдохновило. Какое ещё кресло? Что за хрень!? Что он, ОБХССник что ли, ворованную мебель искать? Совсем, старый пень, уже свихнулся. Нашёл старьёвщика по комкам ходить. Хотя… Хотя в комиссионку можно было бы и заглянуть. Туда изредка морячки японские двухкассетные «Шарпы» сдают на продажу — такие монстры! ТТ мечтал купить такой многоцелевой комбайн. Во-первых, это — вещь! Признак особого статуса владельца. (Конечно, японский цветной телевизор в этом плане ещё лучше, но и цена…). Во-вторых, на двухкассетнике можно быстро модную песню у кого-нибудь переписать. А самое главное! На него можно тайно записывать сладостные стоны своих одноразовых или многоразовых подружек. Поставил на подоконник за занавеской, кнопку нажал и вперёд. Зачем? А затем, что потом эту коллекцию вздохов и повизгиваний можно на музыку наложить. Должно получиться не хуже, чем у того парняги, который записал звуки китов, как они под водой гудят. (ТТ прочёл об этом в журнале «Ровесник»). Тот добавил к китам музыкальный фон и стал продавать пластинки. Диск, помнится, так и назывался «Песни китов». А у него будет называться ещё лучше — «Песни сирен» (даром что ли мент?!).
ТТ улыбнулся своей остроумной находке, глядя на очередную прохожую. Та, решив, что улыбка адресована ей, неожиданно улыбнулась в ответ, но шага не замедлила. ТТ коротко оглянулся, оценив размеры, формы и амплитуду колебания «кормы», и тут вдруг вспомнил о чёртовом кресле и о задании. Тьфу ты! Музыка, что называется, навеяла.
Майское солнце всё это время пригревало на совесть. Поэтому, когда после пересечения с Ново-Садовой слева показалось приземистое здание популярного пивного ресторана «Золотой колос», ТТ решил, что, пожалуй, можно совместить приятное с полезным, а именно хлебнуть пивка и заодно послушать, о чём судачит городское народонаселение.
Рабочий день ещё не кончился, поэтому очередь на улице была небольшая — всего человек в тридцать, но в пивной все столики были уже заняты трудящимися, словно это и были их рабочие места. Войдя без очереди по служебному удостоверению, майор приблизился к стойке, над которой висел огромный плакат: «ВЫШЕ культуру обслуживания!», а под ним господствовала мощная фигура тёти Клавы. Любой промышленный робот будущего сгорел бы от зависти, если бы увидел, как в проворных руках тети Клавы одновременно передвигалось, ополаскивалось и вновь наполнялось пенным напитком пять-шесть пивных кружек.
В отличие от других пивных, «Золотой колос» носил гордый статус ресторана, поэтому пивных кружек в нём всегда хватало, вода для их ополаскивания не иссякала, а со своими банками и бидонами посетители внутрь не допускались — пиво можно было пить только внутри.
ТТ расположился с кружкой «Ячменного колоса» в гуще любителей культурного отдыха и стал слушать, напустив на себя самый равнодушный вид. В общем шумном фоне слух его различал отдельные обрывки реплик, то и дело выскакивающих с разных сторон, словно шарики пинг-понга.
— …ну какой он нападающий, он же пешком ходит, а не бегает! Ты мне лучше скажи, сколько…
— … ей, я считаю, довольно вежливо! А она мне такая: «Знаешь как пошёл на хер по-итальянски?» Я грю: «Не знаю!». А она мне такая: «Пошёл на хер Антонио!»
— … да ездил я на ней уже! Она тоже с передним приводом, шустрая такая.
— Андрюха, иди сюда!
— …а он вдруг раз и сел…
— Раз и сел — это у нас с каждым может случиться!
— …так ей, гниде, и сказал…
Подождав ещё немного и не услышав ничего интересного, ТТ снова подошёл к стойке.
— Аскольдыч у себя? — спросил он, возвращая кружку.
Тётя Клава, не прерывая жонглирование кружками, кивнула, и ТТ прошёл вглубь заведения, где располагался кабинет директора — Семёна Аскольдовича Зауербаума, бывшего одноклассника ТТ.
Семён Аскольдович стоял в своём кабинете возле огромного аквариума, кормил рыб и задумчиво улыбался. В белом халате и в очках в тонкой золотистой оправе, Семён Аскольдович был больше похож на врача, а не на директора пивного ресторана. А всё потому, что изначально он являлся дипломированным биологом-ихтиологом и работал несколько лет старшим научным сотрудником в рыбохозяйственном НИИ. А к пивному делу был приставлен только после того, как удачно женился на дочке директора Облторга.
Освоив секреты управления пивными услугами (секреты эти сводились к правильному регулированию плотности напитка), любимого рыбного дела он не забросил и успешно выращивал для себя и для особо приближённых закуску к пиву прямо в возглавляемом им питейном заведении. Для этого на заказ и по его чертежам на одном из местных заводов было изготовлено два аквариума на 1000 литров каждый, которые затем были укомплектованы компрессорами, фильтрами, лампами и прочими атрибутами, необходимыми для того, чтобы каспийская вобла чувствовала себя как дома. Вобла, видимо, так себя и чувствовала — жирные рыбины лениво перемещались в толще воды, лишь иногда всплывая ближе к кормушке, куда Семён Аскольдович бросал щепотки корма.
С некоторых пор процесс кормления рыбы вызывал у него улыбку из-за ассоциаций, связанных с одним весьма забавным случаем. Дело в том, что его супруга работала врачом-физиотерапевтом в новой областной клинике, физиотерапевтическое отделение которой было хорошо оборудованным. В частности, там был установлен специальный бассейн для различных водных процедур, о котором мало кто знал, ибо доступ к нему был только у очень узкого круга избранных советских граждан. Естественно, сами медработники в этот круг входили. А иногда (после закрытия) входили и члены их семей. Причём с друзьями. Например, чтобы отпраздновать какое-нибудь событие. И вот во время одной из таких тусовок, когда все уже неплохо выпили, кому-то из друзей Семёна Аскольдовича пришла в голову идея использовать этот сугубо терапевтический бассейн для такой не предусмотренной правилами лечебной процедуры, как игра в дельфинов.
Идея была встречена с восторгом. Все разделись и плюхнулись в тёплую воду бассейна, чтобы изображать дельфинов, выпрыгивающих из воды, а Семёна Аскольдовича, как единственного в компании ихтиолога, назначили их дрессировщиком, который должен был поощрять удачные прыжки рыбой. В качестве корма не нашлось ничего, кроме шпрот из консервной банки. Цирковой номер нового дельфинария выглядел так. Опустившись на колени и схватившись одной рукой за поручни, Семён Аскольдович другой рукой брал из банки шпротинку и помахивал ею вверх-вниз над поверхностью воды, а задача пьяных друзей-«дельфинов» была подпрыгнуть в воде как можно выше и схватить её ртом.
Номер получился невероятно зрелищным и чудовищно смешным. От смеха некоторые «дельфины» чуть не захлебнулись, но к счастью, всё обошлось. Вот только ловкости и грации морских млекопитающих достигнуть никому из участников шоу не удалось, несмотря на все их старания. Так что всё вполне ожидаемо закончилось тем, что шпроты из банки, можно сказать, вернулись в родную водную среду. Вместе с маслом, которое пятнами расползлось по поверхности уникального терапевтического бассейна. А чужеродный медицинскому учреждению аромат консервированных шпрот не удалось устранить даже и после того, как последняя из них была с большим трудом отловлена самодельным неводом из марли, а воду в бассейне сменили…
Вот эти-то воспоминания и вызывали у Семёна Аскольдовича улыбку каждый раз, когда он кормил свою воблу. Так было и теперь, когда ТТ бесшумно возник на пороге кабинета и увидел знакомую фигуру директора в белом халате, стоящего к двери спиной.
— А, Тимур Тенгизович, заходи дорогой! — поприветствовал майора Семён Аскольдович, не оборачиваясь, словно он, как камбала, видел вокруг на 360 градусов. Бросив последнюю порцию корма в воду, он вытер руки об халат, повернулся и радушно потряс руку майора обеими руками сразу.
— Как тебе моя Rutilus caspicus? Видал как вымахала? — кивнул он на аквариум. — Скоро буду сушить. Первоклассная вобла будет. Пива, кстати, не хочешь, нормального?
— А там что, ненормальное было? — ТТ кивнул в направлении зала, откуда доносился гул посетителей.
— Там было сделанное по ГОСТу и разлитое согласно инструкции, — назидательно сказал Семён Аскольдович. — А нормальное — это сваренное по совести, а разлитое как положено. Ну ладно, я тебе с собой дам. В грелке, чтобы никто ничего. С чем пожаловал, Тимур? Просто шёл мимо и решил поздороваться, отгадал? — Семён Аскольдович смеялся, но взгляд его стал серьёзным.
— Да, в общем, так и есть, — немного лениво ответил ТТ.
— Ну, давай тогда присядем, — предложил Семён Аскольдович, усаживаясь за свой стол, на котором лежали стопкой журналы «Рыбоводство и рыболовство».
— Как оно вообще, всё нормально? — спросил ТТ, мельком оглядев обстановку в кабинете. — Ничего нового?
— Да всё по-старому. Та же щука, да под хреном. Пьют, ругаются, ругают, иногда подерутся слегка — не без этого — но в общем, всё культурно.
— Понятно, — в тоне и взгляде ТТ почувствовалось лёгкое сомнение.
— Если бы что-то было серьёзное, я бы знал, — не без гордости сказал Семён Аскольдович. — У нашей тёти Клавы глаз-алмаз, муха не пролетит незамеченной. Всё, что в этих стенах творится я тут же…
— А за стенами? — ТТ сделал вид, что подавил зевок.
— За стенами извиняйте, уже не моя епархия. Я же не райисполком. Там как раз твои коллеги на боевом дежурстве. Так сказать, бдят, я извиняюсь.
— И хорошо они это… бдят?
— Бдительно бдят. Не жалуемся. Могу пример привести. Не далее, как в пятницу. Стоит очередь. Большая. И, как всегда, кому-то больше всех надо — нагло лезет без очереди, мол, инвалид, но документ не показывает. Ну, его кто-то возьми, да и толкни, типа, куда прёшь, а тот в ответ коляской своей ему по спине! Так патруль ваш сразу же вмешался — свинтил инвалида этого и увёз, только кресло оставил — не влезло в машину.
— Какое кресло? — насторожился ТТ.
— Ну, коляска его, инвалида этого.
— И куда оно делось?
— Да никуда, я его в подсобку сам потом отнес, не бросать же на улице.
— – А ну-ка, пойдём взглянем! — оживился Тимур. Меня дед мой как раз просил инвалидное кресло достать.
— Он разве у тебя тоже инвалид?
— Что ты! Здоров как бык! Нет, он задумал его в аренду сдавать, попрошайкам. А достать не может — там за ними очередь по записи года на два.
Они вместе вышли из кабинета, прошли по коридору и подошли к обитой железным листом двери подсобного помещения. Семён Аскольдович достал из кармана халата ключ, отпер замок, щёлкнул выключателем на стене и распахнул дверь. ТТ с порога быстро заглянул внутрь, пробежался глазами по стеллажам с бутылками, коробками и пакетами и вопросительно посмотрел на Семёна Аскольдовича. Тот выглядел озадаченным.
— Странно… Сам лично ставил его вот буквально сюда, в пятницу.
— А ключ…
— Ключ только у меня.
ТТ внимательно посмотрел на замок и пощупал ответную планку.
— Не взламывали, — уверенно сказал он.
— Ещё не хватало!
— Аскольдыч, а ты это… рисовать умеешь?
— Только рыб разве что. Ты серьёзно?
Они заперли подсобку и вернулись в кабинет. Там майор попросил своего бывшего одноклассника нарисовать пропавшее кресло-коляску. Под заинтересованным взглядом майора тот промучился минут пять, и наконец изобразил нечто. Оно было похоже на матрёшку без головы, нанизанную на вал с гребным винтом.
— А это что? — показал ТТ на вал.
— Ножка.
— Одна?
— Ну да, а снизу колесики — показал на гребной винт Семён Аскольдович. — Я же говорю, я только рыб могу рисовать.
— Как-то не очень похож на инвалидную коляску. У инвалидных сбоку большие колеса, как у велосипеда.
— Да? Нет, у этого точно больших не было.
— А цвета какого оно было, белого?
— Цвет был темный… Или чёрный, или коричневый.
— Особые приметы?
— Тимур, да не разглядывал я, оно мне нужно, как рыбе велосипед! Вот если ты меня про воблу спросишь, я тебе все анатомические детали опишу.
— Ну ладно. Заявление будешь подавать о пропаже?
— А что, надо? — испугался Семён Аскольдович.
— Да нет, я пошутил. Ребята откуда были, местные?
— Наряд-то? Да наши, из шестого отделения.
— Ага… Знаешь что…
— Мм?
— Слушай, ты как это спиной узнаешь, кто к тебе вошёл? Тётя Клава что ли телепатические сигналы подает?
Семён Аскольдович неожиданно расхохотался.
— Нет, это не я тебя узнаю. Это они.
— Кто они?
— Рыбы! Вот подойди сюда. — Он встал и подошёл к аквариумам. — Подходи медленно и смотри на рыб.
Сознавая, что над ним насмехаются, ТТ всё же приблизился к первому аквариуму, подозрительно глядя на скользящих в толще воды жирных рыбин. Неожиданно четыре из них развернулись головами к стеклу и, казалось, стали поглядывать на ТТ, открыв рты.
— Видишь? Вот эти четыре самки, похоже, тебя знают. Ты — единственный, на кого они так реагируют. Больше ни на кого. Наблюдал много раз. Кстати, ты веришь в переселение душ?
— Смеёшься? А это точно самки?
— Абсолютно. Уж в рыбах-то я разбираюсь. Ты, кстати, зря думаешь, что рыбы глупые. Они не только могут лица распознавать и запоминать, а ещё и выход из лабиринта находят быстрее, чем крысы. Доказано в экспериментах.
— Да брехня это всё. Как это рыб вместе с крысами можно в один лабиринт поместить?
Семён Аскольдович с сожалением посмотрел на приятеля, но все же ответил:
— Вместе вовсе не обязательно. По отдельности, конечно. Хочешь подробно расскажу, как ставили этот эксперимент? Это ужасно интересно!
— Не, не надо. В следующий раз. Ладно. Я, может, на днях зайду ещё. За грелками твоими, — и, погрозив рыбам кулаком, ТТ скрылся за дверью.
А Семён Аскольдович, проводив друга, сел за свой стол и задумался ни о чём, глядя на свой рисунок. Он уже не улыбался. Хорошее настроение уступило место невнятной тревоге. Она пришла откуда-то изнутри, холодным дуновением, неявным намёком, словно косой взгляд прохожего, на который вроде и не обратил внимания, но потом он будто догоняет тебя в воспоминании или в воображении. Продолжая находиться в задумчивости, Семён Аскольдович зачем-то медленно порвал свой рисунок на четыре части, положил в бронзовую пепельницу и поджёг. Подождав, когда бумага догорит, плеснул туда немного воды, хорошенько перемешал карандашом, подошёл к окну и вылил содержимое пепельницы в горшок с кактусом, стоящий на подоконнике. Так, на всякий случай.
За окном по-прежнему был солнечный майский день. Реальный, вполне физически осязаемый и научно объяснимый. Для человека, который, если бы не удачная женитьба, мог бы стать кандидатом биологических наук, непонятные вещи подлежали обязательному объяснению. Семён Аскольдович прекрасно помнил, как в пятницу после инцидента в очереди самолично отнёс кресло в подсобку и запер её, и тем не менее…
Он решил проверить ещё раз. Дошёл до кладовки, отпер дверь, включил свет. Внимательнейшим образом рассмотрел все полки и уголки. Всё привычное содержимое подсобки находилось на своих привычных местах. Даже дефицитный товар — мешок с гречневой крупой и банки с прибалтийской тушенкой. Даже коробка с сушеной астраханской воблой! Даже блок сигарет «Marlboro»! Какой нормальный человек — с ключом! — имеющий возможность незаметно проникнуть в sancta sanctorum — подсобку пивного заведения — заберёт оттуда ТОЛЬКО никому не нужное кресло?
Одно из двух. Или это у меня спонтанная амнезия (верить в это человеку, которому ещё не было и тридцати пяти, как-то не хотелось) или… что? Но на то и щука в море, чтобы карась не дремал — Тимур-то, видать, не просто так заглянул. Смотри как оживился — в кладовку полез, никогда до этого не проявлял интереса, а тут пожалуйста… Те, значит, оставили, этот ищет… А кто-то ещё водит их всех за нос. Но причём тут я? И кто же этот третий, который шастает в моей пивной?
Семён Аскольдович хотя и не так давно перешёл из сферы уважаемой советской науки в сферу ещё более уважаемой советской торговли, но основные принципы её беспосадочного развития схватывал налету, тем более что наставником ему в этом процессе служил многоопытный тесть.
«Один карась сорвётся, а другой попадётся», — сказал он вслух самому себе. Затем, заперев кабинет и выйдя через заднюю дверь на улицу, он сел в свой ушастый «Запорожец» и поехал в Облторг к тестю — посоветоваться.
Через 24 часа, отправив себя своим же приказом в отпуск (и не забыв поручить тёте Клаве кормить рыб и отпустить известному товарищу пару грелок «нормального», если он вдруг заглянет), Семён Аскольдович уже ехал с супругой — на её «Жигулях» — в сторону Анапы.
Так, на всякий случай.
Глава IV. Mani, viso e confessione
Маленькая комнатушка, которую Роберто снимал на пятом этаже дома на углу Виа Бари и Виа Павия, имела одно окно, выходившее во двор-колодец. Вид из окна при всем воображении нельзя было назвать вдохновляющим, поскольку кроме унылой стены грязно-жёлтого цвета в четырёх метрах от окна ничего не было видно. Но если подойти вплотную к окну и задрать голову вверх, то можно было обнаружить квадратный клочок белесого неба, в котором иногда угадывалась синева, а поздно ночью можно даже было разглядеть пару звёздочек.
Роберто всегда самым серьёзным образом готовился к репетициям. Утром, после обязательной молитвы и завтрака наспех, он погружался в музыку, пытаясь найти свою собственную трактовку звучания произведений. Однако какие варианты прочтения он ни пробовал, что-то его всё время не устраивало. На своём дешёвом проигрывателе он часами прослушивал пластинки с записями разных оркестров и дирижёров. Он читал партитуру, проигрывая внутренним слухом основные темы, партии отдельных инструментов и всё вместе. Он пытался сфокусироваться на тех эмоциях, которые у него вызывала эта музыка, усилить их, увеличить их амплитуду, почувствовать внутреннюю энергию, подчеркнуть скрытую силу, чтобы она выплеснулась из его сердца волной, которая добежала бы до кончиков его пальцев или до палочки и передалась бы сначала оркестру, а потом и слушателям.
Что в этих упражнениях ему мешало больше всего, так это то, что он никак не мог отделаться от образа полного зала и восторженных лиц, которые взирали на него с трепетом. Хотя он прекрасно понимал, что пока не может вызвать этот восторг, но ему так этого хотелось, что эта назойливая картинка появлялась перед мысленным взором всякий раз где-то на первой трети любого произведения, а потом расплывалась.
Временами ему казалось, что он нашёл верную эмоцию, и тогда мурашки бежали по телу, и он чувствовал себя словно внутри фонтанов звука. Но тут же его выбрасывало из этого ощущения, и тогда он оказывался уже не внутри музыки, а где-то сбоку. Всё это охватывающее его лихорадочное возбуждение, сменяемое спадами, было похоже на приступы музыкальной малярии — широко распространённому несуществующему заболеванию.
Вторая встреча с оркестром обещала стать для Кармини уже не такой драматичной, как первая. «Мы уже познакомились, — успокаивал он себя, — хотя ещё и не подружились. У нас даже кое-что получилось в плане звучания. И, может быть, коленки не будут дрожать как в прошлый раз».
Стоя у стены перед узким длинным зеркалом, он отрабатывал движения рук, стараясь найти тот единственно верный баланс между простотой и выразительностью, который позволил бы и ему и музыкантам объединиться в понимании и воплощении произведения. Сосредоточившись на движениях рук, он сначала не обращал внимания на выражение своего лица, пока не заметил его в отражении. Руки его тотчас опустились.
— С такой физиономией ты ничего не добьёшься, — сказал он вслух зеркальному себе. — С таким выражением можно заниматься в спортзале. Менять пробитое колесо. Стирать бельё. Но никак не дирижировать оркестром. Надо расслабить мышцы лица. Или нет. Надо мысленно сосредоточиться не на движении рук, а на самой музыке.
Она заполняет тебя,
ты её перевариваешь… нет,
пропускаешь через себя… нет,
ты окрашиваешь её своими вибрациями,
добавляешь в неё свою индивидуальность,
дополняешь её звучанием струн твоей души…
и только затем передаёшь её музыкантам посредством глаз, мимики, наклона тела…
и, конечно же, движения рук.
Движение рук! Преподаватель в консерватории всегда повторял ему одно и то же слово — «мягче!» и никогда не был доволен результатом. Что бы ни делал Роберто — как ни разминал кисти, как ни растирал ладонями пальцы и предплечья, как ни крутил по несколько раз в день все суставы рук — он не мог добиться такой плавности движения, как у преподавателя. Роберто даже выстроил целую теорию, пытаясь объяснить свой неуспех. Если ты родился в Италии, и все твои предки были итальянцами, которые начинают жестикулировать раньше, чем говорить, у тебя и получается «мягче», легко и непринужденно. И гены другие, и практика подольше. А Роберто (тогда ещё Роберт) переехал жить в Италию подростком, когда его мама повторно вышла замуж за итальянца, фамилию которого он теперь носил. Наверное, поэтому «più morbido!» никак и не получалось.
Позже, когда Роберто посмотрел, как работает Герберт Фон Караян, он прекратил дальнейшее развитие своей нативной теории. С одной стороны, да, Караян не был итальянцем и действительно часто двигал руками так, будто накачивал шину автомобильным насосом. Но, с другой стороны, отсутствие в его движениях итальянской «мягкости» совершенно не мешало его оркестру звучать настолько потрясающе, что сделало дирижёра мировой знаменитостью. Этим Роберто и стал успокаивать себя, перестав обращать внимание на непрекращающиеся призывы «più morbido!».
Впрочем, вспоминая ту необыкновенную гибкость рук, которую давеча демонстрировал синьор Дженти, разговаривая руками, Роберто всё же возобновил свои упражнения по развитию гибкости. Если овладеть более мягкими движениями, сказал он себе, тогда и лицо, может быть, примет более естественное и одухотворённое выражение. Но лицо… Лицо не хотело подчиняться этому самогипнозу. Или же следовало сдаться и признать, что эта постоянно напряжённая физиономия и была самым естественным выражением его, Роберто, персоналии.
Во время учебы, при посещении концертов он наблюдал за лицами многих дирижёров. Одни гримасничали как обезьяны. Лица других были всегда строги и сосредоточены. Кто-то улыбался, кто-то дирижировал с закрытыми глазами или избегал зрительного контакта с музыкантами. Удивительно, что при таких совершенно разных способах и приемах, хорошие оркестранты умудрялись понять, что от них хочет тот или иной дирижёр, и воплощать это в звуках, а иногда даже с первого раза.
Его учили, что дирижёр должен-де «услышать» музыку раньше, чем оркестранты её сыграют. Что она должна прозвучать в нём нужным образом, заранее, и он должен успеть показать им своё видение звукового пейзажа за мгновение, достаточное для того, чтобы они успели это расшифровать, понять, согласиться и сыграть. Для расшифровки нужны совместные репетиции. Для понимания нужно доверие. А для согласия с концепцией дирижёра нужна близкая музыкальная культура, схожие принципы и общность, которая возникает либо после многих лет совместного труда, либо как внезапное интуитивное озарение. Но как, Святая Мария, он может их озарить вот таким вот выражением лица? Молодой человек вздыхал, потом пытался расслабить лицо, и снова опускал тонарм на пластинку.
Поздно вечером, чтобы не беспокоить соседей громкими звуками классической музыки (о нет, далеко не все неаполитанцы прирождённые музыканты), он надевал наушники, садился в кресло и заучивал партитуру. Затем старался повторить всё с начала до конца, уже не глядя в партитуру, с закрытыми глазами.
Обычно он засыпал задолго до финала, потом, вслед за продолжавшей дёргаться рукой, он частично просыпался, тщетно борясь с тяжелой глиной сна, налипшей на колёса застрявшего грузовика его сознания под повторяющийся кусочек мелодии заевшей пластинки, и наконец окончательно проваливался в бездну темноты, продолжавшей звенеть колоколами собора за окном.
Да, вторая встреча с оркестром должна была стать для Кармини уже не такой волнительной, как первая. Он надеялся на это. Он верил в это. Ему почти удалось себя в этом убедить. И в день репетиции он шагал по узким улицам Неаполя вполне уверенно, уповая на то, что «старые знакомые» окажут ему сегодня более дружелюбный прием, несмотря на отсутствие синьора Метрономо, который был в отъезде.
Придав своему лицу максимально непринуждённое выражение, синьор Кармини уверенно шагнул в зал, где собрался оркестр. Сорвавшееся с его губ бодрое «buongiorno», предназначавшееся для двух дюжин музыкантов, погасло в тишине, словно излучаемой пустым помещением, в котором скромно и почти незаметно ютился всего один обитатель — синьор Дженти, первая скрипка.
Дженти встал и с лёгким поклоном поприветствовал молодого дирижёра.
— Остальных пока нет, — виновато произнёс он, как будто это было неочевидно.
— А… они придут? Что-нибудь случилось? Забастовка дорожников? Или что?
— Не хочется вас разочаровывать, синьор Кармини, но… понимаете… поскольку все узнали, что синьор Мокинелли уехал…
Роберто сел рядом с музыкантом, не зная, что сказать. Вид у него был потерянный.
— Мы можем порепетировать, — неуверенно предложил Дженти, — хотя я не гарантирую, что буду звучать как весь оркестр.
— Синьор, Дженти, а… почему же вы не пошли по своим делам?
Хотя это звучало немного как обвинение, синьор Дженти ответил.
— А у меня нет особых дел, синьор Кармини. Ну, то есть, настолько важных, чтобы заменить ими репетицию. И хотя мне тоже страшно выходить на улицу из-за этих банд ультралевых и ультраправых… Но я живу один, так что от тоски меня спасает только музыка… Хотите я угощу вас кофе? Тут поблизости есть замечательное кафе.
Роберто помолчал четыре такта, размышляя. Потом сказал:
— У меня встречное предложение. Мы можем с вами сделать вид, будто все остальные музыканты присутствуют? А потом вы честно поделитесь своими впечатлениями о том, как у меня получается. Ну, а потом можно и кофе.
— Я не против, — согласился Дженти, нисколько не удивившись. — Почему бы и нет. — Он достал партитуру, разложил её и взял в руки скрипку. Роберто встал за пульт.
Наверное, со стороны это выглядело довольно странно — дирижёр и одинокий скрипач. Но Роберто привык дирижировать невидимым оркестром у себя дома, а Дженти, было всё равно, так как он давно свыкся с тем, что каждый дирижёр сходит с ума по-своему. Однако в процессе игры, видя с какой искренностью Кармини работает за пультом, он тоже увлёкся, представив себе полный состав оркестра, который тотчас же зазвучал в его голове. Для музыканта это было нетрудно. Чтобы подыграть молодому человеку в его рвении, Дженти даже решил усилить эффект присутствия и где-то в середине увертюры стал морщиться, слегка повернув голову в сторону того места, где обычно сидела синьора Гуччо.
Роберто понял намёк и остановил невидимых музыкантов.
— Синьора Гуччо, будьте добры, подтяните вторую струну. Синьор Дженти, дайте ре пожалуйста. Да, я это уже слышал, синьора, но тогда вообще снимите эту струну с инструмента и играйте на трёх. Или используйте скордатуру. Спасибо, продолжим, с того же такта, первая доля.
— Ну что же, сегодня вы звучите намного лучше, почти хорошо! — с фальшивым воодушевлением сказал Роберто, когда они дошли до финала увертюры. — А… ваше мнение, синьор Дженти?
— Я ведь не дирижёр, синьор Кармини, — вежливо начал Дженти.
— И всё же. Я вас очень прошу.
— Ну… На мой субъективный взгляд… вы… — Он положил скрипку, освобождая руки. — Я не могу давать вам советы, синьор Кармини, но такое впечатление, что вы хотите услышать от нас совершенный звук, который вы себе несомненно представляете, но поскольку мы к этому ещё не готовы… большинство из нас, по крайней мере… это вызывает у вас внутреннее напряжение. А оно, в свою очередь, может трактоваться музыкантами как недовольство. Со всеми вытекающими последствиями.
— И как мне от этого избавиться? — подавляя раздражение, спросил Роберто.
— Я не знаю. Это очень индивидуально.
— У вас такого никогда не бывает?
— Поначалу бывало… Но я давно уже перестал быть перфекционистом. Это вредит общению.
— Синьор Дженти, но нельзя же играть равнодушно или небрежно. Это же будет настолько очевидно, что и публика это услышит. Мы же в Неаполе!
— Синьор Кармини, что вы хотите от городского оркестра? Посмотрите вон на оркестр Театра Сан-Карло, что у них творится. Они — профи, а как их лихорадит. Извините, но мне кажется… Я бы на вашем месте, несколько опустил планку, для начала. Вот синьор Мокинелли, он не…
— Да-да, — перебил его молодой дирижёр, — я примерно знаю, что вы скажете. Такое спокойствие, уверенность, доверие… а где результат? Если впереди конкурс, то где амбиции?
— Синьор Кармини, для моих коллег это ведь не работа, а хобби. Ну какие могут быть амбиции за тысячу лир в час? Скажите спасибо, что у них вообще есть желание тратить своё личное время на эти репетиции.
— Да уж… Это заметно, — показал Роберто на пустой зал. — Желание прямо-таки налицо…
Дженти лишь развел руками.
В этот момент раздался стук в дверь, затем она открылась и на пороге появилась девушка.
— Простите, синьоры, здесь репетирует католический симфонический оркестр города Неаполя?
— Да, синьорина, и он перед вами практически в полном составе! — Роберто и не пытался скрыть своё настроение.
— Бонджорно, синьорина, — намного более вежливо произнёс Дженти, вставая.
— Меня зовут Лорена Ианцу, — девушка говорила с небольшим румынским акцентом, — и я приехала к вам для стажировки. Флейта, — она сделала лёгкий реверанс.
Роберто встал со стула и только теперь заметил в руках девушки небольшой футляр для музыкального инструмента. Рядом с футляром он также обнаружил стройные ноги в обтягивающих джинсах. А когда его взгляд скользнул вдоль них снизу вверх и застрял на полпути от тонкой талии к лицу, то ему пришлось волевым усилием заставить себя смотреть девушке в глаза, а не на её грудь. Глаза её были светло-серые и смеющиеся.
— Синьор Кармини шутит, синьорина Ианцу, — сказал Дженти, не глядя на девушку, — просто мы сегодня работаем в малом составе, — он слегка поклонился, — Паоло Дженти. А это наш маэстро, Роберто Кармини.
— Очень приятно, — улыбнулась Лорена, подходя ближе и протягивая руку сначала дирижёру, потом Дженти.
— Рады познакомиться, — пробормотал Роберто, стараясь не опускать взгляд ниже. О, это было чертовски трудно! Потому что пока она шагала от двери, генерируя соблазнительные мягкие волны, прокатывающиеся по ткани её блузки от естественных колебаний груди, выдававших отсутствие нижнего белья, его воображение успело дорисовать и совершенную форму, и размеры, и… В общем, было трудно.
— Откуда вы к нам приехали, синьорина? — спросил Дженти.
— Из Румынии, консерватория имени Порумбеску. Наш профессор знаком с синьором Мокинелли, и…
— Ах вот оно что, — сказал Роберто таким тоном, будто только что постиг тайны Вселенной, — ну тогда вам придётся подождать его возвращения. Когда он вернётся, синьор Дженти? — повернулся он к скрипачу.
— Обещал в субботу, — ответил Дженти, теперь не отрывая взгляда от блузки.
— Вы успеете выучить свою партию до субботы? — спросил Роберто.
— Я хорошо читаю с листа. Но если бы вы мне одолжили партитуру на вечер…
«Я готов весь вечер помогать вам в разучивании, синьорина!» — завопили гормоны, несущиеся в кровяном русле по сосудам молодого человека. Но вслух он был вынужден сказать совсем другое:
— Да, возьмите, только принесите её пожалуйста на репетицию.
— Непременно, — заверила Лорена, глядя на Роберто смеющимися глазами.
Роберто смутился и снова повернулся к Дженти.
— Теперь покажете ваше замечательное кафе, синьор Дженти?
— Вы с нами? — спросил скрипач девушку, поднимая, наконец, взгляд.
— А можно? Я с удовольствием! Я впервые в Неаполе и ещё ничего не видела.
— Ну-у, это легко поправимо, — придал своему голосу энтузиазма большой знаток города Роберто, совершенно не представляя себе, что делать дальше в этом направлении… равно как и в каком-либо другом.
Они втроём направились к двери зала, и в заунывной мелодии дня, фоном звучавшей в подсознании Роберто, запиликали игривые нотки большой флейты, что немедленно придало его походке упругости, движениям рук — раскованности, а глазам — блеска.
— Слушаю тебя, сын мой, — сказал голос из-за перегородки, когда Роберто встал на колени в конфессионале церкви Санта Кьяра, куда он пришёл для исповеди через несколько дней.
— Отче, я работаю с оркестром и, каюсь, мне трудно относиться с любовью к тем, кто плохо репетирует, не старается, фальшивит, не учит партии и не хочет совершенствоваться. Но из-за этого я и сам на себя злюсь. Злюсь, что не могу достичь желаемого результата, и что не умею преодолеть вялость музыкантов, воодушевить их.
— Ты испытываешь гнев?
— Ну… не бурный гнев. Раздражение. Я стараюсь его не показывать, но, наверное, меня выдает лицо.
— Гнев — это тяжелый грех, раздражение — это маленький гнев, значит и грех обыденный, — скучающим тоном произнес священник за перегородкой, — это всё?
— Нет. Ещё к нам в оркестр недавно приехала новая флейтистка, и она мне сразу очень понравилась… но… боюсь, что причиной этого является не её душа, о которой я пока ничего не знаю, а её облик — у неё такие потрясающие смеющиеся глаза, и такая грудь, а если бы вы видели её стройные…
— Постой, сын мой, не нужно таких подробностей! Скажи, в чём твой грех. Мужчина не может не любоваться женщиной, а если ты не женат, и она не замужем, ничего плохого здесь нет.
— Но, когда она теперь передо мной сидит на репетиции оркестра, я думаю больше о ней, чем о музыке. Точнее, я думаю о музыке совсем по-другому.
— Так это мешает тебе или помогает?
— И мешает, и помогает… не знаю. Мне, наверное, хочется ей понравиться, а для этого я должен проявить себя как дирижёр. А для этого я должен добиться правильного звучания оркестра. А для этого должен убедить всех до одного играть правильно и с энтузиазмом, а для этого… я должен быть спокойным и авторитетным, а не влюблённым и сумасбродным, а для этого… я не знаю…
— Сын мой, когда человек влюбляется и чувствует себя окрылённым, то у него часто всё получается гораздо лучше, чем в спокойном состоянии. Если у тебя не возникает греховных мыслей, отвращающих тебя от пути добра, если ты не стал больше лениться, раздражаться, желать зла тем, кто не соответствует твоим представлениям о музыке или об её исполнении, то всё хорошо. Бог прощает тебя. Но если твои мысли полны похоти, если твоё воодушевление не даёт тебе самому заниматься музыкой так, как это от тебя требуется, то как ты обретаешь необходимый тебе душевный баланс?
— Я молюсь. Но это не всегда помогает.
— А когда ты молишься?
— Утром и вечером. Изредка днём…
— Видишь ли, сын мой, то, чем ты занимаешься, когда ты не молишься, то есть твои мирские дела и заботы, идут как бы сами по себе, наполненные сиюминутными тревогами, желаниями, мыслями, потребностями и эмоциями, которые терзают твою молодую душу. А один-два раза в день ты пытаешься через обращение к Богу снова обрести правильный путь по прямой. Это всё равно, что ехать в повозке, запряжённой шестёркой лошадей, каждая из которых норовит свернуть в свою сторону, и пытаться управлять ею, только два раза в день дергая за вожжи.
— Простите, отче, но я же не монах и не могу молиться целыми днями.
— Диалог с Господом возможен не только посредством молитвы. Всё, чем ты занимаешься в течение дня и даже ночи, может быть осознанным и правильно направленным, если ты делаешь свою работу как можно лучше для служения людям и из любви к Богу. Этим ты будешь освящать свою работу, себя на работе и окружающих через свою работу… А что это за оркестр, о котором ты говорил?
— Католический симфонический оркестр города.
— А! — за перегородкой послышалось шевеление, — но ты совсем не похож на синьора Мокинелли!
— Я его ассистент.
Наступило молчание. Потом голос спросил:
— Умеешь ли ты играть на органе?
— Конечно, в консерватории у меня был класс по органу.
— Нет лучшего средства для обретения внутреннего баланса, чем исполнение органной музыки. Сделай вот что. Возьми сборник «Flores de Musica» и в свободное время играй всё подряд.
— Отче, у меня дома нет даже пианино.
— Разве я сказал пианино? Ступай в кафедральный собор Сан Дженнаро, спроси там отца Фабио и скажи ему, что тебя прислал брат Джованни. Он всё устроит… Итак, я освобождаю тебя от твоих грехов во имя Господа, и Сына, и Святого Духа. Иди с миром.
— Благодарение Богу, — Роберто перекрестился и встал.
Выйдя на улицу, он немного постоял под моросящим дождём, раздумывая, куда ему сейчас лучше направиться. Решив, что не стоит откладывать в долгий ящик епитимью отца Джованни, он поднял воротник пиджака и поспешил в направлении кафедрального собора.
Отец Фабио оказался монахом францисканцем. Это если судить по одежде — традиционной сутане с веревкой на поясе. Правда, по не очень смиренному выражению лица, с которым он подозрительно рассматривал промокшего молодого человека, обратившегося к нему, он больше походил на переодетого полицейского. Однако, как только он узнал, что Роберто пришёл от брата Джованни, лицо монаха сразу стало приветливым, а взгляд участливым. А после того, как Роберто рассказал о наложенной на него епитимьи, отец Фабио поведал, что он является хранителем органа и попросил следовать за ним. Удивлённый и заинтригованный Роберто пошёл за монахом, который привёл его в комнату, где стояла органная консоль и несколько шкафов с нотами. Достав один альбом, отец Фабио поставил его перед Роберто и попросил сыграть с листа, предварительно подвигав рукоятки регистров инструмента.
Роберто с минуту растирал ладонями пальцы, согревая суставы, потом уважительно взглянул на деревянные педали, с тревогой — на свои мокрые ботинки и вопросительно — на отца Фабио.
— Какой у вас размер обуви, сын мой? — спросил тот, с внутренним удовлетворением отметив, что молодой человек знает, что касаться педалей инструмента можно не любой обувью.
— Сорок шестой, — вздохнул Роберто обречённо.
— Тогда сделаем так, — отец Фабио достал из-за шкафа лист толстого картона и накрыл им педали, — играйте без нижних регистров.
Роберто сел на скамью спиной к мануалам, потом развернулся, подняв колени, выпрямил спину, взглянул на ноты и коснулся клавиш. Орган ожил и задышал звуками флейт. Когда первая страница была сыграна, отец Фабио остановил его.
— Хорошо, сын мой. Пьесы найдёшь в этом шкафу. Можешь приходить играть после десяти вечера и до шести утра. Ключ от этой комнаты я дам, а вот правильные туфли придётся подыскать самому. Пойдём, я провожу тебя.
Так для Роберто начался поиск внутреннего баланса. В ночные часы с помощью целительного дыхания органа ему почти удавалось его находить, по крайней мере, никакие чувства и мысли не беспокоили его во время игры, благодаря чему он достигал состояния медитативной отрешённости. Но эффект был, увы, непродолжительным. Наступал день, просыпался город и оживали смятение и раздражение, желания и неудовлетворённость, сомнения и возбуждение, которые сменяли друг друга в произвольном порядке, расшатывая непрочную ночную конструкцию умиротворённости, выстроенную бессонными часами аудиенции с органом.
Пожалуй, даже больше, чем игра на органе в одиночестве, Роберто отвлекали и развлекали почасовые уроки музыки, которые он был вынужден давать в свободное время всем желающим, откликавшимся на его объявления. Поскольку Мокинелли, обещавший на их первой встрече «что-нибудь придумать» для улучшения материального положения стажёра, видимо, забыл об этом, Роберто пришлось зарабатывать на жизнь преподаванием игры на пианино или изредка настройкой.
Чаще всего такие уроки требовались школьникам, которые совершенно не желали заниматься сами. И хотя их капризы приходилось терпеть, зато их родители обычно милостиво предлагали Роберто помимо оплаты за урок присоединиться к ним за трапезой, от чего Роберто никогда не отказывался. Хуже обстояло дело со взрослыми учениками, точнее ученицами, так как в лучшем случае можно было надеяться только на кофе, а в худшем — на угрожающе-подозрительные взгляды их папаш или ревнивых мужей.
Самыми лучшими, но наиболее редкими учениками оказались обеспеченные одинокие дамы пенсионного возраста. Для них урок музыки был лишь поводом к тому, чтобы рассказать с мельчайшими подробностями о своей жизни, о впечатлениях от ужасных газетных новостей, или пожаловаться на всё и вся. Но зато, если Роберто выдерживал эти монологи, вкусный обед в финале был почти гарантирован. И похоже, именно он придавал Роберто больше всего сил для последующей органной медитации в ночи.
ГЛАВА V. L’amore artigiano
Гриня сидел в своей мастерской, которую он оборудовал в подвале пятиэтажки, взаимовыгодно договорившись с начальником ЖЭКа, и не спеша занимался изготовлением своего очередного шедевра. Нет, Гриня не был дипломированным художником или скульптором. Не мог он похвастаться и охватившим его высшим образованием конструктора или инженера. А был он с послешколья немного слесарем, немного токарем, а ещё плотником, столяром, маляром и электриком. Но с врожденной смекалкой, искрившейся в глазах, и с творческой жилкой, которые проявлялись в нём таким образом, что, если взглянуть с полувековой высоты на его трудовую биографию, то стал он всё же и художником, и скульптором, и конструктором, и инженером — всеми по чуть-чуть и одновременно.
А началось всё с чего? С того, что талантом ежели Бог кого наградил, то рано или поздно будет оный индивид от других отличие иметь. Например, все будут одной дорогой ходить, на одно и то же смотреть и ничего не замечать. А один посмотрит и вдруг что-то новое углядит, идею какую из глубин ума своего наружу вытащит, да и применит её потом, приладит к чему-то полезному. У древних греков это «эврика» называлось. Так вот и Гриня наш, ходил-ходил по городу, глазел на двери учреждений, заведений или на витрины магазинов и вдруг углядел новаторские возможности в обыденности повседневной.
Что простой советский человек видел чаще всего? Нет, не на крышах, где лозунги и призывы, а на уровне глаз? А видел он примерно одно и то же адресованное ему сообщение, посыл, так сказать. Потому что посылало его, простого советского человека, сообщение это куда подальше. В том смысле, что иди отсюда, не останавливайся!
«Мест нет»
«Мяса нет»
«Пива нет»
«Билетов нет»
«Путёвок нет»
«Бензина нет»
«Приёма нет»
И всё в таком же роде в разных вариантах. То бишь предупреждали товарищи из сферы торговли и услуг сограждан своих, что, мол, не отвлекайтесь, идите себе на завод или фабрику, работайте как следует, производите больше товаров, а к нам заходить не надо — чего время зря тратить и нам работать мешать?
Такие простые по форме и безнадёжные по содержанию послания встречались повсеместно, и никто внимания на них не обращал. А Гриня вот обратил. Узрела его художественная натура несовершенство оформления и несоответствие его той великой социалистической истине, которую сообщения эти в народ транслировали. Ибо таблички эти бесталанно изготовлены были, вкривь и вкось написаны на картонках от коробок или вовсе на тетрадных листках, а прилеплены или вывешены как попало, без вкуса, изыска и красоты. А без красоты оно что? Оно никакого действия возыметь на интеллигентного человека не может.
Хоть и вывесили табличку «НЕТ», а всяк всё равно норовит зайти да спросить: «А может есть? Что, совсем нет? Может где осталось? Мне очень надо, может найдёте?» — и всё в таком же ключе. Что на это можно такому недоверчивому типу ответить?
При всём богатстве русского языка вариантов было не так уж и много.
— ТЫ ЧЁ, НЕГРАМОТНЫЙ?
— ЧИТАТЬ УМЕЕШЬ?
— ВОН ЖЕ НАПИСАНО!
— ВЫЙДИ И ПОСМОТРИ НА ДВЕРИ!
Это если только вежливые варианты брать. А в грубой форме заприлавочный работник заведения просто молча поворачивался жирной спиной к несчастному посетителю и уплывал вглубь своих служебных тылов, где всё то, чего как бы «нет совсем», как раз и хранилось в достаточном количестве. Только предназначались эти запасы не для всех, а для узкого круга избранников и не по той цене, которую государство так опрометчиво и централизованно установило.
Всё это Гриня прекрасно знал, ко всему этому привык и считал это таким же натуральным свойством окружающего мира, как и смена погоды или сезонов в умеренном климатическом поясе. Только уж больно коробило его тонкое восприятие отсутствие эстетики. У природы-то всё красиво выходит, что летом, что зимой. Даже дождь свою красоту имеет, иначе с чего бы художники городские лужи на своих картинах рисовали. А объявления эти самопальные и разношёрстные усладой для глаз не были, а больше на визуальный мусор смахивали. Поэтому и решил Гриня, что надо бы это дело поправить ради эстетизации городского облика.
Для начала изготовил он несколько НЕТ-табличек. Сделал их на картоне белом, какие перьями плакатными гуашью красной шрифтом красивым начертал, а какие с помощью самодельного трафарета закрасил; потом для них основу из фанерки сделал — короче, получилось стильно, взгляду любезно и гораздо понятнее, чем квадрат Малевича пресловутый. Знай Гриня, что тридцать лет спустя такие штуковины, как он сварганил, станут в музеях за деньги показывать и инсталляциями величать, возгордился бы. Но в те годы ему это было ещё неведомо, так что шёл он к светлому своему будущему наощупь. И добрёл ощупью со своими художественными произведениями до продуктового магазина, куда народ чаще тычется в поисках еды. Прошёл сразу к директору (спросив у продавцов, как её звать-величать) и выложил на стол всю свою красоту. В хорошем смысле.
— Советские люди, Наталья Степановна, не чужды культуре, — объяснил он свой жест, — и имеют законное право на эстетичное оформление даже таких, к сожалению, наших негативных временных проявлений, как нехватка товаров и услуг. А поскольку ГОСТа на уведомление об отсутствии наличия товаров ещё не изобрели, то у вас есть возможность стать образцовым социалистическим предприятием хотя бы в этом.
Директор призадумалась, пытаясь понять, хорошо это или плохо, чем это может грозить и что этот незнакомый ей «искусствовед» за это запросит.
— Понимаю вас прекрасно, — продолжал Гриня, — потому я вам это всё оставлю, вы опробуйте и сами решите, как оно пойдёт. Взамен ничего не прошу, просто радею за культурный внешний облик нашей торговли. Но если потребуется, могу привлечь в качестве поддержки инициативы товарищей из райкома, курирующих искусство, — последнее было чистейшим блефом, личных знакомых у Грини в райкоме не было. Но он давно понял, что все пружины городского механизма крепятся там. Самолично испытал это, позвонив как-то вечером из телефона-автомата дежурному в райком (а дежурство там было круглосуточным), когда по осени замерзал в своей квартире из-за холодных батарей отопления. Уже через полчаса после его звонка аварийная бригада (заметьте, трезвая!) примчалась и всё наладила — вот что такое был тогда райком!
Директор магазина идею не отвергла и даже вежливо попрощалась, а спустя две недели встретила Гриню уже как хорошего знакомого. Коллектив торговых работников пользу отфутболивающего искусства соцреализма оценил и одобрил, а Гриня получил мотивационный импульс для расширения своей творческой инновации. Расширение требовало вложений, которых у Грини не было, так что ему пришлось помимо ЖЭКа устроиться в два детских сада дворником-сторожем, где он мог и ночевать (несмотря на то, что спать там ночью было запрещено и негде, кое-как прикорнуть в тепле возможность была), и утром получать порцию пшённой каши от поварихи, естественно, с одобрения заведующей.
Огромные усилия, затраченные на получение дюжины справок, необходимых для ночной работы в детском учреждении (в отсутствие детей) окончательно убедило Гриню, что быть свободным художником — это насущная необходимость, к коей должен стремиться любой человек, который независимость ценит выше голода.
После изготовления кустарным способом, но с невиданным доселе мастерством изделий, после их успешной апробации в двух универсамах дело пошло. Сарафанное радио стало постепенно формировать на Гринины НЕТ-таблички спрос. Нужные для изготовления табличек материалы находились на свалках промотходов, что не требовало затрат, но и не могло обеспечить стабильных поставок, поэтому следующим шагом Грини было найти надёжных поставщиков полуфабрикатов — картона, фанеры, а потом и досок. Параллельно удалось под эгидой ЖЭКа (чтобы ни возникало лишних вопросов у жильцов) оборудовать под склад-мастерскую подвальное помещение одного из жилых домов.
Решение этих задач позволило Грине охватить предметами НЕТ-искусства кафе и рестораны, которые в отличие от магазинов, претендовали на более зажиточных клиентов, но при этом тоже не избежали парадоксов плановой экономики. Их претензии на эксклюзив требовали солидности в интерьере, и в качестве символа такой солидности Гриня предложил монументальный жанр в виде вырезанных в цельном куске дерева и обрамлённых витиеватым орнаментом досок формата 50х30 см. Вывешиваемые на бронзовых ручках входных дверей на красивой толстой верёвке или даже на цепи, эти бескомпромиссные барельефы «МЕСТ НЕТ» были призваны одним своим видом отсечь очередь из не успевших вовремя забронировать места второсортных лиц, желающих попасть внутрь первосортного заведения.
Если таблички для магазинов дали Грине возможность покупать там некоторые товары, которые отсутствовали на витринах, то резьба по дереву для ресторанов и кафе стала приносить ему реальный доход, выраженный в денежных знаках. Это позволило ему отказаться от уборки снега в детсадах и открыло возможности покорения дальнейших сегментов рынка его творческих услуг. Самым многообещающим по масштабу направлением, по мнению Грини, могло бы стать изготовление табличек для инвентарных номеров.
Во всех учреждениях по требованию бухгалтерий номера эти уродливыми каракулями писались масляной краской прямо на мебели, оборудовании, на приборах и бытовой технике, на стремянках и оцинкованных ведрах, на станках, табуретках и всей прочей государственной собственности. Делалось это для «всемерного учета и контроля», то есть для того, чтобы воспрепятствовать растаскиванию всенародной собственности по личным карманам и квартирам отдельно взятых трудящихся. В свою очередь, советские труженики часто совершенно искренне не могли понять анизотропный характер взаимосвязи слов «всеобщее» и «личное». Да и как можно было его понять? Ведь если личный вклад в общее дело считался правильным, необходимым и всячески поощряемым, то почему же отщипнуть себе кусочек результата этого общего дела полагалось вредным и всячески порицалось? Вот поэтому-то одни отщипывали и отвинчивали, а другие обезображивали и уродовали, надеясь, что с клеймом не стащат.
Гриня нашёл компромиссное решение этого диалектического противоречия. Номера необходимость? Хорошо. Но почему обязательно уродливые? Ведь если красота может спасти мир, почему бы не начать его спасение с красивых инвентарных номеров? Потенциальный спрос на изысканные аккуратные номерки, которые бы не ухудшали и без того неказистые предметы казённой обстановки, был в понимании Грини безграничным.
Если бы только удалось предварительно привить чувство прекрасного всем тем, у кого это чувство почему-то дома проявлялось, а на казённой работе — никогда! Разумеется, начинать прививать это чувство нужно было сверху, то есть с начальства. И по этому поводу у Грини тоже были кое-какие задумки. Обладая врожденным дедуктивным мышлением, он рассуждал примерно так.
Все женщины любят цветы. Этим объяснялось, что большинство женского персонала в научных институтах, заводоуправлениях, библиотеках и в приёмных старались украсить свои рабочие помещения комнатными цветами, для чего несли их из дома, размножали отростками, поливали, рассаживали и даже жертвовали на покупку горшков свои собственные деньги. Помещения бухгалтерий, а также приёмных разнообразных начальников своей пышной декоративной зеленью больше соответствовали представлениям об образе райских кущ, чем стены прочих производственных помещений (которые отличались от воображаемых интерьеров ада, пожалуй, только наличием плакатов по технике безопасности). А значит можно было именно при посредничестве женщин донести до понимания руководящих работников высокие культур-мультур идеалы. И в виде чего? Правильно, в виде аккуратно изготовленных табличек для инвентарных номеров (разумеется, с учетом возможного впоследствии дохода Грини).
Вот с такими думами о прекрасном будущем Гриня и трудился в своей мастерской, неспешно и с удовольствием воплощая недавний заказ — большущий короб из оргстекла с подсветкой и надписью «РЫБЫ НЕТ», который планировалось установить прямо на фасаде фирменного магазина «Океан». Работа с оргстеклом была приятной во всем, кроме незначительного специфического запаха. Лист оргстекла легко пилился, а детали можно было быстро склеивать с помощью хлороформа, который Гриня доставал через знакомого врача-хирурга.
Гриня как раз закончил склейку последних двух граней короба, когда услышал шаги и увидел, как по лестнице к нему спускается мужчина. Мужчина не был похож на обычных заказчиков табличек. А на кого он был похож, Гриня догадался сразу же, как только вместо того, чтобы поздороваться, тот утвердительным тоном произнес, словно не спрашивал, а просто зачитывал первую страницу паспорта:
— Розенблюм Григорий Зиновьевич.
— Да это я, — подтвердил Гриня, чем могу быть полезен, товарищ… извините, не знаю, кто вы там по званию?
Гость двумя руками быстро развернул и свернул перед глазами Грини служебное удостоверение, на котором мелькнула фотография в военной форме.
— Олег Олегович, — произнёс пришелец, усаживаясь на стул напротив.
— Извиняюсь, не совсем понял, Олег Олегович — это имя или звание?
Вошедший проигнорировал вопрос. Некоторое время он оглядывал помещение мастерской, потом достал из кармана плаща конверт и вынул из него прямоугольник из оргстекла, на котором были аккуратно выгравированы и залиты краской буквы и цифры: «Инв.№123..». Крепко держа его в своих пальцах, он показал его Грине, пристально глядя ему в глаза:
— Вам знакома эта штучка?
— Конечно. Только это никакая не «штучка», это образец инвентарного номера нового формата, как на нём легко можно прочитать. Хотите, сделаю вам такой же. У вас есть свой кабинет? Стол? Стул? Может быть шкаф?
— А для кого вы это делали?
— Для соседки. На нашем же этаже живёт, только напротив.
— Соседка. Заказала вам. Инвентарный номер, — опять это по тону было утверждение, а не вопрос.
— Не совсем. Я сам предложил ей.
— Можно поинтересоваться с какой целью?
— Отчего же нельзя? Вот посмотрите на мой стол, на стул, на котором вы сидите. Взгляните, взгляните! Видите? Точно такие же номерки. Красиво? Ну, разумеется, красиво! А вот у вас в конторе на мебелях красивые номера? Не знаете? А вы обратите внимание! Обычно в наших учреждениях это просто кошмар — инвентарные номера пишут на самом видном месте! краской!! да ещё как курица лапой!!! Ну вот скажите, почему нельзя хотя бы по линеечке? В школе же всех учили писать ровненько! Вот у меня и возникла идея — повысить, так сказать, эстетику советских производственных интерьеров путём замены этих каракулей на вот такие аккуратные номерки. Я где-то читал, что от этого и производительность труда вырастет. Сделал сначала себе — понравилось. Теперь хочу зарегистрировать это как рацпредложение и распространить на наши учреждения. Между прочим, я — отличник ВОИР, у меня даже значок есть.
— Что ещё за ВОИР?
— Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов! — гордо доложил Гриня. — Показать удостоверение?
— И как же вы прошли на военный завод? По этому удостоверению? — вдруг грозно спросил Олег Олегович, пытаясь застать врасплох неизвестно в чём подозреваемого собеседника.
— Какой ещё завод? Боже сохрани! Что я там забыл?
— Номерок, Григорий Зиновьевич, который вы только что опознали, был обнаружен на оборонном заводе.
— И что тут страшного? Номерок я сделал соседке. Она и моя жена, Соня, подруги, а её брат — какая-то шишка, проще говоря большой начальник.
— Брат вашей жены?
— Нет, брат этой соседки! Вот я ей и говорю (то есть не жене, Соне, а соседке говорю нашей), раз твой брат начальник, наверняка у него есть кабинет, стол, стул и т. п. Давай я ему сделаю в подарок красивые новые инвентарные номера, а если ему понравится…
— Обождите, — перебил Олег Олегович, — в подарок значит. А взамен что вы хотели у него выведать? Просто так ведь подарки не делают.
— Почему же не делают? — удивился Гриня, — вы разве своей жене не делаете подарки просто так?
— Но разве брат вашей соседки подруги вашей жены является вам женой? — нахмурился Олег Олегович.
— Брат… жены?.. Это в смысле шурин? Тьфу! Что вы меня путаете! — рассмеялся Гриня, отчего его гость нахмурился ещё больше. — Давайте по порядку. У нашей соседки есть брат. Моя жена — Соня — с соседкой общается, по-соседски, ну то есть как соседи обычно на одной лестничной клетке. А её брат, не жены, который, а соседки, он какой-то начальник, и живёт не с сестрой, которая наша соседка, а где-то в другом районе, я не знаю где. Но то, что он начальник, это я от неё слышал. От соседки. Потому и решил подарить ему через его сестру, которая наша соседка, инвентарный номер нового образца для его кабинета. Чтобы узнать…
При слове «узнать» собеседник насторожился.
— Чтобы узнать, подойдёт ли эстетически такой образец для его мебели. Может ему захочется другой формы, или другой размер — я же не знаю, какой длины у них там инвентарные номера!
Олег Олегович торжествующе, словно только что ухватил за хвост момент истины, вытащил из кармана тот же самый прямоугольник из оргстекла, снова издали показал его Грине и с садистской усмешкой произнёс:
— Тогда как же, Григорий Зиновьевич, вы сделали вот этот номер, если не знали, какой у этого номера номер?!
— Очень просто. С помощью Дремеля, — не моргнув глазом ответил Гриня.
— Кто такой Дремель? — выкрикнул Олег Олегович, вскакивая и чувствуя возбуждение охотника, напавшего на след иностранной шпионской сети. — Его адрес!
«Псих какой-то!» — и вправду испугался Гриня, но постарался ответить спокойно:
— Дремель — это вот это устройство, — показал он на прибор со шнуром, похожий на электродрель, — он для гравировки. А цифры я взял просто от балды — раз два три. Это же образец! Вот смотрите, — Гриня достал из ящика несколько табличек разной формы, на всех был указан один и тот же номер.
Возникла пауза, во время которой каждый смотрел на другого с выражением полного непонимания. У Грини было непонимание того, что этот тип вообще от него хочет, а у товарища в штатском — непонимание того — хитрец Гриня или же простак.
Наконец Олег Олегович вернул табличку в конверт, а конверт в карман и спросил:
— Как, вы говорите, зовут этого брата начальника?
— А у него есть ещё и брат? — не понял Гриня, — я не знал.
— Нет! Брата соседки, который сам по себе начальник!
— А этого?! Шут его знает. Соседку зовут Варвара. Хотите, поднимемся к ней, и сами её допросите. Только я не понимаю, что вообще случилось-то? Вам что, мой макет не нравится или что? Я могу другой для вас сделать, могу и по вашему эскизу, делов-то. Можно вместо оргстекла металлические номерки делать, выбивать на них знаки — всё аккуратнее будет, чем эта ваша мазня…
— А давно вы этот самый номер соседке передали для её брата?
— Ой, уже, наверное, больше месяца прошло. Надо, кстати, ей напомнить, спасибо, что спросили.
— Пожалуйста, — неожиданно стал вежливым Олег Олегович. — Пожалуйста, о моём визите и нашей беседе, никому не говорите. Это вопрос государственной тайны. Имейте в виду.
— Что и жене тоже нельзя?
— Я же сказал, ни-ко-му, — Олег Олегович поднялся и направился к лестнице.
— Ладно, а я думал вас к нам на чай позвать. У меня мятный есть, знаете — он успокаивает…
Но нервный гость уже ушёл.
Гриня, разумеется, жене всё рассказал, так как не имел от неё никаких государственных тайн. Ночью они почти не спали, шёпотом обсуждая неожиданно возникшую ситуацию. Взвешивали разные варианты, даже такие радикальные, как фиктивный развод и эмиграцию в Израиль. Но в конце концов остановились на более мягком сценарии, который и претворили в жизнь в течение следующей недели.
Во-первых, жена Грини, имея на себе несчастное после бессонной ночи лицо, сообщила начальнику ЖЭКа, в штате которого её муж состоял (и которому жертвовал ради этого почетного статуса свою зарплату), что у Грини ночью случился сердечный приступ, и его увезла скорая.
Во-вторых, была заготовлена следующая порция резервной информации, которая могла понадобиться в случае, если кто-то вдруг захотел бы посетить больного. Легенда заключалась в том, что Грине стало хуже, и по большому блату удалось устроить его перевод в московскую клинику.
В-третьих, Гриня, слава Богу нисколько не больной, с двумя чемоданами своих самых необходимых для работы инструментов успешно добрался до железнодорожного вокзала (таки действительно на скорой помощи! — знакомый хирург помог), откуда и уехал первым же подходящим поездом на юг к сестре (у сестры благодаря замужеству была не настолько очевидная фамилия).
В-четвертых, прежде чем воссоединиться с мужем, Соне нужно было собраться. За двое суток непрерывных сборов, подбадривая себя пением одной и той же песенной строчки: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз!», она с этим заданием справилась на отлично. А через два дня, передавая той самой соседке Варваре ключи от квартиры (вместе с просьбой поливать раз в неделю цветы), Соня сообщила ей, что их сын-моряк, который живет во Владивостоке (на самом деле в Калининграде), просил приехать — понадобилась её помощь в связи с рождением их первой внученьки! Так что она поживёт у него во Владике, побудет бабушкой.
В-пятых, выкупив целое купе в поезде, Соня доставила и погрузила туда упакованные в мешки вещи. После чего, закрыв шторку на окне и лузгая семечки, чтобы унять волнение, отбыла в Ростов.
Так, на всякий случай.
ГЛАВА VI. Сon collera
Между тем, роман молодого дирижёра с Лореной, если попытаться изобразить его нотами музыкальной пьесы, не продвинулся дальше второго такта, как будто прямо во время её исполнения ноты в этом такте были ограничены двумя репризами — спереди и сзади. Роберто повторял одни и те же попытки развить музыкальную тему, но знак репризы каждый раз отбрасывал его к началу такта. Таким знаком служило странное поведение Лорены.
Уже, наверное, все в оркестре обратили внимание на то, какими глазами смотрит на неё Роберто, хотя ему и казалось, что он это тщательно скрывает. Да и она вовсе не делала вид, что не замечает этого. Выражением глаз, тенью улыбки и несметным количеством других секретных средств, которыми обладают все привлекательные женщины, она давала понять, что ей это нравится. И отнюдь не каждый раз она отказывалась пойти с ним в кафе после репетиции. Дважды они даже гуляли вдвоем по Неаполю, и она рассказывала о своей семье, об учёбе, с интересом расспрашивала Роберто о нём самом и, казалось, что ещё немного и создаваемая ими совместно мелодия наконец-то перейдёт в следующий такт, с неизвестной пока гармонией, но… нет.
Робкие или чуть более смелые попытки Роберто обнять и поцеловать Лорену при прощании возле дома, где она жила, очень мягко и от этого очень соблазнительно, но пресекались нежным прикосновением её пальцев, движением плеча, или ласковым взглядом, или нелукавой улыбкой, или ещё чем-нибудь из всё того же неограниченного арсенала приёмов, которым девушек никто не обучает, но которыми они так прекрасно владеют.
Может показаться странным, но не топтание на месте в отношениях с Лореной приводило Роберто в отчаяние. Неудовлетворённость от отсутствия прогресса на любовном фронте становилась для него той призмой, через которую он рассматривал результаты репетиций с оркестром. Ему и в голову не приходило, что одно связано с другим, и, хотя с оркестром дело двигалось, слишком медленный (по его мнению) темп этого движения заставлял его нервничать. Несмотря на это, он не мог не признать, что звучание оркестра улучшалось и что музыканты к нему вроде бы привыкли.
Не в последнюю очередь это было связано с моральной поддержкой со стороны Мокинелли. По крайней мере, так это оценивал и объяснял себе сам Роберто. Даже синьора Гуччо, которая поначалу казалась Роберто ленивой симулянткой, не скрывающей своей антипатии к нему с момента их первой встречи, теперь смотрела на него не так вызывающе, в её взгляде даже сквозило что-то похожее на снисхождение, что Роберто приписывал исключительно волшебному воздействию музыки… ну, может быть, слегка приправленному его талантом дирижёра.
«Проблемным» оставался для Роберто лишь Орсино, тубист. Он сменил тактику, и не сверлил дирижёра немигающим взглядом, полным презрения, как было в самом начале. И он (надо отдать должное) весьма неплохо справлялся со своей партией. Поэтому Роберто чаще всего удавалось не обращать на него внимания. И всё же несколько раз за репетицию он ловил на себе его особенный взгляд. Что же в нём было такого особенного? Насмешка? Вызов? Снисхождение? Точное слово Роберто подобрать не мог, но было очевидно, что Орсино намеренно смотрит на него так. Со смыслом. Со значением. С издёвкой.
Противоядием от этого была всё та же Лорена. Роберто, разумеется, не мог смотреть на неё всё время, Боже упаси! Ведь взгляд дирижёра — это не менее важное средство управления оркестром, чем движения рук. Но посматривать, как бы невзначай, лишний разок скользнуть взглядом, чтобы никто не заметил…
Как же! Все всё давно уже заметили.
Однажды Лорена без предупреждения пропустила репетицию, и её отсутствие немедленно сказалось на настроении дирижёра и на качестве творческого процесса. Впоследствии, отвечая на вопрос Роберто, она сообщила, что навещала больного родственника, однако выглядела при этом такой счастливой, что можно было подумать, что этим родственником был никто иной как повторно воскресший Лазарь.
Конечно же оркестранты давно уже всё заметили, и единственный, кто об этом не догадывался, был сам Роберто. Поэтому он был очень удивлен, когда синьор Дженти после очередной репетиции, как раз когда Роберто хотел предложить Лорене зайти куда-нибудь поужинать или просто проводить её домой, попросил его остаться и «помочь разобраться с одним местом в третьей части». Скрывая досаду на непредвиденное препятствие, Роберто был вынужден согласиться, и смог проводить Лорену только до двери и только лишь грустным взглядом.
Пока музыканты выходили из зала, Дженти — сама озабоченность — листал партитуру, стоя рядом с дирижёром, но как только они остались одни, он захлопнул тетрадь и прямо глядя в глаза Роберто заявил:
— Синьор Кармини, извините, но мне нужно с вами серьёзно поговорить! Давайте присядем.
От такого неожиданного вступления, неприятный холодок пробежал по спине Роберто, и он сел.
— Вы действительно ничего не замечаете? — спросил Дженти.
— Вы об Орсино? О том, как он пытается меня загипнотизировать? — попытался пошутить Роберто. — Вот уж наплевать.
— Я о Лорене.
Неприятный холодок пробежал по спине Роберто ещё отчетливее, и сердце стало биться чаще.
— На что вы намекаете, синьор Дженти? — строго спросил он.
— Синьор Кармини, вы — хороший человек и я верю, что вас ждёт блестящая профессиональная карьера. Кроме того, я, как вы, может быть, успели заметить, очень хочу, чтобы мы победили на конкурсе, и меня взяли бы в оркестр Итальянского радио, — произнося эти слова, Дженти как всегда активно жестикулировал. — Поэтому мне не безразлично ваше состояние, ваше настроение и…
— Синьор Дженти, — перебил Роберто, — давайте обойдёмся без увертюры!
— Хорошо… Синьор Кармини, вас… водят за нос. И об этом знают все, кроме вас.
— В каком смысле? — спросил Роберто, с ужасом начиная догадываться, куда может вести мелодию скрипач.
— Извините, но только вы всё ещё не знаете…, — Дженти опустил глаза, — что синьорина Ианцу — любовница синьора Мокинелли.
Лицо Роберто посерело. Он мгновенно понял, что Дженти говорит правду.
— И давно? — выдавил он из себя.
— Я не знаю, когда это началось. Но знаю, что когда её не было на репетиции, помните? Они с Метрономом, извините, с синьором Мокинелли, ездили в Сорренто, их там видели. Италия — маленькая страна… Мне очень жаль…
Роберто помолчал, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Не получилось.
— А где же они встречаются в Неаполе? Он ведь, насколько я знаю, женат.
— Синьор Кармини, я бы очень не советовал вам в этом копаться. Вы навредите прежде всего самому себе. Просто… перешагните через… эту ситуацию, и двигайтесь дальше. Такое случается нередко, — он вздохнул, — я тоже когда-то через подобное проходил. А кто из нас не проходил? Вы ещё так молоды.
— Синьор Дженти, — голос Роберто дрожал, — я прошу вас сказать, если вы знаете.
Дженти вздохнул.
— Хорошо, но только при одном условии. Обещайте, что вы не будете делать никаких глупостей. Врываться, бить стекла, устраивать сцены.
— Обещаю.
Дженти продолжал молча смотреть на Роберто.
— Обещаю! — более твёрдо повторил тот.
— Знаете, где находится ресторан «Клементина»?
— Да.
— Они сегодня ужинают там.
— Откуда вы это знаете?
— Просто примите это к сведению. И лучше последуйте моему совету — идите домой.
Домой Роберто, разумеется, не пошёл. А направился он, разумеется, туда, где вспыхнувший в нём мазохистский огонь ревности жаждал получить ещё больше топлива. И он его получил. Прячась от внезапного дождя под деревом на противоположной от входа в ресторан стороне улицы, Роберто через полтора часа ожиданий увидел выходящую под хмурое плачущее небо «сладкую парочку». Лорена смеялась, держа Мокинелли за руку. Он что-то рассказывал ей своим бархатным баритоном и выглядел очень бравым, словно никогда не воевавший отставной генерал. Они сели в такси (вместе, на заднее сиденье), такси отъехало, и только минут через пятнадцать после этого Роберто нашёл в себе силы, чтобы брести домой, сдержав своё обещание Дженти не делать глупостей.
Следующие репетиции будут другими, решил он для себя. Он ВООБЩЕ не будет на неё смотреть. Всё, её больше нет. Звук флейты? Это фонограмма. Нет, даже ещё лучше. Он будет смотреть в глаза тубиста Орсино. Прямо, холодно. Со смыслом, со значением. С издёвкой. Дуэль взглядов! К барьеру!!!
Но что же будет тогда с музыкой? С подготовкой оркестра к конкурсу? Разве не это главное, чем он занимается? Разве не для этого он приехал сюда, в Неаполь? Нет, он должен прежде всего добиться успеха как дирижёр, оркестр должен выиграть конкурс, тогда-то она поймет… А что она поймет? Наоборот, тогда все лавры достанутся не ему, а, разумеется, руководителю Католического симфонического оркестра — маэстро Мокинелли. А вот если будет провал, то виноватым будет кто? Конечно же молодой концертмейстер (ну, что вы, какой он дирижёр!), который не продемонстрировал требуемую от него энергичность, не сумел овладеть сложным искусством управления живым оркестром, не справился, не достиг, не оправдал, не удовлетворил, не сфокусировался, не смог, не…
Роберто охватил гнев отчаяния. Он остановился возле какой-то исписанной граффити двери и со всей силы врезал по ней кулаком. С дверью ничего не произошло, а вот с кулаком наоборот. Острая боль заставила молодого человека вскрикнуть. Но зато он тут же забыл про всё остальное и побежал домой спасать руку.
Через час он ворвался в кафедральный собор с перебинтованной рукой.
— Отец Фабио, прошу вас, можете меня исповедать? П-прямо сейчас! Здесь!
— Садись. Слушаю тебя, сын мой.
— Отче, я хочу покаяться. К-каюсь в гневе.
— Это тяжелый грех.
— Да, отче… И поэтому мне самому тяжело. Вдвойне…
— Ты никого не убил?
— Нет! Она… Я сам виноват, что был настолько слеп.
— Что было причиной твоего гнева?
— Ревность.
— Ревность — это разновидность зависти. Это тоже тяжёлый грех. Ты ревновал свою жену к мужчине?
— Нет. Мы не женаты.
— Помолвлены?
— Нет. Но я просто… Отче, мне она… Я хотел… В общем, я случайно узнал, что у неё роман с другим. И об этом знали все, кроме меня. Но она мне ничего не говорила и вела себя так, будто со временем я смогу… Во всяком случае, мне так казалось.
— И с кем ты подрался? — отец Фабио кивнул на забинтованную кисть Роберто.
— С дверью.
— Ты пытался ворваться к ним?
— Нет, что вы. Это была случайная дверь… Меня охватило такое отчаяние… потому что я не знаю, как мне быть дальше. Со мной такое впервые.
— То есть раньше ты не пытался пробивать дверь кулаком?
— Конечно нет! — Роберто не заметил иронии.
— Этому тоже нужно учиться, — авторитетно вымолвил отец Фабио, словно в обязанности хранителя органа входили и уроки по проламыванию дверей. — Так, допустим, на органе ты можешь поиграть и одной левой рукой, но как же ты собираешься дирижировать?
— Я не собираюсь. Вернусь в Бари. Пусть он готовит свой оркестр к конкурсу сам.
— Что? Сын мой, ты не хочешь помогать нашему католическому оркестру? А ты понимаешь, что в таком случае к твоим уже совершённым двум тяжёлым грехам добавятся ещё лень и уныние? Может сразу стоит покаяться и в них? Хм… А не стоит ли за всем этим ещё и вожделение? Или гордыня?! — сурово вопросил монах.
Роберто молчал, опустив голову.
— Чего бы ты больше желал, — уже спокойнее спросил монах, — чтобы она была счастлива, или чтобы она провалилась в тартарары, вместе со своим избранником?
— Не знаю. Теперь мне всё равно.
— А, ну слава Богу, значит это не любовь.
— Откуда вы знаете? — подняв глаза на отца Фабио, Роберто увидел, что тот смеётся.
— Если ты выучил партитуру, откуда ты знаешь, что после ноты до нужно играть соль? Или ты думаешь, что ты первый кающийся грешник в моей жизни? Следуй за мной, — Фабио встал и пошёл в дальний левый угол собора.
Роберто понуро пошёл за ним. Отец Фабио подошёл к незаметной дверце за колонной, достал из спрятанного в складках рясы кармана ключ, открыл её, пропустил перед собой Роберто и снова запер замок изнутри. За дверцей обнаружилась тускло освещённая винтовая лестница вниз, спустившись по которой, они оказались ещё перед одной дверью. Когда монах отворил и её и зажег свет, Роберто с удивлением огляделся. Они находились в большой комнате, которая представляла собой диковинную смесь мастерской, склада, библиотеки, офиса, спортзала и лазарета. Последний был представлен стеклянным шкафом с медикаментами и больничной кушеткой.
— Сядь сюда, — приказал монах, указывая на кушетку. — Начнём с врачевания твоей руки, а спасением души займёмся после этого.
ГЛАВА VII. Tale for a deaf ear
Конспиративная квартира на последнем этаже одного из дореволюционных домов в Рязанском переулке была примечательна по трём причинам. Во-первых, окна квартиры всегда были зашторены. Во-вторых, в квартиру можно было попасть двумя путями — по общей лестнице и по лестнице чёрного хода, о существовании которого никто из современных жильцов дома не знал. Наконец, в-третьих… впрочем, о третьей особенности квартиры не знали даже её посетители. А таковыми в этот дождливый день были двое мужчин — один постарше, другой помоложе — сидевшие за большим столом напротив друг друга. Зелёный абажур старинной настольной лампы освещал лежащие на столе бумаги, составляющие содержимое всего одной распахнутой папки, лица же мужчин оставались в глубокой тени.
— …Также мною были неофициально привлечены ответственные сотрудники местной милиции, — продолжал доклад мужчина помоложе. — Естественно, им была дана очень ограниченная информация, и на их помощь я особенно не рассчитывал. Однако кое-что им всё же удалось собрать. Именно благодаря им мы узнали о двух других похожих случаях, произошедших примерно в это же время. Так, например, выяснилось, что своего кресла лишился директор городского универмага…
— Уволили? По какой статье? — спросил мужчина постарше.
— Нет, с самим директором ничего не случилось. Исчезло только его кресло, в буквальном смысле — пропало прямо у него на глазах. А точнее прямо из-под него, как он утверждал.
— Разумеется, — саркастически заметил мужчина постарше, — и оно импортное, дорогое и стоит теперь у него на даче.
Мужчина помоложе взял со стола один из листков и прочел: — Изготовлено на предприятии «УЗ-62» в Горьковской области, цена 24 рубля 50 копеек. Прямо скажем, не царский трон. Позднее оно было изъято милицией у главаря фураг и возвращено директору.
— Что ещё за фураги?
— Местное явление. Работяги с окраин, банды мелких хулиганов, но с претензией. Носят самодельные вязаные кепки, за что и получили такое прозвище.
— Сергей Сергеевич, а вам не кажется, что если мы будем все случаи пропажи мебели притягивать за уши, то станем посмешищем как этот ваш… милицейский коллега?
— Так точно, Виктор Викторович, кажется. Точнее казалось. Вы вовремя сказали про уши. Потому что это самое интересное.
— Продолжайте.
— Среди приближённых к главарю фураг есть наш сотрудник. Так вот, он был там в тот момент, когда к ним попало это кресло, ну, директора универмага. Оно на них якобы свалилось, когда они хотели побить какого-то прохожего, который на свою беду забрел в их парк, — Сергей Сергеевич взял из папки листок, написанный от руки. — Вот рапорт, читаю: «что-то большое прилетело и врезалось в нас, повалив несколько человек, а когда мы поднялись, прохожий убежал, а на траве стояло кресло и на нём оторванное ухо».
— Ухо директора магазина, — саркастически заметил Виктор Викторович.
— Если бы! — неудачно выразился Сергей Сергеевич, будто он хотел, чтобы директору универмага был нанесён вред. Поняв, как это прозвучало, он поспешил добавить:
— Уши директора на месте, мы проверили. И у фураг тоже никто на увечье вроде не жаловался, хотя проверить их всех трудно — чуть не полгорода в этих кепках ходит.
— Это всё? — Виктор Викторович посмотрел на часы.
— Не совсем. Кресло главного инженера завода ему, с его слов, скоро подбросили назад. А вот табличка с инвентарным номером кресла нашлась как раз возле той самой пивной.
— Какая-то чушь. Главный инженер… пятница, стресс, устал, оторвал в сердцах с кресла инвентарный номер, пошёл в пивную и потерял его там.
— В пивную он не ходил. Проверили.
— А кресло проверили?
— Конечно! Сразу же отдали на экспертизу. Проверили всё досконально — и соскобы брали и даже радиацию замерили — ничего необычного не обнаружили. Зато третий случай…
— Да-да, дебошир в милиции, это я уже слышал. Какое это-то имеет отношение…
— Самое прямое. Поскольку там тоже было обнаружено оторванное (или отрезанное) ухо.
— Но там не пропадало кресло, — веско заметил Виктор Викторович.
— Так точно. А вот ухо… мм… пропадало. А потом… как бы… нашлось. Если можно так выразиться, — Сергей Сергеевич вытащил из папки цветную фотографию и страницу с описанием и передал собеседнику. Тот взглянул на фото. Потом достал из кармана футляр, вынул из него очки, надел их и посмотрел на фото ещё раз, более внимательно. Видимо, и вторым осмотром Виктор Викторович остался не удовлетворён, потому что он достал из другого кармана ещё одни очки, надел их поверх предыдущих и вгляделся в фотографию и описание ещё раз. Наконец, он бросил документ на стол и неожиданно грязно выругался, в том смысле, что, мол, удивлён, обескуражен и раздражён одновременно.
— Вот и я, когда это увидел, сказал тоже самое — слово в слово, — доложил Сергей Сергеевич.
— А где сейчас… этот… начальник отделения… как его, Рукавин?
— Рукастый. Обследуется. После нервного срыва. В психоневрологическом.
— Эдак, скоро и мы к нему присоединимся, — мрачно заметил Виктор Викторович, снимая очки. — Давайте подытожим. В кабинет к главному инженеру секретного завода приходит некто, очевидно не в своём уме, и просит непонятно что. Его выпроваживает, но почему-то не задерживает охрана. Через какое-то время из этого кабинета исчезает кресло инженера. Так?
— Так.
— К директору универмага также приходит некто — может быть, этот же, а может быть, и другой — не забываем, что это весна, а весной у шизофреников обострение — задает какие-то нелепые вопросы, уходит, а через некоторое время из-под директора выскакивает кресло, на котором он сидит, стоимостью 24 руб…
— и 50 копеек… — уточнил Сергей Сергеевич.
— … и позднее обнаруживается в километре от магазина в городском парке у местной братвы. Так?
— Так.
— В тот же день патруль задерживает возле пивной какого-то бузотёра, привозит в отделение, откуда тот то ли сбегает, раскидав милиционеров стулом, то ли спокойно уходит, как утверждают они сами… И ты предполагаешь, что можно связать все эти случайные события между собой только потому, что кто-то якобы видел два оставленных уха…
— Причём оба раза левых уха! — опять уточнил Сергей Сергеевич.
— Причём вполне возможно муляжи, если иное не доказано! — поправил коллегу Виктор Викторович. — А ещё потому, что никто — ни директор, ни инженер, ни охрана, ни братва, ни милиционеры — не смогли запомнить внешность посетителя или прохожего, назовём его так, хотя…
— Все они вспомнили только то, что это молодой мужчина, парень, без особых примет, и всё, — вставил Сергей Сергеевич.
— …хотя можно, я допускаю, не заметить, что у человека, который стоит прямо перед тобой, оба уха как бы левые… но не обратить внимания — днём! — на то, что у него вообще нет одного уха, или даже обоих ушей, этого я допустить не могу. Разве что все перечисленные свидетели были очень нетрезвыми. Очень!
— Кажется, это была пятница, — уточнил Сергей Сергеевич со вздохом сожаления.
— При этом состав какого-либо преступления не просматривается, — продолжал Виктор Викторович, — поскольку похищенное вернулось их владельцам — это раз; никого не убили — это два; и никаких следов шпионской деятельности в связи с заводом нами не обнаружено — это три. Следовательно, всё, что мы имеем на сегодня по нашему профилю, это две зацепки, которые, на мой взгляд, могут с равной вероятностью быть или чем-то очень серьёзным — и тогда нужно принимать меры — или абсолютно случайной ерундой. И тогда можно обо всем этом забыть, не делать из мухи слона.
— Первая зацепка — это фикус, — сказал Сергей Сергеевич, кивая на фотографию на столе. А вторая какая, Виктор Викторович?
— А вторая — это наш безухий «прохожий».
— «Пьер Безухов», — пошутил Сергей Сергеевич без тени улыбки, — но почему он?
— Когда после встречи лицом к лицу никто не может вспомнить внешность визави, это может означать… что мы имеем дело с профессионалом самого высокого класса. Именно это отличает настоящего шпиона от киношного Джеймса Бонда. Неприметность.
— Или что все товарищи в пятницу были пьяные, — напомнил Сергей Сергеевич.
— Или да… Вот что. Оставляйте это всё мне и идите, — Виктор Викторович показал на стол, и его коллега быстро сложил все документы в папку. Когда он закрыл её, на обложке стало видно название папки — «Дело Ван Гога».
— Ван Гога? Это кто же так кудряво назвал?
— Генерал-майор Стрельников.
— А, Проша! — усмехнулся Виктор Викторович. — Всегда любил сострить. Мы вместе в академии учились, — пояснил он.
Сергей Сергеевич поднялся, попрощался с начальником и исчез в темноте квартиры. Вдали щёлкнул замок двери. Виктор Викторович достал серебряный портсигар и закурил сигарету. Потом он достал из папки лист с цветной фотографией, надел очки и рассмотрел её ещё раз.
На фотографии было изображено обычное комнатное растение, похожее на фикус, в обычной деревянной кадке. Необычной была всего одна деталь этого растения. Из пазухи одного из листьев торчал тонкий светло-зелёный стебель, конец которого украшало нечто розовое, что можно было бы принять за бутон цветка или за плод. Если бы не его форма. По форме (да и по размеру тоже) эта штуковина на конце стебля была идентична ушной раковине человека. Говоря простым языком, на фикусе «росло» человеческое ухо. Левое.
К фотографии было прикреплено на отдельной странице заключение экспертизы.
«Всесоюзный институт прикладной
молекулярной биологии и генетики
В лабораторию №3 на экспертизу был представлен биоматериал в виде комнатного растения Ficus elastica с плодовым телом в форме ушной раковины (auricula) человека.
Установлено, что плодовое тело является органической частью растения, состоящей из растительных клеток, которые были модифицированы с использованием генетического материала, предположительно стволовых клеток человека, по неизвестной нам в настоящее время технологии генной инженерии.
Институт, к сожалению, не располагает оборудованием и кадрами, которые позволили бы расшифровать геном данного образца без привлечения партнёрских зарубежных лабораторий.
Отвечая на ваш запрос, мы также не можем достоверно утверждать, либо отрицать, позволяет ли физиология данного генно-модифицированного растения улавливать, обрабатывать, либо передавать звуковую информацию (что в норме свойственно органам слуха человека), или же сходство данного плодового тела с ухом ограничивается только формой. Для ответа на эти вопросы нужны дополнительные исследования.
Примерная смета для организации внепланового проекта постановки таких исследований может быть представлена в течение 30 дней по получению официального письменного запроса от компетентных органов.
Директор Института, академик Вавилов-Лысенко».
— Или что абсолютно все товарищи в пятницу были пьяные, — задумчиво повторил Виктор Викторович сакраментальную фразу, завязывая тесёмки на папке и убирая её в свой кожаный портфель.
Следующие дни ознаменовались появлением в информационном пространстве Советского Союза двух новых документов, о которых знали только те, кому было положено о них знать.
Первым документом был приказ о создании 6-го управления КГБ СССР, в обязанности которого вменялась борьба с преступностью на промышленных объектах, в преамбуле которого упоминались «участившиеся случаи хищений на оборонных предприятиях материалов, приборов и даже мебели».
Вторым документом было подписанное председателем Комитета письмо, которым запрещалось держать на секретных объектах и в служебных помещениях учреждений, связанных с государственной тайной, живые комнатные растения. Письмо обязывало удалить все имеющиеся горшки с цветами с территории таких объектов в трёхдневный срок, в том числе фикусы — немедленно по получении письма.
ГЛАВА VIII. La voce del cielo
Конечно, на исповеди, как это часто и бывает, Роберто был искренен не до конца. Размышляя о последнем вопросе отца Фабио, он был вынужден признаться самому себе, что нет, всё-таки ему было не всё равно. И если быть совсем уж честным, он не хотел бы, чтобы Лорена была счастлива с другим. По крайней мере, вот с этим другим. И правильнее было бы ответить отцу Фабио, что да, он хотел бы, чтобы этот старый ловелас провалился в тартарары. Ну, не в буквальном смысле, а чтобы, например, его похитили «Красные бригады», о которых писали каждый день газеты. Но они пока что похищали только тех, за кого можно получить хороший выкуп. А Мокинелли? Он не капиталист и не лидер профсоюза, что с него взять? Однако признаться в таком означало поставить на себе самом клеймо грешника. Причём неисправимого. Ибо покаяние Роберто, не было искренним раскаянием в своих мыслях и чувствах, оно скорее было… жалобой. Обидой, которой хотелось поделиться, чтобы ожоги, нанесенные самому себе огнём ревности, не так болели. Почему он признавался в этом самому себе теперь, а не отцу Фабио там? Ну… потому что… не настолько же он плохой католик?
Вот, например, хотел бы он, Роберто Кармини, чтобы этот… синьор упал со сцены в оркестровую яму и сломал себе ноги? Вовсе нет. Во-первых, потому что никакой оркестровой ямы в зале для репетиций нет. А во-вторых, он, Роберто Кармини, совсем не кровожадный. Да и с какой стати желать зла человеку, который лично тебе ничего плохого не сделал? Я вообще оказался в Неаполе лишь благодаря ему! Отец Фабио прав. Мы с Лореной не женаты, не помолвлены. Мы даже не «мы». И я даже не рогоносец… Но почему же так тошно? Только ли из-за обмана? Или из-за того, что она меня выставила перед остальными таким дураком? Или из-за чувства своей никчёмности, которое возникло из-за этого? Но тогда что это, если не гордыня, которая считается самым страшным грехом?
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.