
Бесплатный фрагмент - Исправленному верить
Я возвращаюсь в старые дома,
Где сохранились голоса и звуки,
Мне кажется, я что-то им должна,
Домам и людям, замершим в разлуке.

1. «Как это неудобно, что вы так неожиданно появляетесь и исчезаете!»
Это случилось в синагоге. В кошерном кафе на цокольном этаже толпились пришедшие на бесплатную экскурсию. Утомленные историей еврейского народа, посетители синагоги рвались к столу с выпечкой и чаем.
Мое внимание привлек пожилой мужчина за столиком наискосок. Он подозрительно и брезгливо рассматривал пирожок, который только что надкусил. Очевидно, начинка этого пирожка чем-то его не устраивала. А выражение лица этого человека почему-то не устраивало меня. Это было странно. Что мне за дело до мнительного еврея? Невольно я все время бросала на него взгляд, пытаясь понять, что именно меня беспокоит и вдруг услышала: «На мне узоров нет и цветы не растут, мадам!»
Мужчина так же подозрительно и брезгливо, как на пирожок, смотрел теперь на меня. Мне стало стыдно. Однако в голосе, в интонации его прозвучало нечто знакомое.
Я опустила глаза к своей тарелке и, стараясь сохранять бесстрастное лицо, перебирала в уме. Кто он? Я у него училась? Лечилась? Мы вместе работали или где-нибудь отдыхали? Он, очевидно, старше меня лет на 10–15. Но у мужчин в возрасте за 50 ничего не поймешь. Плюс-минус 20 лет в любую сторону, в зависимости от степени угасания репродуктивной функции и собственной лени. Теперь уже мне захотелось сказать знаменитую фразу про цветы и узоры, так как изучающий взгляд мужчины сверлил меня неотрывно. Наконец я услышала звук отодвигающегося стула, подняла голову и увидела, как мой визави, застегивая молнию на своей куртке, нервно тыкается в замок и никак не может попасть. Меня словно ударило током.
— Борис Яковлевич! -– придушенно выдохнула я.
Он услышал и замер. Мы стояли напротив и испуганно вглядывались друг в друга. Он, не узнавая, а я, боясь ошибиться.
— Мы были знакомы с вами, давно. Больше сорока лет назад. –- наконец сказала я и пришла в ужас от этой цифры.
— Не помню. — растерянно проговорил он и потер лоб очень белой рукой, совершенно так же, как когда-то при нашей первой встрече.
— Вы были тогда аспирант и рассказывали мне о своей поездке в Германию в замок Шлоссбург. — напомнила я и добавила, — И про Хармса.
Борис Яковлевич вздрогнул.
— Что? Про Хармса? Так это вы? — он снова стал недоверчиво рассматривать меня.
— Прошло больше сорока лет. — напомнила я, — Вы тоже изменились. И чем это я вас так пугаю?
Мне показалась странной его реакция и даже обидной.
— Знаете ли, та история, история с вашим милым родственником, попортила мне изрядно крови. И вспоминать мне о ней совершенно не хочется. Я был молод, глуп, болтлив не в меру. Что-то, вероятно, напридумывал себе и вам. Борис Яковлевич покосился на меня, как бы проверяя мою реакцию — А потом весьма и весьма жалел об этом. За сим, прощайте.
Он наконец вздернул свою многострадальную молнию на куртке.
— Ничего такого вы мне тогда не открыли. Высказали предположения, весьма любопытные, не скрою, но имеющие ценность на тот момент лишь для родных и близких. Другое дело сейчас, когда Хармс в такой моде и те, кто занимается его биографией, горло готовы перегрызть друг другу за возможность нарыть какой-нибудь сенсационный факт. Сейчас это дорого стоит. Только никаких реальных доказательств того, что Хармс выжил, у вас не было и нет. — сказала я уже в спину уходящему Борису Яковлевичу.
— Как? Дорого стоит, вы сказали? — бывший аспирант, а теперь, верно, профессор, застыл на месте и обернулся.
— Думаю, да. Но доказательства… Сочинять увлекательные истории сейчас умеют многие. — добавила я.
— Все мои неприятности случились именно из-за того, что доказательство, пусть косвенное, у меня имелось. Да! Однако, я больше ничего вам не скажу. Мне нужно подумать, подумать. Доказательство дорого стоит, вы сказали? Надеюсь, в финансовом выражении? Это не просто фигура речи? — предположительный профессор опять подозрительно посмотрел на меня.
— А знаете, вы меня убедили. К чему болтать лишнее? Я, пожалуй, тоже больше ничего не скажу. Захотите, найдете меня и поговорим. Может быть.
Я рассердилась. Осторожность –- хорошее качество, но применительно к мужчине часто отдает трусостью, что для меня противно.
Эта встреча с человеком из прошлого меня встревожила. Более того, заставила задуматься о том, какое же доказательство невероятного спасения Дани заполучил в Германии Борис Яковлевич. И почему тогда в 70-е годы он ничего об этом не сказал? Вел он себя при нашей нынешней встрече странно. Впрочем, он и сорок лет назад был таким.
Я начала размышлять, возбужденно шагая по улице Декабристов. Улице, где сквозь наглую современность упорно пробивается патриархальная Коломна. Удивительное место, вроде бы и центр города, а все равно окраина. Но очень петербургская окраина! Поэтому люблю.
Однако, прежде чем познакомить вас со своими размышлениями после встречи с Борисом Яковлевичем, нужно напомнить о том, что вообще привело меня к необходимости о чем-то размышлять.
Несколько лет назад со мной произошла совершенно невероятная история, которую с полным основанием можно назвать чудом.
Я неожиданно проснулась в квартире своего детства, во времена своего детства и даже в облике себя-подростка. Это странное перемещение во времени можно было бы принять за фантастический сон, если бы не сведения, которые мне довелось узнать, побывав в прошлом. А узнала о возможном спасении моего двоюродного деда поэта Даниила Хармса во время блокады Ленинграда. Правда доказательств этого невероятного факта тогда не было. И вот теперь оказывается, что они есть
Итак, доказательства. Прямых свидетелей блокадных событий не осталось в живых. Официальных документов или воспоминаний тоже. Под каким именем несчастный, потерявший память, беженец мог попасть в Германию, я тоже не знаю. А, впрочем, помня о немецкой аккуратности даже в самые страшные времена, сведения о русских рабочих в архивах отыскать возможно. Вопрос в другом, был ли один из этих русских, ставший садовником, Хармс? Профессор-аспирант сказал, что у него имеется доказательство, но по какой-то причине он не стал его предъявлять. Однако, о каких неприятностях, связанных с этим, он вспоминает? Или все-таки доказательство он предъявил? Но кому?
— Да моей бабке Елизавете, больше некому! — громко сказала я и с размаху впечаталась лбом прямо в парня, на которого налетела.
— Вы че? Какой бабке? — ошарашенно переспросил он и аккуратно отодвинувшись в сторону, порысил дальше.
Я опомнилась и оглянулась. Батюшки! Совершенно незаметно я прошагала мимо Мариинского театра. А, пожалуй, могла бы домчаться до дома на Петроградской стороне. Когда я поглощена чем-то целиком, то не замечаю ни времени, ни расстояний. И до чего же хорошо мне думается на ходу!
«Итак, продолжаем разговор!», как сказал Карлсон и я вместе с ним. Ей -богу, в детской литературе можно отыскать фразочки-выручалочки на любой случай.
Что же Борис мог предъявить Елизавете Ивановне в качестве доказательства правдивости своего рассказа? Что-то, принадлежащее Дане? Какая-то вещь? Но сама по себе вещь ничего не доказывает. Она могла сохраниться у кого угодно. Наличие вещи не свидетельствует о том, что Даня выжил и оказался в Германии. И потом, что это может быть за предмет, который Елизавета Ивановна не захотела бы продать на волне интереса к Хармсу? То, что имело для нее очень большую ценность. То, что она хотела бы сохранить для себя и только для себя. Так что же это такое?!
2. «И какой из этого можно сделать вывод? Я пока не знаю, но подумав, я тебе скажу»
Ах, если бы можно было заглянуть в прошлое! Если бы можно было заглянуть и увидеть, как все было на самом деле. Но нет, о чем это я? Не нужно опрометчиво высказывать желания, они могут сбыться. Вряд ли я захочу оказаться в Ленинграде в феврале 1942 года, даже ради того, чтобы увидеть, что на самом деле случилось с Даней. Это пострашнее моего перемещения в 1936 год. Да и не знаю я способа управлять такими перемещениями. И вообще, может лимит чудес в моей жизни уже исчерпан? Или нет?
Нужно лишь видеть и понимать знаки, которые подает тебе судьба. Ведь для чего-то мне встретился сегодня Борис Яковлевич?
И не где-нибудь, а в синагоге. Ну кто знал, что моя любопытство приведет меня именно в синагогу?
Неожиданно, а все у меня случается неожиданно, перед глазами вырос чудный в своей нарядной красоте и нежности Никольский собор.
Вот храм, один вид которого заставляет радостно улыбаться. Все-таки в барокко есть что-то неистребимо жизнеутверждающее. Хотя последнее мое посещение этого места было связано с событиями печальными. И тоже знак судьбы. Именно здесь была заказана другом Хармса первая панихида по нему. Здесь, я заказывала поминальную службу на следующий день после смерти Пэра. В этот храм в верхнюю церковь папу совсем маленьким водил причащаться его дед Иван Павлович, отец Хармса. Теперь я стою перед входом в собор и раздумываю, войти или нет. Головного платка у меня с собой нет, а чужие я брать не люблю. Но раз ноги меня принесли сюда, «значит это кому-нибудь нужно».

Тихо поскрипывает под моими ногами, покрытый свежим лаком, паркет. Потрескиваю и горят ярким огнем пучки свечек у золотисто-зеленого иконостаса. Ласково улыбаются святые на старинных иконах. Так и хочется сказать: «Лепота!» И тишина, какая тишина! Храм перегорожен шнуром, на котором висит табличка. Из таблички следует, что проход разрешен только молящимся. Любопытствующие должны остаться за ограждением. Я удивляюсь, потому что причисляю себя и к тем, и к другим. И вообще, как можно не пускать в храм? У кого есть такое право? Прохожу под крученым шнуром и медленно двигаюсь вдоль иконостаса. Несмотря на новое праздничное убранство храма, подчеркнутое «евроремонтом», дух елизаветинской эпохи чувствуется во всем. Слабый запах краски и лака, смешиваясь с ароматом горящих свечей и ладана, парадоксальным образом напоминает мне сладкие духи жеманниц галантного века.
У стен длинные лавки. Хорошо, что можно присесть, оглядеться, подумать. На гладкой поверхности скамьи чья-то забытая книга с закладкой. Книги меня притягивают, вызывают желание посмотреть поближе. Зачем? Вряд ли передо мной увлекательный роман. Скорее всего это библия или молитвенник. Конечно, нехорошо трогать чужое, но хочется. Я оглядываюсь вокруг, ища хозяина книги.
Ну и зачем мне она? — повторяю я снова, –Зачем?
Однако, вопреки своим словам придвигаюсь к книге ближе. Названия не вижу, поэтому решившись, протягиваю руку. Шелковая ленточка-закладка распахивает страницы с отчеркнутым текстом: «И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил благословил Бога небесного.»
Ой! Что же это? Неужели про Даню? Да нет, глупости. Знаки, знаками, но нельзя, чтобы все в мире крутилось вокруг Хармса. Это Ветхий завет и речь скорее всего идет о пророке Данииле. Кто-то подчеркнул в Библии важное для себя, а Хармс тут вовсе ни при чем.
Читаю дальше то, что подчеркнуто:
«И сказал Даниил: Он дает мудрость мудрым и разумение разумным; Он открывает глубокое и сокровенно»
«Дает разумение разумным» — повторяю я про себя. Хорошо бы мне иметь это разумение! Ой, как хорошо! И что там еще? «Открыта была тайна в ночном видении. Во сне, наверное. Нужно вернуть книгу бабуле, что продает свечи на входе, сказать, что забыл кто-то, и выбросить из головы. Видно, в храме создается особое настроение и все кажется полным важного смысла. Решив уходить, я поднимаюсь и протягиваю книгу с отчеркнутыми цитатами, проходящей мимо служительнице: «Возьмите, кто-то забыл, еще искать будет.»
— «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». — глухо, не поднимая головы, говорит мне женщина в темном платке.
— Но как же, это ведь не мое? — растерявшись, спрашиваю я ей вслед.
— Твое милая, твое. Как же ты не поняла? — доносится до меня, только рядом уже никого нет.
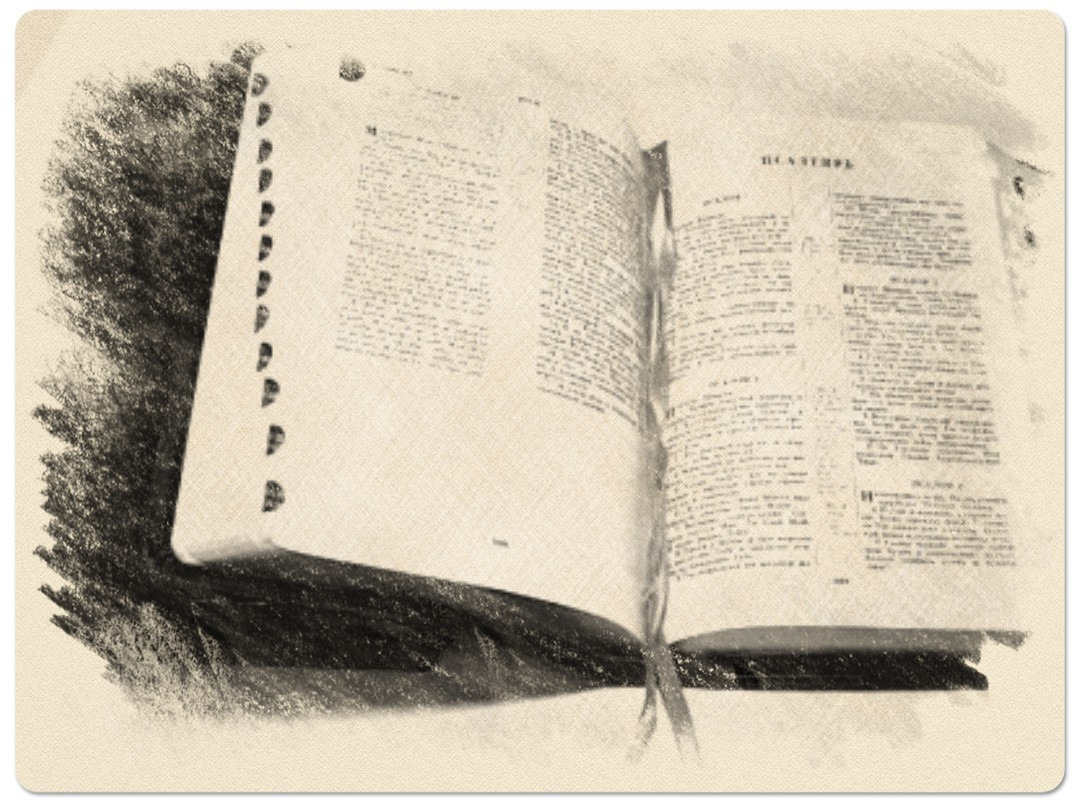
3. «Вот уж упала, так упала…»
Как-то возвращаясь из архива литературы и искусства, что находится на Шпалерной, я решаю свернуть в свой старый двор на улице Чайковского.
Когда судьба меня забрасывает в родные места, мне, непременно, хочется посмотреть на свои прежние окна.
Казалось бы, я многое знаю о своей семье, но открытия по-прежнему продолжают случаться. Так архив, в котором я побывала, находится по соседству с домом, где жил и умер мой двоюродный прадед Андрей Павлович Ювачев. Его даже отпевали в церкви, устроенной прямо в доме. На крыше этого большого красивого дома когда-то сияла главка с крестом. Теперь и памяти о той церкви нет, а в здании вместо квартир что-то вроде бизнес-центра. Все свое детство я жила рядом с этим домом и не предполагала, что хожу по тем же улицам, по тем же мостовым, что и мои родные сто и двести лет назад.
Сейчас я иду сквозь улицы — Шпалерная, Фурштатская, Сергиевская, иду не задумываясь проходными дворами, хотя не ходила так очень давно. Дверь моей парадной слегка приоткрыта, видно жильцы поленились ее прихлопнуть. Дверь тяжелая, она словно ушла в землю, но на самом деле вырос так называемый культурный слой. Я открываю дверь и делаю шаг в парадную. Передо мной новый лифт с дверями без стекол, лишь две высокие ступеньки, что ведут к нему, прежние. На потолке противно мигает лампа дневного света. И почтовые ящики другие, металлические, а не деревянные. Все другое!
Только лестница с черными перилами не изменилась. Поднимаясь по выщербленным ступеням, я слышу, как часто стучит мое сердце. Если зажмуриться и прислушаться, то можно услышать прошлое. Я физически чувствую, как оно возвращается.

Воздух вдруг делается тяжелым и липким. Да, нет! Это кто-то готовит еду, уговариваю я себя, и противный кухонных чад тянет на лестницу. На площадке второго этажа я останавливаюсь. Здесь темно, лишь теплится желтым огоньком маленькая лампочка над дверью квартиры, из-за которой мерещится чье-то дыхание.
Да нет, это мое дыхание, решаю я, но прибавляю шага. Потом еще. Потом бегу через ступеньки. Теперь я отчетливо слышу шаги за спиной и замечаю, что парадная выглядит совершенно заброшенной. Двери квартир облезлые, старые, будто за ними давно никто не живет. Провода от звонков висят обрезанные, скрученные, в паутине. Я озираюсь, а на лестнице делается все темнее! Слепые окошки туалетов, выходящих на площадки, пугают, как в детстве. Кажется, оттуда из глубины кто-то враждебный наблюдает за мной. Я бегу мимо все выше и выше, боясь, что меня вот-вот схватит черная рука.
Ненавижу страх и заставляю себя остановиться, успокоить дыхание, прислушаться. Там внизу определенно кто-то есть и он тоже слушает. Бегом-бегом! Этаж, еще этаж! И тут я понимаю, что бежать некуда, потому, что лестница кончается. Ступени ее непостижимым образом уходят в стену и бежать мне некуда.
Но как такое может быть? Я помню, что лестница шла выше квартир, огибала пространство вокруг лифта галереей и уходила на спасительный чердак. Задрав голову, я смотрю: лифт есть, галерея есть, только лестница, что ведет к ней, неожиданно заканчивается стеной. Гладкая коричневая стена обрывается вниз в пустоту и не пускает меня на чердак.
А чужие шаги звучат совсем близко, звучат громко, торжествующе.
Лифт! Вот спасение. Он здесь. Стоит на моем этаже. Хватаюсь за ручку, не открывается. В панике жму несколько раз и дергаю. Получилось! Захлопываю за собой металлическую дверь, Кабина трясется, тусклый свет в ней загорается, моргает и лифт сам трогается с места. Только это не тот лифт, что я видела внизу. Это старый, деревянный лифт из моего детства. Кабина двигается рывками, вибрирует, но медленно ползет вверх.
Куда? Я же зашла в лифт на последнем этаже и выше только крыша!
Наконец здравая мысль приходит мне в голову. Это сон! Ну конечно, страшный сон! Я же хотела вещего сновидения. Сейчас, вот сейчас, когда я все поняла, сон закончится. Но тут кабинку резко дергает в сторону, и я больно падаю на колени. Пол подо мной ходит ходуном, лифт дребезжит и раскачивается.
Сейчас меня стошнит! — спокойно говорю я, пытаясь отвлечь начинающуюся боль в голове. Эта фраза приводит меня в чувство. В ушах, как бы поднимаясь из живота, начинает звучать тонкий свистящий звук, который все нарастает, усиливается, и превращается в оглушительный, страшный вой. Раздается грохот, от которого я глохну и, кажется, слепну. Спиной чувствую сильный удар по кабинке, слышу треск, потом что-то горячее обдает жаром мое лицо, засыпает мелкими камнями и песком голову. А дальше темнота.
— Аня! Давай сюда, мне не справиться. Тут еще одну присыпало, но, кажись, дышит. — слышу я далекий женский голос.
— Носилки нести или очухается? — отвечает ей совсем девчачий голосок.
Сквозь слипшиеся ресницы я вижу пред собой белесое марево. В голове гул и боль. Я пробую вдохнуть. Не получается, что-то давит грудь.
— Все, не могу больше, не могу! — шепчу я.
— А все, моя хорошая, все уже кончилось! Налет кончился, поживешь еще. Давай потихоньку поднимайся. — уговаривает меня немолодая тетка в ватнике. — Анька, иди помогай! — кричит она громко в сторону.
— Какой налет? — еле ворочая языком, спрашиваю я.
— Так ведь бомбят, сволочи, каждый день! Не успеваем из-под завалов вытаскивать. Ты, гляжу, тоже в чем была, выскочила. Дай, лицо тебе оботру, пылью кирпичной весь рот забило. Сплюнь-ка, да оботрись! — тетка протягивает мне, сдернув со своей шеи, головной платок с голубыми цветочками.
Я смотрю на землю, отплевываясь и кашляя. Земля усыпана щебенкой, битым кирпичом, досками, металлической арматурой. Изуродованную землю на моих глазах засыпает чистый, легкий снежок.
— Ну все, «кино и немцы»! — говорю я с отчаянием и медленно оседаю на руки сердобольной женщины. Последнее, что слышу:
— Анька, носилки тащи, не дойдет!
4. «Нельзя поверить в невозможное! — Просто у тебя мало опыта.»
В темноте что-то противно колет мне щеку. Мотаю головой и в нос лезет запах гари от толстого волосатого одеяла. Или это не одеяло, а солдатская шинель? Тело мое болит, словно избитое. Какой же сегодня день? Или еще ночь? С трудом поднимаюсь и пробую встать. Доски или какие-то ящики, на которых я лежу, трещат и шатаются. Где-то далеко в темноте передо мной светится огонек и я, медленно передвигая ноги, иду на свет. Меня знобит от промозглой сырости подвала, в котором я вдруг очутилась. То, что я попала в подвал, понятно не только из-за холода и темноты, а еще потому, что я вижу низкие кирпичные своды и кладка их старая.
За шатким столом, похожим на кухонный, спит, положив голову на руки, девочка, закутанная в большой платок. На столе горит коптилка — жестянка с каким-то вонючим жиром или техническим маслом. Я пристраиваюсь на обломанный венский стул, что стоит рядом и, держась за стол, наклоняюсь к девочке.
— Послушай, эй! Взрослые здесь есть?
Девочка тихо стонет, но потом открывает глаза и бессмысленно глядит на меня.

— Что, пора? — она снова роняет голову на руки.
Я легко постукиваю ее по плечу, девочка вздрагивает и просыпается окончательно.
— За время дежурства происшествий не было. Я только минуточку поспала. — виновато говорит она.
Девочка худенькая, маленькая, а глаза взрослые, усталые.
— Да я тебя не ругаю, что ты. Мне бы узнать, где я нахожусь и почему? — говорю я.
А еще, хорошо бы узнать, какой сегодня день? И год тоже, думаю про себя.
Девочка вглядывается в мое лицо, трогает бледной ручкой, больше похожей на лапку, колючую шинель, что я накинула на плечи, и облегченно вздыхает.
— Так вы та тетенька, которую мы с тетей Лизой откопали? Вас при обстреле сильно контузило, это тетя Лиза сказала. И еще кирпичами засыпало. Тетя Лиза сама вам голову щупала, там рана есть, но не очень большая. Крови мало. Еще она смотрела руки-ноги, все целое. Вы, наверное, очень здоровая и питания хорошего, скоро поправитесь. Только тащить вас тяжело.
— Контузило… При обстреле… — я трясу головой, но затылок совсем не болит. — Не понимаю!
— Так я и говорю, контузия. Вас как зовут, помните? Документов-то при вас не было. Одеты нарядно, даже чулочки тоненькие. Духами от вас пахнет, тетя Лиза сказала. Только пальто на вас не было, и платка на голову, и валенок. А ведь снег выпал и ночью подморозило. — с недоумением смотрит на меня девочка.
— Ты Аня, да? Которая с носилками? — тупо глядя на коптилку, спрашиваю я.
— Ну вот, я же говорила, вспомните. При контузии так бывает. Вас тошнит, наверное. Вы посидите, если лежать не можете, я кипяточку налью, согреетесь. А тетя Лиза придет, домой вам дойти поможет. — объясняет мне со взрослой рассудительностью Аня.
— Это что, бомбоубежище? — я осматриваюсь и то, что я вижу, мне очень не нравится. — Я в кино такое видела, в фильме «Балтийское небо».
— В кино? — Анечка непонимающе смотрит на меня, потом зябко обхватывает себя руками. — Ах, ты батюшки! Сильно вас стукнуло. Когда на носилки затаскивали, вы тоже что-то про кино говорили. А может, вы артистка, только не помните? Про кино, да про немцев все бормотали. Ну, точно, артистка! Как я не догадалась! — она хлопает себя по острой коленке.
— Ну, да! Артистка погорелого театра! Только роль мне нынче не по плечу будет, не справлюсь. — я без сил откидываюсь на шатающемся стуле.
— Сейчас время такое, потерпеть надо. Каждый день бомбят и обстреливают. Как в сентябре началось, так и не кончается. И пожары везде. Самый большой пожар я на всю жизнь запомню: огонь прямо до неба был, когда склады Бадаевские горели. Люди плакали, а погасить не могли, без воды, без пожарных машин. И, еще я видела, как вспыхнули «американские горы» у народного дома на Петроградской стороне. Но жальче всего мне раненую слониху Бетси в зоосаде. Она, когда умирала, всё время трубила от боли. Мне тетя Лиза рассказала, я очень плакала с горя. А ваш театр, если погорел, так что ж? Сами живые и радуйтесь. — строго говорит Аня, ставя на стол кружку с кипятком.
Пошутила, что называется, про артистку. Ребенок мне про войну объясняет! Беда. Теперь нужно думать, как мне тут выживать. И нужно точно вспомнить, с чего все началось, тогда я пойму, как вернуться назад.
— Анечка! Давай, я сама попробую сходить домой и посмотреть, как там. Вдруг, моя квартира уцелела? Если все плохо, я вернусь сюда. Мне бы понять, где это ваше бомбоубежище. Ведь далеко меня донесли не могли, раз я тяжеленькая, правда? — с улыбкой предполагаю я.
— А вы точно дойдете? А то, тетя Лиза заругается, что я вас отпустила. — девочка морщит лоб, затем важно говорит — Без валенок нельзя, я вам сейчас поищу. Это хорошие валенки, только большие, дворника дяди Васи. На прошлой неделе, может слышали, от бомбы дом тут рядом на Кирочной как подпрыгнул. Одна стена рухнула и парадная лестница тоже. Вот и убило дядю Васю. Он дежурил, предупреждал, чтобы люди не проходили там, где упала бомба. А валенки его остались и ушанка тоже. Вам шапка нужна?
— Давай Анечка валенки, шапку и спасибо тебе. Чего мне тут вылеживаться, надо идти. Только, скажи куда. — решаюсь я.
— Мы вас забрали с Чайковского, это две улицы нужно насквозь пройти. Точно дойдете? Наше убежище прямо под собором Преображенским. Оно большое и надежное, стены толстенные. Здесь 500 человек помещается. Мы очень стараемся поддерживать положительную температуру в помещении. Тетя Лиза говорит, что это очень важно. У нас и кипяток имеется, и запас медикаментов, и можно переночевать. — с гордостью произносит моя маленькая спасительница, помогая мне выбраться наверх.
5. «У меня положение безвыходное, но я хоть брыкаться могу!»
А наверху я сразу зажмуриваюсь от яркого света. Вернее, свет с неба льется серенький и тусклый, но он слепит глаза, а горло перехватывает от волнения. «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз, до прожилок, до детских припухлых желёз» — вспоминаю я Мандельштама. Мой город, знакомый до слез, изуродовали воронки, руины, поваленные деревья. Я еле волоку ноги в огромных валенках дяди Васи, наступая на битый кирпич и стекло на залитых местами кровью мостовых. Идти тяжело, идти страшно. Все напоминает фильмы о войне и в то же время все непохоже на фильмы своей обыденностью. Выброшенная из домов мебель, кажется выставленной за ненадобностью. Людей мало.

Места, пострадавшие от обстрелов, огородили рогатками, и вывесили таблички, предупреждавшие об опасности. Наверное, боятся и неразорвавшихся бомб, ушедших глубоко под землю, и накренившихся, готовых упасть в любую минуту, остовов зданий.
Я иду через войну, разруху, смерть. Иду домой. Зачем я иду в дом, которой станет моим через много лет? Иду, потому что хочу вернуться в свою жизнь. Иду, понимая в душе, что никакого обратно не будет. Пока… я не сделаю здесь в блокадном Ленинграде что-то важное. И это важное связано с Даней.
Трусливая мысль мелькает в голове. А что если все-таки попробовать вернуться прямо сейчас?
Эту мысль прогоняет звякающий звук и громкий металлический скрежет. На Литейном беспомощно дергаясь и буксуя по скользким рельсам, которые замело снегом, пытается сдвинуться с места трамвай. Кажется, что сил у трамвая, как и у людей, больше нет. Из вагона с трудом выбираются две обвязанные платками женщины — кондукторша и вожатый. Они, поддерживая друг друга, тихо идут по разбитому проспекту. Только что на моих глазах ленинградский трамвай умер. Я, не замечая горячих слез, которые у меня капают, бреду в сторону дома.
Никто в городе не знает, когда закончится блокадный ужас. Никто кроме меня.
Знакомая дверь моей парадной примерзла, я с силой дергаю ее на себя и заглядываю в темноту, как в бездну. Полумрак подворотни не освещает стылое нутро парадной, и я неуверенно делаю шаг внутрь, затем еще один шаг и спотыкаюсь. Что-то мешает и не дает мне пройти. Но главное я вижу: лифта в парадной нет. Совсем нет. Вверх уходит лестничный пролет безо всяких следов шахты подъемника. На месте лифта прямо у входа в подвал лежат люди, мертвые люди.
Мне хочется закричать, но голоса нет. Пятясь спиной, я вываливаюсь на воздух и натыкаюсь на живого человека. У него серое, костлявое лицо и страшные, покрасневшие, глубоко посаженные глаза.
— Там! Там! — я открываю рот и мне не хватает дыхания. — Там люди, много.
— Какие люди? Чего орешь? — зло спрашивает мужик и облизывает потрескавшиеся губы, приоткрывая бледные десны и почерневшие остатки зубов.
— Неживые… — шепчу я.
— Мертвяки, что ли? Это ничего, это пусть. Покидали всех, кто умер на улице. Тоже невидаль! — глаза мужика нехорошо блестят.
— Там даже ногу некуда поставить в парадной. — стуча зубами, говорю я.
— А ты чего здесь? Одна? — он озирается и придвигается ко мне, — Сытая какая. — корявой рукой с обломанными ногтями безумный мужик хватает меня за щеку.
— Не одна! Нет! — изо всех сил кричу я, — Тетя Лиза, я здесь!
Мужик отшатывается и говорит с сожалением — Чего орешь, будто режут…
— Я не одна! Мы учителя, нас послали, делаем обход квартир, собираем в школу тех, кто не уехал, кто ослабел. — придумываю я на ходу.
— Нет здесь никого, никаких детей. Иди давай отсюда, пока ноги носят. — говорит мужик, противно втягивая слюну и сглатывает.
Перебирая руками по стене, я выбираюсь из подворотни, продолжая звать тетю Лизу, которой поблизости быть не может.
— Нет, ну надо же быть такой дурой, прости господи! — в сердцах выговаривает мне тетя Лиза и закуривает самокрутку, которая воняет чем угодно, только не табаком. Я сижу перед ней в бомбоубежище Преображенского собора на том же колченогом стуле, на котором сидела утром, с закрытыми глазами и качаюсь. После рассказа о пережитом, сил на разговоры у меня нет.
— И ты тоже хороша, отпустила! — обращается тетя Лиза к Ане —
Ее вон ветром шатает, не гляди, что тела много. Голова-то совсем плохая! Это чудо еще, что обратно дошла, а не завалилась где-нибудь по дороге. Вот уж точно, и костей бы не нашли.
Кошмарный смысл этих слов доходит до меня не сразу, а когда доходит, я кидаюсь в угол, где меня начинает выворачивать наизнанку. Прихожу в себя я на узкой железной кровати тети Лизы, которая гладит меня по голове и молчит. Потом будничным голосом спрашивает: «А ты, часом, не беременная?»
От нелепости ее предположения я закатываю глаза и мотаю головой.
— И то хорошо. Значит контузия. Ты головой-то не тряси, а то опять блевать будешь. Как зовут-то тебя, помнишь? Документов нет, карточек нет, вот что плохо. Анька, твердит, будто ты артистка. Это понимай, делать ничего не умеешь. — говорит про себя тетя Лиза, сворачивая очередную самокрутку и вздыхает.
— Я не артистка, нет. Я преподаю литературу. И как зовут меня не забыла. Марина Кирилловна. Еще я лечить немного могу, нас когда-то на медсестер учили. — с надеждой говорю я.
— Ну, до Кирилловны ты еще дорасти. Марина, значит. А не врешь, что медичка? Это дело! А то я одна здесь не справляюсь, будешь мне помогать, когда оклемаешься. — Тетя Лиза обрадованно вглядывается в мое лицо.
— Я скоро оклемаюсь, правда, я очень постараюсь! Только мне еще в одно место нужно сходить. Очень нужно. А если вы меня к себе берете, я все буду делать. — обещаю я Лизе.
У меня возникла идея, наверное, бредовая, но я не успокоюсь, пока ее не реализую. Я хочу найти дом, где есть лифт, любой лифт и попробовать вернуться. Я не хочу далеко уходить от бомбоубежища, где чувствую себя в безопасности, но желание вырваться из блокадного времени сильнее страха.
— Вот, артистка, это тебе. — говорит Лизавета, бухнув на стол большой узел с одеждой, завязанной в клетчатый платок. — От мамаши Аньки осталось. Я берегла, думала, как прижмет, сменяю на продукты. Да на что сейчас сменяешь? Мать Аньки в соборе нашем прислуживала, одинокая была. Отец их сгинул, забрали еще перед войной, вот она и тронулась умом. Теперь Анька сирота и при мне. Бери узел-то, одежда чистая, теплая, хоть и с покойницы, да все лучше, чем в драной шинели форсить.
Лиза права. Правда и то, что в чужой одежде я стала выглядеть странно даже для конца 1941 года. Длинная юбка, суконные боты и простые чулки. К юбке прилагается темная жакетка с маленькими пуговками, обтянутыми тканью. И еще белая блузка с пожелтевшими кружевами. Все это дополняет пальто, темно-синее, с рукавами буфами и облезлым воротником из меха непонятного зверя. Пальто очень тяжелое, на вате, из прошлой или даже позапрошлой жизни. И наконец — черный платок. Просто Вера Фигнер после освобождения.
Одевшись, я решаю, пока силы есть, буду искать дом с лифтом. И тут я вспоминаю про знаменитый дом Мурузи, что выходит своими окнами прямо на Преображенский собор. Как же я не подумала о нем сразу? Дом высокий, богатый, построенный по последнему слову архитектуры и техники конца 19 века. А это значит, что лифт в нем должен быть! Обрадованная, я спешу к дому на углу Преображенской площади. Нетерпеливо заглядываю в ближайшую парадную и с облегчением выдыхаю. Справа от лестницы старинный лифт. Но радость моя быстро сменяется отчаяньем, ведь без электричества временной портал не откроется и лифт никуда не поедет. Но все же, я в него захожу.
6. «Нормальных не бывает. Ведь все такие разные и непохожие.»
Стены кабинки и зеркало покрыты изморозью. Я, подышав на стекло, расчищаю маленькое окошко и смотрюсь в него. Глядя в зеркало, удивляюсь. В чужой старушечьей одежде я неожиданно выгляжу моложе. Из тусклого зеркала на меня смотрит бледное, осунувшееся, но совсем не старое лицо. Надо же, я, кажется, похудела, а глаза стали больше под насупленными бровями. Я разматываю платок и укутываю им заледеневшие руки. От холода привычно начинает болеть голова. Мне хочется сесть и закрыть глаза, потому что я устала до звона в ушах. Кажется, рядом и впрямь звенит колокольчик. Ласково звенит, убаюкивающе. Звук его вплетается в нежную и печальную музыку Свиридова к пушкинской «Метели», которая мне слышится. Ах, какой же хороший сон, просыпаться не хочется. Но, за плечо меня кто-то осторожно трогает.
— Сударыня! Вам нехорошо? — сквозь сон слышу я голос. — Не стоит здесь сидеть, лифт уже поднялся на 5 этаж. Вы выходите?
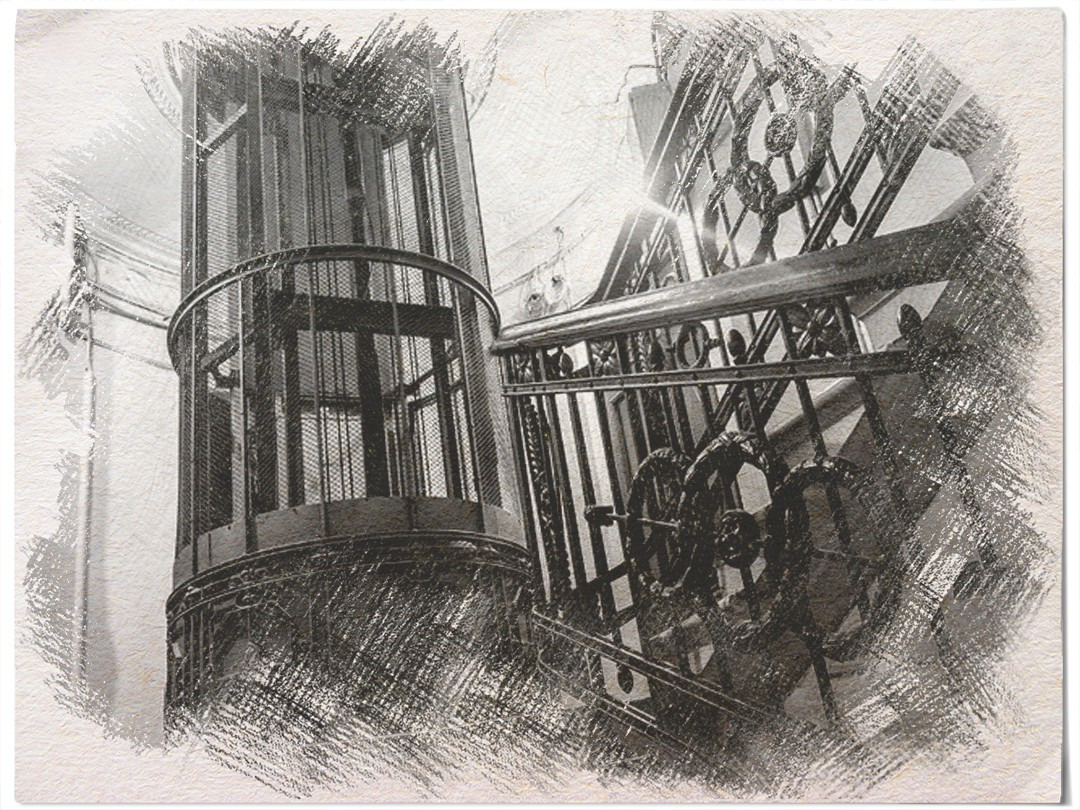
Эти слова я уже когда-то слышала. Очень похожие слова сказал мне когда-то Даня. Дежавю какое-то! Я решаюсь открыть глаза и вижу силуэт в черном. Лицо мужчины постепенно проступает из полумрака, словно проявляющийся негатив.
— Ой! Иван Павлович! — говорю я автоматически. — Как вы на свою фотографию похожи, что у меня над столом висит. — добавляю я.
— Виноват! — произносит Иван Павлович, приподнимая шляпу — Мы с вами знакомы? Вероятно, мы встречались на религиозно-философских собраниях? Вы к Мережковским?
Я таращусь во все глаза на молодого прадедушку и не сразу соображаю, что он ждет ответа. Какая у него смешная борода, не борода, а метелка! Ну к чему они, мужчины, вдруг выдумали эту моду на бороды? Для солидности, что ли? Чтобы демонстрировать свою близость к народу? Или от лени? — думаю я. — А серьезный какой! Или очень хочет казаться серьезным.
— Так вы к Мережковским? — нетерпеливо переспрашивает Иван Павлович.
— К Мережковским. Проводите меня, пожалуйста, с вами мне будет спокойнее. Я бывала на собраниях в Географическом обществе на Фонтанке, но здесь впервые. — добавляю я.
Мне приходится быстро ориентироваться в меняющихся исторических реалиях и соображать на ходу. Я так сильно волнуюсь, что прихожу в себя в чужой передней, где резко пахнет калошами, табачным дымом и духами. Накрахмаленная до скрипа горничная помогает мне снять пальто, берясь за него двумя пальцами. Видя себя в большое высокое зеркало, я заливаюсь краской стыда, потом встречаюсь глазами с моим прадедом и краснею еще больше. Иван Павлович приглаживает волосы и, наклоняясь ко мне, произносит:
— Не смущайтесь своего скромного платья. Это дом, где не удивляются гостям даже очень необычным. Если робеете, держитесь меня или присядьте где-нибудь в уголке.
Я благодарно улыбаюсь ему и, хватая запястье Ивана Павловича, горячо жму ему руку. Он смотрит с удивлением. Кажется, я сделала неловкость.
— А вы нынче со спутницей, милейший Иван Павлович! — разряжает обстановку молодая дама, на чей голос мы дружно оборачиваемся. Иван Павлович кланяется и сдавленно шепчет:
— Прошу вас, назовитесь сами, я не знаю, как вас представить.
— Марина Кирилловна, давняя знакомая Ивана Павловича. –- говорю я, глядя в прищуренные зеленые глаза дамы и наклоняю голову. Зинаида Николаевна Гиппиус, которую я сразу признала, слегка усмехается уголком накрашенного рта, оглядывает меня в лорнетку и делает приглашающий жест.
— Прошу, мы ВСЕМ гостям рады! — говорит она, делая ударение на слове «всем»
В большой гостиной Мережковских, где из окон виднеется Спасо-Преображенский собор, толпится довольно порядочно людей и все они мужчины. Яркие язычки огня пляшут на поленьях в камине, бросая отблески на красноватые стены с золотистым узором. Я, забившись в глубокое кресло у окна за небольшой колючей пальмой на подставке, с облегчением вздыхаю. Иван Павлович оставляет меня ради общения со знакомыми ему мужчинами, посчитав свой долг провожатого выполненным. Уверена, ему не понравилось, что я назвалась его старой знакомой. Молодому прадедушке не все равно, что подумают обо мне гости Мережковских, а значит и о нем тоже. Заметив, брошенный на меня, оценивающий взгляд одного из гостей, я поджимаю под юбку ноги в своих нелепых ботах и независимо встряхиваю коротко стриженной головой. Да уж, по сравнению с Гиппиус с ее копной ярких рыжих волос, наряженной, как невеста, в белоснежное платье, надушенной и холеной, я смотрюсь черной вороной.
Однако, какая специфическая в доме Мережковских атмосфера. По цвету — темная, по аромату — пряная! Атмосферу создает цвет стен, оберток книг в шкафах, мебель, тяжелые шторы и сладковатый запах корицы, который примешивается к дыму папиросок и аромату духов Зинаиды. Ее духи пахнут туберозой, которую называют «королевой ночи» или «цветком ночных мотыльков». Тубероза пахнет медом, чуть-чуть лилией и еще сладкими фруктами. За шлейфом этого пьянящего аромата хочется следовать по пятам. Правда, мне этого вовсе не хочется, так как с его хозяйкой мы друг другу не понравились.
— Ваша нынешняя протеже, Иван Павлович, смотрится в моей гостиной несколько экзотически. Вы не находите? — слышу я голос Зинаиды Николаевны. Она, проходя мимо группы оживленно беседующих мужчин, через плечо бросает взгляд в мою сторону — Не хотите посвятить нас в ее тайну? О-о! Я уверена, тайна у нее есть. И непременно трагическая. — мадам Гиппиус выпускает в сторону моего прадеда голубоватое облачко дыма. — Ваша спутница из ссыльнокаторжных, народоволка, я угадала?
Таких эпатажных дамочек, как Гиппиус, у которых продуманы каждая поза и жест, Иван Павлович, я уверена, побаивается и потому не выносит.
Уши и шея его в крахмальном воротничке сильно краснеют, но, взяв себя в руки, он, откашлявшись, говорит:
— Уважаемая Зинаида Николаевна, я не настолько близок со своей спутницей, чтобы быть поверенным во всех ее тайнах. К тому же, согласитесь, ваши гости всегда могли рассчитывать на приватность своей частной жизни. Не так ли?
Ай да Иван Павлович! Вот молодец! Не побоялся дать отпор «белой дьяволице»! А ведь публичная задиристость не в его характере. Мне кажется, что у Мережковских он невольно чувствует свою инородность. Все эти поэты-философы-мистики, как говорится, «не из его песочницы». Но я понимаю сильное желание прадеда найти себе духовных попутчиков. Оно вынуждает его делать попытки к сближению с очень разными людьми.
7. «Мало кто находит выход, некоторые не видят его, даже если найдут, а многие даже не ищут»
Если я правильно угадала, мне повезло оказаться на одном из религиозно-философских собраний. Эти собрания с 1901 года стали привлекать к себе не только «мирян», но и много духовных лиц, так что сборища сочувствующих походили на Ноев ковчег, где «каждой твари по паре». Поэтому, несмотря на мысль о необходимости сближения интеллигенции и церкви, атмосфера собраний была полна расхождений во взглядах, взаимных выпадов, колкостей и резких выражений. Сталкивались не только мнения, сталкивались личности. Каждый говорил о своем, почти не слушая другого. Вот и сейчас в квартире Мережковских собралась весьма любопытная публика. Мне бы сидеть и радоваться тому, что могу увидеть какую-нибудь знаменитость, Блока, например. Но пока, я вижу, как поеживается под изучающим взглядом Зинаиды Николаевны бедный Иван Павлович. Он, верно, чувствует себя жучком или мухой под микроскопом-лорнеткой Зинаиды. То есть, очень неуютно.

— Нет, я не согласна! — капризным тоном заявляет Ивану Павловичу Гиппиус — Но, чтобы сделать вам приятное, я, пожалуй, не стану задавать вопросы. Цените это! — и она обворожительно улыбается.
Затем хозяйка дома мелкими шажками проходит к камину и картинно вытягивается на ковре перед огнем, выставив на показ ножку в нарядном ботиночке со сверкающей пряжкой. Шлейф белого платья эффектно откинут и веером разложен на ковре. Зинаида победительно оглядывает присутствующих.
— Несчастная женщина! — хмыкаю я про себя.
Однако мужчины заметно оживляются, отвлекаясь от своих разговоров, и придвигаются ближе к камину. Вообще-то, следует отдать должное Зинаиде Николаевне. Улечься на полу перед гостями в длинном тесном платье и не выглядеть при этом дурой, нужна смелость и огромное желание нравиться. Иван Павлович, не разделяя общего настроения, аккуратно обходит собравшихся у камина и подходит ко мне.
— Я вижу, вы вполне освоились и более не стесняетесь. Знаете, здесь кого-нибудь? — с ноткой снисходительности в голосе интересуется он.
— Только вас, а про остальных либо что-то слышала, либо читала. Но, наблюдать за людьми очень интересно, жаль, что не все разговоры мне слышны. — отвечаю я. — Присаживайтесь рядом, Иван Павлович. Не бойтесь, я не стану вас больше хватать за руки. Посидим, послушаем. Здесь у окна всех видно, можно тихонечко посплетничать.
Иван Павлович дергается и с неприязнью говорит:
— Прошу прощения, я не сплетничать сюда пришел, да и вам не советую.
— Боже мой, ну что вы такой колючий! Я пошутила. Совсем забыла, что у вас все всерьез. Вот скажите, зачем вы сюда ходите? Не думаю, что у вас здесь друзья. Хотите, чтобы заметили, услышали? Не боитесь даже Зинаиде Николаевне на язычок попасться? Она ведь дама безжалостная, только супруга своего не кусает. Скажите, это же он, сам Мережковский? — я киваю в сторону маленького господина, в синих войлочных туфлях с помпонами, который осторожно передвигается между гостей.
Иван Павлович стоит рядом, словно аршин проглотив, и не находит слов, чтобы мне ответить. Он ошеломлен и моим свободным обращением с ним, и моим пониманием его характера. Повернув голову, Иван Павлович вслед за мной провожает глазами худенького, сутулого человечка, с поразительно молодыми, зверино-зоркими глазами на бледном лице, и с интеллигентской бородкой.
— Господа! — хлопает в ладоши Зинаида Николаевна, как бы не замечая, что в гостиной есть и дама в моем лице, — А что, если нам почитать стихи!
Мрачнейшего вида молодой человек, не покидавший за весь вечер своего стула в углу и упорно молчавший с крайне неодобрительным видом, вдруг вздрагивает и поднимает голову. Он точно ждал весь вечер случая высказаться. Откинувшись к стене и закрыв глаза рукой, он начинает читать стихи глухим, «загробным» голосом, отрывисто выбрасывая слова. Стихи красивые, но тоскливые. Ему аплодируют, и я тоже. Иван Павлович же продолжает стоять молча.
— Вам не приходило в голову, дорогой Иван Павлович, — как ни в чем ни бывало обращаюсь я к нему — что поэты редко бывают философами? Знаете, почему? У них я думаю, иной способ познания мира. Уверена, что вам, например, стихи не даются, тогда как в публицистике вы убедительны и даже страстны.
Иван Павлович упорно молчит, не сводя глаз с Гиппиус, которая, чтобы вновь привлечь к себе внимание, перемещается от потухающего камина к темному окну. Она, закладывает руки за спину и нараспев начинает читать стихи:
Колокола молчат, молчат соборные
И цепь оградная во мгле недвижнее
А мимо цепи, вдаль, как тени чёрные
Как привидения, — проходят ближние.
— Я знаю эти стихи. –– негромко говорю я Ивану Павловичу. Там в конце есть строчки обо всех нас, очень символичные. Вы же поняли, о каких цепях идет речь? Посмотрите в окно на Преображенский собор. Иван Павлович молчит.
И тут Зинаида Николаевна, возвысив голос до пронзительности, заканчивает
Где ненавистные — и где любимые?
Пути не те же ли всем уготованы?
Как звенья чёрные, — неразделимые,
Мы в цепь единую навеки скованы.
— А ведь и мы с вами в цепь единую навеки скованы. — произношу я сама себе и уже в полный голос прошу — Прочтите же и вы, дорогой Иван Павлович, свою «Небесную царицу мира».
Эта просьба примиряет прадеда со мной. К тому же он испытывает удовольствие от того, что эту просьбу горячо поддерживает Гиппиус. Иван Павлович читает во всеуслышание свое стихотворение-молитву, волнуясь так, что голос его местами дрожит. Затем он с тревогой оглядывает собрание и убеждается, что понравилось всем.
Ну а дальше беседа, естественно, переходит на религиозные темы, и доходит до самой важной — а именно до веры «движущей горами», до силы ее.
— Хорошо бы иметь вещь, которая давала бы человеку такую силу. Что-то вроде волшебной палочки. — мечтательно говорю я Ивану Павловичу.
— Вы рассуждаете, совсем как ребенок. Вы относитесь к божественному проявлению, к чуду, как к игрушке, как к леденцу! Даже странно. — раздраженно замечает он.
— Но, вы же верите в чудесную силу, например, оберега? Или это не по-христиански? — продолжаю допытываться я.
— Что ж, я расскажу вам об одном сердечном даре. В силу его я не просто верю, а имел возможность в ней убедиться. Это совсем маленькая икона Божией Матери, вырезанная на перламутровой овальной пластинке. Я всегда ношу эту, как вы выразились, вещь с собой и берегу, как зеницу око. И убежден, что икона Пресвятой Богородицы является одним из самых сильных оберегов. Но сам по себе оберег не поможет. Только вместе с подлинной верой он защитит своего обладателя от зла внешнего мира. А теперь, давайте слушать самого Дмитрия Сергеевича. Он ведь истинный поэт, из тех, что вы так цените. — обидчиво заканчивает Иван Павлович.
— Дмитрий Сергеевич, кто это? Ах, ты боже мой! Да Мережковский, конечно! — не сразу вспоминаю я. — Что ж, его послушать интересно.
Дмитрий Сергеевич проповедует вдохновенно. Настроение у всех делается «благостное», спокойное и, слова богу, не истерическое. Но вот, когда Мережковский возносится до высшей патетичности и, вскочив, начинает уверять, что и сейчас возможны величайшие чудеса, стоит только повелеть с настоящей верой среди темной ночи: «да будет свет», свет явится. В этот самый миг не успевает Мережковский договорить фразу, во всей квартире… гаснет электричество и наступает мрак. Все до того пугаются, что минуты две проходят в полном оцепенении, едва только нарушаемом тихими словами: «С нами крестная сила, с нами крестная сила!
Я же, не испытывая подобных чувств, бросаю в темноту фразу из старого фильма, позабыв, что здесь ее не оценят — «А вдоль дороги мертвые стоят! И тишина!»
Ответной реакции никакой. Вокруг меня тьма и тишина. Подождав, я встаю и вытянув руки вперед, начинаю двигаться в сторону двери.
— Господи, дураки какие! Мистификаторы! Фокусники! Любители эффектных жестов! — раздраженно ворчу я, пробираясь по коридору на выход — Ну и сидите тут в потемках до второго пришествия!
Я выхожу на лестницу, сдернув свое тяжелое пальто с вешалки, и начинаю спускаться.
8. «Угрозы, обещания и добрые намерения — ничто из этого не является действием.»
А на лестнице лютый холод. После жарко натопленной и даже душной квартиры Мережковских, лестница кажется выстуженной. И от этого перепада температур в глубине моей головы опять начинает зарождаться боль, охватывая кольцом лоб и затылок. Где-то наверху тяжело хлопает дверь, раздаются шаркающие шаги и чей-то надрывный кашель. Ага! Еще кто-то из гостей странной квартирки не выдержал ожидания чуда и сбежал. Прямо на меня по лестнице медленно спускается человек, закутанный по самые глаза. Человек идет, останавливаясь на каждой ступени, покачиваясь, не глядя по сторонам и вдруг начинает заваливаться на спину. Я кидаюсь к нему и успеваю подставить плечо, чтобы не дать неизвестному удариться головой о ступени. Приглядевшись, понимаю, что передо мной, опрокинувшись, лежит мужчина, голова которого обмотана серым пуховым платком поверх ушанки. Лицо его оказывается не просто бледным, оно будто залито синевой, даже губы кажутся черными. Нет, это не просто обморок, это больное сердце.

— Эй! Люди, помогите! — кричу я и пробую ладонью уловить слабое дыхание мужчины. Кажется, дышит. Ну не бросать же мне его здесь на лестнице.
— Только не помирай, миленький! — причитаю я, как деревенская баба — Только не помирай!
Кидаюсь на улицу и испытываю шок! Я опять в блокадном Ленинграде. Камин, пальмы, аромат туберозы, поэтические стоны о чуде — все исчезло. И зачем я ушла оттуда? Но теперь нечего жалеть. Нужно привести помощь, а никого кроме моих спасительниц из бомбоубежища я не знаю. Счастье, что мне удается перехватить тетю Лизу, которая уже торопится домой после дежурства. Вместе с ней нам удается дотащить моего больного до его квартиры.
— Нет, ты все-таки дурная баба, вечно в историю попадаешь. Чего тебя в этот дом понесло? — раздраженно говорит мне Елизавета Ивановна — Ну приволокли мы этого доходягу в квартиру. Хорошо, дверь нараспашку оставил. А дальше-то что? Он же совсем плохой, не видишь, что ли? Синюшный совсем. Я не вчера родилась, повидала таких с грудной жабой. Как его лечить?
Мы укладываем больного на кровать, на которой навалены старые одеяла, пальто и даже гобеленовые шторы. Наверное, хозяин квартиры пытался таким образом греться. В огромной квартире жилой кажется лишь эта комнатка в одно окно. В ней кровать, письменный стол под зеленым сукном и печка-буржуйка. В углу на полу валяются обломки мебели и плашки разобранного паркета. Книги лежат везде: на подоконнике, на столе, под кроватью. Видно, хозяин комнаты готов пустить на растопку все, что может гореть, но не книги. Это вызывает у меня уважение. А Елизавета Ивановна только фыркает:
— Умственной работы твой болезный. Ишь, книжками обложился, много они ему помогли? Тут не книжки, тут питание нужно, глюкоза опять-таки. Для сердечников она первое дело. Глюкоза — сахар значит. — поясняет Лизавета. — А сахар сейчас только на золото сменять можно. На золото, понимаешь? А тут, глянь, какое золото? Он уж всю мебель пожег. В комнатах хоть шаром покати. Продать или сменять на еду нечего. Пойдем-ка, что могли, сделали.
Мы прикрываем дверь квартиры и в тяжелом молчании спускаемся по лестнице.
— Я знаю, где взять золото. — вдруг говорю я.
Елизавета медленно поворачивается и придвигается, дыша мне прямо в лицо. — Врешь, артистка? Побожись, что не врешь?
— Я знаю, где спрятаны очень ценные вещи, кажется, там и продукты есть. Если сможем их достать, как думаете, спасем его? — я медленно и четко выговариваю слова, кивая в сторону двери.
— А ну-ка пойдем отсюда, Кирилловна, поговорим толком. Я тут голову сломала, как нам выживать без карточек, а она… Артистка и есть! — качая головой, привычно сворачивая курево корявыми пальцами, ворчит тетя Лиза. — А за доходягу своего не бойся. Я Аньку сейчас пришлю с кипятком, пусть его отпоит. И вот еще, берегла на черный день. Держи, а то передумаю. Сама ему скормишь. — Лизавета достает из-за пазухи маленький мешочек и вытаскивает оттуда два замусоленных кусочка сахара.
Я же пребываю в шоковом состоянии от того, что так опрометчиво пообещала Лизавете несметные богатства, местонахождение которых знаю весьма приблизительно и не уверена, смогу ли отыскать
Пожалуй, думаю я, мое сочинение стоит назвать «Путешествие юного следопыта во времени». А что? Очень даже точно про путешествия во времени, только следопыт не совсем юн, но это опустим. Да и само слово «следопыт» навевает мысли о приключенческих романах про индейцев. Хотя, по сути, правильно. Я все ищу чего-то, иду по чужим следам как сыщик. Нет, лучше уж назваться старым краеведом, точнее «краеведкой. Хотя, «краеведка» звучит совсем по-дурацки. «Краеведка» хорошо рифмуется с креветкой, котлеткой, нимфеткой. Вот ведь чушь лезет мне в голову! А все от того, что я сама себе поставила почти невыполнимую задачу, пообещав Елизавете отыскать в холодном и голодном Ленинграде золото. Кому пообещала? Елизавете Ивановне! Женщине сугубо практического ума, в никакие байки не верящей по самой природе своей.
Да уж, это не моя подруга Варька! Вот она идеальный товарищ для поиска кладов и других приключений.
Теперь я ломаю голову, как оправдать доверие мой спасительницы и вытащить из ослабевшей после контузии головы, сведения о находке клада, которые я прочла в газетной статье в далеком прошлом, а может будущем.
Проблема в том, что я плохо запоминаю цифры. Они не имеют для меня никакой эмоциональной окраски. Я хорошо помню только ощущение цвета. Например, двойка голубая, тройка непременно желтая, а шестерка не может быть иной, как коричневая. У многих людей есть особенность связывать цифры и буквы с определенным цветом. Иногда это помогает запомнить информацию, а в моем случае вспомнить то, что прочно забыто. Сейчас мне необходимо вспомнить улицу и номер дома, в котором в моей юности будет найден дореволюционный клад. Об этом кладе тогда много говорили и писали. Тогда было найдено огромное количество бытовых предметов, одежды, посуды, белья и, самое главное, продуктов. Ради этого стоит напрягать мозги. В каком году это случилось я забыла. Ну эта информация мне вряд ли понадобиться. В 1941 году клад еще не найден и слава богу! Вот и найдем его на сорок лет раньше.
На какой же улице это было? То ли Советская, то ли Красноармейская, я вечно путаю, потому что они пронумерованы, как улицы в Америке.
Что же еще я помню? Совсем рядом с этой улицей была станция «Технологический институт». Значит это не Советская, а Красноармейская улица. Ура! Уже что-то.
Теперь номер дома. Да нет, зачем я тороплюсь с домом, номер улицы я ведь тоже не помню. Сколько их, Красноармейских? Когда-то эти улицы назывались по номерам рот Измайловского полка, да и потом в советское время долго не думали, переименовали похоже, но уже на революционный лад. Итак, вспоминаем по цветам. Какого же цвета цифры остались у меня в памяти из газетной статьи далекого 1985 года? Ну надо же, год находки клада сам собой соскочил у меня с языка. Почему-то мне кажется, что, если сосредоточиться, постараться, я многое вспомню. Как же я представляю дом, где обнаружили при капитальном ремонте клад? Я представляю дом старым, с облупившейся темной краской на лепном фасаде. Темная краска, значит цвета черный или коричневый. Черная в моем представлении единица, а коричневая, я уже говорила, шестерка. Получается число 16, или 61. Нет, 61 не годится, такого количества домов на улицах нет.
Теперь следует отыскать подходящий дом, скорее всего под номером 16 на улице Красноармейской, той, что вблизи будущей станции метро и рядом с Троицким собором.
9. «Куда идем мы с Пятачком?»
Большой, большой секрет! И не расскажем мы о нем…» — твержу я себе под нос. Это помогает мне не спятить от всего того, что со мной происходит. А происходит следующее. Немолодая мадам, можно сказать, бабушка (как же без кокетства, даже наедине с собой) с дубинкой и мешком (привет Дане! Он тоже писал о человеке, который пошел куда-то с такой экипировкой, правда все закончилось плохо, но не будем суеверными) отправляется (нет, я все же закончу это предложение) добывать старинный клад! Если припомнить в каких исторических реалиях все происходит, то мне остается только одно, напевать песенку Пятачка. Елизавета вполне справедливо косится на меня с опаской. Она до конца не уверена в моем психическом здоровье после контузии. «Голова — предмет темный и исследованию не подлежит» — заявила я, желая пошутить, но, похоже, мои слова восприняли всерьез. Делиться же ходом рассуждений, которые помогают мне вспомнить место старинного клада, не стоит вовсе. Они любому покажутся бредом.
Мы отправляемся на место, которое я вычислила, (надо же, в буквальном смысле вычислила) засветло.

С августа 1941 года в городе установлен комендантский час с 10 часов вечера до 5 часов утра. Передвижение по городу в это время запрещено, а тех, кто нарушает порядок, задерживают. Нам нужно дойти до улицы Красноармейская, которая под номером 2, зайти в парадную дома под номером16, дождаться темноты и начинать поиски. Идти далеко, а сил у нас мало, силы нужно беречь. Мы берем санки, лом, лопату, мешки, веревки и в последнюю минуту я вспоминаю про фонарь. Он самодельный, вроде коптилки, но без него у нас ничего не получится.
До улицы 2-й Красноармейской мы добираемся в полном изнеможении и уже в сумерках. Дорогу по городу я помню плохо. На улицах тихо и почти безлюдно.
На бугристых, местами обледенелых и скользких панелях изредка встречаются прохожие. Везде следы осколков, множество домов с разрушенными фасадами, открывавшими квартиры как будто в разрезе. Кое-где удерживаются на остатках пола кровать или комод, на стенах висят часы или картины. Я заставляю себя не смотреть по сторонам, а сосредоточится на поиске клада и вспомнить все, что знаю. В газете писали, что на третьем этаже дома на Красноармейской между лестницей и комнатами одно из помещений было перекрыто антресолями так, чтобы внизу образовалось потайная комнатка, а в комнатке тайник. Над тайником сделана кладовка или дворницкий чулан, о котором все знали. Получалось, что кладовка — на третьем этаже, а тайник — под ней уже на втором. В тайник можно было попасть через потолок нижней квартиры, в котором в 1985 году обнаружили три доски, поднимающиеся на шарнирах. Но в квартиру мы пробраться не сумеем, а вот в чулан можно попробовать. И вот мы стоим перед мрачным коричневым домом в пять этажей на 2-й Красноармейской улице. Удивительно, но многое я угадала.
— Что делать будем? Куда идти, знаешь? — Лизавета толкает меня в бок.
Я осматриваю дом и вижу, что парадная в нем только одна.
— Давай, я сама поднимусь, посмотрю, есть ли на этой лестнице чулан. Вдруг я ошиблась. — предлагаю я.
— Ты что, артистка? Как это ошиблась? Зря что ли через весь город тащились? Нет уж, иди и ищи, подруга! — говорит Лизавета, тяжело дыша.
И я ныряю в темную парадную, в которую сумеречный свет с трудом проникает через разбитые цветные витражи окон. Однако, среди этих остатков былой роскоши между вторым и третьим этажами ничего похожего на чулан не обнаруживается.
— Кладовки я не нашла! — только и могу выговорить я, ожидавшей меня на улице Лизе, и приваливаюсь к косяку двери. — два раза всю лестницу прошла. Ничего.
— Вот же…!!! — И дальше следуют, не скажу ненормативные, скорее простонародные, крепкие выражения, которых во множестве знает Елизавета и неожиданно хорошо понимаю я. Они даже оказывают на меня тонизирующее воздействие.
— Не ругайся! — я вдруг легко перехожу на «ты», — Клад, я уверена, существует. Просто надо подумать. — и прибавляю аргумент для простого человека совершенно неотразимый: «Про это даже в газете писали!»
— Ну так думай, если есть чем! — сердито отвечает Лиза, — Только недолго, комендантский час скоро.
— Надо посмотреть со двора. Может, чулан устроен на черной лестнице, подальше от лишних глаз? — предполагаю я.
— Вместе пойдем, чего мне тут перед домом торчать? — решает Лизавета.
Кладовка и впрямь отыскивается на черной лестнице, что выходит во двор. Низкую дверь черного входа сильно прибило снегом, а это значит, что ею мало пользуются.
Небольшой дворницкий закуток обнаруживается на третьем этаже. Он отделен от лестничной площадки дощатой дверью, запертой на деревянную палку, воткнутую в ржавую петлю для навесного замка. В закутке-чулане тесно от ящиков, метел и лопат. Странно, что до ящиков еще никто не добрался и не унес их на дрова. Усевшись на такой ящик, Лизавета начинает налаживать фонарь — коптилку, а я выкидываю из дворницкой на лестницу лишний инвентарь и помятое ведро с мерзлыми грязными тряпками.
— Одну-то метелку оставь — мусор с пола сгрести! — говорит мне она, примеряясь ломом, откуда лучше начинать работу. Мы в четыре руки, поддев ломиком, довольно быстро разламываем деревянные половицы, под которыми обнажаются балки перекрытий и засыпка. Но дальше дело идет хуже. Елизавета, более привычная к такой работе, отнимает у меня лом. Громкие звуки ее ударов о перекрытия гулко раздаются по всему дому, и я боюсь, что они могут привлечь внимание.
— Хоть бы воздушный налет! — глупо думаю я, — Тогда, может, никто не услышит. И тут лом Лизаветы чуть не целиком проваливается в открывшуюся под полом дыру.
10. «Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра — это нора»
Я едва успевая перехватить тяжелое орудие, но не могу удержать, падающую на меня, Елизавету. Мы обе, пыхтя, лежим на мусоре у развороченной в полу дыры. Я, вцепившись в лом, а Елизавета в меня.
— Маринка! Живая? — спрашивает она. Я киваю.

— Тогда потихоньку отползаем. — говорит она. — И железяку эту проклятущую тащи, еще пригодится. Под нами прогибаются и пугающе трещат доски пола.
В дрожащем свете коптилки трудно разглядеть, что там внизу, но я все равно решаю туда спрыгнуть.
— Ты как? Не боишься? Кто его знает, что там. Еще ноги переломаешь!
Знаешь, ты погоди лезть, давай покумекаем. Вот, что, артистка, гляди-ка, какую я веревку с собой взяла, толстую. До войны собор наш ремонтировать начали, кой-чего от строителей осталось. Фанера к примеру. Я ею окна в храме давала заколачивать, когда вылетели от взрывов, еще листы железные, чтобы печки самодельные ладить, гвозди, веревки опять же. Я тебя сейчас веревкой обвяжу, а ты тихонечко ползком ногами вперед в дыру всунешься. Только сразу не прыгай, а спичками подсвети, поняла? — учит меня Лизавета.
Я сбрасываю ватник, беру спички и ползу на спине к дыре. Волнуясь, чиркаю спичкой раз, чиркаю два, не получается. Лизавета тяжело сопит, но терпит молча. Спичек у нас мало. Наконец огонек высвечивает внизу комнатку с грудой каких-то вещей.
— Веревку держи, а лучше привяжи к чему-нибудь. — прошу я свою боевую подругу.
Повиснув на руках, я тяжело падаю вниз. Да, уж, не прыгнула, а шмякнулась, как мешок… понятно с чем.
— Ну чего там? Продукты есть? — потеряв от волнения голос, спрашивает Лиза.
Чиркнув последней спичкой и оглядевшись, вижу комнатку, в которой, аккуратно уложенные в многочисленных ящиках, развешанные по стенам, тысячи предметов.
— Что-то есть, не волнуйся. Я буду подавать тебе наверх, но ты дверь-то чулана запри от греха. Там щеколда есть. — отвечаю я ей.
Первое, что я вижу это складная лесенка-ступенька, на которой лежит пачка свечей в вощенной бумаги. Одну из них я успеваю зажечь от последней гаснущей спички. Пригнувшись, я обхожу стены с полками и рассматриваю содержимое ящиков и коробок.
Это просто пещера Али- Бабы! Вот одежда — смокинг, бережливо подвешенный на плечики, бальное бисерное платье, шубы, обувь, мужское и женское белье, халат, шляпа в коробке. Ух, ты! Берем все! Но, не сейчас. Ужасно хочется все хорошенько рассмотреть, потрогать, даже понюхать. Вот посуда — кофейники, хлебницы, ложки, вилки, столовые ножи, бокалы, чаши, графины, кувшины, блюда, флаконы, конфетницы, корзинки. Пока не надо. В большой шкатулке из белого тусклого металла с узором на крышке, как переплетенная дерюжка, — лежат дорогие мелочи — кулоны, брошки, запонки, пудреницы, серьги, медали, знаки отличия, подвески, пенсне… Что-нибудь сгодится на обмен, думаю я и передаю шкатулку Елизавете. Из огромного ящика в углу с трудом вытаскиваю пыльную трехлитровую бутыль с вишневой наливкой. Сплошная глюкоза! Берем! А еще шоколад, боже мой, шоколад! И пакеты с кофе, мешочки с жареным ячменем, консервы из мяса, крупы, чай и даже сахарные головы в синей бумаге.
Елизавета наверху похоже близка к обмороку. Она принимает от меня продукты, приговаривая, как заведенная «Господи! Господи!»
Я быстро устаю и прошу ее дать мне передохнуть, чтобы я могла отбирать вещи с толком. Лизе я советую перекусить шоколадом, чтобы в голове слегка прояснилось. Ведерный самовар, телефонный аппарат, подсвечники, бронзовые часы, две фарфоровые скульптурные группы, гардины, шторы, постельное белье, одеяла, подушки, коврики, кружева — все это лучше оставить.
А вот несколько бутылок шампанского, целый ящик которого я обнаружила здесь, отправляются наверх. Портфель с деловыми бумагами, чековые книжки, документы и визитные карточки на французском языке, коллекцию почтовых марок, мешочек с разменной серебряной и медной монетой, три скрипки –разберем после.
— Лиза, Лиза, Лизавета! Тащи меня наверх, а то я здесь останусь и умру от обжорства. Я в эйфории от удачного завершения нашей авантюры, а больше, от глотка вишневой наливки, которую хлебнула, чтобы узнать, что же налито в бутыль. Приставив лесенку-ступеньку, я наполовину высовываюсь из дыры в полу. Лизавета с трудом вытягивает меня наружу. Лицо у нее бледное, в красных пятнах, а руки дрожат. Теперь я стараюсь вывести ее из шокового состояния и успокоить.
— Там еще самовар огромный? Хочешь? И шуба бархатная на лисе? Надо тебе шубу? — весело спрашиваю я. — А еще табачок настоящий, пляши Лизавета!
— Я тебе не верила, Кирилловна, думала чудишь с больной головы, а все-таки пошла. Теперь бы домой довезти все это добро, да здесь запрятать, что останется, чтобы не нашел никто. Свечку надо Николаю Угоднику поставить, вот что я думаю. — бормочет Лиза, запихивая шкатулку с ценностями глубоко под ватник.
— Лизавета! — трясу я ее — Про Николая Угодника мысль хорошая, но нам еще добраться до него нужно. И лучше бы не домой, а к тому доходяге. Квартира у него огромная и пустая. Он нас про вещи и продукты точно не спросит. Как думаешь?
— Правда твоя! Ко мне везти не нельзя. — приходит в себя Лизавета Ивановна. И мы начинаем увязывать наши сокровища.
11. «Пир горой и все, все, все»
— Тетечка Лиза! Тетечка! Вы вернулись… Это вы? — отчаянный голосок раздается из темного нутра квартиры в доме Мурузи.

— Мы, Анютка! Не боись, все хорошо! Больной-то наш дышит? — тяжело выталкивает из себя слова Лизавета и валится на сундук у дверей. Этот поход за сокровищами отнял у нас последние силы.
Сейчас нужно отдышаться и начинать действовать, хотя у нас одно желание — спать, спать и спать, пусть даже сидя. Но Анечка не дает, она тормошит нас поочередно, приговаривая.
— Тетечки, вы что! Вы не спите! Мне так страшно было, так страшно. И дядька этот то ли помер, то ли помирает, вдруг захрипит как! А я одна. И холодно, и вас все нет. Печка стала гаснуть. Я пошла по дому искать, что еще сжечь. Там в кладовке полку отломала, а она в печку никак не лезет, хоть плачь. В дальней комнате фотографии в рамочках висят. Я картинки вытряхнула, а рамки в печку. Ух, как они трещали! Это же ничего, правда? Теть Лиза, ты слушаешь? — она сильно дергает Лизавету за руку — Ты сама не помри, давай! Чего вы, как неживые обе!
С усилием разлепив глаза, Лиза заставляет себя подняться и начинает искать санки.
— Тьфу ты, пропасть! Я уж думала, мне приснилось все и никакого добра нет. Аж, сердце зашлось. Ну что, пировать будем, жить будем, Анька? А помирать погодим! — с облегчением говорит она и сует Анечке в рот кусок шоколада, вытащенного из кармана ватника.
— Надо бы дров раздобыть. Давай-ка я с ломиком по квартире пройдусь, может еще что отломаю. И вода нужна. Кашу будем варить. Знаешь, рисовая каша с изюмом очень питательна и полезна? — говорю я.
От моих слов Анечка застывает. С ее маленького, бледного даже в копоти, лица на меня, смотрят испуганные глаза.
— Я снега принесла. Далеко за водой не ходила, а снега в ведро натолкла, сколько смогла. Ты про кашу в правду, что ли? — неуверенно шепчет она.
— Все девочки! Разбирайтесь-распаковывайтесь, говорить совсем сил нет. Пойду по дрова, пока шевелится могу. — отвечаю я ей, с трудом вытаскивая из-под большого брезентового тюка лом. И я отправляюсь обходить квартиру.
В комнатке, где лежит хозяин квартиры, немного теплее от умирающей буржуйки. Холодом тянет от большого окна, которое никто не заделал на зиму, а только прикрыл светомаскировкой. Я ловлю себя на мысли, что всерьез прикидываю, как лучше обустроиться в этой ненастоящей жизни, которая стала моей реальностью.
В большой выстуженной квартире кроме пустых гулких комнат, которые я обхожу со свечкой, имеется заброшенная кухня, ванная с неработающим туалетом, кладовка и чулан, который когда-то был комнатой для прислуги. Чулан меня заинтересовал. В этой комнатке практически без окон, (маленькое окошко на черную лестницу не в счет) легче всего можно удержать тепло. А окошко вполне сгодится для того, чтобы вывести наружу трубу от буржуйки. В кладовке, рядом с чуланом по стенам широкие крепкие полки, застеленные старыми газетами. Их действительно непросто выламывать, но на пару полок у меня сил хватает. Оттащив толстые доски к печке и добавив к ним найденную синюю кастрюльку с отбитой эмалью, я опять направляюсь в комнаты. Нет, Лизавета не права, ни все в этом доме бесполезно. Вот бывшая спальня. На комоде, застеленным посеревшей от пыли салфеткой с уголком «ришелье», стоят две узкие, как цветочный стебель, вазочки голубого стекла с сухими цветами. Ящики комода разбухли от сырости и вытаскиваются с трудом. Комод этот тоже может сгодиться на дрова, беру я себе на заметку. В ящиках стопки накрахмаленных, пожелтевших на сгибах льняных полотенец, наволочки с костяными пуговицами, пододеяльники с той же вышивкой ришелье и завернутый в марлю пучок осыпающейся лаванды. Мне вдруг отчаянно захотелось выспаться на чистом белье и вымыться душистым мылом. Запах лаванды — запах чужой благополучной жизни, напомнил о несчастном хозяине квартиры.
А Елизавета с Анечкой уже хозяйничают вовсю. На буржуйке булькает под крышей каша, в которую они положили тушенку и, кажется, изюм. Я удивленно поднимаю брови? Но Анечка поясняет:
— Сами же сказали, что полезно для здоровья. — и мечтательно добавляет — Пахнет-то как, я уж слюной изошла, никакого терпения нет. Даже дядька ваш, кажись, очнулся.
Я кормлю больного маленькой ложечкой супом-кашей с изюмом и мясом, пищей, которую я в моем времени назвала бы бурдой, а здесь она оказывается эликсиром жизни. Кормлю и вглядываюсь в его лицо. А лицо интересное. Самое большая неожиданность — передо мной не старик. Худой, изможденный, но совсем не старик. Как же меняет человека болезнь и голод. Я отставляю в сторону кружку с жидкой кашей. И мой больной тут же открывает глаза.
— Нельзя сразу много. Потом еще дам. А сейчас чаю горячего с медом. — говорю я и наклоняюсь, чтобы вытереть синюшные губы мужчины. Он неожиданно крепко вцепляется в мою руку — Еще! Дайте еще!
— Анечка! Мед нашли? Мне казалось, несколько банок было. — спрашиваю я, подходя к столу, заставленному нашими находками.
— Давай, Мариха, мы ему наливочки плеснем, сразу отживет. — говорит Елизавета, захмелевшая от тепла и горячей еды.
— Вы, девушки, не переборщите, а то на радостях и помереть можно! Да и поберечь запасы надо, чтобы хватило до лета. –беспокоюсь я.
— А что, думаешь, к лету нас освободят? Может и совсем война кончится? — с надеждой спрашивает Лиза, подсовывая в печку кусок сухого дерева. После свалившегося на нас богатства, она, очевидно, меня зауважала. А то все, артистка, да артистка!
— К лету? Нам бы эту зиму пережить. — отвечаю я и задумываюсь. —
Нужно ли людям знать всю правду о войне, поможет им это выжить?
— Мы победим — это точно! И в Берлин войдем, и знамя наше будет над Рейхстагом! Надо потерпеть. — твердо говорю я, боясь, что голос мой дрогнет.
Отвернувшись от Лизы и Анечки, пробую приподнять голову больного, чтобы напоить его чаем и слышу его шепот: — Я верю вам, Марина. Крепко верю…
12. «Если ты уже наполовину вылез, жаль останавливаться на полпути»
Если жизнь не наполнять практическим, реальным смыслом, она незаметно превращается в фантасмагорию. Практический смысл сейчас заключается в сохранении жизни. Это — еда, тепло, здоровье и вера в то, что все будет хорошо. Ничего нового не изобрела, просто в благополучии мы редко об этих вещах задумываемся. Кое-какие запасы у нас появились, но их нужно правильно распределить, а ценности припрятать на черный день, обменяв кое-что на лекарства или то, что, может стать таким лекарством. В какой-то степени, я чувствую себя Робинзоном на необитаемом острове. Мои знания и умения нужны не для пустого теоретизирования, а для реального выживания. И первое, что мы с девочками делаем — устраиваем субботник по переезду в кладовку и чулан. Конечно, жить без окон, без дневного света тяжело, но тепло важнее. Теперь женская половина нашего боевого отряда базируется в кладовке с печкой-буржуйкой, а больного мы размещаем рядом в чулане за тонкой перегородкой. Я уговариваю Лизавету часть вещей из шкатулки обменять на камфару и шприц для больного и еще достать лук или чеснок, потому что начальные признаки цинги я заметила у всех. Заглянув рот Лизе и Анечке, понимаю, что без лука нам будет трудно дотянуть до весны. Камфара и шприц озадачивают Елизавету. Она склоняется к лечению всех болезней вишневой наливкой, что по мнению тети Лизы и так шикарно для нашего больного. Но, поломав голову, вспоминает, что был у нее до войны один знакомый санитар при больнице. Мерзавец думал поджениться на ее жилплощадь, а она ему от ворот поворот дала. Если этот санитар не уехал из города, то лекарство сможет достать. Ну а лук-чеснок на рынках продают. Не мешками, конечно, и даже не килограммами, а штучно и задорого, но купить можно.
— Тебе, я смотрю, не жалко на чужого мужика запасы наши тратить. Я не поленилась у него в столе пошуровать. Так вот, паспорт имеется. Только сомневаюсь, его ли? По паспорту он за тридцать слегка, в очочках круглых, на лицо гладкий и волос такой богатый. Люблю, когда у мужчины чуб волной. Может брат его? А карточек не нашла. Что ж, хочешь его нам на шею? — раздражается Лизавета.
— Ну… Ты же добрая, я знаю. Начала помогать, не останавливайся. Давай лучше подумаем, на какой рынок мне за луком сходить? Мальцевский совсем рядом. Там торгуют?
— Ну нет, на рынок я тебя одну не пущу. И на Мальцевский вместе нельзя. Хоть и близко, а знакомых можно встретить. Увидят, что дорогие вещи меняем, спросят откуда. Да что знакомые? И незнакомые тоже опасны. Приглядят, что за пазухой, следом пойдут и отнимут. Нет, одной никак нельзя. Лучше всего с мужиком, да где ж нам его взять? — разводит руками Лиза.
— Давай завтра с утра возьмем часы или колечки из шкатулки и на Сытный рынок махнем. А пока помоги мне больного нашего переодеть в чистое и обтереть слегка. Мне кажется, он забыл, когда и раздевался. Как звать-то его?
— Ильюха он. Илья Николаевич! А фамилия какая-то нерусская, я не запомнила. Потом сама глянешь. Ну пошли его обмывать. Он хоть и дохлый совсем, а тягать одной у тебя силенок не хватит. А зачем? От грязи не помирают.
— Еще как помирают! И тоже сказала, обмывать. Как покойника! Он еще поживет, наш Илья Николаевич! — весело говорю я.
— Угу! Поживет, поживет. Нашими стараниями. — сквозь зубы подтверждает тетя Лиза.
— Ты чего? Опять сердишься? — не понимаю я.
— Чего! Чего! — передразнивает Лизавета — Часы золотые менять жалко, вот чего! Никогда раньше таких в руках не держала, а теперь возьми и отдай!
13. «Всё страньше и страньше!»
Ну, казалось бы, что такого особенного сходить на рынок? Ничего особенного. Только рынок в блокадном Ленинграде место очень странное. К тому же я и в хорошие времена не любила рынки. А все потому, что совсем не умею торговаться. Вот нет у меня никакого азарта в выгадывании денег. Какое-то дурацкое соревнование, кто кого переговорит. А уж когда вижу, что меня хотят обмануть, совсем плохо. Я чувствую неловкость за все эти хитрости, шитые белыми нитками. Очень неприятное чувство. Правда сейчас я иду вместе с Елизаветой, которая на рынке чувствует себя, как рыба в воде. Она велит мне ни в коем случае не отходить в сторону и ничего самой не обменивать. За пазухой в тряпице у Лизы часы, из тех, что похуже, серебряные. Золотые, черненные она оставила себе. У меня завязана в носовой платок пара золотых сережек с большими рубинами, на мой вкус — купеческими, но Лизе нравятся. Значит и покупатели найдутся.
Блокадный Сытный рынок вовсе не похож на рынок, а люди не похожи на покупателей. Это барахолка, где люди перемещаются в толпе, как во сне. Бледные, как призраки, худые как тени. Лишь два молодых человека, тепло и добротно одетые, выглядят в толпе инородно. Они быстрой скороговоркой спрашивают: «Баккара, готовальни, фотоаппараты есть?»

Я показываю Лизавете на них глазами. Вот же они, наши покупатели!
— Баккара, это что? Ты знаешь? Может у нас есть. — шепчет Лизавета, крепко держа меня за локоть.
— Это такой хрусталь дорогой, французский, старинный. Там в тайнике может и был, да мы брали еду и золото. — отвечаю я.
— Ювелирные изделия имеются? Брошки, сережки, зубы. — чутко реагирует на слово «золото» один из возможных покупателей с румяным лицом. — Меняем на хлеб, масло, шпик. Мясо свежее есть.
— Давай-ка отойдем. — говорит Лизавета, отталкивая меня в сторону.
— Лиз, ты что? Может у них и лук есть, нам же надо как лекарство. И шпик тоже хорошо, без жиров какие силы? — упираюсь я
— Ты что, дура совсем? Не видишь, кто это? Знаешь какое они мясо-шпик продают? Ты на рожи их красные посмотри? — шипит Лизавета, толкая меня подальше от подозрительных парней. Я оборачиваюсь, чтобы возразить, и вижу одну из этих рож прямо за плечом Елизаветы.
— Много болтаешь, тетка! Язык-то и укоротить можно! А ну, показывай, что за пазухой! — парень с силой дергает Лизавету на себя за ватник. — Помогите! — дурным голосом кричу я и тут же получаю чем-то тяжелым по уху. В глазах моих ярко вспыхивает солнце, а в черепной коробке раздается барабанный грохот. Мне душно, мне нехорошо, больно спине, в нее втыкается что-то твердое.
— Помогите! — как собственное эхо, слышу я сквозь барабаны в голове, чей-то голос. — Тут монашка без памяти лежит! Люди добрые, помогите!
А барабаны звучат все громче и громче, так что я зажимаю уши руками.
— Водички, матушка, хлебни, полегчает. Затолкали тебя, видать. И одежи на тебе вон сколько накручено, ты и сомлела. — тычет мне под нос глиняной кружкой с водой загорелый бородатый мужик.
— Что это так шумит? Голова сейчас прямо лопнет от грохота. — глотнув воды, спрашиваю я.
— Ну что, очухалась, божья страница? Так я побег, ребяты наши на мосту у Кронверка место застолбили, чтоб, это, экзекуцию, значит, видать было. Тебе-то по твоему званию негоже на мучительства разные глядеть, а я побегу. Кружку в лавку сама возверни, слышь. А то, барабаны уже отбили и злодея, гляди, на дрогах привезли. — дыша густым луковым духом, говорит мужик, высматривая что-то поверх чужих голов.
Я сижу на земле, на грязной сырой соломе, упираясь спиной в колесо телеги. Мое ватное пальто расстегнуто, платок сполз, на черную юбку налипли мелкие листья. В глаза светит яркое солнце и не дает как следует рассмотреть все вокруг. А вокруг топчутся люди, много людей, как и положено на рынке. Я слышу их голоса, вижу ноги в изношенных сапогах и, с ума сойти, в лаптях. Я чувствую запахи свежего дерева, дегтя, сена, пива и теплого ржаного хлеба. На рукав мой садится жирная зеленая муха.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
