
Бесплатный фрагмент - Империя Зря
История с биографией
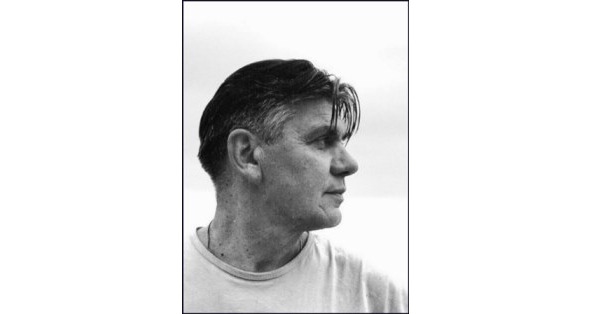
От автора
Я прожил свою жизнь в послевоенном Ленинграде, вновь ставшим Санкт-Петербургом. Рос с бандитами «Васьки», занимался самбо и дзюдо в одном спортклубе «Труд» с Вовой Путиным и стал вице-чемпионом СССР. Подрабатывал в кино каскадёром, освобождаясь от основной работы, ради заработка и встреч и работы с Володей Высоцким, Василием Шукшиным, Олегом Янковским, Василием Ливановым, Олегом Борисовым, Михаилом Боярским, Никитой Михалковым, Марчелло Мастроянни и другими известными актёрами. Служил проректором по учебной работе Всесоюзного института повышения квалификации профтехобразования, позже работал в руководстве компании ТРИТЭ Никиты Михалкова и директором баскетбольного клуба «Спартак» Спб. Строил коммунизм на благо советского народа, защитил диссертацию и получил степень кандидата педагогических наук /13.00.04/, вёл курс трюковой подготовки в должности доцента Академии театрального искусства /ЛГИТМиК/.
Вырастил двоих детей, похоронил, вскормивших меня родителей, «входил вместо дикого зверя в клетку». Все люди пытаются реализовать свои способности, но не у всех это получается. Кого то судьба отвлекает от этого отсидками в тюрьмах, кого то возносит на трон и вручет волшебную палочку. Но счастье не в этом.
Моё не дворянское гнездо
Отцу, маме и всем сродникам по плоти
посвящаю это воспоминание.
Первые проблески сознания в моей детской памяти связаны с Локней — деревней в Псковской области, где я, собственно, и родился. Помню теплые, уютные руки своей бабушки Ани, скрипучие половицы пола, пушистого полосатого серого кота, который давал мне таскать себя за хвост и за голову, но потом в знак протеста гадил посреди комнаты. Помню, как я не любил мыться в жестяном корыте, потому что вода была мокрая, а пена лезла в глаза и очень больно щипала. Я звал маму, кричал, что эти тетки меня закупают. Помню, как приятно было спрятаться от дождя в шалаше, сооруженном моей теткой Люсей у крыльца нашего дома из огромных лопухов. Помню ужас, пронзивший всё моё существо, когда, раскачиваясь на качелях, моя тетка упала, разбила свои колени и еле успела увернуться от летящей на неё качельной скамьи. Свою мать, сморщенную и сутулую старушку, бабушка называла кормилицей. Локня в войну была под немцами и они её сильно разорили. Бабушка сказывала, что покрестили меня в Спасо-Преображенском соборе на краю села, в пределе Николая-Чудотворца, где посреди разрухи теплился Божий дух. Когда кормилица умерла и голод подобрался к самому горлу, бабушка продала дом, и мы приехали к маме с папой в Ленинград. Они ютились в подвале на Третьей линии Васильевского острова в доме 42. После бабушкиного деревенского дома с пузатой огнедышащей печкой, отмытыми добела досками пола, деревянными лавками под окнами и просторными сенями, трудно было себе представить, ради чего люди могут жить в таких нечеловеческих условиях. Наша семья из пяти человек ютилась в десятиметровой конуре дровяного подвала на 3-ей линии Васильевского острова. Единственным украшением была бабушкина икона Богородицы и родительские гимнастёрки в орденах, висевшие на стене. Шкафа у нас тогда ещё не было. Спали мы на матрацах, набитых сеном и источающих знакомый деревенский дух. Мама пыталась свить там уютное гнёздышко, но получалась сырая, тёмная нора.
Ленинград душил меня маленьким пространством заставленной комнаты и каменным колодцем двора, лишенного травы, цветов и бабочек. Пока бабушка занималась хозяйством, я сидел на дровяных поленницах во дворе и ковырял землю совочком. Потом мы гуляли с бабушкой по набережной Невы, линиям Васильевского острова и глазели на витрины магазинов, выбирая себе подарки на Пасху и Новый год. Вечером после ужина, когда все укладывались на сон в нашем тесном подвале, бабушка, чтобы не будить остальных, шептала мне на ухо сказки. Но больше сказок я любил её рассказы про старину, про то как прапрадеда освободили от крепостного права и дали надел земли, как он посадил липы и построил свой дом в деревне Барсаново, какой красивый у него был жеребец Шелест и как ловко он ловил рыбу в реке Иссе, как её семья в двенадцать человек жала хлеб на поле с утра до ночи, как за столом нужно было дождаться пока не возьмёт первый кусок отец Антон, как пешком ходили по воскресениям в Опочку на службу в церковь. Когда рассказ бабушки доходил до гражданской войны, на которой погиб в 1916 ом под Гомелем её дядька Кузьма, гренадер Лейб-гвардии Павловского полка, а потом про деда её Алексея и бабку Иринью, их сыновей Ивана и Андрея, коллективизацию отрядами чекистов, о войне с фашистами, на которой убили её мужа Якова и сына Толю, глаза мои слипались крепким сном.
На следующее лето мы поехали на Украину, на Черниговщину, к папиным сестрам Ольге и Лидии. Из окна вагона я видел как мимо проносилась Родина, широкие реки с мостами, дремучие леса и бескрайние зелёные поля. Потом мы долго плыли на пароходе по широкой реке мимо разных городов и деревень. На палубе было много детей и мы играли в прятки.
Когда мы добрались до родственников, от усталости я уснул и помню во сне на меня прыгнула огромная черная собака. Я вскрикнул, мама обняла меня и сказала: «Это значит, что скоро приедет папа». Действительно, утром приехал папа и мы, позавтракав творогом с мёдом, побежали ловить рыбу на Днепр. Мёду в деревне было очень много, потому что все в деревне разводили пчёл и собирали душистый мёд и воск, который продавали государству через кооперативы. Мне было очень обидно, что все в деревне носили ту же фамилию, что и я — Вощилины. Это потому, что фамилии в старину имели только дворяне, а крепостному люду фамилий не полагалось. А когда крепостное право император Всероссийский Александр II отменил, то вольным крестьянам давали фамилии по их промыслу. Вот и получили все мои родственники по папиной линии фамилию Вощилины потому, что разводили пчёл и вощили пчелиным воском верёвки для речных и морских дел.
Поблизости от Днепра мы набрели на пруд, заросший осокой. Папа дал мне маленькую удочку. Забросив свою, тут же вытащил большую, толстую красноперку. Она была очень красивая: желто-серебристая чешуя, красные плавнички и хвостик, желтые глазки. Она часто раскрывала свои жабры и там виднелись красненькие реснички. Я очень хотел поймать такую же, но рядом с папой у меня не клевало. Я отошел подальше от папы и забросил свою удочку. Мимо в траве прошелестела осокой длинная серая лента, я испугался и закричал. Прибежал папа, убил палкой змею, а меня ладонью больно ударил по попке. Сказал, чтобы я больше не отходил. Отец сажал меня на плечи и я ехал верхом, озирая все вокруг.
Скоро мы пришли на берег Днепра. Он был такой синий и широкий, что другого берега не было видно. Песок был белый как в сахарнице и громко хрустел под ногами. Пришел папин друг дядя Коля. В его руках была удочка с катушкой и маленькой железной рыбкой. У нас такой не было. Он размахнулся и забросил рыбку далеко и начал крутить катушку. Потом закричал: «Есть!» Над водой взметнулась огромная рыбина с белым брюхом и с брызгами грохнулась в воду. Когда дядя Коля вытащил её на берег, она прыгала как пружина, то и дело, вставая на нос. Я узнал её сразу — это была щука, которую поймал Емеля в своей сказке «По щучьему велению».
У тёти Оли был огромный сад. Белый глиняный дом с соломенной крышей еле виднелся среди яблонь, груш, вишень и абрикосов. У тёти Оли были крупные в трещинках руки и она ими ловко лепила из теста маленькие пирожки с вишнями, которые назывались варениками. Потому что когда их варили, они становились очень вкусными. Особенно со сметанкой. Ветви деревьев гнулись до земли от тяжести плодов. Их подпирали палками, плоды собирали в корзины, но они всё зрели и зрели на ветвях. К осени вся земля в саду была усыпана вкусными фруктами и их нужно было собирать.
Домой мы возвращались на пароходе до Москвы. В Москве у нас была пересадка, нужно было ждать наш поезд и мы пошли в Мавзолей посмотреть на Ленина. Долго и молча стояли в очереди. Лица у людей были грустные, как в очередях к зубному врачу. Мне было очень страшно, я боялся похорон и не любил смотреть на трупы. Ленин лежал в гробу весь жёлтый. Видимо спал. Мы тихо на цыпочках вышли на улицу, чтобы его не разбудить, и поехали домой.
Пересаживаться было очень трудно, потому что пока мы с папой ловили рыбу и валялись на скрипучем белом песке, мама наварила много ведер абрикосового и вишнёвого варенья. Чтобы носить эти ведра у нас не хватало рук. Я сидел, охраняя моё любимое варенье, а мама с папой носили ведра в вагон. Радость встречи с моими дворовыми друзьям меня переполняла, мне скорее хотелось рассказать про всё, что произошло со мной летом в далеком, неведомом им краю. Трамвай медленно ехал по Дворцовому мосту. Пряча своё нетерпение и радость, я поглядывал в окно и видел как такие же трамваи светились в темноте окнами, перекатывались по горбам мостов и отражались в темных водах Невы.
Долгими осенними вечерами, сидя на поленницах дров, мы дождались морозов, покатались на коньках, получили подарки от Деда Мороза, поздравили с Восьмым марта мам и бабушек своими поделками, в день птиц к празднику Благовещения Пресвятой Богородице повесили им новые скворечники и дружно пошли на первомайскую демонстрацию, любоваться парадом военных кораблей на Неве и разноцветным салютом. В школьном саду зацвела сирень, и снова накатило лето. Родители работали не покладая рук на стройках и выбиваясь из сил на заводах и фабриках, а летом им давали отпуск. В отпуск мы ездили на отдых в деревню, подышать свежим воздухом и набраться сил на весь год.
На следующее лето мы поехали в Идрицу, к деду Антону, отцу маминого первого мужа Еремея, погибшего во время войны. Он встретил нас на станции, усадил на телегу с сеном и отвез в свою деревню Большие Гвозды, в свой дом. Помню длинное крыльцо амбара, светлую горницу с половиками и множество сказочных избушек в саду, повёрнутых к нам задом, а к лесу передом. Никакие мои заклинания типа: «Избушка, избушка повернись к лесу задом, а ко мне передом» не помогали. Дед Антон запретил мне подходить к этим избушкам, но я запрет нарушил и пошел. В избушках кто-то жил, гул жизни был хорошо слышен, даже если не заглядывать в узкую дверцу. Но я заглянул… Как ветер на меня налетела темная туча и начала больно кусаться. Как я узнал позже, это были пчелы. От их укусов я распух и стал красным, как помидор. У меня поднялась температура. Бабушка уложила меня в постель и чем-то обмазала, а дед причитал, что так мне и надо, потому как я нарушил его запрет. Пока я был опухший, меня в деревню не выпускали. Я лежал на лавке, вдыхал аромат сушёной травы, исходящий от матраца, и ждал, когда бабушка откроет печь с мигающими угольками и длинным ухватом достанет оттуда чугунок с гречневой кашей.
— Дед, а из чего пчелы делают мед?
— Из цветов.
Он сломал веточку липы и дал мне понюхать. Липовые цветки благоухали нежным ароматом.
— Вкусно?
— Вкусно.
— Эту липу еще мой дед посадил.
— Как? У тебя был дед? Ты же сам дед!
— Я тогда не дедом был. А таким же пострелом, как ты.
Спать в деревне долго не давал петух. Красивый, рыжий с разноцветными перьями в большом, изогнутом дугой, хвосте. Чуть свет, Петя начинал кричать, будить всех на работу. Кричал он долго и настойчиво. Сначала бабушка выгоняла корову Розу и та шла за пастухом в поле, жевать траву и добывать нам молочко. Потом дед шёл на конюшню и запрягал Стрелку. Стрелка была жерёбая и с трудом помещалась между оглоблями телеги. Потом мы с дедом ехали в луга, ворошить сено. Дед брал грабли и поддевал ими пучки скошенной травы и та, источая дивный аромат разнотравья, превращалась на солнце в лёгкое, душистое сено. Сено дед складывал под крышу амбара и кормил им всю зиму Розку. Розка ела его с аппетитом и давала нам молоко, творог и сметанку. А сено лежало, делало вкусным воздух в амбаре и никогда не портилось, потому что было сухое. Вот если бы траву замочило дождём, она бы сгнила и не превратилась в сено. А ещё сено нужно было для того, чтобы на него складывать антоновские яблоки, которые начали падать с яблонь прямо на землю, где им было холодно и не уютно. А на медовый Спас дед качал мёд. Он доставал из ульев соты, которые за лето из воска смастерили пчёлы и наполнили их сладким мёдом из разных цветков. Дед разговаривал с пчёлами, похваливал их за собранный мёд. С молитвой «Господи, благослови!» дед вставлял их в крутильную машину, чтобы мёд из сот стекал в бочку. Но мне соты больше нравились. Их можно жевать и сладость долго остаётся во рту. Вечерами, когда я забирался к деду на печку и уютно сворачивался возле него на соломенном тюфячке, он рассказывал мне о своём детстве, о тяжёлой работе в поле, о войне, в которой фашисты убили его сына Еремея и всю родню, извели всех коров, лошадей и пчёл и гладил меня по голове своей морщинистой тёплой ладонью.
По утру дед повёл меня в амбар пробовать новый мёд. Когда он приоткрыл дверь амбара, в нос ударил такой сладостный запах, что голова закружилась. Сено, сотовый мед, антоновские яблоки, веники разной травы и солнечные лучи, пробивающиеся через соломенную крышу. Казалось, что они тоже пахнут.
После Ильи-пророка пошли грибы. Мы с бабушкой отправились в лес. Надо было перейти речку. Мост был деревянный и простирался на сваях низко над водой. Я «присох» к перилам из гладких круглых жердей и не мог оторвать взгляд от длинных зеленых водорослей, которые плавно извивались в быстрых струях прозрачной воды. На желтом песчаном дне между водорослями проплывали какие-то огромные темные тени. Бабушка сказала, что это рыбы.
— Я хочу их поймать.
— Потом. Пойдем в лес.
Бабушка еле меня оттащила, пообещав, что скоро мы пойдём на реку ловить рыбу.
Лес, в который мы пришли через поле зеленого шелкового льна, бабушка называла бором. Бор — это когда редкие высокие сосны растут из земли устланной чистым, чистым ковром серо-серебристого мха. Как будто кто-то сделал уборку. На этом мху очень хорошо виднеются коричневые грибочки на толстых белых ножках. А ещё мы набрали красных ягод с невысоких кустиков брусники. По деревьям прыгали белки и стучал длинным носом дятел. Я так устал, что домой бабушка везла меня на спине, на закукорках.
Поход на реку я клянчил долго. Бабушке всё было некогда. Она полола грядки, солила огурцы, сушила грибы, собирала яблоки, доила корову, кормила хрюшек. Одевалась бабушка скромно. Гораздо важнее для неё было одеть в яркое платье огородное пугало, чтобы сохранить от птиц урожай. А когда пугало выцветало на солнце, бабушка наряжала его в новое платье, а его выцветшие лохмотья стирала с душистыми травами и одевала на себя. И вот, наконец, бабушку Аню позвала соседка полоскать постиранное бельё на реке.
— Пойдём на рыбалку рыбак, — сказала она и взяла на плечо коромысло с ведрами, набитыми скрученными простынями и наволочками.
Мы пришли на пологий песчаный берег. Река в этом месте делала поворот, была мелкой и прозрачной.
— А ты говорила, что Илья-пророк льдинку приволок, а вода тёплая.
— Это брод, — сказала бабушка, — здесь мелко и скот гоняют.
Мне это не испортило настроения, а даже наоборот. Вода еле доходила мне до коленей, и там виднелось множество мелких рыбёшек.
— Сейчас сделаем бредень. Мы с моим отцом так ловили рыбу.
— Что такое бредень. Он бредит? Как я с ангиной?
— Не он бредит, а с ним бредут по воде и ловят в него рыбу.
Она развернула белую простынь, взяла её за один конец, а мне дала другой. Мы зашли в воду по пояс, погрузили простынь и потащили её к берегу. Простынь туго изогнулась, и на её белом фоне засверкало и заискрилось множество мальков. От ликования у меня сжимало горло и дрожали руки и ноги.
— Скорей, скорей, — торопила бабушка.
В воде ноги еле-еле передвигались и к берегу остановились совсем. Рыба шустро выпрыгивала из простыни во все стороны. Всю дорогу домой я ревел, как говорила бабушка, крокодиловыми слезами. Дед меня успокаивал. Рыбалка это не женское дело. Завтра пойдем к соседу, он настоящий рыбак, соблазним его.
По пути к соседу мы зашли на конюшню. Дед хотел показать мне народившегося жеребенка от гнедой. Гнедую звали Стрелка, а жеребенку имя еще дать не успели. Ему шел второй день отроду. Он носился по леваде как сумасшедший, внезапно резко останавливаясь и вскидывая голову. Гнедая стояла у изгороди и смотрела вдаль, о чем-то думала. Может о его будущей жизни, а может о своей. По дороге в ночное погнали табун. Воздух наполнился пылью, ржанием и топотом копыт. Я прижался к деду. Он взял меня на руки:
— Не бойся, паря. Гляди, какие красавцы.
Но мне не терпелось к соседу, соблазнять его на рыбалку. Соседа звали Игнатом. У него была такая огромная борода, что лица его не было видно, только щелочки веселых глаз.
— Ну, Антон, показывай наследника.
— Он что, Дед Мороз? — спросил я, когда уселся к деду на колени.
— Не-е, он тоже из староверов. Они бороды не бреют.
— Вот Игнат, пришли соблазнить тебя на рыбалку. Внуку не терпится.
Пришла хозяйка, начала делать козу и тыкать меня пальцем в живот. Мне стало щекотно. Я вскочил и убежал в угол комнаты, где висела икона Николая Чудотворца.
— А-а-а, — протянула хозяйка, — к защитнику прячешься.
Они начали шмыгать чаем из блюдечек. А я слонялся по горнице и ждал, когда договорятся о рыбалке. Вдруг я увидел на окне необычайной красоты часики на цепочке. Мне было не отвести глаз. Почему такие красивые часики лежат тут одни. Они, что, ничьи, подумалось мне? Я обрадовался, что они ничьи и больше себе не задавал лишних вопросов. Я взял с подоконника часики и положил их в карман своей рубашки. Мне сразу захотелось домой. Я даже забыл, зачем мы сюда пришли, забыл про рыбалку. Я подошел к деду, заныл и потянул его за полу пиджака. Прощание затянулось. Уже на крыльце дед меня спросил, не забыл ли я чего. У меня стучало в висках и очень хотелось оказаться на улице. Когда мы вышли за околицу, над полем низко висело солнце. День клонился к закату.
— Ты ничего не забыл, внучек? — снова спросил дед. Я потупил взор и захныкал.
— Я тебе хочу рассказать один секрет.
— Какой?
— Ты знаешь, кто берет чужое, после захода солнца умирает и попадает прямо в ад, к чертям.
Я онемел. Я смотрел на деда и не знал, как ему сказать правду. Солнце стало большим и красным и уже лежало своим боком на колосках ржи. В небе неистово звенели жаворонки. Они все были против меня. Заодно с дедом.
— Дед, подожди меня, я забыл.
Я со всех ног рванул назад к Игнату.
Первое причастие
В нашей семье православные праздники чтили и праздновали всегда. Больше всего я ждал куличей на Пасху и крашенных яиц, которыми мы играли в разные игры. На Крещение Господне ходили в церковь за Святой водой, а на масленицу объедались блинами. Пост, по правде сказать, длился в стране круглый год. Великий пост после великих грехов. Народ голодал после войны.
Я не помню своего крещения, видимо оно совершалось в безсознательном моем возрасте, но помню, что к маме приходила подруга тетя Соня, и мама говорила, что эта моя крестная мать, и я должен ее слушаться. В Локне, куда бабушку занесла война из родной Опочки, старинная Спасо-Преображенская церковь ожила сразу после освобождения от немцев в 1944 году. Бабушка Анна, сорокапятилетняя, измождённая войной, женщина с шестилетней младшей дочерью Люсей и раненной на фронте, двадцатилетней старшей Сашей, выживали на картошке, ягодах и грибах. На работу бабушку никуда не принимали из за деда, расстрелянного смершовцами в 1943 в Завидово, где он нёс службу дорожным мастером. Отец, двигаясь на Запад с наступающими частями Советской армии, разглядел в деревенской толпе мою будущую мать и пообещал вернуться к ней после Победы. Демобилизовался он только в 1946, но слово своё сдержал. Работать устроился на Локнянский маслозавод, благодаря чему и выжил наш, поражённый в правах, Опочецкий род Антоновых и Григорьевых.
Настоятель Спасо-Преображенского храма протоиерей Владимир Пятницкий вёл службы проникновенно, но с особенной радостью крестил новорождённых послевоенных детишек. Уж больно много народу погубили изверги в наших местах. Скота порезали-пожрали видимо-невидимо и, как подсчитали в сельсовете, извели полторы тысячи семей пчёл. И где же теперь медку липового к чаю взять?
Бабушка бережно колола щипчиками кусковой сахар, велела мне держать его за щекой и долго сосать. Сахар, хоть и был твёрдый как камень, почему-то таял в моём рту очень быстро. Помню как мама в мой день рождения, подавая праздничный пирог, рассказывала, как в роддоме врач ее торопила с родами, чтобы не отнять у меня счастье. Вот и родился я 7-го апреля 1947 года в Благовещение Пресвятой Богородицы, и тем самым был награжден великим праздником в день своего Рождения. И любую грусть-тоску в этот день заслоняла великая радость — Благовещение Богородице.
Мне было около двух лет от роду, когда мои родители в поисках лёгкой жизни приехали в Ленинград. В деревне после войны есть было совсем нечего. Первое время родители снимали угол в дальнем краю Васильевского острова с веселеньким названием «Голодай». Старожилы утверждали, что раньше при царе это место называлось «Холидей», что в переводе на русский означало — веселое времяпрепровождение, каникулы. Но с тех пор как царя убили в стране Советов голодать не переставали.
Когда папа устроился управдомом, нам дали комнату двенадцати квадратных метров в полуподвале дома №42 по 3-й линии Васильевского острова. Помещение больше напоминало братскую могилу, но мама упорно пыталась свить уютное гнёздышко. Немногочисленные наши вещи и фотографии мама живописно развешивала на стене. Вещей было так мало, что большая часть стен оставалась пустой и обнажала неприглядную облезлую картину, на которой мне мерещились моря, горы и рыцарские замки. Самым красивым экспонатом были родительские гимнастёрки с орденами и медалями. Они поблёскивали в полутьме серебром и отливали красно-вишнёвой эмалью. В плохую погоду, когда гулять во дворе было заказано, мама разрешала мне ими поиграть. В углу красовалась круглая железная печка, согревавшая нас своим теплом. Дрова нужно было покупать на складах, пилить, колоть и складывать в поленницы во дворе. Одинокую электрическую лампочку под потолком мама заботливо укутала бумажным жёлтым абажуром, подаренным китайцем Сяо, за которого вышла замуж мамина подруга Лиза. Вдоль стен уместились три матраца на деревянных чурках, покрытых бабушкиными лоскутными одеялами и подбитыми по низу её же кружевами. Она плела их из ниток маленьким железным крючочком, прикрывая и щуря свои подслеповатые глаза. На подоконнике жадно тянулись к свету столетник с геранью, пленённые кем-то в далёких южных странах.
Окно было вровень с тротуаром улицы и в окне целый день мелькали ноги прохожих. Часто с соседскими мальчишками мы забавлялись над прохожими из моего окна. Сделав конфетку из глины, завернув ее в фантик от конфеты, бросали на тротуар, привязав за ниточку. Когда кто-то из прохожих пытался конфетку поднять, мы дергали за нитку и заливались хохотом.
Когда я оставался в комнате один от шорохов в тишине мурашки бегали по коже. От страха спасало радио, из которого лилась музыка. Иногда, в дождливую погоду, я слышал как по радио рассказывали сказки. Дикторша добрым и вкрадчивым голосом медсестры говорила: «Здравствуй, дружок».
Мне казалось, что усыпив мою бдительность, она начнет делать мне уколы. В голодное послевоенное время дети много болели и их постоянно лечили уколами. Но постепенно проделки Иванушки-дурочка или Емели захватывали всё моё воображение.
Когда мы устроились на новом месте мама решила забрать из деревни бабушку со своей младшей сестрой Люсей. Мама работала в больнице у Тучкова моста. Когда приехала бабушка, мы в уголке коридора устроили кладовку с дарами из дедушкиного амбара. В минуты одиночества и тоски я засовывал голову в кладовку и дышал запахом антоновских яблок, мёда и разных трав, переносящих меня в моё детство.
С приездом бабушки моя жизнь приобрела новое расписание. Я уже не сидел один во дворе в ожидании, когда вернутся с работы отец и мать, и часами глядя на шпили дома в готическом стиле на пятой линии. Дом виднелся виднелся в глубине двора, и я представлял себе что это замок, где живет принцесса. Мы с бабушкой гуляли по линиям Васильевского острова и изучали местность, которая должна была стать нашей новой родиной. По Среднему проспекту ездили трамваи, истошно визжа на поворотах своими железными колёсами. Машины разгоняли гудками прохожих, по своей рассеянности бросавшихся под колёса, перебегая улицу в запрещённых местах. Но самую большую радость я испытывал, когда слышал цокание копыт и долго бежал за телегой, запряжённой лошадкой с красивой упряжью, сверкающей на солнце десятками кругленьких латунных заклёпок. Гужевой транспорт был самой тесной связью с нашей прежней жизнью.
Вскоре мы набрели на Андреевский рынок. От него пахло деревней и жизнь обретала знакомые вкусы и не казалась такой чужой и казённой. Торговые люди приезжали на рынки из окрестных сел и деревень и бабушка искала, нет ли среди них земляков. Гонимая войной, семья давно покинула Опочку и скиталась по чужим местам, но часть родных осталась в оккупации под немцем. Кто-то из торговцев оказался родом из Пскова, и она стала расспрашивать его не слышал ли он чего-нибудь о брате ее Иване и сыночке Анатолии, не объявлялись ли они где-нибудь в родных местах? И хоть она получила похоронку на сына, но верить в это не хотела и ждала чуда.
Рядом с рынком возвышался колокольней Андреевский собор, но люди превратили его в какое-то новое учреждение, от которого веяло холодом и злобой. Входить туда было нельзя. На углу Малого проспекта и 7-й линии стояла разрушенная и осиротевшая церковь Благовещения. Вокруг нее был сквер и играли дети. На углу Среднего и нашей 3-й линии в здании Лютеранской кирхи Святого Михаила громыхали станки какого-то завода, а на Съездовской линии зиял темными окнами собор Святой Великомученицы Екатерины.
Еще дальше на набережной Невы в церкви Успения Божией Матери дверь была открыта, и мы вошли с надеждой помолиться. Роспись стен рабочие замазывали белой краской. Весь церковный пол был залит цементом. В церкви строили каток для фигуристов. Бабушка начала рыдать и читать молитвы. Измазанные краской рабочие выгнали нас на улицу. Бабушка долго плакала и сквозь рыдания щебетала: «Господи, помилуй нас грешных».
Вечерами бабушка вязала и рассказывала мне сказки. Из деревни она привезла с собой толстую книгу, но картинок в ней не было, а читать, ни она, ни я не умели. Эта книга лежала «мертвым» грузом. Бабушка мечтательно говорила, что когда я вырасту и пойду в школу, тогда я все в ней прочитаю. Эта отдаленная перспектива меня радовала мало, и я уговаривал ее рассказать мне сказку или какую-нибудь старинную историю из ее жизни.
По воскресным дням у мамы и папы был выходной. Они отсыпались после тяжелой трудовой недели. Чтобы им не мешать бабушка выставляла нас с Люсей гулять во двор, а потом выходила сама, и мы шли в церковь. Церковь находилась на другом берегу Невы, на Петроградской стороне — Успенский собор Равноапостольного Князя Владимира. Долго уговаривать меня нужды не было, и причина этого крылась вот в чём. Вышло так, что к своим пяти годам я ужасно боялся смерти. На нашей улице прямо на моих глазах автобус задавил пацана из нашего двора. Обычно дети нашего дома играли в своем дворе. Двор был узкий и завален поленницами дров. Можно было играть в прятки, пятнашки, колдуны, пристенок или на спор, кто смелее, прыгнуть с крыши дровяного сарая. Однажды зимой я прыгнул из окна второго этажа и стал чемпионом двора по смелости. В мяч играть соседи запрещали, потому что мы часто били им стёкла. Для игры в мяч мы ходили на школьный двор напротив нашего дома через улицу. Можно было покататься на «колбасе» трамвая. На остановке нужно было подсесть на любой торчащий предмет или выступ вагона и трястись по среднему проспекту, пока кондуктор тебя не сгонит.
По нашей улице изредко проезжал автобус маршрута №44. Мама все время просила меня переходить улицу осторожно. Зимой улицу заносило снегом, а снег укатывало машинами до невероятной скользкости. Мальчишки постарше придумали забаву — скользить за автобусом, ухватившись как нибудь за автобус. На повороте со среднего проспекта, где автобус замедлял ход, пацаны цеплялись длинными проволочными крючьями за задний бампер и тащились за автобусом, кто на коньках, кто на подошвах своих ботинок.
В ту злопамятную зиму я, как обычно ждал, когда пройдет автобус, чтобы перейти улицу. Когда автобус поравнялся со мной, я увидел, как пацан, тащившийся за автобусом на коньках, подскочил на кочке и, вперед ногами, ускользнул под колеса. Когда автобус отъехал, на снегу лежал этот мальчик с раздавленной головой в луже крови. Как из-под земли собралась толпа зевак и смотрела на мертвого мальчика. Спасти и помочь ему уже никто не мог.
Мне стало плохо, меня затошнило, и я несколько дней бредил с высокой температурой. Пацана хоронили всей улицей, но скоро об этом все забыли и снова цеплялись и скользили за автобусом. Но не я. Я запомнил этот кошмар на всю жизнь. Смерть стала для меня ощутимой, свирепой карой.
На улицах после войны было много инвалидов. Особенный страх на меня наводили полулюди, люди без обеих ног. Они не ходили, а ездили на дощечках с колесиками из подшипников, опираясь о землю деревянными колодками. Дома мои родные часто вспоминали и горевали об убитых на войне родственниках. Бабушка плакала о своем сыне Толе и муже Якове. Мама горевала о своем первом муже Еремее. К нам в гости часто приезжал его брат Вася с женой Валей, и тогда за столом дело доходило до слез и долгих рыданий.
Я тоже горевал о них, но ужас у меня вызывала мысль о том, что когда-нибудь умру и я. Тогда я спрашивал папу, вернемся ли мы когда-нибудь после смерти на Землю?
— Нет — твёрдо отвечал папа.
— Никогда?
— Никогда!
— Никогда, никогда, никогда???
— Никогда, никогда, никогда!!!
Мне становилось так страшно, что я боялся на ночь закрывать глаза.
Бабушка меня успокаивала:
— Не бойся, внучек. Когда мы умрем, мы попадем в Царство Небесное. Там живет Боженька с ангелами и святыми. Там хорошо!
— А где это?
Бабушка показывала на небо. Действительно там было хорошо. Под голубыми небесами плыли пышные, как французские булки, облака, щебетали птички. Иногда шел дождь. Тогда бабушка говорила, что Боженька с ангелами плачут о нас. Когда гремел гром — по небу ехал Илья-пророк на колеснице. Вечером царство небесное сияло мириадами звезд, и загадочно улыбалась луна. Там везде, конечно, жили люди. Те — умершие, хорошие. Потому что плохих в аду жарили в котлах внутри вулканов.
И вот, однажды, в пятый день моего рождения, бабушка повязала чистый платок и сказала:
— Пойдем в церковь причащаться.
— Не хочу.
— Пойдем. Я тебе Царство Небесное покажу. И Боженьку.
— А там есть?
— Есть.
Я пошел.
К Тучковому мосту от нашего дома можно было дойти двумя путями. Первый, по Среднему проспекту мимо универмага, где стояло чучело медведя, мимо рыбного магазина, где в витринах стояли аквариумы с живыми карпами и было много других соблазнов. Мы пошли вторым путем, потому что опаздывали на службу. Он был более короткий и шел через банный проходной двор, узкий и темный. По двору ходили красные распаренные люди с вениками. Пахло сыростью, и вспоминались, как наказание, банные дни с длинными очередями, горячей водой и жесткой мочалкой. Баня была единственным местом, где можно было отмыть нательную грязь, скопившуюся за неделю. В нашей подвальной квартире был туалет и одна чугунная раковина с краном, из которого текла ледяная вода.
Сначала я ходил в баню с мамой и бабушкой. Очереди были огромные. Mы часами стояли молча. Говорить, когда рядом чужие люди, было не безопасно. Зато мылись быстро, по-деловому. Сначала мыли меня, выводили в раздевалку, заворачивали в простыню. Я ничего особенного не замечал. Баня как баня. Моются тетки. Но вскоре тетки стали кричать, возмущаться, ссориться с мамой. Что, дескать, мужика водите, глазеет на нас, мыться спокойно не дает.
И с этих пор я начал ходить в баню с папой. Для меня вокруг оставалось все таким же. Мылись вокруг голые тетки, теперь стали мыться голые дядьки. Но теперь баня стала мукой, так как папа мыл меня горячей водой и брал с собой в адскую парилку, где у меня болела голова.
Когда мы с бабушкой шли через банный двор у меня возникали эти неприятные воспоминания. Но зато этот путь был короче.
Тучков мост дыбился, как гора, заслоняя собой весь белый свет. В Неве около моста извивались и струились длинные гибкие водоросли, и пацаны закидывали к ним с моста свои удочки и проволочные сетки на длинных веревках. Взобравшись на середину моста, очень хотелось посмотреть на реку, глубокую воду в водоворотах, проплывающие буксиры, из труб которых валил черный дым, а если повезет, то и на речной трамвайчик, полный разодетого веселого народу, отдыхающего в воскресный день. Хотелось покормить скользящих по воздуху чаек, посмотреть далеко в даль, где виднелось море. Но бабушка тянула за руку, торопилась на службу. С середины моста, как с вершины горы, за дворцом Бирона виднелась церковь с высоченной колокольней, утопающей в кронах деревьев церковного сквера. Она, эта колокольня, как свеча упиралась в небо своим сверкающим крестом, а за ней светились золотом кресты четырёх куполов, и слышался звук колокола. С моста под горку шлось легко и быстро.
Перед церковью толпилось много нищих. Мы прошли через их строй и взошли на паперть. Люди крестились и кланялись. Бабушка показала мне, как надо перекреститься, сложив пальцы в троеперстие, и мы вошли в мерцающий свечами и золотом полумрак храма. Меня поразила огромная его высота. Там, в вышине, пели ангелы. От чего то я заплакал. Mне стало страшно от таинственности и я прижался к бабушке. Народу было много и из-за них ничего не было видно. Мы пробирались все дальше и дальше. Сладостный запах ладана похожий на разнотравье дедушкиного амбара ударил мне в ноздри. Какой-то очень громкий мужской голос закричал какое то непонятное слово «вонмем». Мне показалось, что ловят грешников, чтобы наказать их. Мы протиснулись, наконец, к большой золотистой иконе со ступеньками. На ступенях сидели дети, такие же, как я и ещё меньше. Их было много. Бабушка сказала, что это Николай Чудотворец, чтобы я сидел около него и ждал, а она пойдёт исповедовать свои грехи.
— А я?
— Тебе еще рано, у тебя еще нет грехов — сказала бабушка.
— Как? А за что же вы меня лупите и ставите в угол голыми коленками на гречневую крупу?
Какая-то рыжая девчонка не давала мне сосредоточиться на мыслях о моей не заслуженной каре. Ей хотелось знать, как меня зовут. Я не отвечал и уклонялся от её приставаний. Хотелось молчать и слушать пение. Когда пришла бабушка, мы снова стали протискиваться сквозь людей. Вдруг все затихло и все встали на колени. И бабушка тоже. Я подумал, что сейчас нас всех начнут бить ремнем за грехи. Бабушка вытерла мне слезы уголками своего платка и сказала, чтобы я не плакал, и что сейчас начнут причащать. Все стихло. В огромной красивой стене открылись огромные двери в ярко освещенную залу, посреди которой стоял стол. Батюшки в золотых одеждах пошли к нам, неся в руках какие-то свертки. Бабушка сказала, что это Дары. Я обрадовался. Я любил подарки. Жили мы очень бедно, и редко кто-нибудь что-то дарил. Когда батюшки с Дарами подошли к нам ближе, я увидел Бога. Он светился в красной и синей одежде в глубине алтаря. Он был красивый и добрый. Не было, похоже, что он хочет нас наказывать. Из алтаря, где был Бог, веяло свежей прохладой. Бабушка подвела меня поближе, и сказала, чтобы я назвал свое имя.
— Коля — сказал я батюшке.
— Причащается раб Божий Николай Честнаго и Святого Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов своих и в Жизнь Вечную.
— Вот!!! — возликовал я. Вечную…
Батюшка зачерпнул из чаши и поднес мне чего-то в ложечке. Я открыл рот и проглотил что-то очень вкусное. В то время так баловали не часто. Тот, кто давал лизнуть мороженое, становился другом на всю жизнь. Батюшка ткнул мне донцем чаши в нос и начал причащать бабушку.
— Анна, — сказала бабушка священнику.
Я смотрел на Бога в алтаре. Он мне очень нравился. Бабушка взяла меня за руку и потянула куда-то в сторону, в толпу людей, которые от меня всё заслонили. Бога стало не видно. Потом бабушка подняла меня, чтоб я поцеловал икону Николая Чудотворца. В ушах у меня звенели голоса ангелов, из глаз катились слезы от схлынувшего, непонятного страха и неизвестности.
Когда мы вышли из церкви, в вышине раздался звон колокола. На душе было легко и радостно. Около входа стояли искалеченные люди и тоже радовались. Бабушка давала им копеечки и они благодарили:
— Спаси Бог!
Mне было хорошо. Я теперь точно знал, что после смерти есть Жизнь Вечная, есть Царство Небесное! Красивое, уютное. И знал, где оно находится. За Невой. На Петроградской стороне.
Первый опыт предпринимательства
Досуг послевоенных ребятишек больше всего был связан с игрой в войну. Мы делились на наших и немцев и гоняли друг друга по дровяным сараям палками, которые изображали автоматы или шашки как в фильмах «Звезда» или «Чапаев». Двор наполнялся криками «бах, бах» и «падай, ты убит». Те, кто изображали отряды наших бойцов, густо обвешивали свои обноски родительскими орденами. «Немцам» было приодеться труднее, да и вообще их набиралось мало. Большинство из нас отказывались изображать немцев, и их отряды были малочисленны. За это они получали в игре более выгодные позиции, и победа «нашим» доставалась не сразу и не легкой ценой. Раненный боец должен был смирно лежать на сырой земле, уставившись в прямоугольник синего неба нашего узкого двора-колодца и ждать, когда медсестра его перевяжет.
Когда в войну играть надоедало, мы шли через банный проходной двор на Неву, к Тучкову мосту. Там на берегу высились огромные горы песка, который привозили баржи для строительства. Мы лазали по горам, кувыркались, рыли пещеры. Часто пробирались на баржи и играли в капитанов. Матросы нас гоняли, но без злобы. Наглядевшись смертей, они ценили наши крики, как арии Энрико Карузо. Мимо проплывали черные буксиры, дымили черным дымом и натужно тащили за собой баржи с разными грузами. Город отстраивался после войны.
Если на песках места хватало всем, то на отвалах завода Козы случались массовые потасовки за место под солнцем. Туда из цехов завода им. Козицкого выбрасывали множество бракованных деталей, и мы собирали там свои коллекции блестящего, вертящегося и пружинящего, из которого дома делали свои игрушки. Мастерили машины, поезда, самолеты. Некоторые собирали настоящие «вечные» ручки, которыми можно было писать, если достанешь чернил для заправки. Но они часто протекали и пачкали карманы, за что нам сильно доставалось от матерей. Ребята постарше умудрялись такие вечные ручки продавать сверстникам и зарабатывать копеечку на конфеты или эскимо. Иногда даже на эскимо в шоколаде.
Копеечки у многих позвякивали в карманах. Одни выпрашивали их у родителей или экономили на школьных завтраках, другие выигрывали в пристенок. Пристенок это любимая игра шпаны по отъему денег у младших «шнурков». «Шнурок» первым должен был ударить своей монеткой о стену, чтобы она со звоном отскочила подальше. Крутой бил своей монетой о стену, она отлетала и падала поблизости от монеты «шнурка». Верзиле оставалось только дотронуться до обеих монет своими загребущими растопыренными пальцами и денежки уплывали в его карман под грустный, тихий стон «шнурка».
Моим любимым занятием было собирание кусочков цветных стёклышек во дворе Академии художеств. Там раньше была мастерская Михаила Ломоносова, в которой он делал мозаику и весь двор был усыпан мелкими разноцветными осколками. Набрав их целые карманы мы шли на причал к сфинксам и отмывали их невской водой, а потом украшали ими свои скромные жилища или меняли на другие драгоценности.
Игрушек после войны у детей нашего двора на Васильевском острове в районе Голодай было не много. Мяч можно было пнуть ногой раз в год, да и то за особую заслугу перед его владельцем. Чаще обычного играли в войну, надев отцовские гимнастёрки с орденами, вооружившись палками и прыгая по поленницам дров.
Но весь двор замирал и собирался у дверей прачечной, когда Вовка, сын дворничихи тёти Тони, выносил шайку с мыльной водой, пока его мать полоскала белье, и начинал пускать мыльные пузыри. Он делал пузыри из мыльной воды, которую должен был слить в канализацию, надувая их через соломинку. Никто во дворе не умел делать такие огромные мыльные пузыри. Весь люд нашего двора, включая героев войны и труда, с восторгом ожидал рождение каждого вовкиного мыльного пузыря и неистово крича, присваивал пузырю какое-нибудь название. Арбуз, Германия, Велосипед, Квартира… Пузыри надувались огромные и неслись по ветру через весь двор, переливаясь на солнце разными цветами и приобретая на ветру загадачные формы. Казалось, что всё пространство двора, становилось волшебным разноцветным миром и мы бегали, задрав головы и пытаясь ухватить какой-нибудь шарик. Но как только наши руки прикасались к этому чуду, шары лопались и исчезали без следа. Тогда двор оглашался дружным смехом и криками «Лопнула твоя квартитрка!» или» Германии-капут!».
Но время проходило незаметно, солнце пряталось за высокими домами и во дворе сгущались сумерки. Приходила пора возвращаться домой, к долгожданному придуманному матерью ужину. Но ночью, сладко сопя во сне под ватным одеялом, многие из нас продолжали бегать и прыгать за призрачными мыльными пузырями в детском восторге, пытаясь ухватить своё радужно переливающееся счастье.
Во дворе соседнего дома находилась столярная мастерская. Там вкусно пахло деревом, столярным клеем и было много курчавых стружек. Там можно было найти обрезки брусков, реек и сделать из них рукоятку ножа или сабли. Мама заказала дяде Феде сделать нам шкаф. Вещи уже давно висели по стенам и украшали жилище блеском орденов и медалей на родительских гимнастёрках. Видимо от большой своей доброты он вдобавок смастерил мне грузовую машину. Когда я гордый пришел с ней на песчаные горы, мальчишки сразу же приняли меня играть в гараж, но очень скоро я оказался лишним. Им была нужна только моя машина.
Я не любил драться, но жизнь к этому постоянно подталкивала. В воскресенье вся мелкая послевоенная поросль Васькиного острова собиралась на киноутренник в заводской клуб — по нашему в Козу. После киносеанса шпана выясняла между собой отношения, привлекая в шайки ребят своих районов. Самое разумное было оттуда поскорее смыться. И уже в уютном закуточке крепости своего двора разобрать по косточкам, обмусолить просмотренный фильм: какими храбрыми были фельдмаршал Кутузов или Александр Невский, какие зоркие наши пограничники и какой умный у них пес Джульбарс. А после просмотра трофейного фильма «Тарзана» весь двор наполнялся его призывными кличами и пролетами пацанов над дровяными сараями на подвешенных бельевых веревках.
Когда появились волшебные ящики под названием телевизор, во дворе вспыхнули жаркие споры. Один был умнее другого. Самым авторитетным спорщиком был Вадик Крацкин. Его отец работал инженером на заводе им. Козицкого, где и делали эти телевизоры. Но даже он не мог объяснить, как в такой маленький ящик ученые умудрились запихнуть уменьшенных людей и лошадей?
Однажды мама Вадика, тетя Нина позвала нас на детскую телепередачу. Показывали французский короткометражный фильм Альбера Ламориса «Белогривый». Я даже не смог есть ароматный и румяный пирожок с капустой, которым угостила нас тётя Нина, до того захватил меня фильм. Эта, щемящая душу, история о дружбе мальчика и дикого белого жеребца запала мне в душу на всю жизнь. В фильме ловцы диких лошадей в топях Камарга поймали коня. Мальчик его выпустил на волю, и они вместе решили обрести свободу, прыгнув в морскую пучину. Свобода или смерть! И не иначе.
По вечерам мы с бабушкой ходили в булочную за хлебом. Батон с изюмом был самым доступным угощением и по воскресным дням мы его покупали. Он был очень похож на пасхальный кулич и делал день праздничным. В тот раз в булочной толпилось много народу и, чтобы не толкаться в очереди, бабушка вывела меня на улицу и велела ждать у входа. Я пялился на горы конфет в витрине, уложенные в пирамиды и пытался рассмотреть их фантики.
Около входа в магазин стояли калеки со снятыми шапками и, потряхивая ими, просили у добрых людей денежки. Некоторые были совсем без ног и сидели на дощечках с колёсиками из подшипников. Милосердные люди бросали им в шапки копеечки, и они сверкали на дне шапок золотыми россыпями.
Мне это понравилось и, чтобы не терять время даром, я пристроился к просящим, снял свою шапочку и начал ею потряхивать. Я не успел получить свою милостыню, как вышла бабушка и дала мне по уху. Я даже не понял сначала, откуда свалилась эта оплеуха. Сначала я задохнулся от обиды, вопрошая, за что?! Потом понял, что кто-то из сограждан донес на меня бабушке.
Обычным нашим детским делом было слоняться по линиям и проспектам «Васьки» и глазеть на витрины магазинов. Больше всего мы любили смотреть на плавающих рыб в витрине рыбного магазина на Среднем и на горы конфет в китайских вазах с драконами. Самой близкой к дому была кондитерская на углу Среднего проспекта и Соловьёвского переулка. Но иногда, нарушая материнский запрет, мы пробирались до седьмой линии, где от фантиков разбегались глаза даже у Ленки Обуховой. А она то знала в конфетах толк. Её отец был полковником. Самих конфет я не ел. Видимо, маме и папе было не на что их купить. Но фантики нюхать друзья давали часто. Кто ел конфеты, рассказывал другим, что там было внутри — орешки или вафельки, а иногда и настоящий ликер. Ну, это, они, конечно, врали.
Но больше вкуса конфет меня завораживали своей красотой их обертки — фантики. Появилась такая мода — собирать коллекции фантиков и привирать, что ты якобы все эти конфеты ел и знаешь их на вкус. Хотя большую часть своих коллекций коллекционеры находили на тротуарах улиц и даже в урнах. Заглянуть в урну для меня было большим испытанием. Надо было долго дожидаться, пока все пройдут и никто не увидит, что ты рукой лезешь в урну. Зато потом, в тишине своего домашнего угла, зарывшись в книжки с попугаями, можно было не спеша вдыхать этот сладостный аромат какао из Бразилии?!
Коллекция моих фантиков и вкусовых ощущений была едва ли не самой скудной во дворе. Мой друг Вовка Захаров решил мне помочь. Он привел какого-то пацана, который предложил мне менку. Он мне фантики, а я ему ордена, которыми украшал свою курточку во время игры в войну. Я уверенно и быстро решил обменять медали «За отвагу» и «За Победу над Германией» на ворох разноцветных ароматных фантиков. Потом променял и медаль «За боевые заслуги». За каждую медаль парень щедро отваливал по десять бумажек. Глаза его радостно бегали. Он переминался с ноги на ногу и оглядывался по сторонам, будто хотел смыться по нужде. Но когда у меня остался мой любимый мамин орден «Красного Знамени», я крепко зажал его в кулаке и твердо сказал «Нет». Тогда парень поднес к моему носу фантик с, нарисованной на нём, Кремлевской Башней. От этого фантика так сильно пахнуло шоколадом, что у меня засосало под ложечкой. Мало того, от него струился еще какой то тонкий, незнакомый аромат.
— Чуешь? — спросил парень.
— Угу, — промычал я.
— Знаешь, что это?
— Что?
— Ликер, понял?
— Ты что, как же его туда наливают?
— Военная тайна. Таких конфет больше нигде нет. По заказу Сталина сделали. Понял?
— Понял.
— Бери, твое!
— Он с силой разжал мой кулак, и след его растаял в сумраке подворотни.
— Я почувствовал, что сделал что-то непоправимое.
— Дай понюхать, — заныл Вовка.
— Я, конечно, ему дал. Мне было не жалко, потому что моя коллекция теперь разбухла фантиками разных конфет.
Вечером того же дня я с радостью сообщил маме и папе о своей удачной сделке. К моему удивлению мама заплакала. Нет, зарыдала. Я даже не мог понять, чего это она так рыдает из за каких то железяк. Конечно, орден был очень красивый. Он мне и самому очень нравился. Красное, прозрачно-переливающееся красное знамя, звезда, листики дуба из чистого золота, а внутри — белая, как снег, эмаль. Мне и самому было орден очень жалко. Парень меня обхитрил. Но разве можно было его сравнивать с кремлёвской башней, источающей сладкий запах бразильского шоколада?
Мы с мамой долго бегали по дворам, но мальчика этого не нашли. Вовка обиделся, и мы с ним разругались на всю жизнь. Он ведь хотел сделать как лучше.
На Троицу дядя Федя изготовил нам шкаф, и мы его втиснули в нашу полуподвальную комнату двенадцати квадратных метров, перегородив её на две половины. На одной, у окна, спали мы с бабушкой, на другой, у печки — мама с папой. После летнего отдыха в деревне мама подзабыла про ордена и я разместил коллекцию своих фантиков на почетной верхней полке нового шкафа.
Осенью 1955 года задули холодные ветры. Мы ходили на Неву смотреть на волны и на то, как прибывает вода. Народу на берега высыпало много. Нам было весело. Из уличных громкоговорителй диктор тревожным голосом объявлял каждые полчаса о том, что вода прибывает и уже на целый метр выше какого-то ординара. Мы припустили домой, перепрыгивая огромные лужи, и с восторгом глядели, как из люков хлещет вода. Мама обрадовалась и повела меня на второй этаж парадной лестницы, где жила Ирка Куриная. Там уже кишел народ из подвальных и первых этажей. Мы с Вадиком примостились на тюках с вещами у окна и стали ждать, когда по Третьей линии за нами приплывет «Аврора».
К утру вода спала. По радио объявили отбой. Когда мы вернулись в нашу комнату, в ней было по колено воды, шкаф плавал, плавали вещи и плавали мои фантики с нарисованными на них белыми лебедями, мишками на севере, косолапыми мишками в лесу, красными шапочками, тузиками, коровками, кремлевскими башнями, красными маками и всякими другими прелестями, напоминающими об их чудесном послевкусии во рту.
Академия
Прерванное войной строительство коммунизма продолжалось с нечеловеческим, звероподобным рвением. Из черной тарелки радиорепродуктора с утра гремели трудовые марши и из каждой песни по слову, как по капельке, сочилась коммунистическая идеология — работать, работать, работать. «Москва-Пекин, Москва-Пекин! Идут, идут народы!» Папа строил, разрушенный фашистами, Ленинград, мама лечила зубы строителям коммунизма, которые крошились у них от непосильного труда. Репродуктор внушал, что перевыполнив пятилетний план восстановления народного хозяйства в четыре года, советские люди заживут как… люди.
Бабушка всю жизнь была крестьянкой и домохозяйкой, грамоте была не обучена и нашла себе дело неподалеку от дома, на Университетской набережной в детском саду№25 Академии наук СССР. Здание Академии фасадом своим украшало берег Невы, а за ним тянулось каре двухэтажных зданий, образующих огромный двор. В одном из них находился детский садик для отпрысков ученых академии. Бабушке дали привилегию: можно было устроить в садик своего внука, то есть меня. Так, провидением я попал в высшее общество советской интеллигенции.
До этого счастливого момента я коротал свой досуг во дворе нашего дома, среди поленниц дров и обшарпанных стен. Теперь каждое утро мы с бабушкой шли пешком в Детский сад №25 по третьей линии до Академии художеств, пересекали Соловьевкий сад и по набережной Невы мимо Меньшиковского дворца, мимо Университета, полюбовавшись Исаакиевским собором и шпилем Адмиралтейства, изгибом колоннады Сената и горделивой статуей Петра Великого, вскарабкавшись по ступеням крыльца Академии наук, любовались панорамой невских берегов и, завернув во двор Академии, оказывались в просторной зале младшей группы.
После сытного завтрака нас строили парами и вели через колоннаду биржи Томазо Таммона в сквер на стрелку Васильевского острова на прогулку. В ветреную погоду нас заводили в Академию наук, полюбоваться мозаичным панно Полтавской битвы. Вдоволь набегавшись, мы возвращались на обед. После обеда наступал «тихий час». В большой музыкальной зале, своими огромными окнами выходившими на Университет, бабушка с другими нянечками расставляли рядами раскладушки и укладывали весь детский сад спать среди бела дня.
Часть детского населения послушно закрывало глаза и начинало сопеть, наслаждаясь видениями снов. Но у другой части это мероприятие вызывало протест. Как? Среди бела дня отнимать время от бурной веселой жизни?! Разве мало для этого тёмной ночи? И мы придумывали всякие гадости.
Самым любимым занятием была демонстрация своих половых признаков — «глупостей». Смельчак или смельчачка вставали в кровати и поднимали подол ночной рубахи. Это вызывало ликование окружающих. На шум появлялась воспитательница и после нескольких замечаний удаляла злоумышленника в изолятор, предназначавшийся для больных острой инфекцией. После так называемого «тихого часа» полагался полдник — чай с печением, а потом в этой же зале проводились музыкальные занятия с песнями и танцами под звуки рояля.
Любимой тайной игрой в детском саду была забава с «женитьбами». Все переженились пять раз. «Поженившаяся» пара стояла вместе на прогулке и играла в одну общую игрушку. Разведённые пары ревновали друг к другу и чинили бывшим супругам разные пакости. У меня «ушедшие жены» вызывали чувство обиды и я их щипал. Они жаловались родителям и те проводили со мной воспитательные беседы.
На лето детский сад выезжал в Старый Петергоф и размещался в шикарной усадьбе царского банкира — Заячий Ремиз. Свадебные романы разгорались с новой, разогретой солнцем страстью. В очередную смену «жён» мне выпала царская невеста — Наташа Садикова, оказавшаяся ненароком дочерью заведующей детским садом Жанны Львовны. Она влюбилась в меня не на шутку и из боязни потерять меня игру эту прекратила, полагая, что прекратив игру, оставит меня своим «мужем» навсегда. Она сообщила об игре своей матери, та навела порядок и игра прекратилась. Я восстал. И не потому, что Наташа мне не нравилась. Нравилась. И даже очень. Но из принципа. Человек должен быть свободным. И в детском саду тем более. Так неслось из радиорепродуктора:
— Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек.
Чего только не предпринимала Наташа Садикова, чтобы оставить меня в сфере своего влияния. По ее просьбе Жанна Львовна организовала блатную группу, состоящую из друзей Наташи, которая была свободна и могла шататься по окрестностям. Мы играли в дочки-матери, где я был папой, а Наташа мамой. Мы ходили в Новый Петергоф на фонтаны, где Наташа просила меня укрыть ее от назойливых брызг Самсона. Мы купались в прозрачных водах прудов около Розового павильона, и в мраморной барской купальне заросшей белыми лилиями, которую нам под большим секретом показал в глубине заросшего сада, садовник Отто Мартынович. А потом подсматривали, как девчонки выжимают свои трусики.
Когда мы организовывались в поход на фонтаны, по пути обязательно заходили искупаться на Ольгин пруд. Он был очень мелкий, по берегам заросший тиной. Девчонки в тину лезть боялись, но просили нас принести белые лилии, из которых плели очень красивые венки. Посреди пруда возвышались два острова с развалинами старых зданий, разрушенных во время войны. Мы доплывали до ближнего к нам острова и лазали по развалинам. Однажды между камней показался размытый дождями кусочек мозаичного пола с красивым геометрическим орнаментом. Витька хотел справить на нем нужду, но я полез с ним в драку. Спор о правоте затянулся. Хлынул дождь и мы побежали прятаться в церковь Петра и Павла, в которой находился склад молочных бидонов. Мы сидели на бидонах и любовались росписями евангельских сюжетов на стенах. На фонтанах в будние дни совсем не было народу, и мы вольготно слонялись от одного фонтана к другому. Многие фонтаны лежали в руинах.
Прогулки к Бельведеру тянулись дольше. Мы шли вдоль цепи озер, питающих водой Петергофские фонтаны, купались, отдыхали и, наконец, забирались на единственный среди ровных, бескрайних полей высоченный холм, усаженный липовыми аллеями. На самом верху холма красовалось здание в античном стиле с огромной парадной лестницей, колоннадами и таинственным названием Бельведер. Раньше, при царе Николае I, это был дом для отдыха царской свиты. На окрестных полях устраивали псовые охоты. Теперь во дворце была столовая для трудящихся и отдыхающих в доме отдыха. Если сильно везло, нас угощали компотом с пончиками и, набегавшись по холму, мы полями возвращались домой.
Но самым любимым для нас было путешествие в Ораниенбаум. Туда мы ехали на поезде, а это считай — путешествие в другую страну. С нами ехал кто-нибудь из старших ребят за вожатого и на кухне нам выдавали бутерброды. Чаще всего с нами ездила мамина сестра Люся. Она была старше меня на 8 лет и летом работала вместе с бабушкой. Поезд катился вдоль берега залива, иногда углубляясь в густую чащу леса. Апельсиновых деревьев, как это следовало из названия города, нигде не было, только дубы, липы и ели, но нам и этого хватало. Радости и так было выше крыши. Пока поезд стучал колесами, мы играли в садовника.
— Садовник, садовник какой цветок ты больше всего любишь? Розу.
— Ой — вскрикивала Роза — влюблена.
— В кого? В Тюльпан.
— Ой — вскрикивал Тюльпан.
С вокзала через дубравы парка мы долго шли пешком до Китайского дворца, бывшей загородной резиденции Екатерины I, каким-то чудом не тронутой фашистами. А там, вытаращив глаза и растопырив уши, мы скользили в огромных, как у Маленького Мука, войлочных тапочках по узорам сказочных полов, запрокинув головы, разбирали замысловатые рисунки стеклярусных панно и китайских ваз и спорили о том, что при коммунизме будем жить в таких же дворцах. И даже лучше.
В жаркие июльские дни мы часами грелись под солнышком на террасе солярия, откуда был виден Бельведер, и ветви старых лип протягивались над нашими головами, благоухая ароматом небесного мирра. Наташа искала моей взаимности и не находила. Она была мила и очень мне нравилась, но принцип был выше всего.
Однажды, чтобы выпендриться перед новой девочкой, появившейся в нашей группе, я полез на липу. Мы часто залезали на ветви старого развесистого дуба, стоящего посреди центральной поляны парка и, рассевшись по его мощным толстым ветвям, вспоминали сказки Пушкина или пели песни. Дерево, на которое я полез, тянулось вверх к солнцу. Я быстро вскарабкался на такую высоту, с которой мои друзья казались мне маленькими куклами из театра Карабаса. Все закричали, чтоб я спускался, а больше всех кричала новенькая. Она боялась за меня. Наташка молча плакала. Я полез выше. Окрест меня шевелились на ветру кроны деревьев, бархатными коврами зеленели поля, сверкали зеркалами пруды, вдали на холме возвышался своей колоннадой Бельведер. Вокруг со стрекотанием сновали стрижи. Я нащупал ногой ветку и полез еще выше. Ветка хрустнула и моя нога провалилась в бездну, я ударился головой о сук, затем на секунду повис на другом, который с хрустом треснув, пропустил меня к земле. Листья шуршали по лицу, а ветки хлестали, как розги. Сломав, пролетая, еще пару сучьев, я всем телом грохнулся на землю к ногам Наташки и новенькой. Меня полуживого отвезли в больницу. Академия была закончена.
Папа
В память о моём отце — Николае Игнатьевиче Ващилине
Папа всегда меня обнимал, подбрасывал и целовал помногу раз в глаза, лоб и уши. Я с раннего детства эти нежности не любил и стеснялся. Чем старше я становился, тем больше наши отношения выглядели по деловому скупыми. Когда пилили и кололи дрова во дворе, когда носили и складывали их в поленницы, когда копали картошку в деревне у бабушки и грузили мешки в телегу. Такие нежности мне были по душе.
Мой отец родился 2 февраля 1917 года на севере Украины в селе Семеновке Глуховского района Сумской области. Полесье. Унылое местечко. В семье Игната было пятеро детей: Григорий, Евграф, Ольга, Николай и Лидия. Общинный промысел в деревне — пасека, пчелы, мед и воск — вощение. В Петрограде совершилась буржуазная Февральская революция, а потом и октябрьская большевистская, возвестившая зарю новой эры. Отец с детства воспользовался ее благами. Когда в Украине начался голодомор, отец подался в среднюю Азию и осел в Сталинобаде. Обучался в ФЗО (училище фабрично-заводского обучения) по специальности радиомеханик, а потом от военкомата в 1934 году окончил курсы шоферов. В то время шофера были такой же почетной профессией как 1960-е — космонавты. Шоферам выдавали кожаные краги, кепи и куртку. Поглазеть на машину собирались толпы зевак. В 1936 году со своим туркестанским другом Колей Клычевым по кличке Хан, отец пошел в армию. Они вместе так и воевали две войны.
Отец отвоевал Финскую войну и пошел на Вторую мировую. Прошел на танке в 150 танковой бригаде до Берлина. Вернулся с войны в орденах и без единой царапины. Маму мою встретил на фронте в январе 1944. На её груди ярко сиял новенький орден Красного Знамени. Но не он привлёк папу. Ярче ордена притягивала отца её печальная улыбка. Мамин первый муж Еремей погиб 28 июля 1943 года в бою за деревню Малая Углянка Смоленской области у неё на глазах. Папа год писал ей письма, прислал свою фотографию, а когда вернулся в 1946 году, они поженились.
Сыграв скромную деревенскую свадьбу и зачав меня, мои родители оказались на станции Локня Псковской губернии, куда мамину семью от родной Опочки загнала война. Папины родственники разъехались по стране. Один брат Григорий в Подольск, другой Евграф в Алма-Ату, а сестры остались в Украине, в городе Казатин. Отец нашел работу на локнянском молокозаводе и стал единственным кормильцем. Семья моей мамы была поражена в правах и не могла работать.
Деда Якова, маминого отца, в 1943 расстреляли смершовцы, как врага народа. Он был дорожным мастером. После очередного отступления дед закопал кусок сала во дворе дома, где остановились на постой. Тут немцы насели. Наши отступали так быстро, что дед сало выкопать не успел. Когда голод подобрался к самому горлу и двое детишек Люся и Толя помирали, дед перешел линию фронта, выкопал свое сало и поделился им со своим дружком Лисициным. А тот, пялился на его жену и на деда донес в СМЕРШ. Деда расстреляли без суда и следствия и закопали в лесу.
После войны стране по зарез нужны были рабочие руки. Восстанавливали города и заводы. Приехав в 1949 г. со мной на руках в г. Ленинград, отец устроился управдомом, но получив служебную жилплощадь, нашел себе в утешение место шофёра на грузовой полуторке. Отец разговаривал с ней, как с живым человеком, похлопывая машину своей ладонью по деревянным бортам кузова и железному капоту. Когда он проезжал по 3-й линии, вся детвора нашего двора набивалась в кузов и тряслась на дощатом полу по булыжной мостовой до угла с Малым проспектом, а потом, обсуждая удовольствие, возвращалась домой. Я шел очень важным и если кто-то передо мной не заискивал, грозился в следующий раз его не взять. Трудно тогда было понять, что отец заезжал домой на грузовике вовсе не случайно, и не по пути, а выкраивая дорогие рабочие минуты, чтобы прокатить сыночка с дружками.
Но верность и любовь наша была взаимной. Отец часто приходил после работы пьяный. Тогда, после войны, на каждой улице было множество пивных ларьков, подвальных рюмочных и закусочных. Пивные ларьки стояли на углах улиц, как скворечники, обвитые черными хвостами очередей рабочих мужиков с пересохшими глотками. В очередях толпились герои войны с медалями, но без рук или ног, и пили за победу над Германией. Вспоминали подвиги, проклинали Хрущёва, осмелившегося очернить имя генералисимуса Сталина. Спорили, за кого Жуков. Маршал Победы тоже был унижен на глазах его верных солдат. Правда многие из них молчали в тряпочку и на поверку оказались не такими уж и верными. Отец не мог пройти эти ловушки и доползал к дому уже по стене, часто падая на тротуар и, отлеживаясь у ног прохожих, до следующего марш-броска. Прохожие реагировали на это привычное зрелище спокойно, но пацаны гоготали и устраивали надо мной посмешище. Не смотря на косые взгляды и фырканья прохожих, я никогда не бросал отца на панели, волок его домой на своих детских плечах и укладывал на топчан. Матери ругаться не позволял, хотя самому мне очень не нравилось, когда отец был пьяный и терял над своим телом контроль. Однажды мать его не пустила домой, выгнала пьяного на улицу. Он уехал спать в гараж. Узнав о случившемся, я поехал в гараж на троллейбусе и уговорил отца вернуться.
В 1957 году отца посадили в тюрьму. Люди от нас отвернулись, а пацаны дразнили меня тюремщиком. Я терпел и дрался с обидчиками. Отец оставался для меня непогрешимым. Тогда я не понимал, что он заступился за своего полководца Сталина и у пивного ларька обозвал Хрущёва недобитым кукурузником. Два года мы, потеряв в доме опору, страдали и сидели на голодном пайке. Но каждый месяц мы с мамой носили отцу передачи. Срок он отбывал на лесопавале в Коми и вернувшись из тюрьмы все вечера проводил у нашей печки.
Дома, у тёплой, потрескивающей поленьями, печки мы с отцом часто играли в шахматы или читали вслух книги. Моды смотреть телевизор не было, потому что не было телевизора. Из Германии отец привёз майоликовую пивную кружку с барельефами пьющих немок и немцев и надписью «DRINK IN RUHE IMMER ZU», патефон и несколько пластинок. Трофеи — дело святое. От этого и отец к ним относился с трепетом, берёг для будущих внуков. Оловянную крышку от пивной кружки я отломал быстро. Пластинки царапались стальной иглой и нещадно бились, выскальзывая из отцовских натруженных рук, когда он, заложив за воротник винца, неуклюже снимал их с патефона. У отца надолго портилось настроение. Но я, с завидным упорством, выпрашивал концерт и наша комната наполнялась волшебным голосом Энрико Карузо. Все пластинки, захваченные отцом у врага в отместку за пролитую кровь, были оперными. Мы усаживались в обнимку на оттоманке перед печкой и слушали сквозь слёзы арии на немецком и итальянском языке. Захваченные отцом в Германии «Царица ночи», «Аида» и «Тоска» искали место в моей душе среди бравурных маршей энтузиастов. Когда трофейный патефон не выдержал пыток и взвизгнул лопнувшей пружиной, пластинки долго лежали молча. Потом мы купили радиоприёмник «Латвия» с проигрывателем и вернули к жизни всех любимых певцов и певиц. В репертуар семейных концертов всё чаще включались Ив Монтан, Леонид Утёсов, Лидия Русланова и Марк Бернес. Оперные пластинки начали на нас шипеть и в конце концов все перебились. Последним грохнулся «Отелло». Папа судорожно искал повод обвинить во всём меня, но не найдя громко возопил «Твою мать!», косвенно объединяя нас с мамой в один партизанский отряд. У отца пропал соратник в его спорах с мамой о ревности. Сладкоголосое пение Дездемонны в ответ на вопрос о молитве, служило ему веским аргументом в правильности его взглядов на этот вопрос. Внукам не суждено было насладиться военными трофеями своих предков. Правда, из под пластинок осталась очень красивая коробка с изображением грамофона и собаки на крышке. Мама отдала мне её под коллекцию открыток и прочего детского хлама. Плохо понимая, кто такие внуки, я её старательно хранил от напастей.
По воскресеньям мы с мамой и папой, чистенько и нарядно одетые, гуляли по набережной Невы от сфинксов до Стрелки и ели мороженое в вафельных стаканчиках. Иногда посещали ЦПКиО с качелями, стрелами и «комнатой смеха», где кривые зеркала делали из нас уродов, а мы, глядя на свои отражения, катались со смеху.
Ходить в кино с родителями мне было скучно, но вот ездить с отцом на футбол, это другое дело. Трамваи, которые шли на стадион имени С. М. Кирова, были переполнены. Народ висел на трамвае, как гроздья винограда. Отец обхватывал меня своими сильными руками и висел на них, держась за поручни. Мне было очень страшно, особенно, когда трамвай разгонялся на прямой и земля мелькала, превращаясь в сплошную ленту. Потом тесной толпой мужики двигались по центральной аллее, заполняли до отказа стотысячный стадион и драли глотки полтора часа, подсказывая футболистам «Зенита», как надо играть. А после матча, понурые и пьяные брели обратно, перемалывая своими языками кости вратарю Леониду Иванову, который пропустил в ворота «Зенита» плёвый мяч.
Иногда на папином грузовике мы выезжали за город, в лес, на рыбалку. Я ехал в кузове, мама в кабине. Я лежал и смотрел в небо, мечтал. По дороге в лес для меня было одно испытание. Нужно было купить в магазине хлеб. Посылали меня. Упираться я не мог. Но идти в магазин в затрапезном лесном одеянии было для меня тяжким испытанием. До краски на щеках меня смущало — что скажут люди?
Самой большой страстью в те времена у советских людей были рыбки и голуби. На рыбок можно было ходить любоваться в зоомагазин. Но потом отец изловчился и где то достал мне аквариум. Дело было зимой, и меня уговаривали подождать и купить рыбок летом, когда будет тепло. Но вытерпеть до лета или даже до весны я не мог. Я поехал на трамвае в зоомагазин к Сытному рынку. Купив рыбок, я спрятал банку за пазуху под пальто и дотащился домой, изрядно забрызгав штаны и свитер. Часть рыбок типа скалярии не выдержав питерского мороза и вскоре издохла. Но остались и те, которым северные ветры показались не страшнее ураганов родной Амазонки. Это разноцветные гупии и красные меченосцы. Их я и кормил мотылем долгие годы, протирая свои глаза красотой их разноцветных боков.
Почти что в каждом дворе местный «зоотехник» устраивал на крыше дома голубятню. Можно было часами смотреть, как голуби кружат по небу, но рассмотреть их вблизи удавалось редко. Торговали голубями на птичьих рынках. Стоили они дорого и нас к ним не подпускали. Вокруг голубиного дела бушевали криминальные страсти. Бандиты — народ сентиментальный.
Когда отец возвращался с работы рыбки начинали метаться по аквариуму из угла в угол, кот крутился возле него со вздыбленным хвостом, а бабушка неслась на кухню и накрывала на стол. За обедом она ласково называла отца кормильцем и подсовывала ему самые большие куски. Я не понимал этих политесов. Для меня кормилицей была бабушка, которая пекла такие блинчики, что я проглатывал с ними свои пальцы. От отца я ждал чудес.
Однажды к нам в гости приехал из Туркестана папин фронтовой друг Коля Клычев и, по просьбе отца, привез мне в подарок голубя неземной красоты. Он был белый с хохолком и мохнатыми лапами. Турчак. Жил он у меня дома в клетке для птиц, но я мучался, понимая, как ему хочется полетать над Ленинградом.
Дворовые друзья приходили полюбоваться моим голубем и позавидовать мне. Остальные довольствовались слухами и подстрекали меня вынести голубя на улицу и дать ему полетать. Они уверяли меня, что он вернётся ко мне, потому что он, судя по описанию, почтовый, а они всегда возвращаются домой. Наконец я не выдержал и вынес своего красавца во двор. Его, конечно, все стали трогать и просить подержать в своих руках. Чтобы не прослыть жадиной, я передавал голубя из одних рук в другие. При очередной передаче голубь взмахнул крыльями и взмыл в небо. Все ахнули. Я онемел. Неужели это конец. Голубь покружил над нами и сел на трубу соседнего пятиэтажного дома, сверкая своей голубиной белизной. Я заорал как резаный. Дети разбежались по домам, чтобы на них не пала вина. На крик вышел отец. Посмотрел на меня, на голубя, потрепал меня по волосам.
— Ладно, Никола. Пусть летает на воле.
— Нет, — заревел я.
— Ну, пойдем, попробуем его поймать.
Мы с отцом поднялись на крышу дома через чердак, на котором с бабушкой развешивали сушиться стиранное белье. Голубь спокойно сидел и вертел хохлатой головой, поглядывая на нас, то одним, то другим глазом. Отец начал медленно продвигаться по крыше к трубе, на которой сидел голубь. Он подошел к нему и стал плавно протягивать руку. Голубь спокойно сидел, и, казалось, был рад встретиться с нами на такой высоте под облаками. Потом, не делая лишних движений, он, как бы падая, плавно отделился от трубы, и начал парить в воздухе, перелетев метра три над пропастью между домами, на соседнюю крышу. Мы с отцом спустились по лестнице и снова поднялись на крышу пятиэтажного дома. Голубь нас ждал, чтобы поиграть с нами. На четвертой крыше сумерки сгустились уже так, что мы еле различали его на ржавом железе дымоходной трубы. На этот раз он не стал дожидаться нашего приближения, взмыл в небо и начал кружить над нами, сверкая своей белизной в лучах заходящего солнца и поднимаясь все выше и выше, пока совсем не исчез из виду, оставив о себе сладостные воспоминания.
Мама
Моей дорогой мамочке — Александре Яковлевне Ващилиной /в девичестве Григорьевой/
После смерти Сталина в мозгах людей что-то сместилось. С ним легче переживались послевоенные тяготы и оставалась вера в то, что еще чуть-чуть и станет совсем хорошо. Раз уж мы с ним Гитлера одолели, то разруху…
Никита Хрущев конкуренции со Сталиным в сердцах народа не выдерживал. Народ роптал. Не остывшее после войны, достоинство человека раскрывало многие рты для резких слов в адрес, пришедшего в 1954 году, правительства. Возмущение народа вырвалось наружу после речи Хруща о культе личности Сталина и его зверствах. Те, кто сидел в лагерях, были рады, но те, у пивных ларьков, встававших в атаки из окопов с криками «За Родину! За Сталина» принять это не могли и сильно роптали. Правда не все. Нашлось много и молчунов, а ещё больше — доносчиков. Мой отец сдержанностью не отличался и проехав на танке до Берлина считал, что заслуживает лучшей доли. Об этом и ляпнул где-то, то ли на работе, то ли у пивной. Скрутили его быстро. Пришили дельце о воровстве досок, да еще групповое. Начальника и сослуживцев, которые встали на его защиту вписали в одну преступную группу, а по групповому давали больше. Как-то утром в наш подвал пришли с обыском, искали деньги, но кроме мышей да клопов ничего не нашли, но отца забрали. Так он оказался в Крестах, а я услышал презрительное прозвище — тюремщик и бойкот дворовых товарищей.
Однажды, в школе за оскорбление я вступил в драку, толкнул обидчика и он разбил своей крепкой головой горшок с цветами. Маму вызвали в школу и заставили купить новый цветок. Мама купила, но меня ругать не стала.
Вскоре мы с мамой поехали на трамвае номер шесть к Финляндскому вокзалу и долго ходили по берегу Невы вдоль высокого кирпичного забора. За забором высились мрачные краснокирпичные здания с множеством маленьких одинаковых окон с решетками. Когда я, десятилетний пацан, замерз на студеном Невском ветру до дрожи, в одном из этих окошек кто-то замахал белой тряпочкой.
— Вон, папа, сынок, — показала рукой мама.
Я заплакал. Мне ничего не было видно, но я помахал невидимому папе рукой и на кого-то очень сильно обиделся. Я знал, что мой папа честный. Потом мы носили папе передачи, выстаивая длинные очереди. Народу сидело много. Город начали чистить от ненужных «элементов», вышвыривая их поганой метлой за 101 километр. Пусть там рассуждают и бьют себя в грудь с орденами, думали эти чистильщики.
Потом нам дали свидание. Папа очень похудел и был острижен наголо. Он говорил нам, что не крал никаких досок, что все это ложь. Просил, чтоб я помогал маме и берег ее. Потом мы ходили на суд и видели, как отца погрузили в воронок, а вместе с ним еще троих сослуживцев и отправили на два года на лесоповал в Коми автономную советскую социалистическую республику. Оттуда он нам прислал фотокарточку, а мы ему каждый месяц посылали папиросы «Беломорканал».
На лето мы с мамой поехали в Вырицу на дачу с детским садом, в котором она работала. Я был приписан к группе и основное время проводил в обществе сверстников. Но иногда мама забирала меня из группы пожить на воле. От этой свободы ничего не было нужно, кроме самой свободы. Я слонялся по пустынным, полуденным улицам Вырицы, сидел на берегу Оредежа, наблюдая за замысловатыми полетами стрекоз и бабочек. Однажды, поднимая пыль своими сандалиями, я оказался около бревенчатой церкви иконы Казанской Божией Матери. Она высилась среди пустынного песчаного поля, окруженного забором. Вокруг никого не было. Жаркий полдень, тишина, стрекот стрекоз и саранчи. Я поднялся на крыльцо церкви и вошел в храм. Полумрак храма прорезал солнечный луч и освещал иконы резного деревянного иконостаса. Я сел на ступеньки лесенки, ведущей на хоры. Из полумрака появилась женщина в черном одеянии и начала гасить свечи на подсвечниках.
— Что тебе надобно, хлопчик?
— Помолиться хочу.
— Иди, молись Богородице.
Я подошел к иконе Казанской Божией Матери на амвоне и начал шёпотом просить Богородицу помочь в тюрьме моему папе.
Мама моя родилась 27 апреля 1923 года в деревне Барсаново, что в пяти километрах от города Опочки. Россию заливали кровью коллективизации. Оголодавшие пьяницы и бездельники застрелили моего прадеда Антона, который во время продразверстки припрятал муки для своей многодетной, в семнадцать ртов, семьи. Но семья выжила. Два мешка муки, которые прадед утопил в потайном месте реки,«кроваво-красные соколы» не нашли.
Детство мамино прошло в тяжелом крестьянском труде и прилежной учебе. В Великих Луках она закончила зубоврачебную школу, встретила свою любовь — Еремея и вышла за него замуж. Счастье было не долгим. Началась Великая Отечественная война, и восемнадцатилетняя Сашенька с мужем Еремеем пошли на фронт. Воевали в одном полку в разведроте под Смоленском. Там Еремея убили у мамы на глазах. Страдала о нем она долго. Папа ревновал. Видимо, ревность свою и заливал огненной водой. Тогда понять мне это было трудно.
У мамы на иждивении кроме меня была еще младшая сестра Люся, которая училась в школе, и моя подслеповатая бабушка Аня. Чтобы нас всех прокормить мама стала подрабатывать на второй работе. Она работала зубным врачом и медсестрой в больнице. Потом мама купила бормашину и стала лечить зубы людям дома. Часто, опасаясь доносов соседей о нелегальном труде, мы ездили с этой бормашиной к, больным зубами людям, в их квартиры. Тогда мы с мамой тащили бормашину вдвоем. Помогал я маме во всем. Мыл дома полы, топил печь. Пока мама лечила гнилые зубы нашим согражданам, выручая по пятнадцать рублей за пломбу, я гулял по дворам незнакомых домов. Мне это нравилось больше, чем гулять во дворе своего дома. Во-первых, попадались разные интересные ребята и девочки, а во-вторых, меня никто не обзывал тюремщиком, потому, что этого никто не знал. В пристенок и другие азартные игры с деньгами играть мама мне не разрешала. Поэтому чаще всего я играл с девчонками в магазин или в больницу. Где-то удавалось погонять в колдуна или в пятнашки.
Иногда во дворы заходили точильщики, выкрикивая истошными голосами свои призывы «Ножи точить!». Я не мог отвести глаз от искр, которые снопом вылетали из-под лезвия затачиваемого ножа. Мне мерещились искры бенгальского огня, новогодняя елка, увешанная мандаринами и грецкими орехами в фольге и папа с ватной бородой, изображающий деда Мороза. Мне казалось, что точильщик, как дед Мороз, может исполнить любое желание и я шептал сквозь слезы: «Верни мне папу».
Раз в месяц мы с мамой ходили на прием в Исполком. Мама брала меня, чтобы разжалобить начальника и встать в очередь на жилплощадь. Очередь и без нас была огромной, на десятки лет томительного ожидания. Но без очереди вообще кирдык. Начальник допытывал маму, где она воевала и сколько раненых спасла. Искал повод отказать.
Второй Белорусский фронт, Смоленск, слышали? — оправдывалась мама, показывая ему истлевшую книжку красноармейца. — А разве было время считать раненых, товарищ? Ведь пули кругом свистят, снаряды рвутся. Я его тащу, а он в три раза больше меня и кровью истекает. Я, что должна была остановиться, сказать, подожди браток я тебя только в книжечку запишу, ты у меня сорок первый. Я и сейчас сутками больных лечу, сына, вот, некогда увидеть. Сам растет, улица воспитывает.
— А где орден ваш «Красного Знамени»?
— Сын на фантики променял, а документы наводнение испортило.
— Плохо, гражданочка! Вот документики надо восстановить. Пишите в Министерство обороны СССР. Пусть дубликат присылают.
В конце концов, в очередь на жилье нас поставили, заронив на многие годы терпение и надежду на светлое будущее.
От одиночества и от нападок я чувствовал себя беззащитным и упрашивал маму купить мне друга — щенка. Мама долго упиралась, объясняла, что его кормить нужно мясом, а нам самим есть нечего. Но потом сдалась. У ее подруги в Вырице немецкая овчарка Астра принесла щенков, и она одного нам подарила. Радости моей не было конца. Я поехал на своем велосипеде «Орлёнок» забирать щенка. Когда я стал уезжать, положив щенка за пазуху, Астра сорвалась с цепи и, звеня обрывком, болтавшимся у нее на шее, настилом бросилась за мной. Хозяйка, увидев эту сцену, окриком позвала Астру и та, послушно повернула к ней, подарив мне жизнь и своего «ребёнка».
Щенка мы назвали Найдой. Найденой, значит. Я с ней гулял, спал, ел и слушал радио. Она росла быстро. Не по дням, а по часам. Я бегал на рынок и выпрашивал у торговцев для неё кости. Но мясо ей все равно приходилось покупать. Через полгода мама не выдержала и решила отдать ее в хорошие руки. Нашла знакомых, которые хотели собаку. Пришел дядька из собачьего питомника. Найда забилась под кровать. Ее достали, взяли на поводок и повели. Она села, уперлась передними лапами. Мужик тащил ее, как на лыжах. Я заорал. Найда завыла. Мама обняла меня, и мы вместе рыдали. Ночью у меня поднялась температура, и мама крутилась возле моей кровати с лекарствами. Утром в дверь кто-то заскребся. Мама открыла. Найда сидела и вертела головой, не понимая, что это за игра, правильно ли она сделала. Мы бросились ее целовать, и она прожила у нас еще месяц. Есть перестала мама. Смотрела, как я ем и говорила, что она не хочет, нет аппетита. Тогда Найду отвел к дядьке я сам. Она шла нехотя, упиралась, скулила. Когда я позвонил и дверь открылась, Найда посмотрела на меня и вошла в квартиру. Я хотел погладить ее на прощание, но она не далась, забралась под кресло. На следующий день я пришел навестить Найду и поиграть с ней. Увидев меня, она поджала хвост и забралась под кровать. Больше я не приходил. Долго плакал по ночам под одеялом, чтобы не расстраивать маму. Мама тоже переживала и обсуждала планы ее возвращения. Так мы долго лечили раны, которые не залечиваются никогда.
Вся наша жизнь вертелась вокруг мыслей о возвращении папы. К папиному возвращению мне покупали новые ботинки, к папиному возвращению я учил стихи и песни, к папиному возвращению бабушка вязала долгими зимними вечерами теплый свитер, а мама вышивала на подушках цветы гладью и болгарским крестом. Маму и бабушку соседи тоже презирали и обижали байкотом. Мы держались во дворе особняком, уходили гулять вдоль линий Васильевского острова, любовались просторами Невы и мечтали о том, как все будет хорошо, когда вернется папа.
На праздники мы ходили к маминой подруге Лизе, которая жила в подвале не Среднем пр., 17. Мама брала меня, чтобы я поел вкусненького. Но я стеснялся и говорил, что есть не хочу. Но вот от бумажных игрушек, которые делал муж Лизы, китаец Сяо, я отказаться не мог. Когда они купили телевизор, позвали и маму. Мама, конечно, взяла меня. Народу в комнату набилось много. Пел Ив Монтан. «Сеть ун шансон…». Мама плакала и шептала мне на ухо, что он похож на папу. Я чувствовал себя таким одиноким, меня охватывала такая невыразимая тоска, что я падал на топчан и рыдал, пока не кончались слезы.
Больше всего на свете я не любил засыпать на своём топчане, когда мама с бабушкой закрывали меня одного, тушили свет и уходили на кухню стирать и готовить еду. Под полом, в зловещей тишине, начинали скрестись крысы, под окном нашего подвала шаркали ноги прохожих, а за стеной кряхтел и кашлял сосед, с маниакальной настойчивостью пытавшийся разрушить стену. Я долго лежал с открытыми глазами, а потом оказывался в этих кошмарах уже спящим. Во сне я видел как на папу замахивались палками охранники зоны, меня заталкивали между сараями паханы и пытались ножиком проткнуть мою курточку, крысиные полчища подбирались к моим ногам на топчане, а убежав от них на крышу нашего дома и поскользнувшись на крутом её скате я падал вниз в бездну с замиранием сердца и тихим, беспомощным стоном. Но каждый раз в самый последний момент перед моей неминуемой гибелью чьи то тёплые руки обнимали меня и я сладко засыпал под их покровом до самого утра, пока золотистые лучи солнца не заглядывали вскользь в наш сырой и тёмный подвал.
Когда вернулся папа, счастью не было конца. Мы долго показывали ему наши подарки, которые готовили к его возвращению. А он только наливал в гранёный стакан водочку, а потом начал кричать на маму. Папу не прописывали в Ленинграде и не брали ни куда на работу. Он целыми днями пропадал в пивнушках, которых заметно поубавилось. Один раз его пьяного забрали в милицию. Нас всех сковал ужас. Неужели все повторится. Но утром папу отпустили. Мы с мамой начали обивать пороги Большого дома на Литейном, 4. Очень большого. Больше, чем этот дом в Ленинграде домов не было. У милицейского начальника я жалости не вызывал, на что, видимо, рассчитывала моя мама. Зато я видел, как он косился своими сальными глазками на маму. Она у меня была очень красивая.
Мама писала письма Хрущеву, перечисляла кошмары фронтовых будней, свои и папины военные заслуги. Когда руки у всех опустились, а папа серьёзно запил, пришла бумага из Большого дома с разрешением ему жить в нашем подвале на третьей линии Васильевского острова города-героя на Неве. Мы все хотели запомнить миг этого счастья. Мы одели всё нарядное и пошли фотографироваться моим фотоаппаратом «Смена» на стрелке Васильевского острова.
— Улыбнитесь — попросил я.
Все заулыбались, а мама заплакала.
Есть город, который мне снился во сне
Папа устроился шофером на старую работу во Всероссийское театральное общество. В качестве исправительной меры после заключения его посадили на легковую машину. Так было подальше от соблазна, от ценных грузов. Да и зарплата на легковушке была значительно меньше. Но мне это даже больше нравилось. Кататься на «Победе» было куда как интереснее. Да и катал он меня теперь подальше, на озеро Отрадное, когда по субботам отвозил на дачу своего начальника Юрия Толубеева. Видимо, тот был добрый дядя, разрешал отцу иногда брать меня и мы в дороге играли и дурачились с его сыном Андрюшкой. Эти поездки на озеро были для меня желанными праздниками. И не только потому, что нам было весело с Андреем, но и потому, что рыбалка на озере мне напоминала лето в моей родной деревне.
Теперь на лето мы с бабушкой и Люсей ездили к родственникам в Опочку, в деревню Вересенец. Там жила бабушкина племянница Настя и у нее был большой дом. Деревня стояла на берегу реки Великой. А значит у всех были лодки. Летом в деревне работы много. Косить, полоть, пасти скот, доить, кормить, стирать, сажать, и только к вечеру деревенские собирались у реки. Отдохнуть, искупаться, полоскать белье. Мужики ловили рыбу. Но получалось не у всех. Я к рыбалке привязался сильно. Научил меня этому делу сосед дед Залога, бабушкин дальний родственник. Я помогал ему ставить сети, носить снасти и весла. А он учил меня разговаривать с рекой, то есть брать рыбу. Сети он мне, конечно, не доверял. Но лодку с некоторых пор стал давать. Лодка была длинная и узкая, как индейская пирога. И управлялась одним длинным веслом. Свернуться с непривычки в воду с такой лодки было очень просто. Но когда я поднаторел, он мне стал давать лодку. И я стал рыбачить самостоятельно. Ловил я на удочку и спиннинг. Уплывал далеко вверх по течению, а потом сплавлялся, забрасывая спиннинг. Но сначала нужно было поймать живцов на удочку и, поднимаясь вверх по течению, поставить на живца жерлицы в заветных местах омутов и плесов. А потом, сплавляясь по течению и нахлестывая спиннингом, проверять расставленные жерлицы — нет ли чего? Сплавляться вниз по реке для меня было большим удовольствием. Ниже по течению, недалеко от Пскова, построили гидроэлектростанцию, и река разлилась, затопив пойменные луга и леса. Течение в старом русле, в старице, несло воду напористо, а в разливах вода струилась медленно и величаво, а где-то и вовсе останавливалась в глубокие темные омуты, окруженные высокими лесистыми берегами. Сплавляясь, я любовался причудливыми пейзажами затопленных лугов и почти машинально хлестал спиннингом, забрасывая блесну между ветвями засохших деревьев, пока тугой рывок поклевки не возвращал меня из грез к реальной жизни. Тогда я подсекал щуку и тащил ее, бешено трепыхающуюся и сверкающую своим белым брюхом. На реке я пропадал от зари до зари и, чтобы не умереть с голоду, приходилось выбираться на берег и, разведя костер, готовить себе нехитрую еду. Вечером к реке сходилось, сползалось, слеталось лесное братство напиться студеной водицы, поплескаться, почистить перышки. Возле деревни слышался гомон ребятишек, бабы полоскали белье, мылись, запасались водой для бани. Я ловил так много рыбы, что бабушка продавала ее на базаре или выменивала на другие необходимые продукты у соседей. И ласково звала меня кормильцем. Вечерами все собирались у самовара и пили липовый чай с медом и с сухарями. А потом пели песни.
Во субботу в день ненастный нельзя в поле работать… По субботам мы с Люсей ходили в соседнюю деревню в клуб. Приезжала кинопередвижка и показывала кино. Фильмы всегда были старые, но мы их все равно смотрели. Когда устраивали танцы под гармонь, танцевали только девочка с девочкой. Парни, видимо, стеснялись и находили себе дело только с папироской. Однажды, возвращаясь из клуба, мы попали в грозу. Молнии полыхали рядом с нами, дождь стеной, а от грома разрывались уши. Мы шли полем, и укрыться было негде. В дерево ударила молния, и оно заполыхало благодатным пламенем. Мы припустили к дому со всех ног. От страха мы кричали молитву «Отче наш…». Дома бабушка достала из печи гречневую кашу и топленое молоко. За окном хлестал дождь и слышались раскаты грома, а на печи было тепло и уютно и сон смыкал веки. Утром я понял, что знаю молитву наизусть.
Вскоре от мамы с папой пришло письмо. Мама решила отвезти нас с Люсей к морю. Она часто напевала песню Леонида Утесова «Есть город, который я вижу во сне…» Это стало ее мечтой. И мы поехали в Одессу. Первый раз в жизни я увидел море. Оно поразило меня своей величиной и мощью волн. Я бросился в волны и чуть не утонул. Волны откатывали от берега с такой силой, что я не мог до него добраться, выбился из сил и начал тонуть. Папа успел меня поймать и вытащил на берег. Я же оказался виноват в том, что волна такая большая. В Одессе мы снимали комнату на Фонтане. По дороге к морю я выпрашивал у мамы купить початок вареной кукурузы почему-то называемой «пшенкой» и уплетал ее как шоколадную конфету. Часто мы ходили на Привоз. Глаза разбегались от множества продуктов. Мама долго выбирала, что подешевле, торговалась. Как-то купив баклажаны она, отходя от прилавка, споткнулась, уронила корзинку и они покатились по земле по все стороны.
— Тётенька, почем брали синенькие, — съязвил одесский торговец. Мне было стыдно, но я ползал и собирал баклажаны.
Чтобы погулять по Дерибасовской, нужно было ехать на трамвае. Больше всего мы любили гулять по Английской набережной возле гостиницы «Лондонская». Оттуда открывался прекрасный вид на море. Когда отпуск у папы закончился и он уехал на работу, мы с Люсей каждый вечер бегали в парк на танцплощадку. Там было много моряков и, когда ее провожали, она говорила, что я ее сын, а муж — капитан дальнего плавания.
Осенью Люся пошла на работу медсестрой и денег в семье стало так много, что мама не знала, чтобы еще купить. В это самое время маму с папой за заслуги перед Отечеством на войне определили в очередь на получение от государства квартиры. А пока очередь не подошла нас переселили из подвала в шикарную огромную комнату с высоченными потолками, ванной комнатой и еще двумя интеллигентными соседями. Нашей радости не было конца и мама потащила меня в магазин, чтобы я помог ей выбрать и принести ковер. В то время ковер был символом уюта и достатка. Мы выбрали ковер и, свернув его в трубочку, положили на плечи, как бревно, и потащили через весь квартал домой. Дружки из старого двора надрывали животы и показывали на меня пальцем. В завершении вещевого бума мы купили телевизор КВН-49 за девятьсот пятьдесят рублей с круглой линзой, которая увеличивала изображение крошечного экрана. Мы, наконец, приоделись. Папе купили пальто из синего драпа и коричневый костюм в тонкую полоску. Маме купили бежевое габардиновое пальто.
Нарядные и счастливые мы поехали на открытие метро. Очередь растянулась по Невскому на два квартала до площади Восстания. Кто-то в очереди сказал, что раньше эта площадь называлась Знаменской потому, что здесь была церковь Знамения Божией Матери. Но ее взорвали и на ее месте сделали станцию метро. Бабушка заохала и сказала, что ни в какое метро не пойдет. А когда увидела, куда опускается эскалатор, начала плакать и причитать. Спустившись в метро, мы все поняли, что до коммунизма осталось ждать недолго. Подземные станции поражали воображение. Своды в мозаиках, голубые поезда, улетающие в норы и через считанные минуты доставившие нас на другой конец огромного города. На станции «Автово» хрустальные колонны светились изнутри как в сказочном дворце.
Люсю стал провожать ее новый друг Вася. Он был очень приветливый и добрый. Они часто брали меня с собой в кино. Я был очень рад этому и не подозревал ничего плохого. И вдруг Люся сказала, что она выходит за Василия замуж и уезжает с ним жить на Север, в Североморск. Вася стал военным врачом и его послали служить на Северный флот. Люся была мне как старшая сестра. Мы с ней все делили и всем делились. Мама была очень рада. Она сшила Люсе белое подвенечное платье, приготовила вкусной еды и мы сыграли свадьбу. Гостей было немного. Все кричали «горько» и Вася целовал мою Люсю у всех на глазах. С кем я буду делать уроки? С кем я буду гулять? Я так скучал без Люси, что на зимних каникулах мама посадила меня в поезд, и я поехал в Мурманск. Люсе дали телеграмму. Она поехала меня встречать, но опоздала, и я сам добрался до Североморска. Бабушка ждала меня с моими любимыми картофельными лепешками. В детской кроватке моргала синими глазками недавно родившаяся Люсина дочка Юля. Я увидел изумрудное Баренцево море, военные корабли, подводные лодки, на которых Вася уходил в плаванье к берегам США. Проснувшись однажды и съев бабушкиных лепёшек, я вышел на хрустящий снег полярной ночи и обомлел, увидев разноцветные зарева северного сияния. Я понял, что что-то случилось. Разрушилось единство нашей семьи. Пришла новая жизнь. Мне непонятная и неизвестная. И всё, что было до этого, осталось только в моих снах.
«Кружки» и «стрелки»
Рос я, подрастал не по дням, а по часам. Игрой в кубики или в песочные куличи меня было уже не занять. Колдуны и прятки тоже перестали будоражить воображение и заученные считалочки типа «стакан, лимон, выйди вон…» не сулили заветной минуты торжества детского тщеславия. И чтобы я в познании человеческого бытия ненароком не свернул на звериную тропу, нужно было организовать мой досуг. Школа в те годы досугом своих учеников занималась мало, зато на девятой линии был Дом пионеров и школьников, в котором можно было найти множество кружков и спортивных секций. Туда мама с бабушкой и повели меня на «примерку».
В расписании кружков и секций внимание моих родителей приковал кружок игры на баяне. Бабушка в молодости больше жизни любила гармониста Колю в своей деревне и готова была выйти за него замуж. Но когда дело дошло до церкви, то батюшка им запретил встречаться, так как они оказались родственниками. С этой не спетой песней в своей груди бабушка жила всю жизнь и готова была выложить все свои сбережения на покупку баяна. Бабушкина взяла. Мы пошли на седьмую линию в магазин культтоваров. Баян выбирали недолго, нужно было решить какой брать: красный или зеленый. Я выбрал зеленый. Никто не спорил. Когда мы пришли в кружок игры на баяне, добрый, но лысый дядя настучал на клавишах рояля какую-то песенку и попросил меня повторить. Я подумал, что он шутит. Еще ничему не научил, а уже заставляет сыграть песенку, да еще на рояле. Это же не баян. Я нехотя нажал несколько клавиш, чтобы только с ним не спорить.
— Нет, — сказал он бабушке. — У вашего ребенка абсолютно нет слуха.
Бабушка загрустила. А я, облегченно вздохнув, успокоил её нашей любимой считалочкой:
— Баян, лимон, выйди вон.
Баян бабушке пришлось возвращать в магазин.
На этом же этаже мы зашли в другую комнату с зеркалами и поручнями вдоль стен. Это был кружок бальных танцев. Тётя в черном трико, смачно обтягивающем её формы, попросила меня что-нибудь станцевать. Я сбацал «яблочко» с выходом и присядкой, модное в нашем дворе. Тёте понравилось и меня взяли. Но пока мы разучивали Молдаванеску, и я крутился и прижимал к себе Таню Федоровскую из соседней школы, я так подрос и растолстел, что меня из кружка исключили за профнепригодность. Но любовь к Тане еще долго жила в моем мальчишеском сердце и я ходил к их школе, чтобы ненароком встретить её и проводить до дома. Приходилось стыкаться с пацанами из Таниного двора, и если бы не её брат Юра, который встал на мою сторону, мне пришлось бы туго. Быстро бы они отбили мою любовь к Тане. Впрочем, Таня и сама не отвечала мне взаимностью и мы с ней вскоре расстались. На память о Тане мне осталась Молдаванеска с тем магическим аккордом, на котором я должен был выбежать из хоровода в центр и прижать её к себе, усадив на своём колене. Зато я подружился с её братом, да так крепко, что он пригласил меня к себе не день рождения. А это было важным знаком.
На свой день рождения я приглашал со всего двора только четверых друзей. Мой друг Вадик Крацкин подарил мне клайстер с марками. Женька Золотов, сын нашей дворничихи тети Тони, бамбуковую палку, Вовка Бедик — книгу «Аврора уходит в бой», а Вовка Захаров — красную эмалевую звезду от офицерской фуражки. Мы съели пирог и стали рассматривать подарки. Все это теперь было мое, а пацаны, разглядывая свои вещи, нехотя прощались с ними навсегда.
С Юрой мы записались в конькобежную секцию на «Динамо» и сошлись на общем интересе к почтовым маркам. Мы оба были больны страстью к их собирательству. Марки можно было выменять в обществе филателистов, которое собиралось по воскресеньям во Дворце культуры им. С. М. Кирова, можно было выменять у пацанов в школе или купить в магазине «Филателия». Мы ходили друг к другу, разглядывали под лупами свои марки и мечтали о тех странах, откуда они прилетели на почтовых конвертах. Уже не помню, с какого это лиха я раздобрился и Юрке на день рождения совершенно бескорыстно подарил всю свою коллекцию марок в двух замечательных альбомах. Вскоре мы с ним тихо расстались навсегда, без ссор, без драк, без сожаления.
Изгнанный из кружка танцев, я, униженный и оскорбленный, ошибся дверью и забрел в подвал дома пионеров, где находился фотокружок. Там в красной темноте ребята сновали из одной комнаты в другую.
— А чего это вы здесь делаете? — спросил я, зайдя в одну из комнат. Комната была освещена глухим красным светом, а на столах стояли глубокие ванночки с какой-то прозрачной жидкостью.
— Гляди сюда, — сказал Сашка из нашей школы и опустил в жидкость белый лист бумаги. На нем тут же начали проступать лица пацанов, которых я знал по школе.
— Чудеса! — подумал я. Хочу быть фокусником.
Но для этого требовался свой фотоаппарат. Я начал просить, чтобы мне его купили, и на десятый день моего рождения мне подарили фотоаппарат «Смена» за 110 рублей. Была еще «Смена-2» с автоспуском, но она стоила 130 рублей, а двадцатка для нашей семьи тогда была целым состоянием. Так я стал фотографом. В кружок мы могли прийти в любое время, проявить свою пленку, отпечатать фотографии и показать их Мастеру. Он делал замечания и указания, и мы исчезали в творческом тумане. Добавляли знаний и школьные уроки рисования, на которых учительница заставляла нас изображать на листах бумаги составленные её натюрморты и отображать форму предметов игрой света и тени.
Я был увлечен новым для меня делом и мог часами ходить по городу в поисках сюжетов. Город открывал мне свои красоты и мерзости. Я фотографировал городские улицы, красивые дворцы, соборы и памятники, своих друзей на их фоне, первомайскую демонстрацию трудящихся, направляющуюся по первой линий на Дворцовую площадь и военные корабли на Неве. Я фотографировал друзей, потому что они обнимались и были вместе и не мог сфотографировать лица врагов, потому что они прятались по разным углам и не попадали в один маленький кадрик моей «Смены».
Когда солнце пригревало настолько, что становилось душно в длинных портках, мы ходили купаться на Неву или на пруды Приморского парка Победы, стадиона им. В. И. Ленина, центрального парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова. Можно было купаться и на песчаном берегу у Тучкового моста, но нашим любимым местом был причал со сфинксами из древних Фив у Академии художеств. Прыгнуть в глубину леденящей Невской воды с гранитных ступеней причала Академии или Стрелки было куда забористей.
Часто веселиться и купаться нам мешали милиционеры и в отчаянные дни мы решались пойти купаться на пляж Петропавловской крепости, погреться у теплого гранита её стен, поглазеть на золотые блики ангела на остроконечном шпиле, уходящим в вышину небес. Но здесь было опасно. Можно было схлопотать звездюлей, нарвавшись на ватагу «петроградских». Они выбирали из нас главного, и самый мелкий из их шайки подходил к нему и просил закурить. Тот, естественно, его посылал, и начиналась драка, пока не подъезжали менты.
Мы на Стрелке их угощали тем же и поэтому были готовы к расплате. Эту подготовку мы проходили в своих дворах, выясняя отношения между собой до кровянки, то есть до удара, после которого у одного из дерущихся не хлынет из носа кровь. Тогда драку останавливали старшие пацаны и того, у кого текла кровь, отводили домой умываться. Родителям говорили, что парень бежал, споткнулся и упал. Сказать правду родителям было невозможно, непостижимо. Иначе во двор можешь больше не выходить. Ябиду забивали свои же.
Когда я приходил домой с разбитым носом на вопросы мамы не отвечал. Она чувствовала неладное и причитала, чтоб я не свернул на скользкую дорожку, не погубил себя и не опозорил наш род. Я её не слышал до тех пор, пока не посадили в тюрьму папу, и мы не сходили в Кресты к нему на свидание.
На стадионе имени В. И. Ленина на пруду установили десятиметровые вышки для ныряния. Как-то мы полезли посмотреть, высоко ли это и страшно ли. Разобраться не успели. Петроградская шпана нас всех столкнула вниз и долго гоготала, пока мы плыли к берегу. Такие наглые выходки наши не прощали. Собирали шайку васинских, человек сто, вооружали их камнями, велосипедными цепями и обрезками водопроводных труб, завернутых в газету. Вся эта толпа шла через Тучков мост и вываливалась на проезжую часть, наводя ужас на окружающих. Обычно в сквере у Успенского собора происходило побоище, которым начиналась затяжная война между васинскими и питерскими.
Мне это очень не нравилось. Я любил тихую, мирную жизнь и боялся этих сражений, где махались все и не было видно ни своих, ни чужих. Но увильнуть от этого было невозможно. Забьют свои. Зачитанная при свете лампы история Ромео и Тибальда казалась театральной школьной инсценировкой и звон рапир в их поединке звучал мелодично, как колокольчики, заглушаемый свистом велосипедной цепи петроградской шпаны у твоего уха.
Зимой, сделав уроки, мы перекидывали через плечо коньки на шнуровках и на 33-м трамвае ехали на каток в ЦПКиО им. С. М. Кирова, вотчину петроградских. Нарастающий с каждым днем уровень тестостерона в крови вел нас по тонкой струйке аромата девичьих волос на каток. На катке звучала музыка, и сверкали гирлянды разноцветных лампочек. Ставка Петроградских монстров располагалась в центре катка. Они стояли мрачной темной тучей и курили папироски «Беломор» и «Север», сверкая огоньками. Трое, четверо разведчиков кругами барражировали среди кружащейся ликующей толпы в разноцветных шапочках и шарфиках и высматривали жертву. Их «спецодеждой» были кепки-лондонки, черные пиджаки с шарфами, обычные / не спортивные/ брюки и хоккейные коньки «канадки». Они пренебрегали спортивной одеждой и считали её уделом «пидерастов». Их антиподы «пидерасты» кружили по краю поля в обтягивающих рейтузах, шлемовидных шапочках и на «бегашах». Низко присев и наклонившись вперёд, они, звеня носками своих «бегашей» об лед, прорезали как молнии толпу отдыхающих в разноцветных шапочках и, казалось, ни на кого не обращали внимание. На самом деле, присмотрев девчушку с выразительными формами, они подходили к ней клеиться уже в трамвае, где было не видно черных монстров и всегда можно было вызвать милиционера.
На катке черные монстры высматривали грудастых девчонок и, схватив на ходу их за грудь, исчезали в толпе. Высшую точку наслаждения эти гады испытывали, когда выискивали влюбленную парочку, скользящую по льду ухватившись за ручки или, еще и того больше — за талию. Тогда они просили парня закурить и лапали его подругу за выразительно обтянутое бедро. Нужно было драться. Парень гнался за монстром и тот привозил его к стае, теряясь в её тёмной бездне. Хорошим это не заканчивалось.
Милиционеры на коньках не катались. Поэтому я не любил ходить на каток с девочками. Но иногда всё таки решался. Уж очень приятно было ее подержать за талию или коснуться невзначай её нежной упругой груди, когда она споткнется о неровность льда. А лед заливали плохо.
Еще «веселее» было на танцах в «камне», то есть в Мраморном зале Дворца культуры им. С. М. Кирова. Старшие товарищи тащили нас туда в качестве «пехоты» на случай, если возникнет сражение с пришлыми за право обладания самой соблазнительной любительницей танго. Но мы, «пехота», чтобы маскироваться, тоже должны были обниматься под музыку с набившимися в зале кудрявыми школьницами и ремеслинницами. Если у вожаков возникала драка, мы оставляли своих партнерш и бросались в бой. Но менты здесь были не на коньках, а в своей голенищенской стихии, да к тому же на подмоге у них были военные патрули и разного рода добровольцы из народных дружин. А если ссора нашего пахана происходила с «мариманом», то до подлета милиции можно было так схлопотать по голове бляхой от матросского ремня, что ни какое переливание крови уже бы не помогло. Драки кипели до тех пор, пока не подъезжали «воронки».
Такая окружающая среда заставляла заниматься специальной подготовкой. В спортивные секции бокса и борьбы юношей принимали по закону только с четырнадцати лет. Поэтому драться нас учили старшие товарищи за стенами дровяных сараев.
В те времена нам можно было записаться в спортивные секции только мирной направленности. Чтобы не утонуть в Неве, где было страшное течение и глубина, мы пошли учиться плаванию в бассейн в Гисляровских банях. В секцию прыжков с десятиметровой вышки очереди не было, а в секцию плавания нужно было пройти спецотбор. Мы обмылись в душе и вышли в чашу бассейна. Тренерша в коротких штанишках и синей кофточке построила нас в шеренгу на краю бассейна. Я оказался на том краю самой его глубокой части у вышек для ныряния.
— Кто не умеет плавать? — спросила тренер.
Мне было стыдно поднять руку и я промолчал. Я оказался бы одним и был бы поднят на смех.
— На старт, внимание, марш!
Все прыгнули в воду, некоторые даже головой вперед и поплыли наперегонки. Я стоял и не знал, что делать. Я же умел плавать только по-собачьи.
— Что стоишь, бестолочь? Прыгай! — крикнула тренер, махая руками.
Я прыгнул и после двух, трех судорожных движений резко пошел ко дну. Дно было далеко. Я жадно пил не вкусную хлорированную воду. Кто-то больно дернул меня за волосы и потащил вверх. Слава Богу, я не успел выпить весь бассейн. Тренер вытащила меня и откачала. Она прыгнула за мной прямо в своих штанишках и кофточке. Я так был ей благодарен, я так ей улыбался. И даже хотел поцеловать. В ушах моих, полных воды, глухо звенело и бубнило. Тренер подняла меня, держа крепко за руку выше локтя, довела до двери душа. Я с любовью посмотрел на нее и сказал:
— Спасибо, Вера Геннадьевна!
— Пошел вон! — сказала в ответ Вера Геннадьевна.
И я пошел. Со старшими не принято спорить. Пошёл записываться в конькобежную секцию на стадион «Динамо». Меня взяли. Мама на последние деньги купила мне «бегаши». Они звенели носками об лед, когда я, низко согнувшись, загребал ногами, проскальзывая по льду в очередном шаге.
Через месяц усердных тренировок прошли соревнования и я пробежал со страху 500 метров за 59 секунд, безумно как мельница, размахивая руками. Тренер, Елена Сергеевна, меня похвалила, присвоила мне второй юношеский разряд и сказала:
— Ты только не обижайся, Коля, но коньки не для тебя. Иди лучше заниматься в другую секцию.
— А в какую? Куда я подхожу?
— Попробуй шахматы.
Самый главный шахматист школы был одним из отличников нашего класса — Савва Половец. Отличников было четверо: Марина Еременко, Игорь Руппе, Савва Половец и…. я. Савва привел меня в секцию шахмат в Доме пионеров и мы с ним стали дружить. В классе сели за одну парту и вместе ходили на занятия шахматами. Там он мне ставил шахи и маты, дружески и ободрительно похлопывая меня по плечу. Папе понравилось мое новое увлечение. Он купил мне шахматы, и мы с ним играли вечерами. Он ставил мне мат и тоже ободрительно похлопывал меня по плечу. Мне показалось, что индусы придумали шахматы только для того, чтобы меня обыгрывали и ободрительно хлопали по плечу. Я шахматы сначала невзлюбил, а потом возненавидел. И стал плохо относиться к своему новому другу Савве Половцу, и даже к Алехину и Капабланке, хотя их не знал и никогда не видел.
Зато жарким пламенем во мне вспыхнула любовь к бразильским парням Пеле, Диди, Вава и Гарринча. Хотя я их тоже не знал и никогда не видел. О них мне рассказал мой новый друг Саша Шахмаметьев, отпетый двоечник из нашего класса. Учителя не знали, что с ним делать и придумали прицепить его ко мне в целях перевоспитания. Сашу пересадили ко мне за парту вместо Саввы Половца, а Савву нагрузили другим отпетым двоечником Юрой Скотниковым. Кроме школьных занятий я должен был с Сашей дополнительно после уроков заниматься дома. Саша жил в Татарском дворе, был татарином. Когда на уроках истории речь заходила о татаро-монгольском иго на Руси весь класс пялился на Сашу и грозили ему кулаками. У него была большая бедная семья. Беднее нашей. Когда Саша приходил заниматься уроками, он начинал тихо подвывать, что очень хочет жрать и не может думать от голода. Я скармливал ему свои макароны с сахарным песком, и он, наевшись и отвалившись на диване, вместо занятий алгеброй начинал мне рассказывать про звезд бразильского футбола. Про то, как они виртуозно владеют кожанным мячом и какие мощные у них удары. Удары у Пеле такие мощные, что красавец Жильмар, вратарь сборной Бразилии не может их взять. Про то, что Гарринча хромает на одну ногу, но при этом обводит четверых англичан, Диди и Вава отдают точные пасы, а красавчик Пеле посылает мяч в ворота, не давая ему касаться земли. Алгебра и геометрия тихо лежали на столе, не прерывая Сашкиных рассказов.
Наконец, мы с ним решили пойти в секцию футбола. Она располагалась во Дворце имени С.М.Кирова, по нашему в «Камне», где вечером гремели танцы и мы рубились в смертельных драках за наших паханов. Тренер посмотрел на нас с надеждой и любовью и записал, наделив нас футбольными амплуа. Сашку поставили в нападение на левый край, как и Гарринчу. А мне Марк Иосифович Кравец многозначительно сказал:
— Будешь стоппером, Коля.
Я с тоской подумал о чем-то не очень хорошем, но Сашка меня успокоил, объяснив, что стоппер — это центральный защитник. На душе стало легче. На большой перемене мы в школьном дворе играли в футбол в одной команде с Сашкой. И когда выигрывали, нам говорили, что так не честно, потому что мы занимаемся в секции. Мы с Сашкой стали часто гулять вечерами по набережной Невы и мечтать, как поедем играть в далекие страны за сборную СССР против Бразилии. Мечта о красивой нездешней жизни, как вирус, заползла в наши черепные коробки.
Перевоспитать Сашку мне не удалось, он все больше становился блатным, начал курить. К тому же в футбольной секции он был далеко не лучшим на левом краю. А когда Кравец увидел его с папироской, выгнал из секции. Как верный друг я тоже ушел из секции, но Сашка это не оценил. Мама часто говорила мне, чтобы я не водился с Сашкой, что он мутный парень и до добра не доведет. Мне было обидно за Сашку и за себя, за мой ошибочный выбор.
Сашка упивался блатной жизнью, бравировал разными блатными словечками, неряшливой одеждой, папироской и сплевывал сквозь зубы. Мне больше нравились стиляги в узких брюках, твидовых пиджаках и с коками на голове. Они обычно толклись у Универмага на углу Среднего проспекта и 2-ой линии, они «косили» под Элвиса Пресли, про которого мы знали только по рассказам моряков и краем уха слышали рокешники в его исполнении на гибких пластах-костяшках.
Блатные стиляг не жаловали, а дружинники их ловили и стригли прямо на улице. Я боялся примкнуть к ним, но брюки заузил, да так, что еле-еле в них влезал. Однажды на танцах в «Камне» я пригласил Тамарку Рысьеву, двоечницу из нашего класса. У нее в классе выросли самые большие груди и была очень тонкая талия. Ее лапал какой-то грязный, в заношенных нечищеных ботинках и мятых брюках взрослый парень. Я был чистенький и наутюженный, и как мне казалось, намного лучше этого грязнули. Так вот мне она отказала и тут же пошла с этим парнем, прижималась к нему своей грудью так, будто бы их намазали клеем. Сашка, увидев мои растопыренные глаза, шепнул по старой дружбе, чтобы я не лез к ней, потому что это Октябрь, а она его чувиха.
— А кто такой Октябрь? — спросил я.
— Из главных, — шепнул Сашка.
Наши с Сашкой прогулки по набережной Невы становились все реже, он зазывал меня на какие-то задания, с виду безопасные, но меня это настораживало. Обычно мы стояли на углах улиц и, если поедут менты, должны были дать знак своим. Чаще нужно было организовывать прикрытие. Тот, кто совершал кражу в трамвае или в магазине убегал, если его заметили, а «прикрытие» падало под ноги преследователям и прерывало погоню.
Как-то раз после удачного дела Сашка позвал меня к Октябрю в гости. Когда мы пришли, в узком длинном коридоре толпилась наша шпана и чего-то ждала. По одному заходили в комнату, а выходили оттуда с очень важными лицами и начинали рассказывать, как было классно. Сашка загадочно ухмылялся, и отводил глаза. На мои расспросы не отвечал, наверное, хотел сделать мне сюрприз. Когда подошла моя очередь, он подтолкнул меня в комнату и закрыл за мной дверь. Я догадывался, что это подарок, награда от старших товарищей, от Октября. Может быть краденные фотоаппарат или часы? Или поесть вкусно дадут. Ну что ещё?
Комната была перегорожена шкафом и за ним слышалось какое-то сопение. Я заглянул за шкаф и остолбенел. На кушетке лежала голая, пьяная девка с татуировкой на животе «Добро пожаловать». Увидев меня, она поманила пальцем и развалилась на подушках. Я покрылся липким потом и меня затрясло и затошнило. Опираясь о стену, я вышел из комнаты под гоготание толпы.
— Ну как? — спросил Сашка.
— Здорово, — промычал я, поднимая вверх большой палец.
В комнату нырнул Сашка. Я не мог слушать весь этот бред о сексуальных подвигах дружков и убежал домой.
На следующий день шайка, человек в двадцать, пришла под окна нашей комнаты и Сашка начал звать меня. Я вышел понурый и сказал им, что никуда не пойду. Сашка сообщил, что вчера зарезали Октября и надо идти драться.
— Я не пойду, — повторил я.
— Хуже будет, — пригрозил мне Гена.
Я ушел домой. Толпа еще стояла. Потом раздался звон стекла и на пол упал здоровенный булыжник. Хорошо, что не было дома родителей. Соседи забегали по коридору, хватались за телефон, но я их остановил
— Хуже будет!
Пришла пора контрольной по алгебре. Саша заныл, дай, мол, списать. Я не дал, сказал, чтобы писал сам. Зря, что ли я с ним занимался. Он получил двойку, что грозило ему остаться на второй год.
После школы они с двумя гопниками встретили меня и начали бить. Я махался, как мог, но силы были неравные. Весь в крови я доплелся домой. Дома, отмыв кровь, я поразмыслил и решил сам для себя — не сдамся. Не хочу быть в шайке. Будет страшно, но я не сдамся. Свобода или смерть.
Сильней носа болело сердце, вернее душа. Сашку я считал своим другом. Нас сближала мечта. Мы оба мечтали о красивой жизни, оба мечтали поехать к Пеле, к Диди, к Вава и Гарринче. Что же я теперь им скажу, когда приеду в Рио.
А о том, что поеду в Рио, я ничуть не сомневался. Для этого нужно было только войти в зал кинотеатра, дождаться пока медленно погаснет свет и засверкает окно в яркий мир путешествий и развлечений, в мир, где живут такие разные люди. Где в Нью-Йорке живет Малыш и его добрый Чарли, в далекой Аргентине танцует несравненная Лоллита Торрес, в прериях от индейцев убегает на дилижансе Джон Уэйн, а на улицах Бомбея шатается голодный и неприкаянный бродяга, которого жалел весь советский народ, как родного брата. Наверное, от того, что на улицах своих городов таких же бродяг было навалом.
Денег на билет в кино катастрофически не хватало. К тому же трудно было себе отказать и в эскимо на палочке. Как разорваться между соблазнами? Мы пытались прорваться в кино без билетов. Для этого нужно было протиснуться между выходящей толпой в кинотеатр и спрятаться в туалете. А когда погасят свет, тихо выбраться и сесть на свободные места. Но часто свободных мест не оставалось и нас вылавливали даже в темноте билетёрши с фонариками.
Однажды какой-то парень позвал меня и посулил пустить бесплатно в кино, если я помогу ему отнести и укрепить на витрине рекламный плакат нового кинофильма. Так неожиданно открылась золотая жила. Мы в газете обнаруживали, в каком кинотеатре идет любимый фильм, приходили или приезжали на трамвае или автобусе к кинотеатру и искали художника, которому предлагали сделку. Он соглашался. Мы смотрели полюбившиеся фильмы до тех пор, пока не выучивали их наизусть. А потом во дворе играли, подражая любимым героям. Когда игра наскучивала, искали новый фильм. Уроки делать стало некогда. Успеваемость по алгебре и геометрии резко упала, но зато появился интерес к географии. Где находиться Мексика? Далеко ли? Искали мы на карте Буэнос-Айрес.
По радио и телевизору мелькнуло, что где-то в Южной Америке наши баскетболисты показали международный класс. Я подошел к учителю физкультуры Виктору Ивановичу и спросил, как записаться в секцию баскетбола.
— А что, ты рослый. У тебя получится. Иди в Василеостровскую спортшколу. Она на Большом проспекте, на девятой линии. Тренер Виктор Фёдорович меня взял без разговоров.
— Центровой нам в команде нужен, — сказал он.
Возвращаясь домой с первой тренировки, мне уже мерещилось, как я шаркаю подошвами своих ботинок по асфальту Пятой Авеню. И уже засыпая под одеялом мне слышался гул моторов самолета, который несет меня в Аргентину к ненаглядной Лоллите Торрес. Я без нее жить не могу.
Я тщательно готовился к тренировкам. Чистил мелом китайские кеды, утюжил трусы и майку и бегал по «поляне» от кольца до кольца как угорелый. Наш разыгрывающий Серега Ломко осаживал меня:
— Ваща, что ты летишь как паровоз? Поля не видишь? Я же открытый стоял, а ты Сереге Светлову мяч отдал.
Началось первенство ГОРОНО (городского отдела народного образования) среди спортивных школ всех районов Ленинграда. С боями мы пробились в финал, который проходил в воскресенье в 210 — й школе на Невском. Я приехал, когда школа еще была закрыта. Потом подошли наши пацаны и мы стали вспоминать наигранные на тренировках комбинации.
— Ваща, а ты трусы погладил? — подкусил Ломко, — А то мяч отскочит!
Матч близился к концу, а я все сидел на «банке» и старался перехватить взгляд тренера. Наконец он посмотрел на меня.
— Давай, Ваща, не подведи. Промышляев, пятый фол заработал.
Шли последние секунды. От страха рябило в глазах. Я выскочил на поле и, оценив ситуацию, бросился в отрыв. Дрожь в пальцах еще не прошла. Ломко запустил пас через все поле. Я выставил ладони, чтобы принять мяч, но он с силой, выбив мне палец, отскочил в сторону и гулкий отзвук от его удара прокричал мне «нет».
Пришёл апрель! Апрель, апрель! На дворе звенит капель! На дорогах лужи после зимней стужи….Значит скоро мой день рождения! Значит мне исполнится 14 лет! Тогда я запишусь в секцию самбо….и тогда. Ну, тогда!
Первая любовь
Наступило первое сентября. Мы собрались в своем классе и расселись по партам. После лета мы не узнавали друг друга. Мальчишки заострились чертами лиц и мерялись бицепсами. Девчонки округлились и мы, переглядываясь, оценивали их разросшиеся формы. Я снова сел у окна, в которое, как и семь лет назад, заглядывался на ветки клёна. Сквозь листву виднелось окошечко моего родного подвала, где прошло мое детство. Теперь мы жили в другой, большой и красивой комнате на Второй линии, д. 31 у Большого проспекта. Я смотрел на ветви клёна и уплывал в воспоминаниях о лете, проведенном в родной деревне Барсаново, в Пушкинских горах, в Псково-Печерском монастыре
Учебный год начался с сенсации. Наша классная оторва, второгодница Томка Рысьева пришла в школу в немыслимой кофточке, облегающей ее выпирающую грудь и бедра, и объяснила это тем, что ее мать пьёт и не купила ей новую школьную форму, а в старую она не влезает. Учителя сочли довод основательным, но на всякий случай повели ее в медицинский кабинет. Многие видели Томку со взрослой шпаной. Кто-то из наших побежал подслушать и прилетел молнией обратно с выпученными глазами:
— Рысьева беременна — разнеслось громом по классу.
Эльмира Львовна пришла в класс озабоченная и сказала встревожено
— Тамара заболела.
Все захихикали.
— Это не эпидемия? — съязвил я в своем стиле.
— Не знаю.
Школа наша была семилетняя, то есть мы теперь стали выпускниками и на всех прочих учащихся смотрели свысока. Главной темой всех школьных предметов стала любовь. На естествознании мы усваивали способы размножения млекопитающих и с улыбкой вспоминали наивных гусениц и бабочек. Мы осознали, что опыление друг другом растений — это не что иное, как половая жизнь деревьев и цветов, что оплодотворение молокой рыбьей икры — это вообще половое извращение. Алгебраические двучлены и трехчлены вызывали хохот класса и тоже предназначались, по нашему мнению, для размножения всяких математических глупостей. Химические реакции между кислотой и щелочью приводили к выпадению двусмысленного осадка в виде солевого потомства. А на уроках литературы, обсуждая взаимоотношения Татьяны Лариной и Евгения Онегина Ирина Ивановна Добрынина сама каталась с нами от хохота.
Каждый старался сострить по поводу множественных любовных ситуаций героев, изучаемых произведений. Наш классный руководитель, Эльмира Львовна Вассерман, дала мне почитать журнал с новомодным романом Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и с неподдельным интересом заглядывала мне в глаза, обсуждая поступки героя Холдена Колфилда в отеле провинциального американского городка. Откуда ей было знать, что обо всем этом с нами много лет тому назад, в первом классе, нравоучительно и подробно беседовали паханы во дворе. И не только беседовали, но и проводили практические занятия. Где ей было знать, что еще в четвертом классе мы протирали до дыр штаны, в двадцатый раз пересматривая «Возраст любви» и оценивая несравненные ножки Лолиты Торес, и что уже тогда догадывались, что это так льнет Аксинья к Григорию, а тот из-за этого даже бросил свою жену Наташу в глубокую и холодную воду Тихого Дона.
Где ей было знать, что наш дворовый дружок, Борька Волкович, подсмотрев, чем занимается с любовником его мать, красавица Нона, в деталях рассказывал нам технологию секса. Сэлинджера нужно было читать быстро и я, экономя время, читал ночью с фонариком. Маму заинтересовала такая моя увлеченность и, почитав книгу, она чуть не упала в обморок.
На новый год папа достал мне билет на Елку во Дворец работников искусств на Невском, 86. Я ходил туда на Елку в прошлом году и получил от Деда Мороза подарок, который съел по дороге домой в автобусе №44. На этот раз Дед Мороз устроил танцы в Греческой гостиной. Когда кларнет запел мелодию «Маленький цветок», все бросились танцевать. Даже Дед Мороз со снегурочкой. Я выцелил модную красотку и уже было решился сделать шаг ей навстречу, как из-за колонны выскочил чумазый паренек в стоптанных ботинках и она повисла у него на шее. Они пропрыгали мимо меня, изображая модный танец «трясучка», слившись в пылу своих чувств.
После зимних каникул в нашем классе появилась новенькая. Ее звали Рита. Когда директор Свирина вошла с ней, в классе повисла мертвая тишина. Было слышно, как за окном падает снег.
— Вот, ребята, познакомьтесь. Это Рита. Она приехала из Семипалатинска. Будет учиться в вашем классе. Помогите ей почувствовать себя, как дома.
Девочки замерли от зависти. Мальчики не знали, что такое бывает настоящим. Она была красива. Черные косы, голубые глаза, прямой нос, очень гордое, но доброе лицо, высокая грудь не по годам и, не в пример нашим девочкам, тонкая талия. Её красивые длинные ноги плавно переходили в округлые бедра. Эльмира Львовна перехватила мой взгляд.
— Садись сюда, Рита, — показала Эльмира Львовна свободное место за моей партой. Так была решена моя судьба. Я влюбился сразу и очень сильно. Так сильно, что перестал шутить и ерничать на уроках.
— Что-то давно мы не слышали шуток нашего Коли. Иди Коля к доске, прочитай нам Маяковского. Понравилась тебе его поэма о Ленине.
— Нет.
— Вот как? А всем нравиться.
— Я не все.
— А что тебе, конкретно, не нравиться?
— Мне не нравиться, что он застрелился из-за женщины.
— А ты бы из-за любимой женщины не застрелился?
Весь класс обернулся и посмотрел на Риту.
— Самоубийство — это смертный грех, — сказал я.
— В комсомоле этому не учат, Коля.
— А я еще не комсомолец.
— Плохо.
Зазвенел звонок и спас меня, а то бы я вылез из кожи.
На физкультуре мы занимались гимнастикой на брусьях и кольцах. Форма у девчонок — трикотажные майки и трусы-фонарики были предметом постоянных насмешек. А особенно теперь, когда у них все торчало во все стороны и провоцировало нас чего-нибудь потрогать.
Виктор Иванович сам был гимнастом и ловко показывал нам упражнения. Потом назначал помощника, который с ним подстраховывал того, кто прыгал через «козла» или висел на кольцах. Я у него был в почете, потому что по его совету уже второй год занимался баскетболом в районной спортшколе. Мы стояли с ним по разные стороны мата и ловили тех кто, перепрыгнув через «козла» с подкидного мостика, как бомба приземлялся на мат. Когда в очередном прыжке Рита зацепилась и, потеряв равновесие, летела на нас вниз головой, он ловко подскочил и, нечаянно схватив ее за грудь, удержал от падения. Длилось это долю секунды. Все пошло своим чередом и никто ничего не заметил. У меня же вылезли глаза и скрипнули зубы так, что Виктор Иванович инстинктивно отпрыгнул в сторону.
— Что ты, Коля?
Я выбежал из зала и на урок больше не вернулся. Мне казалось, что тронули мое. Тронули у всех на глазах то, что вообще трогать никто не имеет права. Кроме меня.
Риту все оберегали и старались ей помочь. Оказалось, что у нее погиб папа и они с мамой приехали в Ленинград к своим родственникам. Отец Риты был военным. Думаю, что специально из-за нее Эльвира Львовна затеяла экскурсию в Эрмитаж. Мы туда давно не ходили. В седьмом классе нужно было ходить в театр. Особенно на спектакли, которые хоть как-то касались школьной программы. Тоска зеленая. Но в Эрмитаж я пошел. Конечно из-за Риты. Мне хотелось все время быть с ней рядом. Кстати с моей парты она пересела к Маринке Ерёменко. Они с ней подружились. И потом она устала от насмешек и косых взглядов. Я иногда провожал ее до дома, иногда мы гуляли по набережным Невы с Эльмирой Львовной и ребятами из других её классов, где она вела немецкий язык.
В Эрмитаже экскурсовод «вытягивала кишки» своим нудным толкованием живописных полотен. Я не заметил, как мы очутились в зале Рубенса перед «Союзом Земли и Воды». Тетя начала заливать про аллегории, о которых я не мог слышать с первого класса. Все внимали и следили за рукой, а я не знал, куда спрятать свои глаза, чтобы не видеть обнаженных тел мужчины и женщины в присутствии Риты. Хотя один приходил сюда часто и сверлил картину глазами до дыр. А потом под одеялом представлял себя на его месте. Рита заметила мое смущение и хитро улыбнулась. Когда они пошли к Рембрандту, я ушел к импрессионистам разглядывать шарады Пикассо. Встретились мы на улице, и пошли по набережным вдоль Невы, рассуждая о живописи и нашей будущей счастливой жизни.
Первого февраля, начав поготовку к празднованию Дня советской армии, наши неугомонные учителя организовали поход на Сенную площадь с целью патриотического воспитания. Весь город собрался там посмотреть на мастерство наших подрывников, собиравшихся произвести в центре города уникальный взрыв без осколков. Расчищали место для станции метро.
Я как-то упустил из виду, что именно взорвали, а когда понял, внутри стало холодно. Взорвали церковь Спаса на Сенной. Красивая, стройная она возвышалась в углу площади, приглашая к себе людей. Помешала кому-то. Другого места для метро не нашли. Дураку было ясно, что коммунисты глумились над верующими.
Народ толпился, глазел, ждал «чуда». Глухим подземным громом прогремел полуночный взрыв. Я представил, как колокольня медленно склоняясь вперед и бессильно опуская свою голову с крестом, упала на каменную брусчатку площади. Толпа ахнула, замерла… и раскатилась криками «Ура!»
— Скоро Спас на крови взорвут, сделают кольцо трамвая. Вот удобно будет, — послышалось из толпы.
Облако пыли висело над площадью. Рита бросилась бежать. Мы знали, что в Семипалатинске после взрыва атомной бомбы погиб ее отец. Я побежал за ней. У меня в голове промелькнуло моё первое причастие, мерцание свечей и пение ангелов. Что-то они теперь делают? Наверное, плачут.
В стране висела напряжённая тишина противостояния советской и американской разведок. Как гром среди ясного неба 12 апреля 1961 года в космос полетел Юрий Гагарин. Вся школа стояла на головах. Я подговорил класс сорваться с занятий. Мы поехали в ЦПКиО и перекачались на всех возможных качелях до тошноты, готовя себя в космонавты. Вечером мы пошли всем классом на Дворцовую площадь. Там собралось множество народу со всего города. Но вместо ликования и праздника в толпе обозначились шайки братвы. Я их сразу заприметил и очень испугался за Риту. Я видел, как они окружают и тискают девчонок. На одной даже пальто разорвали. Слава Богу, подоспела милиция и начала организовывать толпу, разделяя ее на сектора. Одноклассники дружно сдали меня школьному начальству как организатора и вдохновителя этой праздничной вылазки, и я получил выволочку от Эльмиры Львовны. Но по всему было видно, что она одобряет мой поступок.
Весенний ветер принес в школу еще одну эпидемию. На все лады обсуждали новый кинофильм «Человек-амфибия». Начали учить друг друга плавать, как Ихтиандр, на всех углах орали буржуазную антисоветскую песню из кинофильма: «Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно, там бы, там бы, там бы, там бы пить вино…». И, конечно, все восхищались красотой несравненной Гуттиерэ, которую играла московская школьница Анастасия Вертинская. Я видел в ней поразительное сходство с Ритой и решился пригласить ее в кино. Рита согласилась, только сказала, что спросит разрешения у мамы. Я купил билеты в кинотеатр «Великан» на третий ярус, подальше от назойливых глаз сверстников. Я любил кинотеатр «Великан» и чувствовал там себя, как дома, благодаря «дружбе» с художником. «Великан» был огромный, и там было множество укромных уголков. В один из таких мы и уселись с Ритой, насладившись мороженным в фойе. Она смотрела фильм, поглядывала на меня, а потом тихо шепнула на ухо, источая нежный аромат своих волос:
— Тебе нравиться Гуттиерэ?
— Ты мне нравишься, — шепнул я, как можно ближе прижимаясь к ее щеке, и осторожно взял ее за руку. Она руку не отдернула. Мы так и сидели до конца фильма, пропуская через себя сладостные токи.
Когда включился свет, я убрал руку, и мы пошли, как ни в чем не бывало через парк имени В. И. Ленина, рискуя быть униженными петроградской шпаной. Когда мы стояли на парадной лестнице ее дома, дверь открылась и ее мама ехидно спросила:
— Вы собираетесь готовиться к экзаменам?
А потом, смягчив голос, сказала:
— Коля! Не «обижай» Риту.
Я сделал удивленное лицо. Ведь не мог же я догадаться, что ей лучше меня известно, чем я могу «обидеть» Риту.
К экзаменам мы готовились на крышах. Привычка залезать на крыши домов, наверное, осталась с войны, когда сограждане тушили зажигательные бомбы. Да и мы часто, помогая матерям, носили постиранное белье сушиться на чердак. А там и по крыше можно полазать, полюбоваться панорамой любимого города. Солнце соблазнительно припекало и чтобы не тратить время на поездку в парки или на пляж, мы с учебниками устраивались загорать на крыше.
Как-то раз я подговорил Риту, и мы залезли на крышу ее дома. Она обомлела от вида крыш и колоколен и поцеловала меня в щеку.
— Ты молодец. Здорово!
Потом сняла платье и осталась в купальнике, обнажив свои смуглые плечи и ноги. Она улеглась спиной на подстилку и ее груди вздымались невероятными холмами. Я уставился на нее.
— Ты будешь читать? –спросила она.
Я лег на живот, чтобы она не видела моего позора, и сделал вид, что читаю. На самом деле я не мог оторвать взгляда от мраморной глади ее роскошного тела.
— Ты еврейка? — спросил я, чтобы как-то разрядить ситуацию.
Завистливые девчонки дразнили ее еврейкой.
— Нет, ассирийка.
— Что-о-о? — удивился я. — Где это?
— Историю надо учить. С географией.
— Почему ты им не сказала?
— Зачем?
Я поцеловал ее в плечо.
— Не надо, Коля.
Я поцеловал ее в щеку.
— Не надо. Давай готовиться к экзаменам.
На выпускной вечер девочки пришли в белых платьях и с немыслимыми прическами на головах. Некоторые намазали ресницы маминой тушью, а кто-то даже намазал губы помадой. Рита была в темно-зеленом обтягивающем платье и с длинной черной шелковистой косой с зеленой лентой.
Выпускной вечер закончился, и мы всем классом пошли на Дворцовую площадь. На набережных Невы толпами гуляли «взрослые» опрятно одетые школьники. Марсово поле утопало в сирени. От духоты дня кружилась голова. Я предложил искупаться в Неве, на Петропавловке. Девчонки заупрямились, потому что все были в нарядных платьях и с копнами на головах.
Над Летним садом засверкала молния, и раздался сухой треск грома. Хлынул дождь. Мамина тушь потекла черными ручьями по лицам наших девочек, а их намокшие экзотические прически типа «Бабетта» превратили их в огородные пугала. Распущенные волосы Риты намокли и сделали ее еще красивее. Прятаться от дождя все разбежались в разные стороны. Я обнял Риту, прикрывая от дождя. Рита подмигнула мне, и мы отвалили. За время экзаменов мы почти не виделись и жадно болтали, перебивая друг друга. Мы успели перебежать через мост, который за нами взметнул свои «крылья». Вереницей потянулись баржи.
Мы свернули на пляж Петропавловки. Над городом сиреневой дымкой струилась белая ночь.
— Будем купаться? — спросил я.
— Давай.
Рита побежала по песку к кабинке для переодевания и вышла оттуда в белой шелковой сорочке.
— У меня нет купальника. Я так. — оправдывалась она.
Рита поспешно бросилась в воду, словно стесняясь своей красоты.
— Вода ледяная! — закричала она и выскочила на берег.
Мокрая сорочка прилипла к телу, обнажая ее неземную красоту.
Заглядевшись на изгибы ее тела, на шелковую гриву ее волос, я упал на песок, запутавшись в штанинах, снимая свои брюки. Она подбежала ко мне, и я схватил ее в объятия. Я задохнулся от упругости ее тела, ее грудей, ее бедер. Она вырвалась и снова побежала в воду. Я бросился за ней. Мне казалось, что вода шипит и пениться от моего жара. Я обнял ее и всем своим телом прижался к ней, к ее телу, такому гладкому, такому упругому и теплому.
Мы упали на прибрежный песок. Я прижал к себе Риту изо всех сил. Нас трясло, как в лихорадке, и тут какой-то разряд разорвался у меня в голове и из глаз полетели искры. Я обессилевший лежал на песке. Она прильнула ко мне, и мы затихли. Слышно было, как набегают волны. Кончиками своих изящных пальцев она гладила мое лицо, мои глаза, мои губы.
Ударили куранты на колокольне. Было три часа по полуночи. Был июнь 1961 года. Мы стали взрослыми.
Возвращались мы по пустынным линиям Васильевского острова. Вдалеке маячила одинокая фигура. Это была ее мама. Она с ненавистью посмотрела на меня и хотела ударить Риту, но та увернулась и, плача, убежала. Больше мы с ней не встречались. Никогда.
Место в строю
На уроках и на пионерских собраниях на тему «Как ты представляешь себе свое светлое будущее?» мы рассуждали о всяких глупостях. Я не хотел строить Братскую ГЭС в лесу с медведями и комарами. Не хотел быть геологом, строителем домов, работать на свиноферме, копать метро, добывать уголь, варить сталь, обрабатывать на станках роторы турбин и всего многого, в чем так нуждалась страна на пути к светлому будущему. Да и вообще я не хотел быть частью дружного трудового коллектива, брать на себя вместе с коллективом социалистические обязательства, выполнять пятилетку в четыре года без выходных. Я хотел выходных. И как можно больше. Зачитываясь книгами о рыбалке, я подумывал, что и сам мог бы писать такие же рассказы. Но мама махала руками: что ты, что ты… Я дал ей почитать «Старик и море» Эрнеста Хемингуэя, но это ее не убедило.
Стать военным, чтобы защищать Родину? Но это же ужас. Война — это же психоз. Убивать людей? Злых людей, которые хотят отнять у нас нашу землю, наши дома, а нас превратить в рабов. Да. Здесь было над чем подумать. Агрессивные империалисты жадными глазами смотрели на наши богатства и мечтали нас убить и все захапать себе.
А почему же на Международный фестиваль молодежи и студентов приехало так много веселых парней и американец Ван Клиберн так вдохновенно играет «Первый концерт» П. И. Чайковского? Почему Н. С. Хрущев так распекает И. В. Сталина за его жестокие проделки. Может он скоро и до В. И. Ленина доберется? Мне-то сразу стало ясно, что на всю эту бучу с революцией В. И. Ленин решился и вступил в сговор с троцкистами в отместку царю за убитого старшего брата. А те мстили за унижения, очерченные чертой оседлости. В общем жертвовать своей жизнью зуда не было. Пусть сами разбираются что к чему.
Я окончил семилетнюю школу полукруглым отличником. Единственная четверка у меня была за поведение. Будучи смышленым и жадным до знаний я не хотел оставаться тихоней, гогочкой и маменькиным сыночком. Я шел по лезвию жизни. Уже к окончанию школы мы не досчитались в своих рядах комсомольских отрядов множества наших товарищей. Они были помещены в детские исправительно-трудовые колонии. Те, кто возвращались, становились героями улицы. Но эта проказа не разъедала тело здорового советского общества. Пособников империализма в дудочках нещадно стригли и высылали на 101-й километр заниматься общественно-полезным трудом. Уже пропалывал грядки «мнимый», по их понятиям, поэт Иосиф Бродский и мыл золото на Колыме Жора Жженов, и они видели в своих барачных снах прямые, очищенные от них и других отщепенцев, линии родного Васильевского острова. А без них грохотали станки питерских заводов, перекрывали Енисей комсомольцы Ленинграда, бороздили служивые матросы океан и мой дядька Василий с ними. Слетал в космос Юрий Гагарин.
— С кем ты, Коля? — спрашивал я себя.
И отвечал: «Нет, нет. В тюрьму я не хочу». Блатная жизнь не для меня. Пахан, да и любой лидер — это жадный одиночка, решившийся обмануть посулами толпу, поставив ее на выполнение своей корыстной цели. Будь то власть, богатство или месть. Манеры паханов с их понтами и диктатом меня раздражали. Карикатурная независимость стиляг тоже оказалась чуждой моему нраву. Истинная свобода, независимость и красота, воспитанная природой русской деревни и моей простой чистой семьей, наполняли формулу моей крови.
Моя учительница по литературе Ирина Ивановна Добрынина пришла к нам домой побеседовать с мамой. Она говорила, что у меня раскрывается талант писателя, что я пишу очень интересные сочинения и что мне нужно продолжать учебу в десятилетке. Мама ее слушала, благодарила, а когда она ушла, сказала, что кормить она меня не будет, если они с папой умрут.
Мама носила у своего сердца осколок со времен войны и боялась умереть, оставив меня без средств к существованию. Поэтому она мечтала, чтобы я быстрее получил профессию. Достойных профессий она знала две: зубной врач, как она, и инженер, как не знаю кто. Слово писатель она серьезно не воспринимала. Папа мечтал сделать из меня шофера, не избавившись за прошедшую жизнь от гордости обладать такой профессией. Бабушке было все равно, кем я буду, лишь бы был.
Я попробовал канючить, но мама быстро меня приструнила. Хочешь командовать, заработай себе на хлеб сам. И я пошел работать грузчиком в папиной конторе. Под отцовским приглядом работа не казалась трудной. Мы много ездили на его грузовой машине, а потом с ним ее разгружали. За хорошее поведение он давал мне порулить. Но за месяц однообразного обязательного труда, от общения с рабочим классом, я осознал разницу между волей и гнетом. Я быстро понял, что нужно чему-то учиться. Решил стать летчиком, чтобы парить в небе, как птица и никого не видеть.
Так, оттолкнувшись, я полетел. Полетел в океан взрослой жизни. Детство закончилось.
Полистав справочник учебных заведений, я подобрал для обучения техникум авиационного приборостроения, ориентируясь лишь на слово «авиационный» и полагая, что именно это и предопределяет мой путь в авиацию. Находился этот техникум на другом конце города, на улице Ленсовета, д. 14, куда ехать на трамвае №15 нужно было не менее часа.
К слову сказать, напротив нашего дома находился техникум связи с точно таким же профилем специальностей. Это колоссально облегчило бы мне существование, но я этот техникум пренебрежительно обошел стороной. Вот еще. Связь какая-то.
К экзаменам я готовился нехотя, самоуверенный в прочности своих школьных знаний. Сдав устные экзамены и написав контрольную по письменной математике, я со спокойной совестью уехал в деревню к бабушке ловить мою любимую рыбу. Бабушка подарила мне ружье-двустволку ИЖ-58 в честь моего возмужания. Ружья тогда можно было покупать в магазинах так же, как и печенье или боты, никому ничего не объясняя. Охота мне очень понравилась. Таинственность поиска и ожидания зверя или птицы, азарт стрельбы, иероглифы лесной жизни притягивали меня как магнитом. И вот однажды, сидя в засаде в тростнике, я увидел, как прямо на меня летит селезень. Он широко расставил крылья, вытянул лапы и приготовился плавно сесть на воду и укрыться от злых назойливых глаз в камышах. Я быстро вскинул ружье, выцелил его и нажал на курок. Треск выстрела смешался с шумом разлетающихся перьев. Селезня подбросило, и он с шумом рухнул в воду. Сердце мое билось от восторга удачи. Дрожащими руками я взял весло и подтолкнул свой челн. Когда я поднял селезня из воды, эта гордая красивая птица безжизненно раскинула крылья. Голова висела на обмякшей шее и производила такое жалкое зрелище, что я хотел извиниться, но не мог. Когда бабушка приготовила в печи селезня с яблоками, я не мог надышаться его ароматом. Но потом чуть не сломал свои зубы, жадно вгрызаясь в его тело. Оно было нашпиговано свинцовой дробью №3. Бессмысленность этого трофея прекратила мою карьеру охотника и убийцы меньших братьев.
Вскоре пришла телеграмма от мамы. Она поздравляла меня с зачислением на вечернее отделение техникума. «Почему на вечернее?», — ломал я свою самоуверенную голову и то, что в ней находилось к тому времени. Оказалось, что я получил по математике трояк, мама подсуетилась и переправила мои документы туда, где они и заслуживали быть — на вечернее отделение. Это значило, что я должен был устроиться на работу, а после работы вместо пирушек и праздной гульбы, в качестве развлечения, проходить обучение в течение пяти лет. Я очень огорчился. Мне было стыдно за свое бахвальство и страшно начинать новую непонятную и непривлекательную жизнь.
Мне было четырнадцать лет. На работу по специальности таких еще не брали. Я работал грузчиком, а, вернее, разнорабочим в конторе моего отца. Теперь мы вместе просыпались, завтракали и давились в трамвае, а потом в троллейбусе №7, набитых трудящимися, как селедок в бочку. За одно это испытание, как мне казалось, я должен получать большую зарплату. Сама работа никаких мук мне не доставляла. Самое изнурительное было ожидание разных грузов на различных складах и базах. Но я быстро приспособился в эти тягучие часы читать книги, которые брал с собой на работу, запихивая их под ремень брюк со стороны спины. Самой большой радостью были дальние поездки за материалами в Новгород, Москву, Петрозаводск, Волхов. Тогда отец сажал меня за руль и учил шоферскому мастерству. За тупоумие и невнимательность ругал нещадно. Однажды, на подъеме я переключал на нижнюю передачу, заерзал рукой, замешкался, и машина покатилась задним ходом. Как отец успел дернуть ручник, выскочить и бросить камень под заднее колесо, уму непостижимо. Я побелел от страха и от осознания своей вины. Отец, молча сел за руль и не разговаривал со мной всю дорогу до дома. Так тянулась наша жизнь. Вечерами я ходил на занятия в техникум, и тешил себя надеждой перейти на дневное отделение. Для этого, по договоренности с деканом, нужно было окончить первый курс на одни пятерки. Я старался, и у меня это получалось. В нашей группе учились в основном пожилые люди лет двадцати-двадцати пяти. Но один браток оказался моим сверстником. Звали его Димка Пеккер. Оказался он на вечернем отделении по той же причине — не добрал проходных баллов на экзаменах, и говорил, что его завалили, потому что он еврей, и он им еще покажет. С ним мы и учились наперегонки. Учился он прилежно, то есть ходил на все занятия. А я уже тогда начал волынить. Нет, нет, да и пропущу денек. Так вот он, хоть и морщился, но давал мне переписать конспекты. Хотя я был ему конкурентом на место дневного отделения. По воскресеньям мы с ним устраивали велопробеги до Пушкина или до Петергофа и наслаждались роскошью дворцов. Но меня очень раздражала его природная завистливость. Ему нужно было быть первым во всем. Надо было видеть его радость, когда я объявил ему о своем решении остаться на вечернем. А созрело оно вот как. Я приспособился к этой жизни, и она мне очень понравилась. И кроме тщеславных чувств я не видел никаких преимуществ в дневном обучении. В нашей группе люди в силу своего возраста учились с толком, проникали в суть вещей, вопросы задавали практичные, сформированные жизненным опытом работы и службы в армии. Вдобавок наш факультет перевели заниматься в другое здание, которое находилось на Невском проспекте, д. 178. И в награду после занятий в 8 часов 20 минут мы прогуливались по Невскому проспекту, который стал родным домом. И что же это за прелесть — прогулка по Невскому в компании друзей. Можно было зайти в книжный магазин, заглянуть в кино или съесть мороженного в многочисленных подвальчиках-«лягушатниках» или в кафе «Север». При этом было приятно ощущать в кармане свои заработанные деньги. Я же работал и получал зарплату — 69 рублей. Всю свою зарплату я отдавал маме. Она радовалась, роняла слезу и выдавала ее мне обратно на карманные расходы. Тратил я ее рачительно. Не пил и не курил. Одевать себя стал сам. Да еще и подрабатывал, где только мог. А мог я тогда не много. Разгружать вагоны с овощами на московском вокзале за пять рублей или ночным сторожем за три рубля. Однажды отец нашел халтуру. Нужно было повалить старые железобетонные столбы. Я кувалдой разбивал основание столба до арматуры. Потом отец зацеплял тросом вершину столба и машиной его валил. Потом мы газосваркой обрезали арматуру и оттаскивали буксиром столб. Получили за десять столбов 60 рублей. Были рады. К слову, сто грамм мороженного в кафе «Север» стоили 19 копеек. На рубль можно было объесться до болей в горле, до ангины. Но этот рубль надо было сначала заработать. Просто так его никто не давал. Отнять могли. Когда я провожал знакомых девочек на Лиговку или Московский проспект, местная шпана могла избить, обобрать и раздеть до нитки. Появлялись они как из-под земли. И чтобы на них не нарваться, нужно было осматриваться зорко. Девочки этого не понимали или не хотели понимать. Поэтому нужно было запутать содержимое и ее головки. «Давай, пойдем сюда, давай пойдем туда». Если встреча оказывалась неизбежной, то нужно было решить, что отвечать на провокационные вопросы, чтобы избежать драки.
На втором курсе нужно было искать работу по специальности. Я вспомнил одного паренька, с которым познакомился у кафе «Север». Звали его Игорь Дриль. Не так давно я купил у него пластинку Элвиса Пресли. У кафе «Север» толкалось множество фарцы, и купить можно было, что угодно. Чужакам, разумеется, не продавали, боялись ментов. Но если ты был в нормальном прикиде и в глазах твоих горел огонь познания и жажда лучшей жизни, у тебя был шанс. Я вспомнил, что выясняя пароль на вшивость, Игорь спросил, где я учусь, и оказалось, что он учился в этом же техникуме и работал в научно-исследовательском институте электромеханики, который находился на Дворцовой набережной, д. 18. Я поделился своими мыслями с мамой, и на следующий день мама сообщила, что меня уже приняли лаборантом и чтобы я с понедельника выходил туда на работу. Оказалось, что зайдя в этот институт, она встретила там фронтовичку Веру Ивановну, и она все устроила. Мама была удивительной женщиной, доброй и самоотверженной. А я — самовлюбленным, самоуверенным и неблагодарным. Но на новую работу в понедельник пошел.
Шел я знакомым путем до детского сада, то есть до Академии наук, а, перейдя Дворцовый мост, мимо Эрмитажа по Дворцовой набережной. Институт Электромеханики разместился в, теперь уже бывшем, роскошном Дворце великого князя Михаила. Приняли меня как родного. Вера Ивановна Рябинина была заведующей аспирантурой. Она отвела меня к начальнице отдела кадров и сказала ей:
— Зиночка, это Коля, сын Александры Яковлевны.
Я не мог понять тогда взаимоотношений этих женщин, прошедших ад войны и родивших после этого детей, да еще вырастивших их на голодных пайках. Я не понимал, как они были рады помочь друг другу устроить этих своих детей на приличную работу и гордиться этим, и сорадоваться этому. Они же знали, что эти дети, вместо школьных парт могли сидеть на скамьях подсудимых и стать малолетними преступниками послевоенной разрушенной героической родины. Я не понимал, почему Вера Ивановна меня и своего сына Вовку старалась накормить вкусными пирожками и напоить чаем у своей подруги в Доме ученых, в его роскошных гостиных и буфетных. Не понимал, но радовался и ценил это очень сильно. Ее сын Вова был моим ровесником, и нас определили в лабораторию к Петру Абрамовичу Ровинскому лаборантами. Наш оклад составлял 79 рублей в месяц. Делать мы тогда ничего не умели, но хотели научиться. Вокруг нас были замечательные люди. Я таких мало когда встречал в жизни. Вовку определили в группу к Валентину Антоновичу Тикану, пожилому инженеру, прошедшему войну на подлодке. Служили они вместе с Петром Абрамовичем, и дружбе их конца не было видно. Меня прикрепили к молодым инженерам, Эдику Парфенову и Жене Абелеву. Главным над нами был старший лаборант Игорь Захарович. У него туговато было с юмором, но зато богато со знаниями и умениями. Захарыч, как мы его уважительно называли, быстро научил нас паять электронные схемы навесным и печатным методом, наматывать трансформаторы, центровать полутонные электрические машины и еще многим и многим хитростям. Институт занимался новейшими, на тот период, технологиями регулировки электрических приводов и руководил им всемирно известный академик Михаил Полиектович Костенко. Наша лаборатория входила в состав отдела членкора Дмитрия Александровича Завалишина. А это значит, что результаты нашего труда предназначались для самых ответственных областей человеческой деятельности, и работать спустя рукава было непозволительно. Приходили мы на работу к половине девятого утра и проходили контрольный турникет. До обеда кипела напряженная работа. Самое страшное было отцентровать электродвигатели по тонне каждый. Если отцентруешь плохо, то на трех тысячах оборотов они могли разлететься как бомбы. Спаять, настроить, собрать, проверить, запустить, снять показания приборов, проявить осциллограмму и …можно идти обедать. Люди поэкономнее бегали в магазин на ул. Халтурина, покупали кефир и булки, и обедали прямо в лаборатории. Мы с Вовкой вместе с другими «белыми» людьми шли в ресторан дома ученых, который днем работал как столовая, и уплетали комплексный обед копеек за 60. Первое, второе и третье. На третьем мы часто экономили, потому что Вера Ивановна вела нас в гостиные, чтобы показать царскую красоту и угощала чаем с пирожками. Часто обеденный перерыв мы использовали для похода в Дом Ленинградской торговли, на пляж Петропавловской крепости или в Эрмитаж. Когда погода была дождливой, мы с Вовкой шли в библиотеку Института востоковедения, который находился в этом же здании и листали загадочные фолианты. Благодаря Вовке, мы очень модно и дешево одевались. Купить одежду у фарцовщиков было трудно и дорого. А Вовка жил на канале Грибоедова, где во дворе размещался комбинат по пошиву одежды для театров. Там у него был приятель, Вова Винокуров, работавший закройщиком. Бог приделал ему руки в нужном месте, и этими руками он нам шил шикарную одежду. Хоть куртку, хоть джинсы. Однажды, я вместе с товарищем с Невского, ему принес американский блейзер. Тот посмотрел, пощупал и сделал такой блейзер, что Невская фарца стала держать меня за своего.
После обеда наши инженеры анализировали и обсуждали результаты опытов, и новое задание нам выдавали к концу дня. В это время нам разрешалось заниматься подготовкой к учебе. Во всех возникающих при этом вопросах они нам помогали разбираться.
Благодаря этой системе мы с Вовкой стали крепкими специалистами. Свой техникум я закончил на одни пятерки и без особого труда поступил в институт авиационного приборостроения. Вова поступил в электротехнический институт. Наши матери гордились нами. Мы в их глазах были хорошими. Плохого они просто не знали. Но однажды мама насторожилась. Было это уже к концу обучения в техникуме. Впереди маячила взрослая студенческая жизнь, и я часто терял бдительность в своем поведении. Вторая половина рабочего дня проходила вольготно и мы с поводом и без повода болтались по институту и заводили разные знакомства. Народу интересного работало много. И мальчиков и девочек. Обсуждались разные вопросы: что посмотреть в кино или театре, какие выставки в музеях, где купить джинсы? В разных местах института собирались компании по интересам. Уважительной причиной для болтовни было курение. Покурить по десять раз на дню считалось святым ненаказуемым делом. Считалось, что люди нервничают, горят на работе и им нужно восстановиться, подышать свежим воздухом через сигаретку.
Я не курил. И не только потому, что занимался спортом, но еще и потому, что не любил этих сборищ в курилках. Слишком бестолковыми они были. Ни о чем. Просто убить время. Я предпочитал результативную работу и насыщенный отдых. Нашлись единомышленники: Витя, Вова Казалов и Игорь Дриль. Нас охватила одна губительная страсть: кино и музыка. Худо-бедно у каждого был свой магнитофон. У меня «Комета», у Игоря «Днепр-11». В худшем случае музыку мы писали с эфира, в основном, поймав «Голос Америки» на короткой волне длинной 49 метров. «Дыз из э войс оф Амэрика» — слышался приятный баритон Виллиса Кановера. Но на самом интересном месте органы госбезопасности включали глушилки, вместо музыки слышался треск, а магический зеленый глазок индикатора на приемнике предательски щурился. Поэтому наше сообщество искало пути записи качественной музыки с пластов. Пласты привозили моряки торгового флота или скупали у иностранцев. Но они были дикой редкостью и оседали у считанных по пальцам людей в городе. Эти люди давали пласты записывать. Разумеется, своим проверенным людям и, разумеется, за деньги. Три рубля пласт на два часа. Наша кооперация разработала хитроумный план для снижения расходов. Витька — рыжий, он самый блатной, брал у Фукса пласт и ехал домой записывать на своем магнитофоне, к нему приезжал Игорь, записывал у себя дома, от Игоря диск забирал Вова Казалов, а к Вове приезжал я, и забирал дрожащими руками заветный пласт Элвиса Пресли или Луи Примы. Пролетев на такси полгорода, я записывал дома первочка. А потом, лежа на диване, без шипа и без треска, закрыв глаза под песни Фрэнка Синатры, можно было ловить кайф, представляя себе берег Майами и знойную Креолку. Креолок легко имитировали с помощью загара наши сослуживицы или соученицы, а то и просто прохожие землячки. Завлекали мы их, конечно, заграничной музыкой. Больше было нечем. Ну, разве что своей ослепительной улыбкой. Да и выбор у них тоже был небольшой.
Петр Абрамович уже второй год терпел мои изъяны. Проявлялись они в основном в необходимости освобождать меня на спортивные сборы. С некоторых пор я стал делать успехи в борьбе самбо. Сослуживцы этим гордились, но когда я пропадал на двадцать дней для подготовки к первенству Советского Союза, то ничего, кроме изжоги у них это не вызывало.
— Кто же за тебя работать будет, Коля? — спрашивал Петр Абрамович.
Я говорил, что наверстаю потом, буду работать вечерами и всякую другую ерунду. Не отпустить он не мог, потому что большой спорт тогда был государственной политикой. А именно в большой спорт я тогда уже врывался. Мне было восемнадцать лет, когда я вошел в сборную команду СССР по молодежи. И Петр Абрамович отпускал. Приехав с соревнований, я с горящими глазами бросался на работу, но довольно быстро остывал и в курилках, узнав про новый итальянский фильм, искал способ улизнуть пораньше с работы, чтобы перед лекциями успеть забежать в кино. Способ был найден. Простой и гениальный. Обычно мы оставляли верхнюю одежду в гардеробе. Но была вешалка и в лаборатории, для тех кто не жалея себя оставался работать до позднего вечера и не хотел связываться с гардеробом. Повзрослев, я сообразил, что принеся второе старенькое пальто и повесив его в лаборатории, я создам иллюзию трудового порыва, и если меня не будет рядом, то все будут думать, что я бегаю по институту и ищу дефицитную деталь для новой схемы.
Был месяц май. Дул холодный невский ветер. Я свалил с работы в три, сходил в кино, потом в техникум и, прогулявшись по Невскому в модном плаще типа «болонья», пришел домой насладиться перед сном музыкой Чарли Паркера. Когда я утопал в неге, раздался телефонный звонок. «Коля, тебя Петр Абрамович», — сказала мама. «Слушаю Вас, Петр Абрамович», — бодро ответил я. «Коля, я думал ты еще в институте. Как же ты в такой холод ушел без пальто?» «Мы, мы», — замычал я, потому что не знал, что сказать. Я покраснел от напряжения. Мне стало стыдно. Пожалуй, в первый раз.
Гений дзюдо
Моим тренерам по борьбе самбо Александру Массарскому, Ивану Смирнову, Анатолию Рахлину и Владимиру Малаховскому.
Осенью 1961 года в свои четырнадцать лет я имел довольно жалкий вид перекормленного макаронами подростка. Мои занятия плаванием, футболом и баскетболом носили эпизодический характер и влияние на мой растущий организм и вылезающие из него руки и ноги не оказывали никакого. Генетический код, видимо, еще не проснулся или был забит и запуган образом жизни и предостерегающими возгласами каждое утро вылетающими из репродуктора: «Говорит Москва. Московское время шесть часов тридцать минут. Начинаем утреннюю гимнастику. И… переходите к водным процедурам». В нашей семье поднимался хохот. Папа демонстративно делал упражнения, назидательно предлагаемые диктором, его передразнивала мама и все, конечно, заставляли физически развиваться меня, чтобы я рос крепким и стройным. Но, видимо, от раздражающих звуков пианино, несшихся из радиорепродуктора, у меня рос животик, и макароны откладывались складками на щеках, боках и попе. Но больше меня беспокоили дружки из нашей шайки. Они никак не хотели отпускать меня на свободу. Подлавливали, запугивали, били. Я твердо решил от шайки отколоться. Я уже вдохнул нормальной трудовой жизни, и она мне нравилась. Теперь нужно было найти способ защиты от назойливых дружков. Я решил драться с ними за свободу до последней кровянки и пошел в секцию бокса «Динамо». На первой же тренировке тренер Кусикьянц поставил меня в пару с пацаном-разрядником, и тот с наслаждением сломал мне нос. В раздевалке, которая была общей для боксеров, штангистов и борцов, я столкнулся нос к носу с парнем, который приходил к отцу в гараж на Петровском острове. Он тоже был шофером и, как оказалось, занимался в «Динамо» борьбой самбо. Звали его Игорь Андронников. Он поволок меня показывать своему тренеру Александру Чернигину. Чернигин, низенький коренастый мужик, облаченный в куртку самбо синего цвета, посмотрел на меня и спросил, сколько раз я подтягиваюсь. Я сказал, что не знаю. «Иди, подтянись», — показал он на шведскую стенку. Я подтянулся три раза и повис.
— Мало, — сказал Чернигин, — Будешь таскать железо. Понял?
— Понял, — кивнул я, хотя ничего не понял. Какое железо? Я и так целыми днями грузил трубы и швеллеры.
Поджидая 33-й трамвай на остановке, я разговорился с пацаном из этой секции, Серегой Клеверовым, который мне объяснил, что «Динамо» — это спортивное общество милиционеров. А милиционеров я уже тогда не любил. И решил, что пойду в другое общество. Съездил на Конюшенную площадь в «Трудовые резервы». Дмитрий Степанович Доманин сказал, чтобы я приходил на следующий год. Сейчас у него был перебор. Ремеслуха училась драться. Через неделю я приехал в «Труд» на ул. Декабристов, д. 21. Тренировались классики, которых я помнил по фильму «Гуттаперчевый мальчик». Их тренер Дмитрий Моторин стал меня уговаривать записаться к нему в секцию. Ему очень был нужен тяж. Но мне-то он был не нужен. Приехав на другой день, я нашел тренера самбистов Александра Самойловича Массарского. На ходу он мне бросил, что запись уже закончена. Я взгрустнул и сел на ступеньках лестницы обдумать, как жить дальше. Возвращаться в «Динамо» не хотелось, идти в классику к Моторину тоже. Через несколько дней я снова приехал в «Труд» в надежде попасть к другому тренеру, но снова встретил Массарского. Он был весел и, увидев меня, снова в зале окликнул кого-то:
— Ваня, возьми к себе еще парня. Он, вроде, настырный.
Ко мне подошел Ваня, плотный дядя в такой же синей куртке, как у Чернигина, и спросил какого я года рождения и сколько я вешу.
— Ладно, приходи завтра в шесть в верхний зал.
Я обрадовался. Пошел на балкон и смотрел на их тренировку. На балконе было много пацанов. Костя Манчинский, к которому я подсел, сказал, что это мастера и что скоро на Зимнем стадионе будет первенство Ленинграда. Я пошел смотреть соревнования. Борьба мне нравилась своей ловкостью. Но когда вышел Чернигин и стал показывать приемы рукопашного боя против ножа и пистолета, я понял, что попал куда надо. Он делал короткое точное движение рукой, и пистолет, приставленный к его лбу, улетал под потолок, а злодей падал, как подкошенный сноп. Замах ножом закончился скручиванием руки и жалобным воем обидчика. После своей схватки подошел Игорь Андронников.
— Ну, куда ты пропал? — спросил он.
— Да, я в «Труд» записался.
— К Массарскому?
— Нет, к Смирнову.
— Хороший парень. На, почитай.
И он протянул мне журнал «Спортивная жизнь России» со статьей о первенстве мира по дзю-до в Париже. Тогда чемпионом мира впервые стал голландец Антон Хеесинк. На фотографии он тянул за отворот белоснежного кимоно своего японского противника. У меня от эстетического восторга зарябило в глазах. Я вырезал эту фотографию, повесил над своим столом и не мог на нее насмотреться. Я шепнул себе на ухо — буду таким, буду в Париже. И начал усердно тренироваться.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.