
Бесплатный фрагмент - Гротескное и фантастическое в культуре: визуальные аспекты
Сборник статей
Памяти Цветана Тодорова
С. П. Лавлинский, В. Я. Малкина.
Гротескное и фантастическое: образовательный потенциал
Вместо предисловия
Рассуждая о течении литературы Нового времени, Шарль Нодье утверждал, что «фантастика вторглась во все области, лежащие между ощущением и разумом». Думается, его высказывание справедливо вообще для всех явлений культуры, требующих одновременно рационального и чувственного познания. Образование (в том числе литературное) не является исключением, а между тем, роль фантастических и гротескных произведений в списках для обязательного изучения традиционно мала. Фантастика, фэнтази и другая аналогичная литература вся целиком считается беллетристикой, и ни в школе, ни в вузе почти никогда не рассматривается.
Безусловно, это нельзя считать нормальным положением вещей ни с точки зрения литературоведения и эстетики, ни с любых позиций научно обоснованных подходов к современному школьному и вузовскому гуманитарному образованию. Даже и без специальных теоретических рефлексий очевидно, что фантастическая литература (да и фантастическое искусство в целом), как некогда заметил видный теоретик-литературовед Н. Д. Тамарченко, «условность в кубе». Благодаря чтению и исследованию произведений, связанных с самыми различными и многомерными традициями фантастической литературы, формы условности в искусстве (в том числе и реалистическом) осваиваются не только более интенсивно, но и герменевтически продуктивно. Читатель, знающий законы, по которым создается и функционирует «фантастическая реальность» никогда не будет требовать от автора отражения / отображения «истинной действительности». К сожалению, в настоящее время это происходит сплошь и рядом, особенно в школьном образовании. Более того, массовое «изучение литературы в школе» и «подготовки к ЕГЭ» только способствуют распространению эстетической безграмотности и напрочь редуцируют способности читателей постигать «суть дела», как принято говорить в герменевтике. На филологических факультетах вузов ситуация немного лучше, но и там фантастика в основном лишь упоминается от случая к случаю.
Мы решили исправить пробел в адекватном освоении форм и смыслов фантастического в вузовских курсах истории и теории литературы в рамках научно-исследовательского спецсеминара «Визуальное в литературе», который уже несколько лет существует на кафедре теоретической и исторической поэтики Института филологии и истории РГГУ под руководством С. П. Лавлинского и В. Я. Малкиной. Семинар имеет две основные цели — научную, направленную на прояснение феномена визуального в литературе и связанных с ним понятий, и образовательную, ориентированную на новые формы работы и интеграцию студентов в научную деятельность как увлекательное и творческое занятие.
Основной принцип, на котором строится работа спецсеминара — это принцип равноправного диалога между всеми участниками: преподавателями, аспирантами, студентами разных курсов, профилей, направлений, факультетов и вузов. Все в равной степени — по мере своего желания, конечно — участвуют во всех формах работы: рецептивной, исследовательской, креативной, проектной. При участии руководителей и участников спецсеминара уже было проведено два творческих фестиваля, по результатам которых вышли две книги драматических произведений, несколько студенческих научных конференций, один сборник научных статей с материалами этой конференции, секции на главной конференции Института филологии и истории — «Белых чтениях», многочисленные выездные заседания, экскурсии, походы на выставки, в музеи, в театры.
Коммуникативно-деятельностная технология спецсеминара нацелена в первую очередь на значимую для нас соотнесенность и взаимодополнительность собственно исследовательских, рецептивно-рефлексивных подходов к произведению с креативными техниками творческого письма, позволяющими, с одной стороны, взглянуть на явления визуального извне (с позиций читателя-исследователя), с другой — с позиций «автора-визуала», моделирующего мир художественной реальности по законам «переигрываемой действительности» (Д. С. Лихачев). Разумеется, технологические основания подобного рода требуют использования тотально интерактивных стратегий и тактик семинарского общения, как уже давно использующихся в инновационном вузовском образовании, так и тех, что моделируются впервые.
Именно поэтому работа спецсеминара направлена на рефлексию проявления категории визуального в литературных произведениях, и, шире — в связанном с литературой культурном поле. Проблематика занятий в течение учебного года выстраивается так, чтобы, с одной стороны, могли присоединяться новые студенты, с другой — было интересно — не скучно! — постоянным участникам, с третьей — чтобы присутствовала магистральная линия, объединяющая и научные, и образовательные, и творческие проекты.
В 2016 / 2017 учебном году такой линией стал комплекс вопросов, связанных с изучением визуальных аспектов гротескного и фантастического. Тематика спецсеминара строилась следующим образом.
На первых занятиях была проведена подготовка — в форме докладов студенты освежили в памяти или освоили основные понятия и термины, связанные с категорией визуального в литературе и необходимые для дальнейшей работы: трансгрессия, точка зрения, перспектива, граница, пространство, портрет, пейзаж, интерьер, экфрасис и др.
Затем было уделено время фундаментальной работе о фантастическом, впервые поставившей вопрос о необходимости и способах ее системного изучения — книге Цветана Тодорова «Введение в фантастическую литературу», а также спору с ним Станислава Лема.
Потом был целый блок занятий, посвященный рефлексии категории фантастического в первой половине XIX века — как теоретической, так и в художественных текстах. С этих точек зрения были проанализированы две редакции повести Н. В. Гоголя «Вий», «Страшное гаданье» А. А. Бестужева (Марлинского), «Женщина из сна» У. Коллинза, «Пустой дом» Э. Т. А. Гофмана, а также статьи Ш. Нодье, В. Скотта, В. Белинского и работа В. Я. Малкиной о готическом романе и готической традиции в литературе.
Закончился семестр переходом от эпики к драме и обсуждению вопроса о гротескном и фантастическом в новейшей российской драматургии («Mutter» Вяч. Дурненкова, «Кухня» М. Курочкина, «Паб» бр. Пресняковых, «Другой человек» П. Гладилина).
Второй семестр в основном был посвящен обсуждению категории гротеска. Мы начали с подступов к понятию и важнейших теоретических работ о нем (М. М. Бахтина, Ю. В. Манна, Н. Д. Тамарченко, И. П. Смирнова, П. Пави и др.), а затем, опираясь на эти труды, читали и анализировали различные художественные тексты. Таким образом, были подняты темы о том, как соотносится в эпическом произведении гротескное и фантастическое (Ю. Олеша «Лиомпа» и Г. Эверс «Паук»), гротескное и ужасное (Г. Ф. Лавкрафт «Нечто в лунном свете» и «Дагон», Ю. Мамлеев «Урок» и «Голубой приход»), гротескное и абсурдное (М. Зощенко «Нервные люди», Д. Хармс «Неожиданная попойка»), возможно ли функционирование гротескного и фантастического в лирике, и что такое авантюрно-философская фантастика ХХ века.
Полный список тем заседаний выглядит так:
Визуальное в литературе: основные понятия и стратегии изучения
Фантастическое в теоретическом освещении: Цв. Тодоров. «Введение в фантастическую литературу»
Станислав Лем vs Цветан Тодоров: диалог писателя с литературоведом о теории фантастической литературы
Фантастическое в готической традиции.
Фантастическое в повести Н. В. Гоголя «Вий»
Фантастическое как предмет рефлексии в первой трети XIX века.
Гротескное и фантастическое в драматургии.
Подступы к теоретическому определению гротеска
Гротеск в концепциях Ю. В. Манна, М. М. Бахтина и Н. Д. Тамарченко.
Гротеск в интерпретации И. П. Смирнова и П. Пави.
Гротескно-фантастические твари и принципы их создания
Гротескное и фантастическое в «ужасном» произведении
Гротескное и абсурдное в эпическом произведении
Фантастическое, гротескное и абсурдное в лирическом стихотворении.
Поэтика и эстетика фантастического: опыт теоретической интерпретации.
Поэтика авантюрной фантастики ХХ века
Поэтика авантюрно-философской фантастики: концепция Н. Д. Тамарченко
Визуальные аспекты авантюрно-философской фантастики.
В это системное изучение понятий встроились и два дополнительных больших мероприятия. В октябре 2016 года в рамках «Белых чтений» была организована секция «Визуальное в литературе», на которой изучались проблемы гротескного и фантастического в творчестве А. Грина и С. Кржижановского — по результатам заседания был подготовлен раздел в соответствующем сборнике.
И, наконец, в марте 2017 года состоялась VIII межвузовская студенческая научная конференция «Гротескное и фантастическое в культуре: визуальные аспекты». Интерес к теме оказался очень высоким: было подано более 60 заявок, после весьма жесткого отбора в программу было включено тридцать пять, так что заседания шли два полных дня при большом скоплении слушателей. Дискуссии, которыми сопровождались доклады и круглые столы, подтвердили продуктивность данной проблематики для изучения самого различного материала.
Конференция не только выявила и прояснила некоторые новые для участников семинара аспекты гротескного и фантастического, но и обозначила особые повороты в теоретическом осмыслении визуальных аспектов произведений самых разных видов искусства, моделирующих искаженные «миры без границ возможного» (Н. Д. Тамарченко). Таким образом, как и любая настоящая научная конференция, наш форум оказался скроенным «на вырост». Вполне возможно, то новые повороты данной проблемы станут темой для следующей студенческой научной конференции (во всяком случае, пожелания участников на этот счет были).
Структура книги не совсем соответствует программе конференции: часть докладчиков не приняли участие в подготовке материалов к изданию, и напротив, те, кто по разным причинам не смогли прочитать доклад на конференции — подготовили статьи.
В итоге, первая часть сборника посвящена рассказу о конференции. Второй раздел включает две теоретические статьи, осмысляющие заглавные категории фантастического и гротескного. Три следующие части посвящены тому, как эти понятия функционирует в трех разных родах литературы, а последний раздел посвящен визуальным искусствам — кино, мюзиклу и комиксам. В целом сборник, конечно, не претендует на полноту освещения проблематики визуальных аспектов гротескного и фантастического, но, как мы надеемся, создает достаточно репрезентативную картину.
И последнее. Меньше чем за месяц до начала нашей конференции, в ночь с 6 на 7 февраля 2017 года, умер Цветан Тодоров, открывший новые пути изучения фантастической литературы. Мы обязаны ему представлением о том, как она начиналась, с каких сторон к ней можно подходить, как связаны фантастическое и визуальное, что такое трансгрессия взгляда и зачем она нужна в искусстве и культуре в целом, и много чем еще. В конце концов, если бы не он, то, скорее всего — ни нашей конференции, ни этой книги не было бы, поэтому мы посвящаем наши труды его светлой памяти.
Событие конференции

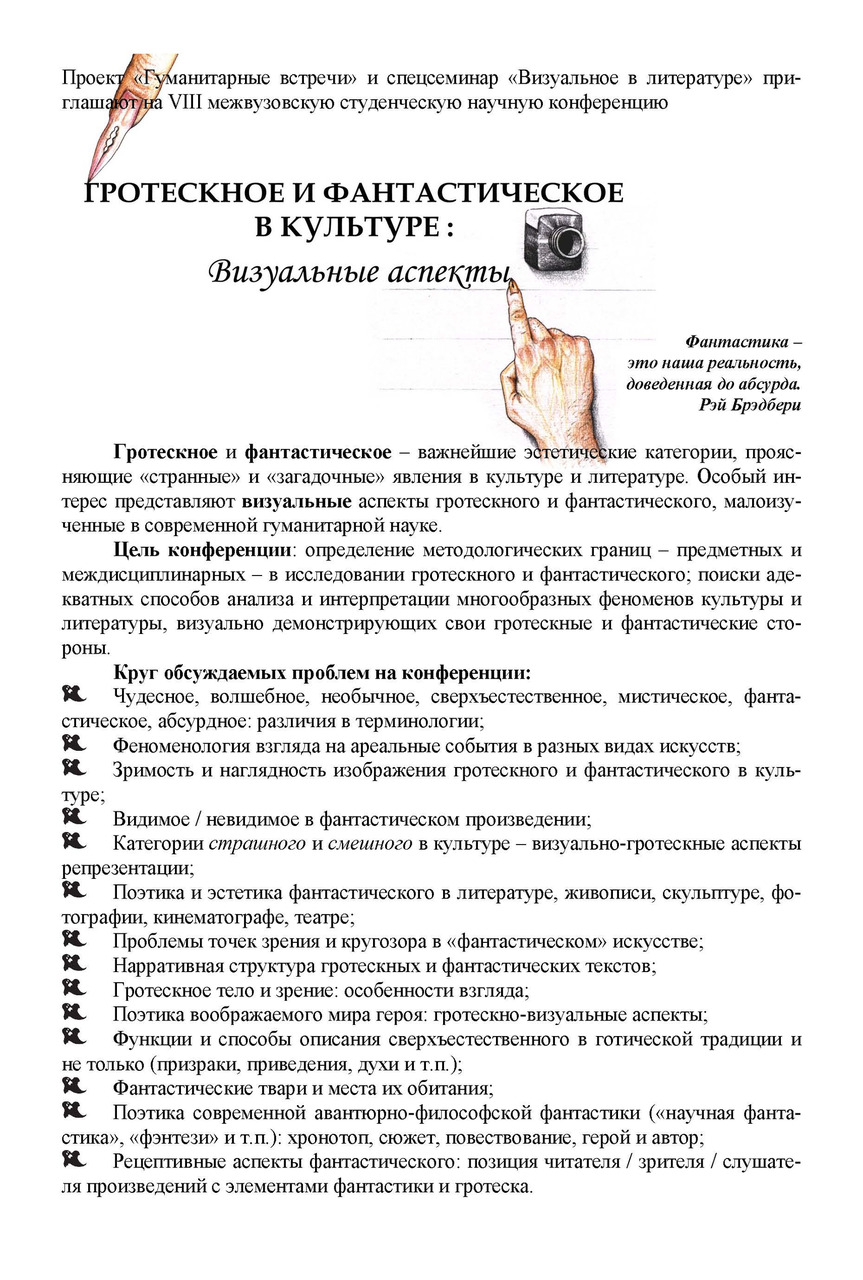
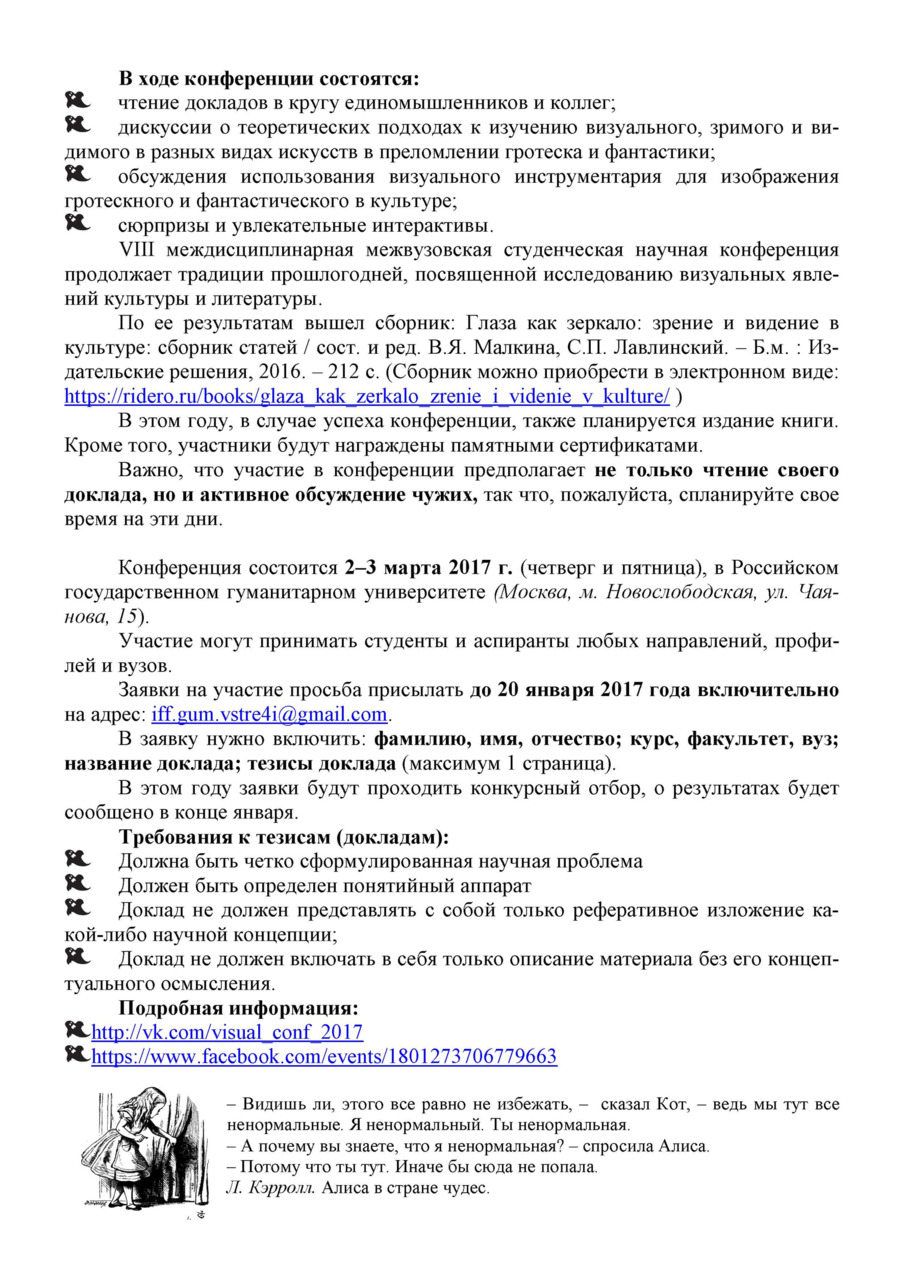
М. В. Дубовская, Е. О. Киреева. Гротескное и фантастическое в культуре: визуальные аспекты: VIII межвузовская студенческая научная конференция
2 и 3 марта 2017 года в Институте филологии и истории РГГУ прошла VIII межвузовская студенческая научная конференция «Гротескное и фантастическое в культуре: визуальные аспекты», организаторами которой, как и в прошлые годы, выступили проект «Гуманитарные встречи» (студенческое научное общество ИФИ) и спецсеминар «Визуальное в литературе» под руководством С. П. Лавлинского и В. Я. Малкиной.
Состав участников в этом году заметно расширился: в ней приняли участие студенты и аспиранты из РГГУ, МГУ, НИУ ВШЭ, ИМЛИ, ИВГИ, ВГИК, ГИТИС, СПбГУ, УрФУ, Челябинского ГУ и даже Белорусского ГУ. Таким образом, география конференции в этом году получилась разнообразной: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск, Минск.
Заседание конференции открывали руководители спецсеминара «Визуальное в литературе» Виктория Яковлевна Малкина и Сергей Петрович Лавлинский. Обратившись с приветственным словом к участникам конференции, они рассказали о существующих стратегиях изучения гротескного и фантастического и подчеркнули важность обмена исследовательским опытом и равноправного диалога всех участников, что всегда было и остаётся целью проекта «Гуманитарные встречи».
Традиционно все прозвучавшие доклады оказались связаны между собой и органично дополняли друг друга в рамках общего проблемного поля: гротескного и фантастического в культуре в их визуальном преломлении. Докладчики обращались к проблеме определения гротескного и фантастического на примерах из различных видов искусства (литература, фотография, кинематограф, театр), используя широкий спектр методологий, и благодаря этому максимально полно охарактеризовав явление гротескного и фантастического в культуре.
Так, одним из «сквозных мотивов» конференции стала проблема изображения гротескного тела. Анна Яковец (МГУ) в докладе «Этот смутный объект желания: эротизация вещи и тактильный взгляд в раннесоветском рассказе («История парикмахерской куклы» А. Чаянова и «Серый автомобиль» А. Грина)» обратилась к проблеме эротизации неживого объекта, а Анна Дулина (МГУ) исследовала способы изображения гротескного тела в связи с концепцией карнавальной культуры в докладе «Концепция гротескного тела в новелле «Писец Бартлби» Г. Мелвилла: как едят герои и почему это важно». Также аспекты изображения гротескного тела и его функции в драматургическом тексте были затронуты в докладе Евгении Киреевой (РГГУ) «Функции гротеска в пьесе Ф. Дюрренматта «Визит старой дамы», а также в докладе Ирины Григорян «Гротескный субъект в пьесе И. Вырыпаева «Кислород»». Изображению гротескного тела в кино был посвящён и доклад Виктора Непша (СПбГУ) «Особенности взгляда на гротескное тело в «Трилогии Живущего» Р. Андерссона».
Проблема поиска тела, а именно визуализация тела человека-невидимки посредством нарратива, прозвучала в докладе Марии Козловой (УрФУ). Соотношение гротескного / фантастического и видимого / невидимого фигурировала также в докладе Александры Бабушкиной (РГГУ) «Правда, которую мы видели в зеркале», анализирующем проблемы видения гротеска на примере сборника рассказов Н. Тэффи «Ведьма», и в докладе Александра Беларева (ИМЛИ), поведавшего об образе космического глаза в прозе П. Шеербарта.
К проблеме изучения фантастического обратились Елизавета Козлова (РГГУ) в докладе «Фантастическое в визуальном преломлении в новелле Э. По „Лигейя“» и Софья Унковская (РГГУ) в докладе «Фантастическое превращение в рассказах Р. Бредбери „Были они смуглые и золотоглазые“ и „Земляничное окошко“».
Ещё одним сквозным сюжетом конференции, вызвавшим увлечённые обсуждения, стала проблема границы между жизнью и смертью, связанная, в свою очередь, с мотивом памяти. Так, к реализации мотива памяти в драматургии обратились Николь Филина и Роберт Лашин в докладе «Гротескные особенности конфликта в пьесе В. Сигарева «Фантомные боли»», а также Анна-Мария Апостолова (РГГУ) в докладе «Границы реального и фантастического в современной отечественной драматургии». Изображению персонификации смерти в современном театральном искусстве был посвящён доклад Марии Дубовской, Александры Ельницкой и Евгении Киреевой (РГГУ) «Образ Смерти в мюзикле М. Кунце и С. Левая «Элизабет»». Виктория Сайфутдинова (УрФУ) осветила в докладе «Путь по коридору: визуализация внутренних поисков («Степной волк» Г. Гессе и «Солярис» С. Лема)» образы лабиринта и коридора как иносказательного погружения в своё внутреннее «я» в произведениях, с фантастическим и/или гротескным элементом, а Мария Малиновская (РГГУ) в докладе «Новый эпос: фантастическая поэзия реальна?» рассказала о сложности и многообразности трактовок событийного ряда в новейшей фантастической поэзии. Об удивительных существах, появляющихся в детских спектаклях слушатели узнали от Зои Бороздиновой (ГИТИС) и её доклада «Фантастические твари и сцены их обитания. Трансформация «сказочного утренника» как ответ на вызовы современности».
Отдельные секции конференции были посвящены гротескному и фантастическому в визуальных искусствах. Так, Анастасия Бабина (ВГИК) в докладе «Приём гротеска в драматургии фильма» исследовала гротеск как кинематографический приём, Мария Самаркина (РГГУ) говорила о гротеске в лирике о фотографии. Алексей Корзун (Белорусский ГУ) изучал, как гротескный мир взаимодействует с «идолом лирического „я“» в книге Г. Дашевского «Дума Иван-чая», а Юрий Куликов (Челябинский ГУ) рассказывал о гротеске и проблеме синтеза искусств в сборнике Э. Т. А. Гофмана «Фантазии в манере Калло». Екатерина Кулиничева (РГГУ) исследовала проблему миграции фантастического в повседневность в докладе «Комикс как метафора. Миграция фантастического в повседневность: визуальные и нарративные аспекты», а Анастасия Каменева (РГГУ) подняла проблему зин-культуры как гротескного явления в докладе «Зин-культура в России сегодня: визуальные аспекты».
Сразу два доклада были посвящены чудесному и фантастическому в поэзии Пастернака: Алина Уланова (РГГУ) говорила о функционировании и способах изображения фантастического в его лирике с повествовательным компонентом, а Анна Мухина (Н. Новгород, ВШЭ) продолжила эту тематику в докладе «Визуальные аспекты чуда в стихотворении Б. Пастернака „Сказка“». Визуальная проблематика лирики получила своё развитие в докладе Марины Козловой (РГГУ), где она исследовала визуальные трансформации городского пространства Парижа.
Логическим завершением конференции стала коллективная рефлексия, подведение итогов и вручение памятных благодарственных писем участникам.
В целом, конференция «Гротескное и фантастическое в культуре: визуальные аспекты» — это непрерывный и увлечённый интеллектуальный обмен, продуктивный диалог между начинающими учёными из разных вузов и городов, объединённых общими научными интересами и стремлениями. Очень хочется верить, что традиция студенческих конференций в РГГУ будет продолжаться.

П. С. Казаринова. Вся правда о конференции «Гротескное и фантастическое в культуре»
Сергей Петрович Лавлинский сказал, что конференция — это исследовательское сообщество людей, которые хотят обсудить интересующие их темы, а не просто прочитать свой доклад и уйти. И прошедшая в начале марта в течение двух дней VIII межвузовская студенческая конференция «Гротескное и фантастическое в культуре» — прошла более чем успешно и превзошла ожидания как участников, так и организаторов!
К сожалению, люди привыкли, что связанные с наукой мероприятия зачастую непонятны и скучны. Однако в этот раз все было иначе. Можно привести как минимум пять причин:
Пришло много людей, причем были гости из других городов, что вывело конференцию на новый уровень.
Выводы и наблюдения над фантастическим и гротескным основывались на конкретном материале, а не на абстрактных теориях. И позже доклады становились предметом живого обсуждения.
В разговорах часто возникали фразы и отсылки к уже прозвучавшим докладам. Это создало в коллективе дружескую атмосферу, и появилось стойкое ощущение, что всё друг с другом связано.
Формулировка темы конференции позволила не ограничиваться литературой, а говорить о кино, театре и даже комиксах. Такое разнообразие позволило изучить основную тему с разных точек зрения, тем самым расширяя понятия гротескного и фантастического и делая их проявления в современном мире более ясными. Как сказала одна из участниц конференции, «олитературоведченные гротескное и фантастическое не замыкаются на тексте, являются живыми и развиваются».
Конференция была организована студентами и преподавателями спецсеминара «Визуальное в литературе», которые рассматривают заявленную тему уже второй семестр. Понимание проблематики, стремление поделиться своими наблюдениями и идеями, желание подать материал на высоком уровне — все это сделало мероприятие интересным для каждого.
Конференция является ежегодной, и тема была утверждена еще в том году. Подготовка к ней началась после Белых чтений в октябре. Тогда был написан анонс, и начался сбор заявок. В феврале был отбор, а также были осуществлены последние приготовления технического характера.
Почему конференция названа «студенческой»? Как сказано выше, студенты под руководством преподавателей принимали непосредственное участие в организации и проведении конференции. Можно было попробовать себя в роли фотографа, оператора, модератора, докладчика и даже ответственного за кофе-брейки. Появился опыт общения с охраной, работы на стойке регистрации, а также в пиаре мероприятия. Все это не проходит бесследно и позволяет применить полученные знания на практике в других сферах своей жизни, и в работе в том числе.
Что же такое необычное люди узнали на конференции? Они узнали, каким гротескное может быть в раннесоветском рассказе, в драматургии фильма, в лирике о фотографии, в театре; как фантастическое проявляется в визуальных аспектах (в частности, как происходит визуализация внутренних поисков), в драме, в комиксах, в зин-культуре. Все это сопровождалось презентациями и наглядными материалами. На данном мероприятии было вполне реально найти направление или тему для собственного исследования, которую впоследствии можно оформить в доклад, курсовую или диплом.
В качестве заключения приведем слова Виктории Яковлевны Малкиной: «У докладчиков не раз мелькала фраза, что „это не моя сфера интересов, но…“ — и после этого следовал интересный и качественный доклад. Для нас это важно, потому что благодаря конференции люди начинают заниматься чем-то новым, совершают новые открытия, находят новые дороги».

Гротескное и фантастическое как теоретические понятия
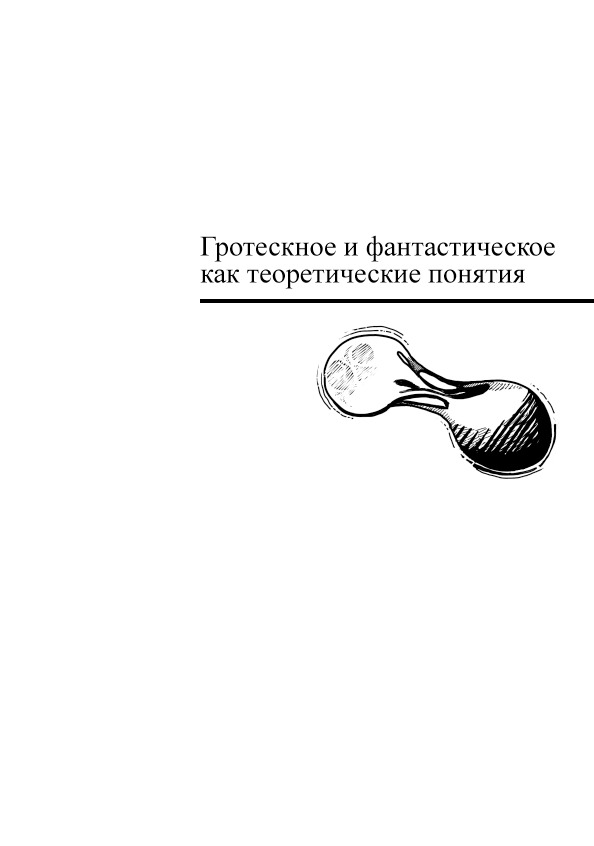
С. П. Лавлинский, В. Я. Малкина, А. М. Павлов. Фантастическое как теоретико-литературная и эстетическая категория
Дискурсивно-визуальные аспекты
Серьезный научный диалог о фантастическом в обязательном порядке требует фиксирования пунктирных, однако весьма значимых границ теоретической интерпретации данного понятия. В нашей статье предлагается обратить внимание на некоторые наиболее значимые положения и примеры, демонстрирующие не только структуру фантастического в художественном произведении, но и вполне конкретные стратегии его рецептивного опознания. Мы уверены, что предлагаемое пропедевтическое ознакомление читателя с традициями конструирования и истолкования фантастического в литературе и науке придаст чтению материалов конференции, вошедших в эту книгу, более концептуальный характер. Разумеется, авторы статьи осознают ее конспективный характер и надеются выдвигаемые здесь тезисы и отдельные наблюдения в дальнейшем развернуть, уточнить и углубить.
Категория фантастического в литературе чаще всего интерпретируется как литературоведческая и эстетическая категория, которая обозначает в первую очередь специфический тип художественной образности, основанный на принципе тотального смещения / совмещения границ «возможного» и «невозможного», явленного в визуальных очертаниях в «перцептуальном сознании» реципиента. Фантастическое «представляет собой <креативно-рецептивный> опыт границ» (Ц. Тодоров), визуально маркированную ««морфологическую» рекомбинацию предметов (частей мира)» (Е. Фарино) и определяется нарушениями принятой нормы художественной условности и/или системно-устойчивых принципов правдоподобия (естественнонаучных, эмпирических, так сказать, «объективно воспринимаемых»). Нарушения такого рода, как правило, мотивируются столкновением героя (и/или читателя) со «странным» / «невообразимым» явлением, выходящим за рамки той картины мира, которую принято считать «обычной» (или «объективной»).
Категория фантастического используется в качестве инструмента проявления структурно-ценностной организации «остраненного» мира, где привычные (для героя и/или читателя) элементы действительности (часто визуально явленные), а также язык, ее описывающий и выражающий, сочетаются неожиданным / невероятным способом. В одном случае эта категория проясняет намеренную иносказательность, высокую степень условности изображенной реальности, необычной с точки зрения внехудожественной (например, в жанрах видений и притч), в другом — её онтологическую безусловность и буквальный смысл (например, в фантастике авантюрно-философской). Между этими эстетическими полюсами «имагинативной репрезентации» свойства фантастической образности могут проявляться в отдельных частях «нефантастических» произведений. Например, в целом в нефантастическом мире повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» фантастическое внезапно «вторгается» в жизнь: стоит герою пожелать солёных рыжиков и пирожков, как скатерть с пирожками и рыжиками тут же является на стол и т. д. Однако наиболее концептуально фантастическое опознается читателем как таковое в произведениях, жанровое и дискурсивное целое которых маркируется в рецептивном сознании как «фантастика».
Многогранность и напряженность рецепции фантастического всегда зависит от исторически меняющихся кодов репрезентации «возможного» и «невозможного», принадлежащих конкретной литературной (и — шире — культурной) эпохе, их связей с предшествующей традицией, а также в немалой степени от эстетического опыта читателя. Специально отметим, что именно восприятие фантастического в литературе наложило особый отпечаток на рецепцию фантастического в произведениях других видов искусства (в частности, театра и кинематографа).
Внутренняя форма понятия фантастического указывает на его онтологическую связь с феноменом воображения («имагинации») и может рассматриваться в качестве одной из наиболее проявленных форм воображаемого в литературе и в культуре в целом. В «имагинативной гносеологии» (Н. Конрад) Я. Э. Голосовкера все культурные смыслообразы — философские и художественные системы, образцы нравственного совершенства, социальные идеалы и т. п. — интерпретируются часто как результат деятельности воображения. «Имагинативный побуд», по мысли философа, есть наивысшая потребность человеческого духа в фантастическом. Он обусловлен стремлением человека к постоянству в противовес непрестанной изменчивости мира природы и истории. Осознавая, что всё вокруг быстротечно, неустойчиво, текуче и движется от жизни к смерти, человек создаёт в своём воображении мир фантастического как истинно реальный «мир неизменного, мир постоянств». Вот почему «культурное сознание имагинативно по своей природе <…> т. е. оно есть имагинативная реальность, которая для нас реальнее любой реальности вещной».
Интерпретация Я. Э. Голосовкером природы имагинативной реальности перекликается с феноменологической концепцией воображаемого, предложенной Ж.-П. Сартром. Он считал, что воображение, модусом которого и выступает фантастическое, является не «эмпирической и дополнительной способностью сознания», а «самим сознанием в целом, поскольку в нём реализуется свобода сознания; любая конкретная и реальная ситуация сознания в мире наполнена воображаемым в той мере, в какой она представляет собой выход за пределы реального». Чтобы сознание могло воображать, необходимо выполнение двух условий: «оно должно полагать мир в его синтетической тотальности и в то же время полагать воображаемый объект как находящийся вне пределов досягаемости со стороны этой синтетической совокупности, то есть полагать мир как небытие относительно образа». Чтобы кентавр возник как нечто фантастическое, нужно, «чтобы мир схватывался именно как мир-где-кентавра-нет, а этот последний может возникнуть только в том случае, если сознание в силу различных мотивов схватило мир именно таким, в котором кентавру нет места».
Благодаря воображению человек, по Ж. П. Сартру, приобщается к «магической» ментальности сновидца, первобытного дикаря и ребёнка, поскольку именно первобытное (=детское) мышление порождает такой «образ мира», в котором граница между возможным и невозможным отсутствует. Именно поэтому так органичен здесь переход одной формы в другую (закон метаморфозы), соединение в единое целое элементов, кажущихся несовместимыми с точки зрения «реалистического» (неимагинативного) сознания (кентавр, сфинкс). Представление о фантастическом как «искусстве воображения» фиксируется в понятии-метафоре, предложенном Е. Д. Тамарченко: фантастическое есть «граница границ» — «точка, где неразличимо сливаются и (или) неслиянно и нераздельно присутствуют разграничиваемые области и противоречия».
Нарушение привычной границы между возможным и невозможным отнюдь не означает, что фантастический образ есть чисто внешняя комбинация случайных элементов. По Ж.-П. Сартру, в отличие от реального объекта, данного в восприятии, фантастический образ — это всегда синкретический акт, в котором «репрезентативный элемент и элемент знания» соединяются в единое целое, обладающее своей особой интенцией. В фантастическом образе объект представляется нам сразу и извне, и изнутри: «извне, потому, что мы его наблюдаем; изнутри, поскольку это в нём мы воспринимаем то, что он собой представляет». На эту же нерасчленённость в фантастическом образе «квазинаблюдаемого» внутренним взором и смысла как такового обращал внимание и Я. Э. Голосовкер, отмечая, что «из порыва зрения, слуха, обоняния, осязания рождался познавательный порыв зреть, слышать, обонять <…> и овладеть и понимать всё это в себе самом, ибо если понимания нет, то рождается порыв всё это воображать, выдумывать и даже придумывать само понимание всего». Возникновение фантастического образа, с феноменологической точки зрения, есть не что иное, как визуально эксплицированное полагание смысла.
Обратимся к древнему мифологическому образу Тартара. Известно, что это пространство, находящееся в самой глубине космоса, ниже Аида, и на столько отстоит от него, на сколько земля от неба (если бросить медную наковальню с неба на землю, то она долетит до земли за девять дней; за это же время она долетит от земли до Тартара). Такой «зримый» образ мироустройства, порождаемый воображением древнего человека, является смыслополагающим: одинаковые расстояния между разными участками мира свидетельствуют о его предельном единообразии, космичности, упорядоченности, не допускающей ничего, что бы выпадало из этой стройной соразмерности всего со всем.
Смысловая «законная» целесообразность сцепления разнородных элементов в единый образ открывает широкие просторы для креативно-познавательных возможностей фантастического в литературе. По Ю. М. Лотману, фантастика является прежде всего разновидностью художественного познания жизни, «наиболее элементарным случаем перераспределения» явлений окружающей нас действительности с целью «дешифровки» их смысла: «явление реального мира предстаёт в неожиданных, запрещённых бытовой практикой сочетаниях или в такой перспективе, которая раскрывает скрытые стороны его внутренней сущности».
Однако не всякое «отступление» от законов эмпирической действительности в литературном произведении имеет отношение к фантастическому. Вспомним знаменитые претензии учёных-естественников к роману «Анна Каренина»: лошадь ломает хребет в ситуации, в которой в реальной жизни сломать хребет невозможно. Подобные «отклонения» от правдоподобия нельзя рассматривать как фантастические, поскольку они не нарушают общей картины мира, вполне сознательно созданной автором как аналог объективной реальности. Будучи включёнными в общий ряд ситуаций, не противоречащих её законам, эти «несоответствия» не приводят к «перверсии вещей привычных» (Р. Лахманн), а потому «проносятся» мимо читателя, и, как правило, не вызывают удивления с его стороны.
Другое дело — фантастический образ. С точки зрения Р. Нудельмана, появляющийся в произведении фантастический образ «как „невозможное“ вступает в немедленное противоречие с „возможным“ — другими <…> объектами и явлениями», что ведёт к «цепной реакции пересоздания действительности», которая сопровождает развитие сюжета. Этот тезис Р. Нудельман доказывает на основе рассмотрения повести Н. В. Гоголя «Нос». С самого начала произведения фантастическая ситуация нахождения носа, запечённого в хлеб, приводит к качественной «перестройке» всего изображённого мира, делая его гротескно-фантастическим, уподобленным сну. Доказательством того, что перед читателем возникает фантастическая реальность, могут служить не только описываемые «приключения» носа, но и тот факт, что всё необычное вызывает абсолютно обыденные реакции у «обитателей» этого мира. Нечто аналогичное происходит, по Вл. Набокову, и в новелле Ф. Кафки «Превращение»: «Обратите внимание на душевный склад этих идиотов у Кафки, которые наслаждаются вечерней газетой, невзирая на фантастический ужас, поселившийся в их квартире». Именно в таких случаях разрушение привычного порядка вещей и вызывает у читателя «аффект удивления» (Р. Лахманн). В авантюрно-философской фантастике XX–XXI вв. «невозможное» вообще изначально дано как нечто буквально существующее, а, стало быть, без-условное — здесь перед читателем предстает образ уже тотально «пересозданной» действительности, «мир без границ возможного» (Н. Д. Тамарченко), «мир без дистанций» (Е. Д. Тамарченко).
Фантастическое в литературе и других видах искусства, так или иначе связанных с литературой, по-разному проявляет себя и имеет различные художественные функции. Во-первых, фантастическое в своей сверхъестественной ипостаси «волнует, страшит или просто держит читателя в напряженном ожидании» (прагматическая функция), во-вторых, — фантастическое манифестирует само себя, — «это своего рода самообозначение» (семантическая функция), в-третьих, — фантастическое «служит целям наррации», поскольку «позволяет предельно уплотнить интригу» (дискурсивная функция).
В одном случае автор произведения создает отдельно существующий фантастический мир («Путешествие Гулливера» Дж. Свифта, «История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина), в другом — соотносит два миропорядка — «естественный» и «сверхъестественный»: как, например, в новелле Г. Уэллса «Страна слепых», где со-противопоставлены естественный, «зрячий», мир и легендарный, фантастический социум слепцов. В последнем случае важную роль приобретает образ границы (пространственно-временной и ценностной) между семантическими сферами «естественного» и «сверхъестественного».
Фантастическое, с одной стороны, может порождаться так называемым «тропеическим механизмом» («овеществлением метафоры», по Т. А. Чернышёвой); с другой, — специфическим расположением пространственно-временных «фрагментов» изображаемой реальности.
В первом случае троп (метафора в широком смысле), реализуясь в тексте, «создает особый язык повествования и хронотопа» (А. В. Синицкая), развёртывается в конкретную фабульную ситуацию (таинственный индиец сворачивается в клубок и катается по дворцовым помещениям халифа в повести У. Бекфорда «Ватек»; горящее сердце Данко в рассказе М. Горького «Старуха Изергиль») или вообще в целостную фабулу («Страница истории», «Неукусуемый локоть», «Дымчатый бокал» С. Кржижановского). «Буквализация метафоры», её «представленность во плоти» (Т. А. Чернышёва) открывает возможности для «немиметического» способа повествования, актуализированного в художественной практике ХХ века. Буквализация тропов, идиоматических высказываний лежит также в основе фантастики нонсенса: в произведениях Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» (1865) и «Алиса в Зазеркалье» (1871) героиня на самом деле чуть не проваливается под землю, купается в собственных слезах, Анютины Глазки подмигивают Алисе, маргаритки зеленеют от ужаса и т. д.
Во втором случае фантастическое возникает из-за нарушения существующих пропорций и форм изображаемого объекта (часто — мира в целом), слияния в нём «качественно разнородных и в реальности несовместимых элементов» (Р. Нудельман), «преодоления пространственно-временных барьеров и запретов реальности» (Е. Д. Тамарченко). Так, например, в романе Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества» дождь идёт 4 года 11 месяцев, 2 дня.
Скорее всего, названные формы фантастического «обратно пропорциональны» друг другу. Если первый вариант связан с созиданием особой «немиметической реальности» самим механизмом языка (слово, овеществляясь, порождает мир), то второй вариант представляет особую реальность, неизбежно требующей перестройки языка и изменения к нему отношения (мир порождает соответствующий язык, слово).
Один из важнейших принципов фантастического — принцип когерентности, т. е. внутреннего соответствия элементов фантастического друг другу. Так, оживление статуи в финале новеллы П. Мериме «Венера Илльская» воспринимается как достоверное благодаря предшествующим событиям, которые подготавливают приход статуи в дом (восприятию ее как живого существа, женитьбе Альфонса, истории с кольцом, которое герой надевает на безымянный палец статуи и т.п.). В других случаях подобная когерентность фантастического «образа мира» достигается множественностью точек зрения на «невообразимое» событие, каждая из которых не только не отрицает его, но наоборот, подтверждает факт свершения, высвечивая новые грани произошедшего. Подобная система точек зрения представлена в новелле Р. Акутагавы «Лошадиные ноги», герой которой Осино Хандзабуро скончался от удара; в загробном мире ему сообщают о том, что произошла ошибка; его отправляют обратно, в мир живых, меняя начинающие гнить ноги на лошадиные, поскольку ноги умершего некоего Генри Баллета прибудут нескоро. Новелла посвящена «приключениям» героя с лошадиными ногами в мире живых. Несмотря на то, что в новелле возникает другая версия событий (герой вовсе не умирал, а три дня лежал без сознания), целый ряд фактов подтверждает первую версию. Во-первых, лошадиные ноги видела жена Осино Цунэко и слышала стук копыт; во-вторых, рассказчик не только не отрицает записи о лошадиных ногах в дневнике героя и показания Цунэко, но и находит подтверждение своей позиции. Из заметки в газете выясняется, что Генри Баллет действительно умер в день «воскресения» Осино Хандзабуро.
Рецептивную стратегию фантастического мира определяет парадокс. Фантастический мир — это всегда «реальность нереального», требующая «онтологической самоотдачи» читателя, его «первичной веры, сколь бы ни были чудесными события» (Д. Р. Р. Толкиен). По Тодорову, буквальное восприятие событий, выходящих за грани возможного, их необходимая визуализация — коренное условие существования фантастического, отличающее его от метафорических образов в лирике и «чистой» аллегории.
Цв. Тодоров первым отметил, что фантастическое в значительной степени определяется колебаниями читателя (и героя) в выборе между двумя траекториями правдоподобия — «естественной» и «сверхъестественной», сопровождающимися сомнением в онтологической природе изображенных событий и явлений: «Если имеет место необычный феномен, его можно объяснить двояко — естественными или сверхъестественными причинами. Колебания в выборе объяснения и создают эффект фантастического». Такая интерпретация фантастического опирается прежде всего на образцы готической литературы («Влюбленный дьявол» Ж. Казота, «Рукопись, найденная в Сарагосе» Я. Потоцкого), рецептивная установка которой была унаследована романтиками (Э. Т. А. Гофман, Э. А. По), неоромантиками (Р. Л. Стивенсон, Б. Стокер, А. Грин), символистами (О. Уайльд, Э. Дансейни, Г. Г. Эверс). Для произведений подобного типа наиболее продуктивным (но не обязательным) является повествование от первого лица (новеллы Т. Готье, Э. По, «Инес де Лас Сьеррас» Ш. Нодье, «Он?», «Орля», «Кто знает?» Г. де Мопассана). Фигура рассказчика («я»), как правило, обычного человека, столкнувшегося с явлением, выходящим за рамки его представлений о «возможном», способствует здесь интенсивной интеграции читателя в «искаженный мир» с его пространственно-временной и ценностной спецификой.
Фантастическое чаще всего определяет разновидности эпического мировосприятия, реже — драматического и лирического. Именно поэтому развитие представлений о фантастическом в литературе в первую очередь соотносят с жанрами эпики, которые художественно исследуют многомерность бытия, включающего в себя не только элементы возможного, но также и невероятного (сказка, героическая эпопея, видения, притча, утопия, антиутопия, повесть, новелла, роман).
Поскольку драма и театр как вид искусства, непосредственно связанный с этим родом литературы, исходят из буквально «зримой ирреальности» (П. Пави) ограниченного времени и пространства, им нелегко противопоставлять «возможное» и «невозможное», «естественное» и «сверхъестественное». Как отмечает П. Пави, с одной стороны, театр не породил в отличие от эпоса «великой драматической фантастической литературы», с другой, «напротив, эффект очуждения, театр чудес, феерия обрели свои сценические приемы, соседствующие с фантастическим». В текстах классической драмы одним из наиболее часто встречающихся носителей фантастического является призрак («Гамлет» В. Шекспира, «Дон-Жуан» Мольера) — явный или кажущийся проводник в потусторонний мир героя и читателя (зрителя). Появление сверхъестественного персонажа как движителя драматического сюжета, создание общей атмосферы фантастического связано в истории драмы с традициями феерии — пьес с эффектами магии, чуда, яркой зрелищности, вводящими в действие мифологических и фольклорных существ, фей, демонов, призраков и пр. («Золотое руно» Корнеля, «Психея» Мольера, комедии дель арте, комедии-фиабески, драматические сказки К. Гольдони и К. Гоцци). В этом отношении особую роль фантастическому отводится в трагедии Гете «Фауст» (1808–1831), которую можно считать своеобразной «энциклопедией фантастической драмы».
В «постгетевской» драме XIX — XXI вв. фантастическое встречается, когда драматурги обращаются к гротескно-символическому типу условности, в одном случае придающему произведению особого рода «лирический драматизм» (М. Метерлинк, Э. Верхарн, И. Анненский, А. Блок, ранний В. Маяковский, А. Арто и др.), в другом, — привносящему в его структуру элементы эпического расширения границ «перевернутой» реальности (Л. Андреев, В. Хлебников, Вл. Набоков, Д. Хармс, Э. Ионеско, Е. Шварц, М. Булгаков и др.), в третьем, — связывающему его с традициями литургической драмы и мистерии (В. Маяковский, Б. Шоу, Б. Брехт). В каждом конкретном случае драма, использующая эстетику фантастического, стремится к изображению вневременных, вечных конфликтов, развивающихся в условном пространстве «внутреннего» и/или «внешнего» мира, где человек противостоит сверхличным силам (Богу, дьяволу, року, судьбе и т. п.). Так, в драме абсурда («антидраме») гротескно-фантастическая образность выполняет функции игрового «раздувания эффектов» (Э. Ионеско), нарочитого искажения стереотипов «правдоподобия» и, в конечном счете, прояснения природы тотальной обреченности человека на одиночество в мире онтологической бессмыслицы («Елизавета Бам» Д. Хармса, «В ожидании Годо», «Игра» С. Беккета; «Лысая певица», «Амедей, или Как от него избавиться», «Носорог» Э. Ионеско).
Особую роль фантастическое приобретает в современной драме. Появление фантастического в новейших пьесах обусловлено, видимо, главным предметом её художественного освоения — «кризисом идентичности», являющимся одним из исторических вариантов кризиса частной жизни, репрезентируемого именно драмой как литературным родом. Смещение/совмещение границ возможного и невозможного становится продуктивным при «построении» «образа мира» (и образа человека) в современной драме. Последний часто сознательно выстраивается автором не в соответствии с «эстетикой готового завершённого бытия», связанной с «с четкими и незыблемыми границами между всеми явлениями и ценностями» (М. М. Бахтин), в том числе, между возможным и невозможным, а в соответствии с гротескной (гротескно-фантастической) «эстетикой становления». Гротескно-фантастические метаморфозы персонажей, художественного времени и пространства объясняют продуктивность уподобления изображённого мира в современной драме хронотопу сна, кошмара, галлюцинации, видения (что часто затрудняет возможность визуально-сценической «конкретизации» изображаемого). В качестве примеров можно привести такие произведения, как «Ю» О. Мухиной, «Чайная церемония» А. Строганова, пьесы братьев Пресняковых, М. Курочкина и др.
Проблема фантастического в лирике относится к числу наименее исследованных. Цв. Тодоров считал, что фантастического в поэзии быть не может: «Если, читая текст, мы отвлекаемся от всякой изобразительности и рассматриваем каждую фразу как чисто семантическую комбинацию, то фантастическое возникнуть не может; как мы помним, для его возникновения требуется наличие реакции на события, происходящие в изображаемом мире. Поэтому фантастическое может существовать только в вымысле; поэзия фантастической быть не может». Это связано с тем, что Цв. Тодоров, во-первых, отказывал поэзии в изобразительности, считая, что она «лишена способности вызывать представление о чем-либо, что-то изображать» (впрочем, он отмечал, что в ХХ веке ситуация меняется), во-вторых, полагал, что поэтические образы следует понимать буквально: «Поэтический образ — это сочетание слов, а не вещей, и бесполезно, более того, вредно переводить это сочетание на уровень чувственно воспринимаемых предметов».
Однако исследования по исторической поэтике лирики (А. Н. Веселовского, А. А. Потебни, Л. Я. Гинзбург, С. Н. Бройтмана и др.) показали, что привычная нам тропеическая образность, основанная на переносе значения слова (где слово существует как отдельная, чисто вербальная субстанция, о которой говорит Цв. Тодоров) — не единственный вид словесного образа, существовавший в лирике. Кроме того, Р. Ингарден на примере анализа сонета А. Мицкевича показал, что в лирике существует зримость и наглядность, позволяющие увидеть мир, созданный в лирическом произведении, в его целостности.
Еще одним подтверждением ошибочности высказываний Цв. Тодорова является практика — существование такого явления, как фантастическая поэзия (fantastic / speculative poetry): уже много лет выходят сборники, антологии и альманахи (и в России, и за рубежом), в США с 1978 года существует Ассоциация научно-фантастической поэзии, ежегодно присуждается премия поэтам, пишущим об ужасном, фантастическом, научно-фантастическом и т. п. То есть материал есть довольно обильный, но в имеющейся по его поводу научно-критической рефлексии речь чаще идет о поэзии, чем о лирике, и фантастическую поэзию рассматривают просто как часть фантастики: все то же самое, что в прозе, только в стихах. Соответственно, классификация существует исключительно по тематическому принципу: стихи об эльфах, роботах, ужасах и т. п.
Понятно, что такой способ изучения не дает представления о специфике функционирования фантастического в лирическом стихотворении: проблему надо рассматривать с точки зрения структуры, а не тематики. А если говорить о структуре, то, с учетом специфики лирики как рода литературы, фантастическое там может существовать на двух уровнях.
Первый — это сюжетный уровень. Разумеется, имеется в виду именно лирический сюжет, то есть система событийно-ситуативных элементов лирического произведения, данная с позиции лирического субъекта в процессе развёртывания его рефлексии. Тем не менее, в этом способе репрезентации фантастического есть много черт, сближающих лирические и эпические фантастические произведения, тем более, чаще всего мы сталкиваемся с ним в фабульной или нарративной лирике, либо даже в лироэпических текстах (романтическая баллада). Соответственно, фантастическое проявляется в том событии (событиях), о которых рассказывается. Сближаются такие тексты с эпикой и по принципу организации субъектной структуры: фантастический сюжет часто сопровождается внеличными формами авторского высказывания, т.е. рассказом от третьего лица, когда субъект речи грамматически не выражен. Таким образом, «колебания» тут испытывает в первую очередь читатель, т.к. позиция лирического субъекта четко не эксплицирована («Воздушный корабль» М. Лермонтова).
Фантастическое может быть в любом из элементов структуры сюжета или в нескольких из них. Так, фабула может быть заимствована из уже «готового» архетипического сюжета мифа, легенды, сказки и т. п. фантастических эпических текстов либо текстов с элементами фантастики («Воскресение мертвых» В. Набокова, «Бездомный домовой» Н. Матвеевой).
Время и пространство могут трансформироваться вопреки «обычной» логике, граница между разными мирами может казаться легко переходимой, проницаемой — таким образом формируется фантастическое двоемирие («Лес» Н. Гумилева, «С кометы» В. Брюсова, «Звезда Маир» Ф. Сологуба).
Соответственно, событием может стать взаимодействие двух миров (причем как в пространстве, так и во времени), их столкновение или взаимопроникновение, переход лирического субъекта из одного мира в другой (опять-таки, как переход пространственной границы, так и путешествие во времени), встреча с выходцем из иного мира: ожившим мертвецом, феей, эльфом, роботом, пришельцем, волшебным предметом и т. п. («Бесы» А. Пушкина, «Ворон» Э. По, «Заблудившийся трамвай» Н. Гумилева, «Великан» В. Набокова, «Мумия» В. Брюсова, «Когда поют солдаты» Ф. Сваровского).
Возможно также появление сверхъестественного, например, предсказаний, пророчеств, вещих снов, другого зрения, которое позволяет видеть невидимое и т. п. («Песнь о вещем Олеге» А. Пушкина, «Глаза» В. Набокова, «Электронная сказка» В. Шефнера). А также хронотоп и события могут сопровождаться фантастическими мотивами, такими, как превращения, двойничество и др. («Метаморфозы вампира» Ш. Бодлера).
Разумеется, все перечисленные элементы могут существовать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом.
Отдельно необходимо сказать о романтической балладе, поскольку появление там фантастического элемента является одной из составляющих жанрового инварианта. По мнению Д. М. Магомедовой, главным специфическим признаком романтической баллады является «сюжет, который строится на переходе границы между „здешним“ и потусторонним мирами персонажем из иного мира и встрече его с человеком, которая заканчивается катастрофой» («Лесной царь» И. Гете, «Ленора» Г. Бюргера, «Замок Смальгольм, или Иванов вечер» В. Скотта, «Тростник» М. Лермонтова и др.).
Кроме сюжета, фантастическое может проявляться в лирике как разновидность словесного образа. Под словесным образом мы подразумеваем конкретно-чувственную, индивидуально-предметную форму отражения действительности в художественном мире, целостность бытия, выраженную в чувственно-наглядной форме при помощи слов и словосочетаний.
Здесь речь идет уже о фантастическом как способе рассказывания, то есть само событие рассказывания содержит элементы фантастического. «Колебания» испытывает не только читатель, но и лирический субъект, который чаще всего обозначен при помощи личных местоимений «я» или «мы». Он может находиться в пограничном состоянии — смерти, безумия, сна, видения, причем граница между этими состояниями также может быть нечеткой («Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана») М. Лермонтова, «Сон о рояле» Ю. Левитанского).
Достаточно часто фантастическое проявляется путем размывания границ между прямым и переносным значением слова либо буквализацией (реализацией) тропов, когда привычному переносному значению возвращается его прямой (буквальный) смысл, либо граница между двумя значениями также размывается («В этот мой благословенный вечер» Н. Гумилева, «Фантастика» В. Шефнера). Также иногда фантастическое появляется (или исчезает) благодаря паратексту: заголовку или эпиграфу («Призрак» А. Ахматовой, «Офорт» Н. Заболоцкого).
Разумеется, при анализе фантастического в словесном образе важно понимать, что символ, аллегория или метафора сами по себе вовсе не равны фантастической образности, но фантастический образ может быть символом и способом создания образа художественного мира.
Фантастическое в сюжете и образности может и соединяться друг с другом в рамках одного текста (уже упомянутые стихотворения Н. Гумилева и В. Набокова, «Сон» Б. Ахмадуллиной, «Фантастика» В. Шефнера). Тем не менее, фантастические сюжеты — явление достаточно раннее. Фантастическая образность же появляется примерно на рубеже XIX — ХХ веков, когда искусство вообще и лирика в частности ищут новые формы, в том числе и в образности. Тогда становятся актуальны и востребованы все известные образные языки (кумуляция, параллелизм, троп, простое слово) и типы образов, такие, как символ. Лирическая поэзия диалогизируется, ищутся новые способы создания образной целостности, и в этих поисках рождается в том числе фантастическое как новый тип лирической образности.
Это доказывает, что категорию фантастического необходимо рассматривать не как константную единицу, а в ее историческом развитии, в соотношении с основными этапами развития литературы как вида искусства.
Разумеется, говорить о фантастическом на самом раннем этапе развития предыскусства нельзя. Архаическое сознание было синкретично, оно не различало «я» и «другого», слово и предмет, который это слово обозначало, событие рассказывания и событие, о котором рассказывается. Естественно, что воображаемое также было не отделено от реальности, точнее, воображаемое воспринималось как реальное, причем воспринималось не разумом, а эмоциями: Л. Леви-Брюль говорил об «аффективной категории сверхъестественного», замечая, что для архаического сознания «все существующее имеет мистические свойства. <…> Например, скалы и утесы, положение или форма которых поражает воображение первобытных людей, легко принимают священный характер благодаря мистическим свойствам, которые им приписываются. Такая же мистическая способность признается за реками, облаками, ветрами, и части пространства, и страны света имеют мистическое значение».
В качестве фантастических такие представления могут быть восприняты только с точки зрения позднейшего, уже дифференцированного мышления, для архаического сознания миф и ритуал — не фантастика, а воссоздание реальной картины мира, попытка объяснить окружающие явления и воздействовать на них. Однако без этих «мистических представлений» не было бы последующего появления категории фантастического.
Дальнейшее развитие сознания, открытие абстрактного мышления, появление логики и наррации, утрата веры в достоверность мифологического повествования и другие изменения в сознании приводят человечество к превращению мифа в сказку, в «небывальщину». «Отсутствие сопротивления среды» (Д. С. Лихачёв) на пути героя в мире волшебной сказки (это мир, где с героем может произойти всё что угодно), «чудесная лёгкость» в преодолении законов природы обусловлена близостью сказки к мифу. Таким образом, фантастическое формируется в процессе разрушения мифологической и фольклорной целостности мировосприятия, а, следовательно, и механизмов ритуально-магического воздействия на действительность.
На начальном этапе развития фантастическое разрабатывается в волшебных сказках как поэтика чудесного, отличающегося от архаики мифологических представлений. Чудесные свойства волшебно-сказочного мира, метаморфозы предметов и персонажей демонстрируют редуцированные формы магического отношения древнего человека к миропорядку. Время действия волшебной сказки — условное внеисторическое прошлое, а пространство обладает двоемирием, делится на мир, в котором господствуют нормы обыкновенной, привычной жизни, и мир, для которого значимы чудесные законы «того света», «мира мертвых». Задача, решаемая героем, всегда связана с переходом границы между этими мирами — путешествием «туда» (в мир чудес и волшебства) и возвращения «обратно» (к обычной жизни, но в новом статусе). В определенном смысле структура волшебной сказки является прототипом для разработки многообразных моделей фантастического в истории литературы.
Новый тип фантастического формируется в героической эпопее на основе взаимодействия мифа о культурном герое-первопредке из богатырской сказки (ирландские героические саги (II–VII вв.), «Плавание Брана, сына Фебала» (VII в.), русские былины (IX–XIII вв.)). В качестве античных прообразов произведений о многочисленных фантастических путешествиях и приключениях принято выделять, во-первых, «Одиссею» (VIII–VII вв. до н.э.) Гомера, во-вторых, «Икароменипп» и «Правдивую историю» (II в.) Лукиана — произведения, в которых впервые в литературе появляется мотив полета на Луну с целью взглянуть на земные дела «с высоты», познакомиться с многообразием экзотических форм внеземной жизни, принять участие в войне за планету Венера и т. п.
Значительную роль в становлении фантастического сыграл мотив метаморфозы в античных мистериях, мениппеях и авантюрно-бытовых романах («Сатирикон» (I в.) Петрония, «Золотой осел» (II в.) Апулея, произведения Лукиана). «Метаморфозы» Овидия (I в.) — исток фантастико-символической аллегории, дидактического жанра «поучения в чудесах». Его основу составляют мифопоэтические сюжеты превращений людей в элементы «живой» и «неживой» природы, свидетельствующие о превратностях человеческой судьбы в таинственном мире, где особая роль принадлежит случаю и неведомым человеческому сознанию воле «высших сил».
В раннем европейском средневековье фантастическое представлено в народных сказаниях, легендах и поверьях. «Поэтика чудесного» активно проявилась в средние века в рыцарском эпосе («Беовульф», VIII в.). Важную роль в становлении фантастического приобретают истории о рыцарях Круглого стола короля Артура, которые трансформировались в сюжеты многочисленных рыцарских романов («Парцифаль» (ок. 1182); романы Кретьена де Труа; «Смерть Артура» Т. Мэлори (1469)). Особое распространение рыцарский роман как жанр получает в европейской литературе XII в., см. романные циклы: артуровский, или бретонский (романы об Ивейне, Гавейне, Ланселоте и др.); античный, генетически связанный с греческой и римской эпопейной традицией («Роман об Александре» (XII в.), «Роман о Трое» (XII в.) и др.); цикл о святом Граале, где христианские образы и ценности переплетались с мифопоэтическими традициями кельтских преданий. Как отмечал М. М. Бахтин, в рыцарском романе «весь мир становится чудесным, а само чудесное становится обычным (не переставая быть чудесным)», причём герой «так же чудесен, как этот мир: чудесно его происхождение, чудесны обстоятельства его рождения, его детства и юности, чудесна его физическая природа и т. д. Он — плоть от плоти и кость от кости этого чудесного мира, и он лучший его представитель». Фантастический мир рыцарского романа характеризуется сказочным гиперболизмом времени: «растягиваются часы и сжимаются дни до мгновения, и самое время можно заколдовать; появляется здесь и влияние снов на время <…> сны уже не только элемент содержания, но начинают приобретать и формообразующую функцию, как и аналогичные сну «видения».
Фантастические мотивы рыцарских романов активно разрабатываются в ренессансных поэмах «Влюбленный Роланд» (опубл. 1506) Боярдо, «Освобожденный Иерусалим» (1580) Т. Тассо, «Королева фей» (1590–1596) Э. Спенсера, «Неистовый Роланд» (1516) Л. Ариосто (в последней рыцарь Астольф, подобно героям Лукиана, совершает один из первых в мировой литературе космических полетов на Луну). Фантастическое, пронизанное христианской апокрифической символикой, проявляется также и в средневековой драме (ауто, литургическая драма, мистерия), и в жанре видений, связанном с традициями «Апокалипсиса» Иоанна Богослова.
Значимую роль в становлении поэтики видений сыграли произведения, в которых разрабатывались мотивы «Метаморфоз» Овидия — «Роман о Розе» Гильома де Лорриса и Жана де Мена (XIII в.), а также визионерская фантастика — «Видение о Петре-пахаре» (1362) У. Ленгленда, «Божественная комедия» (1307–1321) Данте. «Вытянутая по вертикали» фантастическая картина мира Данте и образы ее языческой и апокрифической христианской демонологии были унаследованы Дж. Мильтоном («Потерянный рай» (1667), «Возвращенный рай» (1671)).
В фольклорной смеховой культуре позднего средневековья и Ренессанса мощное развитие получает гротескная фантастика, опирающаяся на архаические — мифопоэтические и фольклорные — традиции (как, например, в анонимном памятнике народной культуры средневековья «Киприанов пир»). Гротескная фантастика характеризуется тремя чертами: смешением разнородных областей природы, безмерностью в преувеличениях и умножением отдельных органов. «Свободная игра телом» в гротескной фантастике стирает границу между физическим и ментальным, материальным и духовным, вещественным и словесным, субъектным и объектным: амбивалентные (двуединые) «события гротескного тела всегда развертываются на границах одного и другого тела, как бы в точке пересечения двух тел: одно тело отдает свою смерть, другое — свое рождение, но они слиты в одном двутелом (в пределе) образе». Многочисленные средневековые «бестиарии», истории о путешествиях как действительных (Марко Поло, XIII в.), так и вымышленных (Жан де Мандевиль описывал драконов, гарпий, ликорн, фениксов и др.) изобилуют сюжетными и несюжетными миниатюрами, рассказывающими о людях, тело которых имеет гротескный образ. Особое внимание здесь уделялось описанию невиданных человеческих существ, отличающихся «смешанным», деформированным или трансформированным телом (например, гиппоподы, ноги которых снабжены копытами, сирены, циноцефалы, лающие вместо того, чтобы говорить, сатиры, оноцентавры, великаны, карлики, пигмеи; люди, наделенные разнообразными уродствами: сциоподы, имеющие одну ногу, леуманы, лишенные головы, с лицом на груди; люди с одним глазом или на лбу, или на плечах, или на спине; шестирукие люди и т.п.). Все это, как писал Бахтин, — «необузданное гротескное анатомическое фантазирование, столь излюбленное в средние века», «нарушение всех границ между телом и миром». Важное значение традиции гротескной фантастики приобретают в романах «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533–1564) Ф. Рабле и «Дон Кихоте» (1605–1615) М. Сервантеса.
В эпоху Ренессанса поэтика фантастического связана с жанром утопии, для которой особое значение приобретает допущение реализации идеального общества. Один из первых образцов утопического жанра представлен в главе «Телемское аббатство» романа Ф. Рабле, произведениях Т. Кампанеллы, Т. Мора, Ф. Бэкона. В сатирическом романе С. де Бержерака «Иной свет, или Государства и империи Луны» (1656) разрабатываются традиции Лукиана: мотивы утопии сочетаются с авантюрным сюжетом — путешествием героя в идеальное государство на Луне, в котором живут библейские персонажи (пророк Илья, патриархи, Енох).
Мотив фантастического путешествия в плутовском романе А. Р. Лесажа «Хромой бес» (1707) в определенной мере подготавливает эстетику фантастического в философской сатире эпохи Просвещения — романах Д. Свифта о Гулливере (1726), повести Вольтера «Микромегас» (1752) (здесь встречается одна из первых в мировой литературе историй о концептуальном перевороте, связанном с прибытием на Землю инопланетян), романе Д. Дефо «Консолидатор, или Воспоминания о различных событиях в лунном мире» (1705), где представлен полет на Луну на механическом летательном аппарате, движимом «святым духом».
В эстетической рефлексии классицизма, которая завершала эпоху эйдетической поэтики, фантастическое осмысливалось как феномен «ложной» образности (см. подробнее об этом в работе Р. Лахманн), противостоящей эстетическим принципам традиционалистской художественной культуры, которая вслед за Аристотелем интерпретировала искусство как сугубо миметический акт. Творческая необходимость правдоподобия в искусстве фиксируется в целом ряде поэтических манифестов европейских классицистов (А. Минтурно, Л. Кастельветро, Ж. Шаплен) и обусловлена тяготением традиционалистского искусства к «панлогизму, замкнутости и готовости» (С. Н. Бройтман). Свобода, «несоразмерность», алогичность фантастических образов, выход в область неизведанного может нарушить изначально рационально задаваемые границы и пропорции «образа мира».
В отличие от эпохи эйдетической поэтики, чрезвычайно важное значение фантастическому придаётся в поэтике художественной модальности.
Существенную роль в становлении этой категории сыграл готический роман, во многом и возникший в противовес рациональности и рассудочности классицизма и Просвещения. Основатель жанра Г. Уолпол писал в предисловии ко второму изданию «Замка Отранто»: «В этом произведении была сделана попытка соединить черты средневекового и современного романов. <…> Не желая стеснять силу воображения и препятствовать его свободным блужданиям в необъятном царстве вымысла ради создания особо занятных положений, автор вместе с тем хотел изобразить действующих в его трагической истории смертных согласно с законами правдоподобия». Таким образом, «воображаемый мир» постепенно проникает в литературу, но пока нуждается еще в «оправданиях» со стороны автора, нарушающего классицистические законы правдоподобия. Так, в самом начале развития жанра, необходимость введения фантастического элемента объяснялась стилизацией: очень часто роман выдавался за подлинную средневековую рукопись («Замок Отранто» (1764) Г. Уолпола, «Старый английский барон» (1778) К. Рив, «Подземелье, или Матильд» (1794) С. Ли), а люди в средние века верили в «чудеса, призраки, колдовские чары, вещие сны и прочие сверхъестественные явления», потому «в средневековом романе все было фантастичным и неправдоподобным». Следовательно, и новый роман об этой эпохе должен содержать элемент фантастического. Г. Уолпол писал: «Вера во всякого рода необычайности была настолько устойчивой в те мрачные века, что любой сочинитель, который бы избегал упоминания о них, уклонился бы от правды в изображении нравов эпохи. Он не обязан сам верить в них, но должен представлять своих действующих лиц исполненными такой веры».
В дальнейшем развитие фантастического в готическом романе шло двумя путями. В сентиментально-готическом романе («Старый английский барон» К. Рив (1778), «Полночный колокол, или Таинства Когенбургского замка» Ф. Лэтома (1798), произведения А. Радклиф, С. Ли, А. Маккензи и др.) сверхъестественное является не столько внутренне обусловленным, сколько внешним украшением, антуражем, вызванным необходимостью более точной стилизации (не случайно носители суеверий — обычно люди из народа) или тем интересом, который вызывало фантастическое у читателей. Очень часто, особенно в романах А. Радклиф, все таинственные явления в конце получают вполне естественное объяснение (например, привидение оказывается девушкой в белом платье, полуразложившийся труп — восковой фигурой, потусторонние звуки — песней заключенного в подземелье и т.п.), то есть фантастика оказывается мнимой.
Во второй разновидности жанра, так называемом «черном» романе («Ватек» У. Бекфорда (1786), «Влюбленный дьявол» Ж. Казота (1772), «Монах» М. Г. Льюиса (1796), «Эликсиры сатаны» Э. Т. А. Гофмана (1816), «Мельмот Скиталец» Ч. Р. Метьюрина (1820)) фантастика оказывается глубоко мотивированной особенностями конфликта, выраженного в борьбе добра со злом. Соответственно, фантастическое носит тут отнюдь не мнимый характер: сверхъестественные силы действуют как реально существующие и сражающиеся с человеком. Кроме того, в «черном» романе фантастическое начинает взаимодействовать со страшным и чудовищным.
Таким образом, в предромантизме иррациональное и фантастическое постепенно занимают свое место в культуре. Скажем, именно в это время выходит цикл «Фантастические путешествия, сны, видения и каббалистические романы» (1770–1780), насчитывающий несколько десятков томов.
В эпоху предромантизма и романтизма подвергается переосмыслению аристотелевский тезис о том, что искусство есть «подражание прекрасной природе». Воображение трактуется романтиками как сила, преобразующая мир в предмет искусства, проявление абсолютной творческой свободы художника, а художественный мир — как «свобода связываний и сочетаний» (Новалис). Вместе с этим, романтическая эстетика непосредственно ориентирована на фольклорные первоисточники фантастического — романтики собирали, изучали и обрабатывали волшебные сказки и легенды («Народные сказки Петера Лебрехта» (1797) В. Тика; «Детские и семейные сказки (1812–1814) и «Немецкие легенды» (1816–1818) братьев Я. и В. Гримм), что в значительной степени повлияло на интенсивное развитие жанра литературной сказки. Наиболее яркие образцы использования поэтики фантастического в литературной сказке демонстрирует творчество Х.-К. Андерсена.
В это же время категория фантастического впервые подвергает эстетическому осмыслению, в первую очередь, в статьях Вальтера Скотта «О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана» (1827) и Шарля Нодье «О фантастическом в литературе» (1831). Таким образом, фантастическое становится признанным и осознанным явлением литературной действительности, которое уже не требует (как это было в некоторых готических романах) «извинений» перед читателем, оговорок и признаков стилизации под «темное средневековье».
Фантастический хронотоп в романтических произведениях (так называемое «романтическое двоемирие»), унаследованный от средневековой «эстетики чудесного» и готической поэтики сверхъестественного, возникает на основе игры пространственно-временными планами («Генрих фон Офтердинген» (опубл. 1802) Новалиса), проницаемости границ между сном и явью, реальностью и воображением (фантасмагорический мир Петербурга у Гоголя), контактов с «иными», потусторонними, мирами и их носителями («Ленора» Г. Бюргера (1773), «Людмила» В. Жуковского (1808)). Э. По, развивая традиции европейских романтиков в своих «новеллах кошмаров и ужасов», обращается к поэтике фантастического с целью показать абсурдную двойственность и непостижимость бытия. Фантастическое в его произведениях проявляет себя как атрибуция то философской притчи, то фантастической аллегории, то психологической новеллы или гротескной пародии. Э. По принято считать и родоначальником «научной фантастики» («История Артура Гордона Пима» (1838); «Низвержение в Мальстрем» (1841)).
Творчество Э. Т. А. Гофмана — своего рода энциклопедия романтической поэтики фантастического. В нем органично переплелись традиции готического романа («Эликсиры сатаны» (1815–1816) и литературной сказки («Щелкунчик, или Мышиный король» (1816), «Повелитель блох» (1822)), а в рассказе «Пустой дом» (1817) персонажи прямо рассуждают о роли воображения в видении реальности и о соотношении чудного и чудесного. Фантастическое у Э. Т. А. Гофмана наиболее отчетливо проясняет романтическую репрезентацию реальности, порождаемой «трансгрессией взгляда» (Цв. Тодоров), «гротескной культурой глаза», которую М. М. Бахтин связывал с особым отношением героя и автора к страшному: «Мир романтического гротеска в той или иной степени страшный и чуждый человеку мир. Все привычное, обычное, обыденное, обжитое, общепризнанное оказывается вдруг бессмысленным, сомнительным, чуждым и враждебным человеку. Свой мир вдруг превращается в чужой мир. В обычном и нестрашном вдруг раскрывается страшное». С одной стороны, гротескно-фантастический способ видения преодолевает «узкий рассудочный рационализм, государственную и формально-логическую авторитарность, стремление к готовости, завершенности и однозначности, дидактизм и утилитаризм, наивный и казенный оптимизм и т.п.». С другой, «романтическая гротескная культура глаза», по М. М. Бахтину, становится предельно камерной, интровертной. Именно поэтому фантастическое отмечено в произведениях романтиков «культурой минус-зрения» (В. Н. Топоров), определяющей романтический «лимит видения» (Н. Я. Берковский). Так, в «Принцессе Брамбилле» (1820) и «Песочном человеке» (1817) Гофмана появление элемента сверхъестественного сопровождается введением сюжетно-композиционных элементов темы взгляда (в мир чудесного можно проникнуть с помощью очков, зеркал и т. п. визуальных инструментов). Как отмечал Ц. Тодоров, с миром чудесного в романтической фантастике связан не сам взгляд, а символы непрямого, искаженного, извращенного взгляда, каковыми являются очки и зеркало. «Эти предметы — в некотором смысле материализованный, непрозрачный взгляд, квинтэссенция взгляда. Та же плодотворная двусмысленность присутствует и в слове „визионер“ (visionnaire); это человек, который видит и не видит, представляя собой одновременно и высшую степень, и отрицание видения».
Помимо «явной» или «прямой» фантастики, связанной с вторжением в обычный ход жизни каких-либо сверъестественных сил, в литературе романтизма продолжает развиваться так называемая мнимая или «завуалированная» фантастика, когда, по словам Ю. В. Манна, «прямое вмешательство фантастических образов в сюжет <…> уступает место цепи совпадений и соответствий с прежде намеченным и существующим в подсознании читателя собственно фантастическим планом», открывающая широкие возможности для развития фантастики в реалистическом искусстве. Примеры «завуалированной» фантастики встречаются как в творчестве западноевропейских («Песочный человек» (1817) Э. Т. А. Гофмана), так и русских романтиков («Лафертовская Маковница» (1825) А. Погорельского, «Латник» (1831) А. Бестужева-Марлинского, «Антонио» (1840) Н. Кукольника, «Упырь» А. Толстого (1841)).
«Разветвлённая система завуалированной фантастики» (Ю. В. Манн) лежит в основе поэтики «Пиковой дамы» (1833) А. С. Пушкина и «Портрета» (1833–1834) Н. В. Гоголя. В литературе реализма завуалированная фантастика имеет место у Ф. М. Достоевского («Братья Карамазовы» (1879–1880), Т. Манна («Доктор Фаустус» (1947) и т. д.
Интересна в этом отношении эволюция фантастического в поэтике Гоголя. Как показано в работах Ю. В. Манна, если в ранних его произведениях инфернальные силы активно вмешиваются в действие, то в других произведениях участие подобных персонажей отодвигается в мифологическую предысторию, в настоящем же временном плане остается лишь «фантастический след» — в форме различных аномалий и роковых совпадений. Ключевое место в развитии гоголевской фантастики занимает повесть «Нос», где субъект инфернального зла (и соответственно персонифицированный источник фантастики) вообще устранен, однако же оставлена сама фантастичность «необыкновенно-странного происшествия».
В литературе реализма, объявившего жизненную достоверность главным критерием художественности, а произведение искусства — «образным аналогом живой действительности» (В. И. Тюпа), фантастическое, манифестируя себя, может приобрести дополнительный (аллегорический, метафорический) смысл. Так, в начале повести О. де Бальзака «Шагреневая кожа» (1830–1831) сначала проявляются необычные свойства кожи. Однако затем этот образ расширяет свой семантический объём, становясь «метафорой жизни, метонимией желания», так как «осуществление желаний ведёт к смерти». С точки зрения Цв. Тодорова, это не аллегория в чистом виде, потому что буквальный смысл образа не исчезает: сохраняются колебания между естественным и сверхъестественным объяснением происходящего.
Одной из форм фантастического в литературе реализма становится форма сна, приобретающая свои художественно-смысловые функции. Как отмечал Б. В. Томашевский, в фантастическом повествовании «обычными мотивами, дающими возможность двойной интерпретации, являются сон, бред, зрительная или иная иллюзия и т.п.». Сон может стать иррациональным откровением о мире и человеке (сон Татьяны в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»), не поддающимся рациональной расшифровке (невозможность истолковать сон по соннику Мартына Задеки), словом самого бытия. Сон демонстрирует связь героини со стихийной, таинственной, скрытой, непознаваемой первоосновой жизни (отсюда наличие балладной фантастики во сне Татьяны). В такой ситуации «остановки мира» (К. Кастанеда), «усыпленья дум и чувств» герои, по словам С. Н. Бройтмана, «непосредственно созерцают личность — идею другого („замысел о нём Бога“)». Если в жизни Татьяна пытается найти слово, которым можно было бы извне определить Онегина, то во сне «„Слово“ <…> не найдено, а, скорее, дано без всяких поисков. Герой есть то, что он есть, и никакие определяющие <…> словесные формулы к его сущности ничего не прибавляют».
Фантастической логике подчинены сны героев Ф. М. Достоевского: «…перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце» («Сон смешного человека» (1877)). С точки зрения Бахтина, сон у Достоевского — это «возможность совсем другой жизни, организованной по другим законам, чем обычная („иногда прямо как „мир наизнанку“) “. Жизнь, увиденная во сне, заставляет героя, взглянуть на собственную жизнь другими глазами, изнутри другой жизни; тем самым иначе оценить его настоящую жизнь, „в свете увиденной во сне иной возможности“ (Бахтин): см. сон Раскольникова об убийстве лошади. „Пороговые“ сны героев Достоевского, в которых создаётся „невозможная в обычной жизни исключительная ситуация“, имеют целью испытание идеи и человека идеи» и восходят к традициям мениппеи (её основным разновидностям: «сонной сатире», «фантастическим путешествиям» с утопическим элементом“). В. Захаров различает фантастические сны (предсмертный сон Свидригайлова, сны Алёши, Мити и Ивана в „Братьях Карамазовых“) и сны, не имеющие отношения к „сновидческой фантастике“ (сон Прохарчина в рассказе „Господин Прохарчин“, два сна Мышкина в „Идиоте“, два сна Аркадия Долгорукого в „Подростке“, сон Голядкина в повести „Двойник“) в произведениях Достоевского. По словам Захарова, „в этих снах на первый план выступает не философское, а психологическое содержание, которое не разрушает «простой целостности образа героя». К образцам нефантастического сна в русской реалистической литературе можно отнести и сон Обломова.
Архаический жанр «разговоров в царстве мёртвых» с присущей ему гротескно-фантастической образностью возрождается в рассказе Достоевского «Бобок» (1873).
В конце XIX века в рамках поэтики и эстетики неоромантизма, возникшего как реакция на господство натурализма в литературе с его позитивистскими установками на изображение человека, фантастическое актуализируется для того, чтобы показать принципиально иной образ человека как тайны, загадки, неготовой возможности, не укладывающейся в изначально заданные научно-рациональные и утилитарные схемы: творческий интерес неоромантиков сосредоточен вокруг образов сверхчеловека (образ Заратустры, возникающий в это время в художественно-философской системе Ф. Ницше; герои Р. Киплинга; в качестве неоромантических рассматривали героев-«сверхлюдей» раннего М. Горького, например, Ларра и Данко), расщепления и раздвоения личности («Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Р. Л. Стивенсона (1886)); аномалий человеческого сознания и психики («Загадка предвиденной смерти» (1914), «Убийство в рыбной лавке» (1915), «Убийство в Кунст-Фише» (1923), «Фанданго» (1927) А. Грина). Образы неизвестных, экзотических, «затерянных миров», удалённых во времени и пространстве от привычного мира, появляются в творчестве А. Конан-Дойла («Затерянный мир» (1912)), Г. Р. Хаггарда («Копи царя Соломона» (1885). В русле неоромантизма складывается неоготическая традиция («Дракула» Б. Стокера (1897), которая будет популярна и в художественной практике второй половины ХХ века (К. Уилсон, А. Мёрдок, Дж. К. Оутс, А. Картер, Г. Джеймс и т. д.).
Литература эстетизма, разрешающая коллизию «жизнь — искусство» всегда в пользу искусства (искусство равноценно красивой Лжи), также обращается к фантастическому. Авторы стремятся создавать «путём своего воображения нечто восхитительное» (О. Уайльд), необычные миры, в которых всегда происходят странные, зрелищные, «перечёркивающие» все правила жизненной логики, парадоксальные, а потому неизбежно впечатляющие, поражающие читателя события (сказки, «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда (1890–1891)), что придаёт произведению искусства «мистическую притягательность» (О. Уайльд).
Фантастическое органично для русской литературы серебряного века с её антиреалистическим пафосом, с представлением о художнике как теурге, равноценном Богу, эстетически преображающем реальность и созидающем новые миры. Творец, подобно герою романа Ф. Сологуба «Творимая легенда» (1912) Триродову, берёт «кусок жизни, грубой и бедной» и превращает его в «сладостную легенду». Литература серебряного века активно «эксплуатирует» элементы поэтики романтизма (и неоромантизма): например, образы раздвоения личности, взаимопроникновения сна, иллюзии и реальности (сборник новелл «Земная ось» (1907) В. Брюсова, ориентирующегося на традиции Э. По, рассказы А. Грина и др.), фольклорную и мифологическую образность (сказки А. Ремизова, А. Амфитеатрова, М. Кузмина).
По-видимому, развитие фантастического в литературе серебряного века связано с основными идеями и настроениями, определяющими развитие русской литературы рубежа XIX — XX веков: идеей эстетической утопии Вл. Соловьева и эсхатологическими настроениями. Фантастические образы вечной женственности (сакрализация женского начала) появляются, например, в сказках Ф. Сологуба («Турандина» (1913), «Очарование печали» (1914)). Одновременно актуальными становятся мотивы гибели красоты, носителями которой являются существа из потустороннего мира («Снегурочка» (1914) Ф. Сологуба), зависимости человека от иррациональных сил, ведущих мир к гибели («Петербург» А. Белого (1913–1914)). Фантастические образы могут стать персонификацией мира, враждебного человеку (Недотыкомка у Ф. Сологуба).
В неклассической художественной литературе ХХ века эстетическая продуктивность фантастического обусловлена специфической для модернизма инверсией слова (искусства) и жизни. Предельные формы такой инверсии характерны, видимо, для писателей, в произведениях которых сюжет (или его отдельные части) строится на основе «материализации» слова, «физиологически буквального прочтения тропа», «буквального воплощения стёртого языкового выражения» (А. Синицкая), что неизбежно приводит к нарушению правдо-и-жизнеподобия: С. Кржижановский, В. Набоков (на творчество которого влияние оказала фантастика нонсенса Л. Кэрролла, например, в таких произведениях, как «Камера обскура» (1933) и «Приглашение на казнь» (1935–1936)).
В литературе модернизма фантастическое связано (в разной степени) с традициями романтического гротеска (А. Жарри, сюрреалисты, экспрессионисты и др.).
Фантастическое в литературе ХХ века в определенном смысле связано с поэтикой допущения. По словам Б. В. Томашевского, «если народные сказки и возникают обычно в народной среде, допускающей реальное существование ведьм и домовых, то продолжают свое существование уже в качестве некоторой сознательной иллюзии, где мифологическая система или фантастическое миропонимание (допущение реально не оправдываемых „возможностей“) (разрядка наша. — С.Л., В.М., А.П.) присутствует как некоторая иллюзорная гипотеза. На таких гипотезах построены фантастические романы Уэллса, который довольствуется обычно не целой мифологической системой, а каким-нибудь одним допущением, обычно непримиримым с законами природы».
Так, например, фантастическое в сюрреалистическом романе «Пена дней» (1947) Б. Виана основано на допущении, что человеческие эмоции материализуются и оказывают непосредственное влияние на природное окружение человека: меланхолия и депрессия вызывает увядание цветов, дожди, землетрясения и другие катаклизмы. Возможными становятся миры, в которых резко изменились масштабы и пропорции («Квадратурин» С. Кржижановского (1926); гротескно-абсурдный мир Д. Хармса в повести «Старуха» (1939); хронотоп героя может выстраиваться аналогично сну и кошмару (новеллы Ф. Кафки; гротескные фантасмагории в кафкианском духе в творчестве К. Абэ: «Человек-ящик» (1973)).
Допущения характерны и для продуктивных в литературе ХХ века жанров утопии (И. Ефремов «Туманность Андромеды» (1956); трилогия «Страна багровых туч» (1959), «Возвращение» (1962), «Попытка к бегству» (1962) А. и Б. Стругацких) и антиутопии, возникающей как реакция на жанр утопии: «Мы» (1920) Е. Замятина, «Чевенгур» (1929) А. Платонова, «Скотный двор» (1945) Д. Оруэлла, «О дивный новый мир» (1932) О. Хаксли; элементы жанра антиутопии находим у В. Набокова («Изобретение Вальса» (1938)) и М. Булгакова («Собачье сердце» (1925), «Роковые яйца» (1925)). Антиутопии зачастую создают не только образы фантастических миров, но и фантастических языков (часто со своей системой грамматических правил), «обслуживающих» эти миры («1984» (1948) Д. Оруэлла; «Тлён, Укбар и Tertius orbis» (1940) Х. Л. Борхеса), помогающих «перевёртывать все существенные для человека понятия» (Р. Гальцева, И. Роднянская).
В такой разновидности антиутопии, как дистопия (антиутопия, демонстрирующая реализацию утопии) фантастическое связано с постижением читателями мира, «в котором им никогда не будет места». ««Нигде» будет заселено Никем — или никем из нас… Конец романа «Мы» — это конец нас…». Для жанра антиутопии эстетически продуктивна гротескно-фантастическая образность, связывающая его с традициями философской сатиры (Р. Акутагава «В стране водяных» (1927)).
Образ полнокровного «мира», пренебрегающего «границами возможного» (Н. Д. Тамарченко), создаёт авантюрно-философская фантастика ХХ века (более распространены, прежде всего в литературной критике, понятия «научная фантастика» и «фэнтези»). Основные структурные элементы организации мира и сюжетные мотивы авантюрно-философской фантастики формировались в произведениях Ж. Верна и Г. Уэллса. Одним из ранних образцов авантюрно-философской фантастики может считаться роман «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889) Марка Твена.
Фантастика ХХ века активно использует сюжетные схемы литературы приключений, создавая свои варианты «географической» приключенческой сказки (Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит» (1937) и исторического романа (И. Кальвино «Несуществующий рыцарь» (1959)). Необходимым условием развития сюжета в авантюрно-философской фантастике является встреча («контакт») двух миров (людей и существ, людьми не являющихся): произведения А. Азимова, Ф. Брауна, Р. Брэдбери, Р. Желязны, К. Саймака, Р. Шекли, А. и Б. Стругацких и др. В авантюрно-философской фантастике ХХ века испытанию подвергается сама природа человека (те качества, которые делают человека человеком). Поэтому события жизни героев в мире «за гранью возможного» «программируются» не сюжетной схемой произведения (как это имеет место в волшебной сказке), а являются результатом ценностного, ответственного выбора героя. Отсюда близость авантюрно-философской фантастики жанру притчи.
В произведениях К. Льюиса («Космическая трилогия» (1938–1945), «Хроники Нарнии» (1950–1956)) образность авантюрно-философской фантастики, моделирующей завершённый и самоценный мир, сочетается с аллегорической фантастикой. В творчестве С. Лема аксессуары авантюрно-философской фантастики сочетаются с традициями готической фантастики.
В романе-притче У. Голдинга «Повелитель мух» (1954) условно-аллегорическое пространство острова также позволяет героям оказаться в пограничной ситуации, являющейся испытанием их человечности. В произведениях К. Воннегута притчевый элемент сочетается с традициями философской повести («Сирены Титана» (1958); «Колыбель для кошки» (1963), «Бойня номер пять» (1968)).
Если принципом фантастического в литературе XIX века являлся принцип «человек „налицо“, чудесным образом перенесённый в мир наизнанку» (Ж. П. Сартр), исходная ситуация была естественной и нарушалась вследствие столкновения с чем-то выходящим за грани возможного, то фантастика ХХ века (прежде всего, авантюрно-философская) создаёт совершенно особые «миры без дистанций» и «миры без границ возможного» (Е. Д. Тамарченко, Н. Д. Тамарченко), реальность без «эффекта онтологической двойственности». Здесь возникает ценностный «зазор» между позициями героя и читателя (то, что кажется странным читателю, является нормой для героя, живущего в мире, устройство которого никак не согласуется с привычными представлениями о нём читателя). С точки зрения Цв. Тодорова, колебания читателя в такого рода литературе сменяются его «адаптацией» к сверхъестественному как основному принципу устройства мира героя. Фантастическим, таким образом, предстаёт не только мир, но и сам субъект, герой (например, Грегор Замза, герой новеллы Ф. Кафки «Превращение» (1912), абсолютно лишённый удивления по поводу своего необъяснимого превращения в насекомое). По Цв. Тодорову, в фантастике ХХ века происходит «генерализация фантастического», оно охватывает весь художественный мир произведения и сознание читателя: «Развитие повествования заключается в том, чтобы заставить нас осознать, насколько эти с виду чудесные элементы в действительности нам близки, до какой степени они сильно присутствуют в нашей жизни». Этот тезис Тодоров доказывает на примере рассмотрения образцов авантюрно-философской фантастики американского писателя Р. Шекли, новелла которого «Тело» (1956) начинается с описания необычной операции, заключающейся в прививании тела животного к человеческому мозгу; в конце же нам показывают все то общее, что есть у самого что ни на есть нормального человека с животным. Другая новелла, «Служба ликвидации» (1955), начинается с описания невероятной организации, которая занимается тем, что освобождает клиентов от неугодных им людей; когда же рассказ подходит к концу, мы начинаем осознавать, что подобная идея не чужда любому человеку. «Нормальный» человек оказывается фантастическим существом, а «фантастическое становится правилом, а не исключением».
«Генерализация фантастического» (Цв. Тодоров) обусловлена прежде всего спецификой неклассического этапа поэтики художественной модальности, утверждающего коммуникативную природу произведения искусства, его рецептивную направленность. Фантастическое становится эстетически действенным способом повышения степени воздействия произведения на читателя. Поразить, удивить, вызвать ужас у читателя при встрече со сверхъестественным — одна из главных целей художника. Так гротескно-фантастическая заострённость картины мира в произведениях экспрессионистов имеет целью вызвать эмоциональный шок у читателя: «Стена» (1901), «Красный смех» (1904) Л. Андреева, «Голем» (1915), «Ангел западного окна» (1927) Г. Мейринка (фантастическое в творчестве Г. Мейринка связано с алхимическими образами, мотивами каббалы, западного герметизма и восточной мистики), романы Л. Перуца, экспрессионистической поэтике оказываются близки Ф. Кафка и молодой Г. Гессе. Ещё в начале века актуализировалась «литература ужасов» («Паук» (1908), «Альрауне» (1911) Г. Г. Эверса)), активно использующая традиции «чёрного» готического романа.
Переживание ужаса становится доминантой читательского поведения в фантастике Г. Лавкрафта, основы которой отрефлектированы им в работе «Сверхъестественный ужас в литературе» (1939). Доминанта поэтики фантастического в произведениях Г. Лавкрафта — допущение присутствия в мире (на Земле, в космосе и других измерениях) «Великих Древних» — богов и демонов, враждебных человеку. Эстетика сверхъестественного, опирающаяся на «психоаналитическую систематизацию подсознательных ужасов» (Ф. Роттенштаймер), получила распространение в так называемой «black fantasy» («черной фантастике»).
«Необъяснимый», немотивированный ужас, парализующий человека, вторгается в жизнь героев фантастических новелл Х. Кортасара («Захваченный дом» (1946), «Письмо в Париж одной сеньорите» (1951)).
Безудержный простор читательскому воображению дают новеллы «коллекционера парадоксов и аномалий» (А. Лукин, В. Рынкевич) Х. Л. Борхеса, который в предисловии к «Книге воображаемых существ» (1954) отмечает: «Нам непонятно, что такое дракон, как неясно, что есть вселенная, но в этом образе есть нечто притягательное для нашего воображения <…> дракон — это, так сказать, необходимое нам чудовище». Изображение загадочных «воображаемых существ» в произведениях искусства и даже их алфавитная каталогизация («Книга воображаемых существ») диктуется не только стремлением показать невозможность найти центр во Вселенной-лабиринте, но и воздействовать на читательское воображение.
Заимствуя многие элементы поэтики (особенности хронотопа, характер развития сюжета) из «чёрной литературы» (как, например, в новелле с очень показательным названием «There are more things» (1975) («Есть многое на свете»)), Борхес сталкивает читателя с невообразимыми явлениями, которые читателю зачастую очень трудно перевести в конкретно-визуальный ряд (мебель, не соотносимая ни с человеческим телом, ни с какими-либо обиходными привычками в новелле «There are more things»; Алеф из одноимённой новеллы (1945) — шарик размером в 2 — 3 см, в котором можно одновременно увидеть весь мир с разных точек зрения, все пространства, все времена, внешний и внутренний облик вещей, то, что происходит внутри собственного организма и т.д.; в новелле «Синие тигры» (1983) самозарождающиеся камни, цвет которых можно увидеть только во сне). Фантастический мир Борхеса требует, видимо, психофизиологической перестройки читателя, а также нового языка (рассказчик в новелле «Алеф» говорит о трудности описания алефа как невообразимого явления), высвечивающего этот мир, поскольку в нём не просто оказываются нарушены зримые пропорции, имеющие место быть в реальности, но зачастую сами эти пропорции качественно иные, чем в реальной жизни человека. Повторяющаяся в новеллах Борхеса сюжетная ситуация столкновения героя (и читателя) с чем-то абсолютно не соотносимым с известными формами бытия превращает процесс чтения в особое «психомиметическое событие» (В. Подорога), отсылая читателя прежде всего к его аффективному опыту.
По-видимому, фантастические миры в литературе, относящейся к неклассическому этапу поэтики художественной модальности, оказываются специфическими пространственно-временными условиями, дающими возможность освободиться «от судороги тождества с самим собой» (М. Мамардашвили), тем самым переживать себя как Другого.
Спектр функций фантастического в литературе ХХ века чрезвычайно широк. Во-первых, фантастическое активно обнаруживается в произведениях, где акцентируется особое внимание на повседневности. Фантасмагории повседневности открывают призрачный мир сна, который служит ключом к сокрытым глубинам космоса, как это имеет место у Дж. Папини: «Вместо того, чтобы вести своих героев через ряд фантастических похождений в никогда не виданные миры, я оставил их в обычной, повседневной обстановке и заставил обнаружить все то, что есть в ней таинственного, грубо-смешного и ужасного <…> Видеть обыкновенный мир в необычном свете: вот истинная греза духа». Во-вторых, фантастическое может быть связано с возможностью увидеть действительность с точки зрения представителя иного мира (в романе В. Вулф «Орландо: биография» (1928) демонстрируется фантастическое жизнеописание бессмертного аристократа-андрогина, с чьей позиции читатель оценивает изменения, происходящие в мире на протяжении четырёх столетий). В-третьих, актуализация в фантастическом таинственного создает ощущение причастности к духовной традиции, мистической связи с прошлым, сакрализации действительности (такую функцию фантастическое играет, например, в «Мастере и Маргарите» М. Булгакова (1929–1940) и «Прощании с Матёрой» В. Распутина (1976).
В произведениях русских постмодернистов конца ХХ — нач. XXI вв. фантастическое, как правило, используется с целью десакрализации антропоцентристской действительности. Так, например, у Ю. Мамлеева инфернальные существа погружаются в сферу вполне узнаваемого быта. Вместе с тем, фантастическое в постмодернистской литературе сращивается с эстетикой виртуального, один из модусов которого активно осваивает поэтика литературного «киперпанка» (см.: роман У. Гибсона «Нейромант (1984)). На русской почве подобную модификацию фантастического в литературе в 1990–2000 гг. разрабатывает В. Пелевин.
Интенсивное развитие фантастического в современной культуре актуализировало в эстетике и литературоведении идею Цв. Тодорова, согласно которой фантастическая литература, с одной стороны, «представляет собой квинтэссенцию всякой литературы, ибо в ней свойственное всей литературе оспаривание границы между реальным и ирреальным происходит совершенно эксплицитно и оказывается в центре внимания. С другой же стороны, она служит всего лишь пропедевтическим курсом, введением в литературу: борясь с метафизикой обыденного языка, она дает ей жизнь; она должна исходить из языка, даже если потом она его отвергает». Стратегия рассмотрения фантастического в качестве универсального модуса «утопического проекта» литературы как вида искусства в истории культуры, редуцирующая в фантастическом его категориальную специфику, становится предметом исследовательской рефлексии в некоторых современных работах.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.