
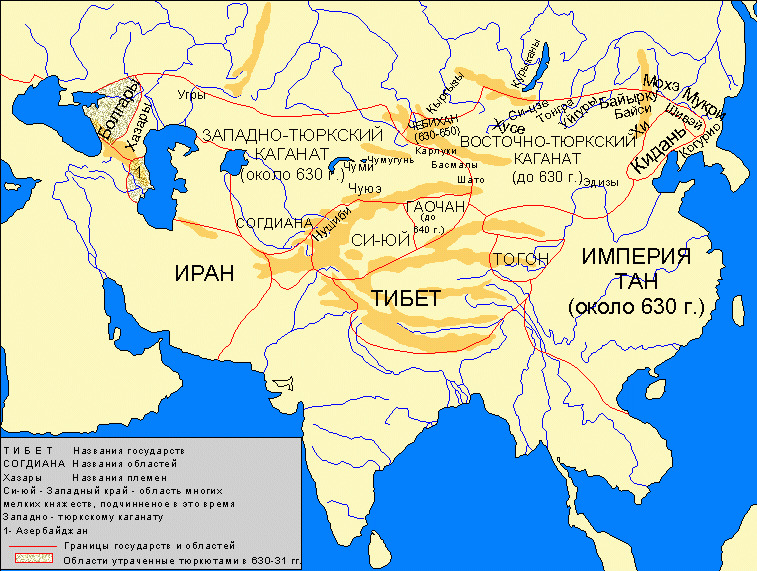
Настоящая история наших предков и давние, канувшие в Лету времена, обнажаемые исследователями, иногда начинают напоминать не очень опрятную женщину, вдруг выставляемую напоказ во всем своем непрезентабельном старомодном обличии. И многим не хочется видеть ее такой неприглядной, уродливой, безобразной. Особенно — близким по крови ощущаемого родства…
Всю и во всем нашу историю, какой бы она ни была на самом деле, полюбить невозможно. И осуждать — занятие более чем бессмысленное, потому что это ИСТОРИЯ. Как не стоит ее выворачивать и переделывать исходя из самых благих намерений, потому что всё «мудро-тайное» и надуманное в подобных потугах неизбежно когда-нибудь становится явным. Любое изящно и хитроумно перелицованное прошлое все равно может однажды беспощадно ударить копытом того, кто коварно сотворяет над ним насилие и чья мораль — прежде всего привлекательность, так называемое национальное самовеличие, а потом уже истина.
(Из дневников скучного философа)
Вавилонское скопище
И увидел Вершитель судеб, грустным взглядом окинув устремившуюся в ЕГО НЕБО Вавилонскую башню, сколько нечестивости вокруг странного сооружения, бесполезного человеку. И спросил своего Первосвященника царя Сущей Правды и царя Салимского Мелхиседека:
— Зачем они упорно стремятся на Небо, Мелхиседек?
— Ты, не знаешь, Творец? — удивился богов Священник.
— Гордыня! Снова гордыня! Я давал им вечную жизнь и вечный рай, положив печать запрета для их же блага совсем не на многое… В последний момент благословил Ноя построить Ковчег Спасения и взять в него по паре всякой живности. И скоро ты принес мне благостное известие, что род людской возродился и, наконец, прозрел. Но в чем он прозрел, Мелхиседек? В желании встать вровень с Богом?
— Творец! Они молились истово тридцать три дня и тридцать три ночи!
— Всего тридцать три дня? И снова возжелали и взалкали, позабыв о грехе и неизбежном возмездии?
— И столько же бессонных ночей.
— Кому и ради чего, отринув и страх и клятвы?
— Они — твои дети. Не будь к ним жесток.
— Они — мои дети. И я должен быть с ними строг.
— Дав бренному телу разум и душу, ты не можешь заставить их жить только праведно, ибо душа человеческая всегда будет искать и страдать, а разум — мечтать и жаждать. Разум — главная смута в сотворенных тобою двуногих тварях.
— В одномерной их общности я вижу много и вражды, и злобы, и прелюбодейства. Им вредно сбиваться в толпы. Пойди, разрушь их единый язык. Посмотрим, что выйдет из этого.
Первосвященник выполнил приказание Бога, и общий недавно язык исчез. И пошли вавилонские люди по свету, образуя отдельные народы и нации со своими обычаями и нравами. Башня-Столп, оказавшись ненужной, от времени сама по себе начала разрушаться. А люди, скоро позабыв о неотвратимости божьей кары и возмездия за грехи, как ни в чем не бывало опять стали забывать своего Творца. Наблюдая вокруг много дивного, принялись поклоняться солнцу, луне, звездам, почитать огонь и разных животных. Создавали их изображения, приносили им жертвы, возводили в их честь убогие капища и величественные храмы. И, породив убогих идолов своей новой веры, сделались язычниками, устрашающими друг друга только одним — Судным днем и гневом Небес.
Человеческую душу поражают не грехи, ее убивает СМУТА зависти и стяжательства, от которых избавления почти не бывает.
И с тех пор, по сути, мало что изменилось…
Глава первая. В Китае
1.Что рождает досада
Обещанный утром выход императрицы снова непредсказуемо задерживался. Вельможи, сановники, генералы, собравшиеся на совет, тревожно перешептывались и нервничали. Всех и замелькавшего в просторной приемной монаха Сянь Мыня, конечно же, в первую очередь интересовало главное — положение в Шаньси. Где тюрки и где армия генерала Кхянь-пиня? Но те, кто должен был знать ответ, — и военный министр, и шаньюй-управитель соответствующего правительственного крыла, объединяющего несколько палат, и сам Государственный секретарь, подобно монаху на этот час, похоже, мало что знали. Утомившись ожиданием и пытаясь незаметно покинуть высокое собрание, Сянь Мынь неожиданно столкнулся с новым управителем дел князем Ван Вэем и почему-то вновь ощутил неприятное оцепенение.
Заглядывая монашествующему царедворцу в глаза и не особенно стараясь быть понятым с первых слов, кругленький и коротконогий вельможа с разопревшим лицом, по всему, поджидавший Сянь Мыня преднамеренно и долго, откровенно заискивая, говорил:
— Я проверил, Сянь Мынь, только в Палате чинов на самых высоких должностях сидело три тюрка! Зачем они нам, скрытно сеять вражду? Взятый в колодки столоначальник Ючжень Ашидэ показал о влиянии на него Тан-Уйгу. Есть другие важные признания, Сянь Мынь. Став достоянием недоброжелателей, они способны смутить Великую Непревзойденную. Не зная, как поступить, я искал с тобой встречи, но ты избегаешь меня.
— Князь боится пустых разговоров? — едко усмехнулся монах.
— Как не бояться, Сянь Мынь, и пустое имеет меру! Я не все понимаю, что надлежит совершать в первую очередь, а чего вообще не касаться. Я никогда прежде не жил при высоком дворе. У меня в голове… И хочу и боюсь! — взволнованно говорил князь, взмокший от чрезмерного возбуждения.
Они были одинаковы ростом. Оскобленная до синевы, в синих извивах вздувшихся вен его маленькая головка рядом с крупной и тяжеловесной головой Сянь Мыня казалась несерьезной и словно бы детской. Тоненькая кожа на ней постоянно морщилась сама по себе и расправлялась. Вызывая неприязнь, шевелились длинные острые уши. Узенькие и юркие глаза князя из-под массивно нависшего подлобья, загнувшегося вверх густыми бровями, назойливо шарили по лицу Сянь Мыня, что-то упрямо искали. Он, беспрестанно размахивающий руками, до безобразия неряшливый в одеждах, которые вынуждены были постоянно поправлять, приводить в соответствие с этикетом двора и просто ради приличия, всюду следующие за ним слуги — они и сейчас поспешали за князем в благопристойном отдалении, — вызывали брезгливость и отчуждение. «Лучше бы тебе, излишне усердному, вообще ничего не понимать», — подумал с досадой Сянь Мынь.
В прежней дворцовой жизни князь не был заметен, скорее, он ее сторонился, ни наград, ни особенных привилегий согласно сану никогда не искал. Самовластно назначив князя на должность, будто над кем-то посмеявшись в свое удовольствие, императрица нисколько к нему не благоволила, не терпела присутствия на важных заседаниях совета и дворцовых приемах. Об этом Ван Вэй не мог не знать и не мог не опасаться возможных печальных последствий подобного императорского каприза. Тем не менее, князь не был глуп и бездеятелен. Добравшись до власти по царственной прихоти, он, конечно же, старался ее удержать. Его противодействие присутствию во дворце тюркской знати было весьма заметным, и в этом Сянь Мынь оказывал иногда покровительство и поддержку. Но тюрк Тан-Уйгу оставался самой острой болью Сянь Мыня, самым уязвимым из всего, совершенного вокруг наследника, и поэтому монах не мог не вздрогнуть, услышав имя бывшего наставника принца.
Помимо собственной воли в душу монаха вливалась волна нового неприятного холода.
— Ван Вэй говорит о сыне старейшины Ашидэ-ашины? — спросил Сянь Мынь, как бы чего-то недопонимая.
Он подавал князю скрытый сигнал тревоги, но князь увлекся, не в меру жестикулируя руками, говорил нервно и шумливо, поспешным рассказом о совершенных деяниях против чаньаньских тюрок, невольно производя впечатление обратное тому, какое хотел произвести, о чем и сам без труда догадывался и чем заметно смущался.
Нет, неуклюжий, расхристанный князь был вовсе не глуп, он был слишком прост и безыскусен поведением в новой среде. Он слишком долго искал этой встречи и, зная о влиянии монаха при дворе, должен был полностью высказаться. Люди подобного сочетания умственного склада и жизненного опыта опасны не излишней услужливостью и чрезмерным усердием, а этой вот неосмотрительной простотой и подчас неуместной искренностью, что князь в поте лица навязчиво проявлял. Не сомневаясь, что за ним внимательно наблюдают, Сянь Мынь должен был отстраниться от Ван Вэя, сделать вид, что князь мало ему интересен и что тревоги Ван Вэя не вызывают в нем ответного беспокойства, но не мог этого сделать. Кто знает, что еще может выкинуть князь? Сянь Мынь слушал его, морща толстокожий лоб и багровея страшным шрамом через всю голову. Слушал, лихорадочно соображая, как рассеять создающееся впечатление о деловой близости с князем-управителем, смягчить глупые подозрения о тюрках-врагах при дворе, о которых князь беспардонно громко вещает.
— Я только что из подземелья, Сянь Мынь. Сейчас дают показания о тайном сговоре между собой и наследником несколько других не менее знатных тюрок, — торопясь, говорил управитель, не в силах остановиться, — и все признают влияние на них наставника нашего наследника. А еще говорят о монахе Бинь Бяо, также способном поддаться дикому волку Степи.
«Так вот с Бинь Бяо и начни! — мысленно обращался монах к Ван Вэю. — С Бинь Бяо, дурак, начинай, не с тюркского княжича, который в подобных делах сосунок и теленок. Куда ты суешь свой бесчувственный нос?»
Но сказать такое глупцу — на глазах у двора и высших вельмож признаться в собственных ошибках в выборе воспитателя будущему наследнику императора. Но стоит ли, хотя, конечно, вина есть. Он просто не все предусмотрел, как следует, не довел до логического завершения. Но он еще в силе! Иначе бы их беседе так сейчас не внимали с раззявленными ртами. И У-хоу, слава Небу, при власти! В поединке с судьбой он еще не сказал последнего слова!
Осторожность мыслей и высказываемых вслух рассуждений при ощущении опасности не всегда проявляется достаточной мудростью в действиях. Давно изучив тайные пружины различных противостояний, дворцовых интриг и заговоров, Сянь Мынь не мог не уяснить, что в борьбе за власть двух победителей одновременно, если не заключен расчетливый сговор между самими соперниками, просто не бывает. Открытие зиждилось не на богословских учениях о власти и праве на власть, а на мирском опыте и представлениях, которые он познавал и усвоил в совершенстве. Обычная дворцовая власть никогда не была ему чуждой хотя бы уже потому, что всяким переустройством и преобразованием не могла не затрагивать его веру в Просветление и не решать судьбу этой веры и в Поднебесной, и в Степи. Да, он давно перестал быть просто монахом, приставленным к императорскому гарему, к влиятельнейшей из наложниц. Он стоял рядом с правительницей, вылепив, сделав ее за долгие годы усилий такой, какой она стала, и должен вести ее дальше. Так ему выпало. Встав над коварным, но во многом слабым созданием, подчинив своей духовной воле, тем самым он поднялся и над единоверцами, поэтому должен думать не о сути глубинных устоев монашеских общин и монастырей, а о сути наивысшей Божественности, призванной вразумлять и высоких управителей и повелительницу. Его предназначение и судьба — не с богами беседовать, укрепляя в себе Святость и Просветление, не с зашоренными мистиками, вознесшихся на гребень власти случаем не без его усилий, а с повелительницей, укрепляя в ней Дух Высшей Силы, Дух Великого Будды-Гуру.
Князь-управитель казался настолько взволнованным и распалившимся, что его горячий шепот обжигал монаха.
— Князь, — издали начал Сянь Мынь, — если встречи двух-трех тюрок, их уединенные беседы о собственной судьбе считать началом заговора, можно стронуться в разуме. Вот и мы с тобой как бы шепчемся, а за нами, смотри, наблюдают. — Доверительность, которую неумело проявлял новый императорский управленец, ранее не занимавший высоких государственных должностей, раздражала, монах изредка тер пухлой рукой пылающий шрам и морщился. Но более всего раздражало, что князь провел дознание, не согласованное с ним, а теперь пугается, что узнал. Отринув приличия сана, Сянь Мынь сказал грубо и резко: — Действия каждого знатного тюрка Чаньани мне достоверно известны. Разве кто-то из тех, кого ты бросил в зиндан, готовился перекинуться в Степь к тутуну? Но ты и подобные торопыги такое способны ускорить.
— Тюрки — наши враги! Чаньань ими кишит! — взмокая под жестким взглядом первого советника императрицы, задыхался от волнения встрепанный князь.
— Тюрки Чаньани — сторонники Поднебесной в большей мере, чем иные наши генералы. Сейчас время ослабить узду некоторым инородцам, — сдерживая гнев, наставительно поучал монах, в невольном сомнении, как бы бестолковый князь вдруг не сменил прежнего отношения к злосчастным инородцам, томящимся в подземелье, будто бы ранее ненужными и вдруг ставшим предметом острой необходимости.
— Сянь Мынь, опасно шутить с огнем! — не понимая осторожной игры монаха, продолжал возражать князь.
— Князь, на то и разводят жаркий огонь, чтобы взять больше тепла, а потом вовремя укрощают, когда он грозит стать пожаром! Ищи заговорщиков среди вельмож, генералов, принцев крови. Среди юных принцесс, наконец, не выданных замуж. Здесь кубло всяких свар, тюрок на время оставим в покое. — Мягкие, вроде бы успокоительные слова, которые пытался вытолкнуть из себя главный блюститель веры, не вязались с его внутренним напряжением, поиском выхода, средства, способного устранить возникшую опасность, и он вдруг вернулся к началу беседы: — А этот княжеский отпрыск?..
— Ючжень Ашидэ? Сын князя-старейшины Ашидэ-ашины — ты о нем? Но к нему в последние дни зачастил евнух Абус и взял допрос на себя. Меня отстранил. Сянь Мынь, какое дело ему до тюркского князя? — воскликнул Ван Вэй, смахивая со лба липкий пот.
«Абус? Кто поручил?» — Опасность становилась ощутимой. Необходимо было что-то предпринять. И немедля.
Сохраняя выдержку, монах с показным равнодушием произнес:
— Однажды князь пригодится. Может быть, самой У-хоу. Не переусердствуй, и намекни об этом Абусу. А впрочем … — Он хотел в привычной для себя и резкой манере произнести, что сам сейчас пойдет в подземелье и расставит все на нужные места, и не решился. Тело его словно бы стиснули странными клещами, которыми пытают строптивых узников, и он только фыркнул в досаде:– Палач-дознаватель! Ну, времена!
— Сянь Мынь, я что-то сделал не так? Что я сделал не так?
Заискивающие откровения и явная обеспокоенность управителя были опасны уже тем, что прямо и недвусмысленно называли в числе заговорщиков Тан-Уйгу, приставленного к юному наследнику им, Сянь Мынем, и все более раздражали монаха. Кто сейчас в подземелье дает показания? Какие и на кого? Подвешенный с вывороченными руками на цепях может сказать что угодно.
«Как же ты глуп в своем усердии!» — одолеваемый досадой, поглядывая на князя исподлобья, хотел бы воскликнуть монах, но пересилил себя и, напустив равнодушие, произнес:
— Тех больше нет, кто были самыми непримиримыми среди наших высокородных и генералов. Этим тюркам… Ты прав, зачем они нам, прикажи отрубить поскорее им головы, больше не мучай. Изменника Тан-Уйгу я достану сам. Расскажи лучше об известиях из Шаньси, я слышал, там что-то случилось.
Добившись огромной власти, научившись ее удерживать, Сянь Мынь оставался всегда осторожным и холодным по отношению к ней. Он отчетливо сознавал, кому и за что обязан этой властью, замешенной на молчаливом долголетнем сговоре с той, кого ловко возвел на трон, из обычной рабыни-наложницы одного властелина сотворив повелительницу другого.
Он всегда жил тревогой и понимал опасность, условность этого расчетливого содружества и его неудобства.
Надежные, внешне похожие на кованые цепи, подобные сговоры остаются, по сути, непрочными, утяжеляя вечную тревогу. Лишь молодой тюрк, наставник принца, в последнее время, обнадеживал монаха некоторыми надеждами и вселял уверенность в будущем проверенным помощнике. Все прошлое, включая Тайцзуна, глухой тибетский монастырь с таинствами, обрядами, совершенствованием тела и духа, магическими и прочими, далекими от настоящей духовности, экзальтациями, давно угасло в Сянь Мыне, утратив первооснову высокой цели. Молодой гвардейский офицер, жаждущий громких побед, которого он заприметил однажды на ристалище боевых единоборств, стал его слабостью и как бы внебрачным сыном самого Просветления.
Заметив большую силу в нем, скрытые желания, познания и ум, которыми владел Тан-Уйгу, он пригрел юношу не без умысла, отправил на суровое обучение в горный монастырь, возвысил по возвращении, добившись высокого военного чина, и никогда не сомневался в преданности.
Он позволял ему значительно больше, чем другим послушникам, будучи убежденным в блестящих способностях приблизиться к будущему императору. Умело подогревал его честолюбие, надеясь тонко использовать впоследствии, когда не станет надоевших ему, возможно, самой У-хоу.
Ведь и ее когда-то не станет.
А еще он многое позволял Бинь Бяо — наиболее приближенному из друзей-монахов. И вот оба они его предали — Тан-Уйгу и Бинь Бяо. Предает и та, кого он сделал сравнимой лишь с солнцем и готов сделать сравнимой лишь с Буддой, назвав Дочерью Будды.
В том, что всякой власти народ нужен послушный, терпеливый и властью терпимый, Сянь Мынь давно не сомневался; правитель, не умеющий добиться подобного равновесия терпеливости и терпимости, полного послушания толпы, вынужден действовать принуждением или бесславно исчезнуть. Но вера — его чистая вера — всегда над властью. Ее каноны должны быть просты и для власти, и для первичного понимания уверовавшего, но бесконечно просторны изощренному в многомудрой схоластике создающему ее рассудителю.
Что еще он должен дать им, возвышенным верой, но падких на власть, жаждущих абсолютного верховенства и в нужный момент не умеющих ее взять? Почему всякий неглупый и сильный стремится к самовозвеличению, пренебрегая нередко тем, чего достиг рядом с более сильным? Почему сильным и неглупым быть вместе однажды становится невыносимо и тесно?
Никогда монах не ощущал такого жадного желания встретиться с У-хоу, возбуждающей беседы с ней, изъедающей жажды возвышать, наставляя, и обоготворять ее дальше. Что ей в каком-то евнухе, которым она решила отгородиться от него, ее наставника с юных лет?
Для чего старый князь из далекого прошлого, которого Великая срочно повелела найти Абусу? Чем этот состарившийся князь стал нужен опять, и что за игру она снова задумала?
Вопросов у монаха даже к самому себе было больше, чем ответов, и от Ван Вэя не получить.
Не стараясь понимать происходящее, участвовать в нем, простой ум иногда сам по себе с невольной прозорливостью все это совершает, поскольку вдруг получает случайный сигнал тревоги. Что-то, коснувшись его неожиданно, словно бы пробуждает, пугая близкой утратой, и возбуждает протест. И подобный протест, рождая отчаянное желание противодействовать складывающимся обстоятельствам, не давал покоя Сянь Мыню.
* * *
В дальнем широком проеме залы промелькнула фигура Абуса с двумя стражами, и часть толпы хлынула на него.
— Где Великая?
— Абус, что в Шаньси? Когда генерал Кхянь-пинь даст сражение?
— Увидим ли мы Солнцеподобную?
— Я выполняю поручение Великой правительницы. Ожидайте. — Тоненький голос черного великана-евнуха и особенно его беглый взгляд, нашедший монаха, добавили Сянь Мыню беспокойства.
«Он и не думает скрывать, что исполняет срочное поручение. Ему поручили! Что поручили? Дознание чего-то в отношении князя Се Тэна? Юноши-тюрка? Абус умеет вести допросы. Подвесит на крюк, словно тушу кабана, подпалит пятки огнем…»
Выдержка изменяла, в голову полез всякий бред. Угнетенность и беспокойство по поводу тайных расследований в подземелье дворца усиливалась. Но сейчас верткая мысль его металась совсем не в каменных камерах и не среди криков подвешенных на дыбу. Отринув происходящее в подземелье, она устремилась на верхние этажи дворца.
«Я должен увидеть Великую! Слишком долго мы не встречались. Должен! И раньше других, которые что-то задумали с глупой подачи Ван Вэя. Иначе может быть поздно. Ах, глупый ты, князь! — Но это была только часть его глубокого смятения, и самая близкая. Другая, как бы отстранившаяся от практичной и хваткой, вовлекала в рассуждения совсем будто бы не важные, не к этому часу, и страстно нашептывала: — И совсем не признания под пытками, не заговоры и наветы, он, сам живой разум, вовлекает все наше тело в новые испытания. А что же предшествует этому, команде, получаемой нашей разгоряченной головой? — словно бы вгоняя в транс, зарождалось и путалось в Сянь Мыне. — Откуда она? Кто или что посылает ее? Что это — острая мысль, похожая на вспышку света, не видимая и не слышимая никем, включая обладателя плоти, в которой она возникает? Я не хочу видеть Великую или все же хочу? Если желаю, то должен достичь. Что это во мне, если не Дух Посещающий и Улетающий? Дух-тенгрий, дух-тось, дух-дьявол? Сколько их в каждом из нас? В чем сила над нами? Нужно ли побеждать и противиться, если тут же приходят иные? В конце концов, смерть — предначертанная закономерность. Разве этого неизбежного нужно бояться? Что в бесконечном, во тьме бесконечного и пустого — ведь это есть бег сокрытого, которое не дано услышать, но догадаться о котором возможно любому. Увидеть князя Се Тэна — услышав, или увидев — услышать и осознать?.. И обретешь высшую власть, ибо сам станешь Духом над мелкими духами несовершенного».
Решение пришло как всегда неожиданно, кажется, он опять его выстрадал.
Оно пробилось само по себе: Учитель — вот кто нужен ему. Надо срочно навестить Учителя.
Он утомился своим возбуждением, устал блуждать в бестолковых догадках и предположениях, заломило в висках.
— Я не успел пристроить своих людей близко к генералу Кхянь-пиню, но то, что доносят вообще из Шаньси, меня беспокоит, — бубнил князь-управитель, не обращая внимания на тяжелую задумчивость, охватившую Сянь Мыня.
— Что же такое тебе доносят? — сардонически усмехнулся монах.
— Презирая и ненавидя тюрок, Черного Волка пустыни, некоторые заинтригованы желанием тутуна придти на помощь наследнику. Втайне их это радует. Они злобно шепчут: «Всыпал бы им этот Волк!»
— Всыпал бы им этот Волк? — словно бы удивившись, произнес Сянь Мынь и непривычно громко рассмеялся, снова привлекая пристальные взоры придворных, покинутых поспешно скрывшимся Абусом. — Вот и всыплет он вам… если еще не всыпал.
А мысль нашептывала:
«Абус… Нелишне бы присмотреть».
За ним наблюдали внимательней, чем он предполагал, от его неестественно громкого смеха зала пришла в движение, обступив плотно, их с князем стеснили так, что трудно стало дышать.
Новые министры, которые своим провинциальным обхождением, неумением в меру, непринужденно важничать, показались похожими на встрепанного князя Ван Вэя.
Зашевелились неподобающе вольно и тоже надвинулись толпой новые столоначальники, половину из которых Сянь Мынь знал плохо и презирал только за то, что они были назначены без согласования с ним.
И два новых предводителя важных Палат, хотя и более сдержанно, но не менее навязчиво старались попасться ему на глаза.
Он смотрел на галдящее скопище, наполняясь ледяным высокомерием, и видел в каждом нескрываемый страх, десятки вопросов.
Страх перед ним, способным, быть может, завтра уже, как только фортуна-судьба вновь обернется к нему лицом, отправить любого в небытие. О-оо, его тайная власть во дворце давно не была каким-то секретом.
— В саду одного храма недавно возникли слезы на красных цветах. На красных. Ночью. Было душно, и розы плакали. — Он едва сдерживал себя, чтобы не закричать во все эти мерзкие рожи, напряженные страхом, нечто иное, оскорбительное. Изрекая вслух одно, Сянь Мынь мысленно изощрялся в других выражениях. Все перед ним становилось багрово-черным.
Заныл вздувшийся на голове шрам, и Сянь Мынь с силой его потер, вроде бы как пригладил.
— Сянь Мынь, где Солнцеподобная? Почему ты больше не входишь в покои, как прежде входил? — посыпались со всех сторон вопросы.
— Почему мы редко видим Великую Непревзойденную?
— Сянь Мынь, мы можем проиграть сражение в Шаньси?
Они не хотели слышать его — монаха.
Весь этот сброд, возвеличенный мелкомстительной императрицей, жил страхом и ужасом перед тюрками.
Над ними не было власти, что приводило их еще в больший трепет.
— Монах не предсказывает. Он не способен предсказывать — он только учит любить своего бога. Но я не знаю, кто ваш бог. Кто вы такие? Кто из вас кто?
Призывая к тишине, Сянь Мынь вскинул руку.
Но тишины не возникло: слишком взволнованы и напряжены были вельможи, грозно и укоризненно звучал голос монаха. Чем-то пугал поспешно скрывшийся евнух. Все вокруг порождало растерянность, вызывающую нескрываемое презрение, написанное на лице монаха.
— Где генерал Кхянь-пинь? Почему от него нет сообщений? — кричали ему требовательно.
— Подобно каждому, я могу ощущать, но большего я не знаю, — выдержав паузу, ответил Сянь Мынь, удовлетворенный эффектом, который он произвел на толпу, взбаламученную его появлением и его словами.
Решительных действий генерала Кхянь-пиня, удачного сражения с тюрками за Желтой рекой ожидали во дворце, конечно, не все — Сянь Мынь это знал и без подсказки Ван Вэя. Несмотря на внешнее охлаждение суровой правительницы, с ним считались всегда и боялись всегда, обычно с заведомым умыслом и преднамеренно при случае бессовестно кляузничали и постоянно что-то нашептывали, подобно князю Ван Вэю. Его нервный вскрик о плачущих розах вызвал не просто волнение вельмож — он зародил надежду в одних, привел в замешательство других, и всем одинаково монах стал нужен. Столпившись вокруг, оттеснив невзрачного князя Ван Вэя, продолжали чего-то настойчиво требовать. Но чего, Сянь Мынь так и не понял.
— Я должен вас покинуть, отпустите меня, — просил он, стараясь выглядеть как можно беспомощнее. — Расступитесь, я должен вас покинуть!
Голова его вспотела, багрово-сизый шрам накалился и заметней вспух, глаза напряглись. Еще недавно он предчувствовал нюхом гончей собаки, что теряет верный след близкой добычи, за которой так долго и азартно гнался; теперь же, увидев рядом жалкую толпу, омерзительную в ничтожном страхе, Сянь Мынь на глазах изменился, и все разом замолкли, заметив эту властную перемену.
— Князь Ван Вэй! Где управитель дел? — взвизгнул сердито Сянь Мынь. — Ты где, князь Ван Вэй?
В мгновение в нем прояснилось, остался лишь внутренний холод от беседы с Ван Вэем, ударивший благостно и освежающе в голову. Вскинув руку, Сянь Мынь снова потер ноющий шрам и придавил, словно подавляя и убивая бунтующее в самом сознании.
Расступившись, к нему пропустили растерянного и взмокшего князя.
— Ван Вэй, спустимся в подземелье к тюрку-столоначальнику Палаты чинов. Проводи, — обретая благотворное желание немедленных действий, готовый к новым свершениям, пока загадочным для остальных, бросил сухо монах.
И стремительно засеменил сквозь толпу.
Перед ним расступались, шепотом спрашивая стоящих вблизи:
— Он сказал — в подземелье?
— Он пошел к тюркскому князю?
— Вслед за Абусом?
— О-оо! Сянь Мынь может все!
Освобождая ему путь, вельможи внушительными фигурами теснили друг друга, подобострастно шикая на слишком шумливых.
2.Распятые цепями
До помещения, в котором содержался отпрыск старейшины Ашидэ, монах не дошел. Остановил неестественно дикий крик. За железной решеткой, прикованный цепями к потолку, висел изможденный князь-советник несостоявшегося императора. Рядом находился Абус. Каморка была тесной и низкой, князь почти доставал до пола большими неестественно вытянутыми пальцами босых ног, пытаясь ощутить самую незначительную опору. Два крепких стража-палача, недавно сопровождавшие Абуса через императорскую залу, нанося удары по этим закопченным синюшным ногам, время от времени подсовывали под них наполненную углями жаровню. Князь вскрикивал, вздергивался, как ужаленный, но висеть без опоры было мучительнее, и он, пересиливая боль ожогов, исходящую от раскаленных углей, вынужден был опускаться в них и дико кричал.
Монах поморщился и произнес:
— Приветствую тебя, высокородный князь. Муки страданий иногда приносят нам облегчения. Ты назвал имена всех заговорщиков?
— Какой заговор? Разве я приказывал арестовывать наставника Тан-Уйгу и монаха Бинь Бяо и направил в Ордос гонца? Сянь Мынь!.. О, Сянь Мынь, я изнемогаю. Когда ты придешь говорить со мною в последний раз? — с трудом признавая монаха, вскрикивал подавленно князь, удивив, о чем просит, как бы желая скорейшего конца мучениям и пыткам.
Пахло паленым мясом, и не ощущалось присутствия крыс, к которым у Сянь Мынь было повышенное чувство брезгливости — крысы ему казались всегда дьявольским перевоплощением сварливых и склочных женщин.
Почему именно женщин, Сянь Мынь не знал и особенно не задумывался, так прижилось когда-то, так представлялось из какого-то далекого детства, где, должно быть, его сильно обижали, и в том, что женщины вообще… крысы, у него сомнений не было.
Его плоть не была развращена немонашескими плотскими забавами, кроме божественного тела повелительницы, других он не знал, но и того, что знал и прочувствовал, ему было более чем достаточно, чтобы возненавидеть и сами утехи, и ненасытную потребность в них безумствующего женского тела.
Особенно, когда собственное состарилось, немощно, но требуется и требуется, его продолжают мучить, терзать, побуждают возбуждаться и совершать, к чему оно уже охладело и утратило чувственность.
«Нет, все женщины крысы, — подумалось монаху непроизвольно и брезгливо, и чтобы избавиться от неприятных видений, замелькавших отталкивающими сценами собственных истязаний и мук, он заставил себя сосредоточиться на орущим во всю глотку князе Се Тэне, и мстительно подумал: — И ты крыса, Се Тэн. Хищная крыса в чужом подполье. Не захотел играть по правилам, получи».
Толкнув тяжело заскрипевшую решетку камеры и поморщившись, переступая порожек, монах подал властный жест убрать из-под князя жаровню, насмешливо произнес:
— Отважный князь Тэн очень спешит на тот свет? У тебя там дела?
— Я устал называть под пытками имена ни в чем не повинных людей. Разве подобные истязания не противны твоему Богу?
— Моему? А у тебя бога нет?
— Мой бог — мое славное прошлое, над которым вы насмехаетесь, всячески унижая нечеловеческими пытками!
Сянь Мыню не терпелось остаться с князем с глазу на глаз, но сейчас Абус был нужен, и монах, больше не желая облегчить участь узника с острой… крысиной мордочкой и редкой щетинкой усов, назидательно и ворчливо произнес:
— В прошлом ты видишь только Тайцзуна? Князь, какой это бог? Где он сейчас?
— В сердцах тысяч и тысяч! Он будет даже тогда, когда тебя и меня пожрут земляные черви, Сянь Мынь!
Навязчивое видение крыс оставалось устойчивым, не разрушалось, и монах мстительно подумал: «Крысы тебя пожрут, Се Тэн, а не черви. Черви для тебя — слишком щедро с моей стороны».
Ноги князя были поджарены изрядно. Кожа на них полопалась и завернулась лохмотьями, стоять на них Се Тэну было непросто.
Но и поджав их, висеть на вздувшихся руках, было ему не под силу.
Превозмогая нечеловеческую боль, насколько было возможным, князь пытался всем, что оставалось живым, выглядеть как можно достойнее в создавшемся положении, что ему в какой-то мере еще удавалось, поражая монаха незаурядным терпением и не сломленным духом протеста.
Лишь исполненный страданий взгляд распятого на цепях, истерзанного пытками бывшего вельможи говорил о непереносимых муках.
Он проникал в монаха, но жалости и сострадания не вызывал — черствую душу мольбой о сострадании редко проймешь.
И все же Сянь Мынь опустил только что гордо вскинутую голову и, словно бы в оправдание чему-то, что выше его, монаха, и монашеских обязанностей, пробурчал надменно и, скорее, для Абуса, чем для несчастного узника:
— Князь, крамола и государственная измена во все времена изощрены.
— Изощренней становятся только пытки. Я жду тебя каждую ночь, Сянь Мынь. Я стар, терпеть подобные унижения.
— У тебя есть что-то сказать, чего я не знаю?
— Монах, ты знаешь мало? Тебе не с чем сравнивать?
— Ты о чем, князь?
— О прошлом и настоящем. О том будущем, в котором вашими с У-хоу временами станут пугать детей. О том, что ты, ложный служитель Неба, боишься услышать, — выкрикнул князь, не смотря на нестерпимую боль, и словно бы, получив желанное облегчение, поражая монаха выдержкой, тверже встал на кончики ног.
И не только с вызовом встал, но и несколько выпрямился, удовлетворенный, что способен в присутствии всесильного монаха держаться гордо и независимо.
— Князь решил, что только он в ответе за будущее? Се Тэн, мне тебя жаль.
— Не бесчесть, монах, мое имя, которое уважал великий Тайцзун!
— Ты хочешь лишь сохранить добрым и благочестивым свое имя и честь или… еще чего-то хочешь?
— Сохранить честь Китая. Хочу покоя Китаю, как было при великом полководце Тайцзуне, о чем должен помнить и ты. Сберечь для потомков уважаемым имя великого императора, которое вы обесчестили, наложив табу на само его произнесение вслух, — говорил князь, точно бросал в Сянь Мыня булыжники о том, что в подобном состоянии произносить не каждому придет в голову. — Тысячелетняя держава знала десятки властвующих династий, но династия Тан, тебе ненавистная, одна из сильнейших. Не разрушайте вечное, что создавалось не вами! Вас проклянут! Остановитесь!
— И поджаренный ты буйствуешь, князь, а подобное буйство сродни глупости… Тебе не о чем больше просить? — досадливо проворчал монах, без труда понимая, что проигрывает князю словесный поединок.
Князь Се Тэн был известен крепким и устоявшимся духом, при Тайцзуне звезд с неба не хватал, большими армиями не командовал, но имел репутацию прямого и твердого человека, таких сломить удается редко — если вообще удается. И, уж конечно, не пытками… Хотя от боли и пыток люди кричат одинаково дико, кажется, вот-вот готовы сломаться, да иные, вот, не ломаются, принимая смерть как спасение собственной чести. Их вера в идеалы не только упряма, но и жертвенна, чему Сянь Мынь, недоумевая, безнадежно завидовал, и мечтал иметь подобных сподвижников. Но с такими ни посулами, ни соблазнами не поладить, и Сянь Мынь нисколько не сомневался, что конец князя неизбежен и предрешен его поведением, и должен стать поучительно полезным для других непокорных. Что князь едва ли подозревает: напомнив о себе, он только этим предрешил и судьбу, и конец мучениям, в чем Сянь Мынь непременно поможет.
Помогать страждущим — первая заповедь служителя Неба.
Непременно поможет.
Пора Се Тэну, пора! Пусть исчезнет в бездонном царстве мрака и там восхваляет своего великого Тайцзуна, оставив им с У-хоу право на будущее.
Долгий пронзительный взгляд монаха, устремленный на князя, сказал больше, чем нужно. В этом холодном взгляде Се Тен увидел презрение к себе, недальновидному вельможе высокого положения, и окончательный приговор.
Это был взгляд-убийца — повелителя смерти.
Взгляд хладнокровного мстителя, которому князь не покорился.
Князь, презирая боль, пронзающую тело его и ноги, твердо упершиеся в каменный пол кончиками обгорелых и кровоточащих пальцев, преодолевая неприязнь к монаху, снова собравшись с силами, заговорил о самом важном теперь для себя.
— Монах, моя юная дочь! Пожалейте хотя бы ее!.. если ты все же монах, а не дьявол, — произнес он, приглушив на мгновение гнев и ярость в собственных глазах, направленных на Сянь Мыня, словно, надломившись в неравной борьбе и уступая противостоящей силе. — Разве не ты выбрал Инь-шу для наследника, и разве я не высказывал несогласия? Сянь Мынь, я сожалею, что у тебя нет детей и тебе не понять моей боли.
Князь был прав. Он убеждал Сянь Мыня выбрать в жены наследнику другую принцессу, но наследник другой не захотел, и монах ему сознательно уступил. И зря уступил: с принцессой тоже придется покончить — в подобных державных делах сочувствия и сострадания не существует, а последствия бывают крайне печальными.
— Князь, у тебя есть возможность сохранить честь, умерев по своей воле, я могу оказать тебе подобную честь, — с чувством неожиданной искренности произнес монах, снова пронзительно уставившись на обреченного князя.
— Мы не в Японии, харакири у нас не принято. Подобная смерть для человека моего положения — хуже бесчестия, ты не знаешь, Сянь Мынь? Каждый из моего рода чтил и чтит кодекс родовой доблести, и не мне подвергать ее незаслуженным испытаниям.
Да, Се Тэн был упрям, такие позора не приемлют, но, пожалуй, уступить он сейчас, Сянь Мынь, не задумываясь, помог бы в другом, немедленно отправив сломавшегося князя в ссылку к наследнику, и тогда… Через несколько лет, если князь проявит благоразумие, оба они с Чжунцзуном спокойно могли бы вернуться.
На мечты нет запрета, в полете они — точно птицы, но толку-то что?
— Князь, я не спешу, у тебя есть немного времени… Надумаешь говорить серьезно, позови, я приду. Прояви высшую мудрость, твоя смерть ничего не изменит.
— Отказаться от прошлого, в котором не было животного страха, которым охвачена сейчас Поднебесная? От всего, чем жили мы при Тайцзуне, поднимая Великий Китай?
— Прощай, Се Тэн, я спешу.
— Сянь Мынь, спаси мою дочь, и в грядущем Небо тебе это зачтет! — рвался голос узника из каменной скорлупы; за спиной у монаха гремела решетка.
Неожиданная встреча монаха сильно расстроила, лучше бы ее не было. «Почему неглупые люди настолько беспечны? Что в пустом диком упрямстве? — думал удивленно монах. — Им дают власть, награды, окружают почестями, требуя лишь одного — преданной службы тем, кто это дает. Но, принимая, что идет в руки, они становятся высокомерными и неуступчивыми, по сути, в ничтожном. Никто не отказывается добровольно ни от наград-почестей, ни от должностей, и только ждут еще большего признания и своего заурядного ума, и незначительных заслуг. И дочь он свою отдал в жены наследнику не без умысла и расчета. Ведь не уперся, наотрез не отказал, за что, в худшем случае, был бы лишь изгнан. Без раздумий пристроился к трону — точно там и должен стоять… Да что — пристроился, просто вцепился, подобно бульдогу, подавляя принца неукротимой энергией так называемого созидания. Созиданием чего? Насколько же разным способно быть это самое созидание!»
Такого князя Сянь Мынь не понимал и не принимал. Что толку запоздало кричать о чести? В этом ли честь: к чему-то громко взывать, зная, что совершал вовсе не то, что должен был и что тот же Сянь Мынь настойчиво ему подсказывал совершать, чем подставил под смертельный удар не только себя, вместе с дочерью, но и наследника.
Настроение монаха испортилось окончательно.
* * *
Ючжень, молодой отпрыск ордосского старейшины-князя Ашидэ-ашины, прикованный к стене, был в бессознании. Блеклый свет факелов падал на оголенное, так же познавшее безудержную власть палача, обмякшее в бесчувствии совсем юное тело. Оно напомнило Сянь Мыню старое художественное полотно какого-то палестинского живописца, изображавшее распятие христианского божества с семью именами. Обнаружив картину в Галерее искусств, он приказал уничтожить ее как вредную вере. Тогда он сказал, глубоко не вдаваясь в суть этих имен, совсем не принимая в расчет, что какими-то из них называли Бога-отца, а какими-то Бога-сына: «Легко развалить, труднее собрать. Эль, Элах, Элохим, Хава, Яхве, Иегова, Иисус — когда нет единого, нет и единства. Люди перессорятся, утверждая каждый свое. И не будет ни правых, ни виноватых».
Недолгая встреча с Се Тэном точно добавила ему некоторого успокоения, Сянь Мынь позволил себе усмехнуться неожиданному воспоминанию, подошел ближе к подвешенному на цепях княжичу и осветил его лицо факелом.
Оно было в кровоподтеках — юное и красивое лицо княжича, словно его пытались насильственно расчленить на несколько частей и рвали щипцами; Сянь Мынь непроизвольно поморщился.
По существующим правилам, как сын знатного тюркского предводителя с кровью князей-ашинов, генерал-губернатора Шаньюя, и с детских лет находясь в Чаньани в положении императорского аманата-заложника, юноша состоял под негласным надзором особых государственных служб и самого Сянь Мыня. Его нередко приглашался на важные государственные приемы, и Сянь Мынь был с ним неплохо знаком. Но больше всего знал о нем из доносов как о гуляке и прощелыге, любителе выпить и поволочиться за симпатичными дочерями вельмож. Похождения любвеобильного тюрка не однажды становились предметом серьезных разбирательств в высоких комиссиях по нравственности и государственным чинам. Правда, в последнее время, не без усилий монаха, поручившего присмотр за княжичем гвардейскому офицеру Тан-Уйгу, юный отпрыск знатного рода сильно переменился, нареканий не вызывал. Он был тонок в талии, жилист и дьявольски привлекателен. Его продолговатое тюркское лицо, обрамленное черными волосами в завитушках, мгновенно притягивало к взоры дам, вызывая и возгласы удивления, и тайные женские вздохи.
Отцам благородных семейств, имеющим легкомысленных дочерей, подобный бестия, приближенный ко двору, одно наказание. Жалоб на таких полно во всех палатах и канцеляриях.
Достигали они и ушей императрицы, на что Великая говорила усмешливо подателю жалобы, сузив хищно глаза: «Достойнейший муж, вспомни себя молодым! Ты сам никогда не охотился за нежным цветом из запретного сада?»
«Но честь моей дочери!» — изливал свое возмущение вельможа, доведенный до крайности.
«Чтя обычаи, твое юное создание должно быть в колодках, создающих ее будущую привлекательность тонкими ножками, а не посещать вредные заведения. Ты ее породил, ты за ней и следи».
Высвечивая факелом и воспользовавшись бесчувственностью молодого заключенного, Сянь Мынь внимательно изучал его изуродованное обличье, искал какие-то важные для себя перемены.
Еще недавно бывшее до неестественности нежным, как будто бархатным в завлекательной легкой смуглости, сейчас оно выглядело грубым, отечным, покрытым коростой, углубилось морщинами пережитого страха, перекошено болью изломавшихся тонких губ.
Кровоточило и все его стройное, изогнувшееся в цепях, безвольно обвисшее и до пояса оголенное тулово.
В кровавых рубцах, рваных ранах были плечи и грудь, и весь торс Ючженя.
Но увиденное не вызвало у Сянь Мыня какого-то соучастия.
Впрочем, любое состояние измученного пытками человека никогда не рождало в монахе глубокого сострадания — его интересовала только крепость духа, внутренняя сила противостояния мучительству, одержимость истязаемого. В этом он и У-хоу походили друг на друга. Отличались они лишь тем, что императрица наслаждалась насильственной смертью жертвы, выбранной ею же самой, и предшествующими этому не человеческими страданиями и муками, запечатлевая на своем маленьком божественном личике надменное торжество, а в монахе они возбуждали скрытое любопытство и глубокие раздумья, морщившие лоб и накалявшие шрам. Сянь Мынь испытывал слабость к изучению особенностей природы живого и, возможно, не стань монахом, из него вышел бы неплохой медикус. Из всех придворных лекарей, которых он знал, больше всех ему запомнился старый врачеватель Тайцзуна и его молодой ученик Сяо. С лекарем Сянь Мынь даже дружил, принимал участие в тайных опытах по исследованию человеческой головы, во многом ему содействовал и спас от неминуемой и жестокой смерти, когда врачевателя едва не объявили колдуном и шарлатаном. Потом их дороги разошлись, одаренный лекарь пропал в безвестие, однако поселил в Сянь Мыне тягу к новым познаниям таинственной человеческой природы. Презирая слабых и сломленных, Сянь Мынь ощущал постоянную тягу к беседе с теми, в ком еще не иссякло желание жить. В своем непростом, еще домонастырском прошлом ему довелось испытать долю мальчишки-подпаска, безжалостно истязаемого хозяином за недогляд и утерю овцы. Он познал на своем опыте изнурительную и отупляющую глухоту физической боли, пределы терпения безжалостно терзаемого тела и тихое, усталое возвращение его вновь в блаженное состояние покоя. Он уважал тех, кто не позволял телу невольной, обольстительной радости больше той, которой оно заслуживает, вытерпев муки. Он любил наблюдать за такими людьми, совсем не придавая значения, о чем они говорят с ним, следил больше за ходом их мыслей, чем за словами, за странными переменами на возбуждающихся физиономиях. Он ценил в человеке, обреченном на смерть, величие непостижимого терпения и мужества, что пытался увидеть на юном лице несчастного княжича.
Дух и воля необоримы, выспренно думал монах, — страдает лишь тело, которое Свободному Разуму так же необходимо, как бессмертие божеству. Тело, подверженное постоянным изменениям и, как утверждал исследователь Сяо, в течение семи лет возобновляемое до последней частицы, — и есть наш природный грех. Меняя себя, под покровом нового перерождения оно сохраняет НЕЧТО постоянное и неизменное. И только ОНО слышит боль и рождает желания. ОНО просит, жаждет и наслаждается, получая долю желанного, и никогда не поучая всего. Именно тело противится смерти, не душа и не вольная мысль, бесчувственные к физическому и плотскому. Оно бренно, бессмертен лишь дух. Не найдя себе применения в одном грубом тулове, этот витающий дух вечного в состоянии обрести и другое и третье, в чем Сянь Мынь был уверен и о чем с молодым врачевателем Сяо возникали постоянные разногласия. Разум смерти не слышит, не знает ее и никогда не узнает. И в этом Сянь Мынь в отличие от медикуса Сяо был глубоко убежден, как и в том, что главные беды судьбы — ярмо и узда — лишь оболочка сущего. А Свидетель всех происшедших с годами перемен в людях остается в нашем бренном остове навечно, что и заставляло умствующего монаха искать в чужих телесных терзаниях, криках и стонах непонятное для него и запредельное, стараясь услышать крик тела, ищущего перевоплощения.
«И если бы это было не так, наш разум не знал бы о переменах в нашей оболочке, — не без труда освобождаясь от образа волевого князя Се Тэна и через усилие переключая сознание на умирающее тело княжича, думал монах. — И если бы наш разум возобновлялся, как плоть, и с той же быстротой, он бы не смог осознавать свершающихся в ней перемен. Чтобы проследить движение, наблюдатель должен оставаться в покое. Или, по крайней мере, двигаться с иной скоростью», — продолжая всматриваться в Ючженя и невольно вспоминая, что только что удалось увидеть в соседнем узилище и перемены, случившиеся с князем Се Тэном, думал Сянь Мынь, знающий о Законе относительности, построенном на контрасте и неоспоримым для него. Принимая постулат о физических переменах человеческой сути, он вынужден был признавать, что помимо событий непосредственно в теле, есть нечто, заносящее в память подобные изменения. «Но тогда и духовность в каждом способна расти. Кто упражняется в самоотречении и способен погружаться в бесчувственность, может развивать в себе эти свойства до бесконечности, — нисколько не беспокоясь состоянием княжича, рассуждал холодно монах, почему-то уверенный, что истязатели ничего нового и опасного для него, Сянь Мыня, у княжича не узнали.
Монах был вполне удовлетворен состоянием юного княжича, позволяющим без помех понаблюдать за его тело, истерзанное пытками и, как бы в продолжение неоконченного спора с лекарем Сяо, он спрашивал себя: — Так есть ли Душа и Бессмертие или их нет? А если есть, как увидеть?»
Ответа не последовало или Сянь Мынь его не услышал, поскольку вниманием завладевал молодой князь, и монах приблизился еще на полшага.
Князь Ючжень, сам того не желая, оказался напрямую причастным к судьбе монаха Сянь Мыня, вольно или невольно затронул его интересы. Зная князя давно и как будто неплохо, интереса к нему, равного вниманию, оказываемому молодому гвардейскому офицеру тюркского происхождения Тан-Уйгу, Сянь Мынь никогда не испытывал. Для него это был юноша светский, бездумный, увлекающийся вином, праздностью и легкомысленными красотками. В нем была внутренняя цельность, но, как и в его родителе, князе-старейшине Ашидэ, она не имела решительных и полезных устремлении, как понимал Сянь Мынь.
В нем не было и не могло быть того, чем только что возбудил его князь-регент. И не замечалось тех волевых начал, которые выделяли Тан-Уйгу.
«Другое поколение! Совсем другое! Легкомысленное, не закаленное суровыми монастырскими испытаниями подобно моему поколению! Что такому поручишь, будь он и предан, словно собака?» — говорил он себе с некоторой досадой и, словно бы сожалея, заранее перед юношей в чем-то оправдывался.
Знал он и жену его, вышедшую из некогда знатного китайского рода, вставшую на путь не менее праздный, свободную в своих поступках. И, вспомнив о преднамеренной встрече с ней в музыкальной школе, прославившейся известными в столице «женскими братствами», тайно взятыми У-хоу под покровительство, опять усмехнулся невольно.
Приказав стражам облить Ючженя водой и всем покинуть каменный склеп, в ожидании, когда юноша, сделавший попытку пошевелиться, очнется окончательно, монах продолжил свои скучные монашеские измышления. «Не отождествление разума с телом, а постоянный поиск истинного тождества с нашим Истинным „Я“ составляет наш жизненный путь. Дух выше разума, потому что бессмертен, — говорил он зачем-то себе, словно для этого у него не могло возникнуть другой возможности. — Для обретения этого важного „Я“ есть четыре духовных пути: Джиана, Бхакти, Раджа и Карма Йоги. Чем больше в нас эгоистичного „Я“, тем меньше Будды. Садхана — духовная практика, которая должна выполняться ежедневно, чтобы мы научились жить Божественной Жизнью. И это — священные собственные усилия, но к ним необходимо людей постоянно побуждать. Да, Учитель прав, я отстранился от Высшего бытия и надо снова приблизиться. Непрерывный поток моих мыслей создает вещественный мираж, а это и есть орудие Богини иллюзий для запугивания разума. Все, все вы запуганы, люди!», — убеждал он не то самого себя, не то кого-то еще, незримо присутствующего рядом, и, наконец дождавшись, когда Ючжень приоткрыл глаза и взбрякал цепями, вкрадчиво спросил:
— Молодой наследник старейшины Ашидэ-ашины знает, кто говорит последним с обреченными на казнь?
— Тайная страсть монаха Сянь Мыня известна не только в Чаньани, — сипло произнес Ючжень. — Но разве монах не знает, что умирает лишь тело, а душа остается? Что получишь, умертвив еще одно жалкое тело? Высокий служитель Неба не устал упиваться насильственными страданиями похожих на него и созданных, как и он, по божественному подобию?
— Ты втягиваешь меня в трудные рассуждения, понимая, что это просто и не более. Предмет спора вполне любопытен, но времени сейчас у меня нет. Можешь ответить проще, не затмевая горячий рассудок бесполезной схоластикой мудрых и давно умерших?
— Сянь Мынь, спроси сам, о чем хочешь спросить! Ни в чем не повинный, я хочу сохранить свою жалкую жизнь.
Ответ был прямой, твердый, чего Сянь Мынь ожидал меньше всего. Подумав и, очевидно, намереваясь узнать о чем-то другом, он резко бросил, сохраняя на лице равнодушие:
— Почему князь Ючжень Ашидэ не ушел в степь следом за Тан-Уйгу? Разве вы не друзья, посещавшие вместе самое безнравственное братство твоей высокомерной и распутной супруги?
— Он уделял мне не слишком много внимания. Кто я такой? Куда бы я с ним?
— К тем, кто ценил твоего родителя, где старейшина-князь Ашидэ был вождем. У тюрков Степи сейчас нет князя-ашины.
— Что толку во мне — я им чужд. И я слаб.
— Телом или духом? В чем твоя слабость для тех, кто разбойничает в Степи? — сузив глаза, не без обострившегося любопытства спросил Сянь Мынь.
— С телом у меня все в порядке, я знаю боевые искусства, провел не один опасный поединок, выдержал пытки твоих палачей, но чего хотят от меня?
— Размышляй. Кажется, ты неглуп.
— Я не участвовал в заговорах китайцев против китайцев, а, порываясь уйти — не ушел.
— Почему? — Монах выглядел задумчивым, но слушал и наблюдал за князем внимательно.
— Тутун Гудулу отправил меня обратно, когда я, посетив его лагерь, просил разрешения остаться. Такие, как я, ему не нужны.
— Вот как! — воскликнул монах. — Когда это было? Мне неизвестно.
— Во время прошлого тюркского набега я был направлен именем императора Чжунцзуна в составе высокого посольства к тутуну для переговоров о мире и говорил с тутуном.
— О мире? И об этом мне мало известно.
— Да! И о готовности Поднебесной империи признать право тюрок на часть верховий Орхона.
— Мне об этом ничего неизвестно. При этом тебя наставлял Тан-Уйгу… или монах Бинь Бяо? — со скрытым волнением спросил монах.
— Тан-Уйгу, наследник, князь-управитель, Бинь Бяо — все, кто встал рядом с троном! Они были едины в предании забвению всего, что случилось в Ордосе, в песках, Шаньси.
— И что же? Ты не остался? Почему ты вернулся? — с нескрываемым раздражением поторопил юношу монах.
— Беседуя с тюркским предводителем тутуном Гудулу один на один, я сказал, что мы, чаньаньские тюрки, не поддерживаем его намерений бесконечно сотрясать Великую империю и держать невинный китайский народ в постоянном страхе, — не без труда произнес княжич.
— Судьба Китая тебя волнует больше, чем судьба твоего непокорного народа?
Глаза юноши вспыхнули гневом, и он произнес:
— Я сказал, что вместе с ним желаю обрести свободу в Степи. Я сказал тутуну: поставь меня рядом, я пришел навсегда. А он ответил: возвращайся в Чаньань, Ючжень Ашидэ, такие, как ты, здесь не годятся.
Состояние зрелости и возмужания княжича было еще неустойчиво, недостаточно укреплено и духом и волей, чтобы Сянь Мынь мог использовать его незамедлительно, хотя мысли такие в монахе бродили. Ючжень еще не нашел себя окончательно, поскольку не обрел сильного хозяина. И может его не найти, как далеко не всегда находят многие прочие, вовсе не слабее Ючженя. Опасным молодой князь пока не был, но мог им стать. Он мог бы пригодиться монаху. Всей интуицией Сянь Мынь слышал в нем нарождающийся дух свободолюбия, с сожалением понимая, что таким юноша ему бесполезен, а тратить время, пытаясь сделать другим, наверное, поздно.
Все же монаху было жаль его, жаль больше, чем князя Се Тэна.
Не проявляя мысль до конца, он спросил:
— Разве ты не носишь чин офицера? Не умеешь вести, управлять, готовить к нападению всякое войско? Или у Черного Волка нет нужды в образованных военных?
— Я не умею делать иначе, чем делают в китайской армии.
— Армия — порядок и дисциплина.
— Армия — только рабы, слуги, солдаты, в орде — воины.
— Тутун способен создать большую орду? — нисколько не тяготясь навязчивостью и не желая замечать состояние княжича, разговаривающего через силу, спросил громко Сянь Мынь, словно пытался быть еще кем-то услышанным в искреннем любопытстве.
— Монах, она зародилась клятвенной кровью в склепе шамана Болу. Тебе доносили, но ты и У-хоу не захотели серьезно задуматься. Орда скоро поднимет над Степью священное знамя Бумына.
— Ты считаешь, Черный Волк его еще не поднял?
— В том смысле, как я говорю, пока не поднял. Он с ним в Китае, а мне не по себе, что священное тюркское знамя трепещет в Китае. Лучше бы ему сейчас возбуждать и призывать к единению всю нашу Степь.
— Глупец! Чем изощреннее разум, тем утонченней коварство желаний! Во всякой легенде присутствует ложь, преднамеренность и преувеличение, — раздраженно произнес монах, минуту назад вроде бы сочувствовавший князю. — Истина сине-голубого знамени тюркской старины куда проще. Однажды император Поднебесной, предлагая воинственным тюркам, год за годом разорявшим северные провинции Поднебесной своими набегами, дружбу и примирение, вместе с китайской принцессой, поощрил этим знаменем несильного кагана Орхона или Селенги, точно не помню какого. Так было на самом деле и записано в хрониках, твой друг Тан-Уйгу знает об этом доподлинно. Какая в нем святость?
— Может, и так, но легенда приятней тюркскому сердцу. Она не строчка в бумагах придворных сочинителей, а добыта тюркской саблей и достигла далеких земель. Легенда живее строчки в хрониках, громкого слова — она возбуждает наш разум и поднимает в седло весь тюркский народ.
Молодой князь был горяч, взгляд его казался гневным, и был всего лишь протестом, желанием укрепить себя тюркским честолюбием, природной княжеской твердостью, которой он весь дышал, невольным образом напоминая Сянь Мыню князя-отца. Умственной широты, глубины самого мышления в нем не хватало.
— И все же ты из князей рода ашинов! В тебе чистая кровь тюрка-отца и самого Кат Иль-хана! Никак не могу понять, почему тутун Гудулу тобой пренебрег. Одно твое имя князя-ашины — само по себе стало бы знаменем!
— Князь Ашидэ, мой отец, не был вождем и воином, как другие. Подобно шаману Болу, он был только духом, хранящим в своем сердце тюркское прошлое. Я не владею и этим.
— Великое прошлое хуннов! Прошлое жужаней, сяньбийцев! Величие тюрок, ушедших на закат солнца вослед хунну! Ты ведь знаешь все это, князь? Но что было от века выше величия Поднебесной и что может быть величественней?
— Обычная жизнь кочевника-тюрка, монах! Но разве в тебе осталось еще от монаха? Ты пришел как палач, забирай, ради чего пришел. Но помни: души умерщвленных в пытках, души насильственных жертв возвращаются демонами. Что будет с моей душой, когда я умру? Что случается, когда вы казните, на ваш взгляд, недостойных и сеете зло, превращая умерших в демонов?
По-своему, но не менее Се Тэна упрямый, юный князь его раздражал. Приглушая нарастающий гнев, монах произнес как можно равнодушнее:
— Зло по ту сторону сути — забота Небес, я пока на земле, из плоти. Жаль, Ючжень Ашидэ, ты научился много спрашивать, но мало умеешь свершать. Ты ничего не умеешь пока. — Не желая унижать юношу значительней, чем уже случилось, Сянь Мынь не сдержался и, давая понять, что неблагочестивые порядки в девичьем обществе-братстве, в котором жена княжича — не последняя скрипка, и где молодые люди погрязли в разврате, осуждаемом, кроме У-хоу, всей Чаньанью, с презрением добавил: — Надеясь увидеть воина, полного гнева и злобы, я встретил… «жену» для братьев-подруг твоей настоящей жены. Какой с тебя прок?
Беседа монаху ничего не давала. И в этом он был сам повинен, поскольку так построил и повел. От нахлынувших воспоминаний о пороках так называемого женского братства, в котором юный мужчина становится общей собственностью любвеобильных красоток, взятых под защиту императрицей, его неожиданно передернуло. Всегда озадаченный бессилием в борьбе с женскими пороками, утомленный неприятной и раздражающей беседой, он опустил факел.
— Не унижайся до гнева, монах. Я могу быть воином, но я оказался не готовым во время и уже не придется, — произнес грустно Ючжень.
— Чего тебе не хватает, Ючжень? — приподняв опять факел, спросил монах, на мгновение вспыхнув оживающим любопытством.
— Того, что князю-отцу — Великой Степи наших предков. Только там я смог бы услышать себя иначе.
— Но там ты чужой!
— В Степи наших предков мы все будем долгое время чужими, но душою мы там, — ответил Ючжень с хриплой надсадой.
«В Степи! Как безумцы, они рвутся в Степь!» — досадливо подумал Сянь Мынь и резко спросил:
— Готовясь умереть, о чем хочешь просить монаха?
— Просить?.. Ючжень звякнул цепями. — Ни о чем. Хотелось бы только спросить: убивая, о чем ты сам хочешь просить того, кого убиваешь чужими руками? Небо создало нас одинаковыми, но ты поднялся над многими и решаешь сам за богов.
— Монах никогда не просит — он вопрошает и только.
— С тем и уйди, Сянь Мынь, — довольный собою. Я сожалею, что оказался таким нерешительным… И никогда не увижу Великую Степь.
— И мне тебя жаль, молодой князь-ашина. Ты оказался не тюрком и не китайцем… Жаль, — сгоняя с хмурого лица тень раздумий и последнего сожаления, наполняя тоненький голос привычной твердостью, произнес монах.
— Монах, почему я вроде бы нужен… и в тоже время точно отвержен? — в тоскливом смятении воскликнул юноша-князь.
— Так бывает, князь Ючжень… когда кто-то кому-то начинает мешать по разным причинам, — глухо, как приговор, прозвучал в тесном каменном каземате голос монаха.
Это был голос, возвещающий приближение смерти; молодой князь откинулся на стену, обречено закрыл глаза…
На выходе из подземелья монаха дожидался князь-управитель Ван Вэй.
Тревожно любезно раскланиваясь, он произнес:
— Дальновидный и мудрый Сянь Мынь желает повторить посещение молодого князя?
Слащавый голос управителя и его ненужный вопрос доставили Сянь Мыню новую досаду и подстегнули принять окончательное решение.
— У меня нет к нему интереса, управитель Ван Вэй, — лишь обозначив ответный поклон и давая понять, что в спутнике больше не нуждается, ответил сухо Сянь Мынь. — Поступай, как задумал.
3.Наедине с гуру
— Абус направился в подземелье, Сянь Мынь, кроме няни у Солнцеподобной нет никого, поторопись, — послышался шепот, заставивший монаха вздрогнуть, несмотря на его нетерпеливое ожидание такого сигнала.
— Перекройте подступы! Чтобы ни одна мышь… Отвлеките Абуса, не подпускать!
— Будет исполнено, господин.
С кряхтеньем поднявшись на ноги, монах бесшумно плывущей походкой засеменил по переходам в сторону царственной опочивальни.
Задуманное монахом и тонко провернутое слугами становилось реальностью, что Сянь Мынь не мог не воспринять как предрасположенность к нему высших богов, перед одним из которых — Буддой в образе каменного идола, — он всю ночь просидел с подвернутыми ногами, искренне восклицая в молитвах:
— Великий Гуру! Ты ведешь нас по терниям сотни, тысячи лет! Мы служим тебе, не жалея жизни! Скажи, подай знак! Сейчас я предстану перед равнодушной повелительницей и что должен сказать? Должен ли я добиваться от этой холодной мумии, в последнее время похожей на ходячий труп, и довести до конца, что задумал?
Камень был нем, и монах, изнемогая, со страстью взывал:
— Учитель, я назову ее твоей дочерью! Плотью от плоти и духа твоего! У-хоу — китайская императрица — Дочь Будды! Ей этого мало? Другие женщины царствовали, сидя за ширмой. Они могли управлять Империей, но ни одна не основала династию. Другие императоры совершали паломничества к Священным Горам, но ни один не познал небесного откровения. Вечность все длится, плющ оплетает стены, росписи стираются, деревянные колонны истачивают черви или же они гниют под наростами лишайников. Почему некоторым предметам дано пересекать завесу времени? Почему некоторым местам удается не познать упадка? Почему имя, драгоценность, чаша доходят до отдаленных веков, подобно кораблям-скитальцам, обретающим гостеприимную гавань? Я прикажу высечь в скале такое твое изображение, какого нет в мире. Я… Я… О, боги, я слышу! Я знаю, что предложить! Я создам пантеон царственному Гаоцзуну, в котором будет предусмотрено на будущее величественное место и для нее… Не откажется! Она не сможет, — шептал он под утром, охваченный нервной возбуждающей дрожью, зримо представив то бессмертное в чреве скалистой горы, вырубленное под статуей вечного Бога-Гуру, что возникло перед его глазами, что не могло возникнуть в нем само по себе.
Бессмысленно искать истину в камне, но Сянь Мынь не считал заблуждением телесное самоистязание, подобные объяснения со своим Пророком у него снова случались все чаще, почти как в прежней монастырской жизни, и он все чаще позволял себе ночи напролет упрямо бить поклоны его бестелесному изваянию.
— Неужели ты не можешь провидеть, что станет с Китаем, когда я довершу свержение династии Тан? — говорил он ему какой-нибудь час назад, ожидая сигнала от преданных слуг, что путь в покои правительницы для него расчищен. — Я близок к цели, мой высший повелитель! Помоги своему рабу и служителю! Поверь мне, клянусь, я заставлю припасть к твоим священным стопам еще больше боголюбивых китайцев! Великий и Бессмертный, они верят в твой дух и твое Слово! А еще у нас в запасе Великая Степь Времен! Твоему имени станут поклоняться во всех беспредельных землях!
Монах не кощунствовал и не лгал, он верил в осуществимость того, о чем страстно шепчет в своем одиночестве и тайно мечтает. Непрерывный поток мыслей, которым он упрямо пытался подчиниться, создавали в его воображении иллюзорно овеществленные миражи. Главным из них, упирающимся в облака, был каменный столп — Будда, на которого никто, кроме избранных, его и У-хоу, не смел поднимать взгляда. И Сянь Мынь которую ночь видел величавого истукана, плавающего в пространстве, способного заставить пасть ниц жалкий люд,
Преклониться перед Гуру-Пророком, следовательно, и перед ним, отважившимся соорудить подобное чудо.
И он, смертный монах, Сянь Мынь, подобное сотворит.
Его мысли перед посещением императрицы были холодно расчетливы и прагматичны, никакого раздвоения или колебания не рождали. Цель достижима, когда отринуто решительно все, что любыми незначительными сомнениями мешают ее воплощению. Колебания — удел ничтожных; он, монах, призван изрекать и внушать исполнение задуманного силой божественного Просветления.
В последнее время, в тревоге истязая себя подобным образом до изнеможения, Сянь Мынь уставал в умственных бдениях, но боги умеют испытывать неистовых служителей суровым безмолвием, ведь боги лишь химера воображения, они вообще бессловесны.
Разумеется, монаху не казалось так никогда, чаще мнилось, что боги к нему благосклонны, с ним говорят и его наставляют — когда вбиваешь день и ночь одно и то же в свое подсознание, убежденность придет. Хотя не мог не понимать, что, подобно другим божьим угодникам, он давно сам решает за Бога, убеждая потом остальных в высшем предвидении и якобы услышанном гласе Небес. Вера и верования — понятия тонкого порядка, не только истинно чистые, но заведомо прагматические, что и составляет нередко двусмыслие самого верования. В нем иногда беззвучно прячется не столько преданность и поклонение бессловесным богам и Небу, сколько безоглядная убежденность в некоем будто бы несомненном Просветлении истинной Святостью. Она слетает с Неба мудрыми наставлениями самого Учителя, которые услышать и принять никому, кроме избранных и предназначенных для подобных незримых общений, не суждено.
Да это уверовавшим и не важно — почему голос Неба не слышен другим. В их восприятии, как и в понимании монаха, таких вообще должно быть как можно меньше, тогда и смут, и всякого рода заблуждений поубавится. Главное — он слышит. Или… будто бы слышит. А люди, паства… Он это прошел и много отдал за то, кем стал.
Во все времена люди добровольно и жертвенно платят непомерную цену за обычную слепоту, из которой он вырвался через немалые усилия, но трезвомысленней не становятся, блуждая в потемках и загоняя себя во тьму, предавая проклятию тех, кто так не считает и так себя не ведет. Им вера нужна как слепому поводырь, чему он и служит и никогда не вредит; подчас для многих она единственная защита от голода и нужды, от насилия и угнетения и самой жизнью готовы платить за эту надежду-спасение ТАМ, в мире покоя, и мешать им не стоит.
Кто еще их услышать? Кому еще прокричать боль своего холодеющего сердца, опутанного ложью, насилием и бесстыдством? Нет больше никого у грешного исстрадавшегося человека. И пусть будет Бог-Государь в лице той же У-хоу, какой бы она не была на самом деле, правитель и господин, в чем-то жестче, а в чем-то беспечней бестелесного Бога.
Он только этого добивается, — убеждал своего истукана монах нервно и сбивчиво в ожидании слуг, в том, что живет в словах, взываниях, слезах, и загадочная улыбка Того, кто вращает Колесо Времени.
Из приемной императрицы долго не шли, он утомился сильнее обычного и, кажется, уже начинал кое в чем повторяться.
По-своему истолковывая постулаты древней незыблемой веры в Будду и буддизм, теорию «большой колесницы» и учение «Дзэн», Сянь Мынь был убежден в том, что всякое бытие есть страдание, а значит должен быть путь освобождения от этих страданий. И заключается он, путь этот, в том, что подобные муки, как бесконечно душевное или плотское беспокойство, общая нелегкость, напряженность, неудовлетворенность, с каждым днем в живом и телесном только усиливаются — и надо уметь как можно скорее от этого избавиться. И он, временно уступив, должен снова возвыситься над растерянным сознанием У-хоу, вернуть утраченное преимущество и необходимую прежнюю власть над нею.
Но как это сделать? Как тоньше построить беседу и что еще предпринять, если беседа вдруг не завяжется? В чем боги могут помочь — они же обязаны быть на его стороне!..
Старая служанка была сообразительна.
— А вот и Сянь Мынь, — обронила она вроде бы сердито и поспешно добавила: — Ну, Сянь Мынь, так — Сянь Мынь, а то ты одна, моя ласточка, да одна… рядом с этим кастратом. Не беспокойся, я буду рядом, глаз не спущу.
Приблизившись к балдахину, монах с напряжением всматривался в темную глубь царственного алькова, с досадой понимая, что повелительница не видит его и не слышит. Недавно еще неуемная в безотчетных приступах женского гнева и страсти, которым она нередко поддавалась, ненасытная к извращениям на своем изощренно похотливом ложе, императрица словно бы вдруг пресытилась телесными забавами, как пресыщается удав, не без приятных мучений проглотив крупную добычу. Она затаилась где-то в изголовье постели этим хищным удавом с маленькими, не моргающими глазками, устремленными вовсе не на монаха. Но достигла ли она желанного… насыщения и кого видит сейчас перед собой? С кем была эту ночь и чем утомилась? Монах не по своей вине не встречался с ней больше недели, вернувшись с Жертвенной горы, У-хоу разом как-то затихла, не требовала от вельмож ежедневных отчетов, не созывала советов, не отдавала привычных распоряжений. Не управляя сама делами государства, она и его, преданнейшего слугу, не побуждала привычным ворчанием к неотложному исполнению, и получилось, что весь вельможный дворец в ожидании неизбежной грозы словно бы притаился, затих, никто не осмеливался напоминать правительнице о важных государственных делах и повседневных императорских заботах.
А забот было много, ленивая державная машина никогда не является толком отлаженной ни в одном, самом добропорядочном и разумном государстве, и Великая Поднебесная исключения не составляла. С тяжелым вековечным скрипом вращала она государственные жернова, ломала и перемалывала новые и новые судьбы. Запущенная однажды по высокоумным расчетам и соображениям власть предержащих, она не требовала особой перенастройки, достаточно лишь замены время от времени тех настроенных, кто устремляет чиновничью энергию на черпаки ее чудовищного маховика, вращающегося с размеренной скоростью в заданном направлении. Ее главная задача ломать и переламывать, молоть-перемалывать, и пока сила устойчивого давления этой вторичной власти на этот монотонно не останавливающийся маховик не ослабевает, она заложенную программу будет исполнять автоматически самостоятельно. Но… Но важные перемены во все серьезные государственные круговращения нужно вносить постоянно, не от случая к случаю. А кто подскажет и подтолкнет сделать вовремя то или это, если не он, Сянь Мынь?
Монах умел быть терпеливым. Не без помощи старой няни, поспособствовавшей оказаться в покоях, он стоически выжидал, когда взгляд императрицы обретет осмысленность и заметит его, послушно и преданно преклонившего перед нею колено и поседевшую голову.
Истинно высоким и чувственным одиночество бывает лишь у великих людей. Оно насыщает этих людей и самое себя неординарным воображением, расширяет или уплотняет их своевольные глубокие раздумья величием прошлого и настоящего, способно, как озарением, высветить будущее; убогих, ущербных, озлобленных оно делает, соответственно, еще более озлобленными, мстительными и для окружающих опасными. У-хоу сейчас монаху казалась убогой и жалкой, и он, пытаясь поймать ее бесцельно блуждающий взгляд, проявлял твердую выдержку.
Не имея возможности беседовать с нею в течение нескольких дней, плохо понимая ее состояние и многим рискуя, он расчетливо выжидал, когда императрица заговорит сама.
Правительница рвала на ленты шелк и молчала… А мрачный трон в императорской зале по-прежнему пустовал, возбуждая монаха. Властные направляющие струи чиновничьего напора на мельницу их единой машины-державы с некоторых пор лились неровно, требуя срочные изменения, усиливающие или ослабляющие нужный нажим, и кто как не он должен этим заняться?
Некому.
Таких рядом с ней почти не осталось, а тех, что сберегли свои головы, и в расчет брать не стоит.
…А на трон, чтобы не усугублять нарастающее раздражение знатных семейств императорской фамилии, пора посадить второго сына умершего Гаоцзуна — малолетку Ли Даня, и тогда все должно придти в норму.
Почему ей самой не приходит в голову? Что за бездействие с ее стороны?
Не решаясь первым начать предстоящую скучную беседу, Сянь Мынь сосредоточенно выжидал.
Легкий треск разрываемого шелка, достигая сознания, обдавал его знобким холодом. Зная себя и способность улавливать дикие капризы властной госпожи по незначительным ее действиям, и не всегда умея угадать то, чем они падут на его голову, в последнее время Сянь Мынь всегда напрягался, оказываясь в царственных полутемных, словно бы навсегда остывших для него покоях. Он вошел к правительнице, как и прежде, с особой легкостью и свободой, может быть, умышленно переставляя затяжелевшие в последнее время ноги чуть-чуть мельче и суетливее. Он ими словно бы шаркал. И вошел, полный желаний в первую очередь говорить, наставлять, поучать, вызывать на пространные схоластические беседы, которые У-хоу никогда не любила, но которые он считал обязательными для тренировки ее ума. Это был его давний прием: побудить Великую Несравненную к размышлениям, как о бренном, так и о вечном, и только после этого приступить к разговору, с чем важным заявился.
Наверное, в душе любого человека однажды могут зазвучать тоскливые, расслабленные струны. И как ни натягивай, как ни пытайся их поднапрячь, перенастроить, взбодрить, они все равно, к досаде, грустят и фальшивят, что монах слышал в себе, и что в последнее время с ним стало случаться достаточно часто не только в покоях императрицы. И если не привыкший, посторонний слух ему все же удавалось как-то обмануть, выдать нечто бодренькое, напускное, то никак не получалось провести самого себя, и грусть Сянь Мыня в такие моменты обычно пересиливала пределы устоявшейся и расчетливой осторожности в общении с повелительницей. Неуловимый разлад между ним и У-хоу зародился в утро ссылки наследника в южную провинцию — в то утро она впервые не захотела с ним говорить. Когда он вошел к ней, закончив важные ночные дела во дворце, начало которым, заручившись ее согласием, он положил, правительница была объята не свойственным страхом. Она сидела вот так же, угнездившись в изголовье просторного ложа словно бесчувственный удав, который находился в таинственном смятении, притягательным и опасным.
Досаднее было, что Сянь Мынь никак не мог понять ни причины, ни сути опасности, исходящей от императрицы, ни того, почему он вдруг стал неугоден, чем досаждает.
Усиливая опасность, рождались новые мысли: «Зная многое друг о друге, иногда практически всё, люди в подобном сближении, как тел, так и душ, почему-то часто глупеют и самообольщаются. И тогда… тогда приходит расплата».
Сянь Мынь не знал, откуда они появляются и для чего. Не прибавляя осторожности, они странным образом усиливали грусть и печаль, словно бы разом отрезая не худшую часть прошлого, обдавали неприятными ощущениями, что в отношениях с повелительницей наступают серьезные перемены и более важные по сравнению с прежними.
Он жаждал услышать ее голос, любое восклицание. Пусть даже гневный вскрик. Лишь бы она показала, что видит его, и не молчала.
Он долго ждал. Наконец, У-хоу взглянула на него и в досаде произнесла:
— Сянь Мынь, я ни о чем не хочу говорить, я слышу гнев Неба, и боги нас накажут.
Боги милостивы, он получил долгожданную возможность ответить со всей пылкостью, которую только что проявлял, преклонив колени перед всемогущим каменным божеством в затхлой келье.
Переполненный самовеличием, он произнес:
— Моя госпожа и повелительница, боги наказывают слабых, к сильным они благоволят! Возьми себя в руки! Обопрись на мое преданное плечо! Важные государственные дела требуют твоих властных повелений. Чиновники походят на сонных мух.
И уже не мог остановиться, не упоминая лишь ее младшего сыне Ли Даня, которому, как он уже рассчитал, необходимо будет дать имя императора Жуйцзуна.
Он все давно прикинул и рассчитал. С той минуты, когда, спасая ее жизнь, предназначенную для съедения львами, уносился в колымаге по крутым серпантинам в заброшенный тибетский монастырь, зачем терять достигнутое?
Сянь Мынь, всматриваясь вглубь алькова, говорил убежденно и горячо, как только что ночью говорил Учителю-Пророку, не сомневаясь, что и Пророку способен давать нужные советы, продолжая вместе с тем думать о власти духовного управления, ускользающей из его недавно крепких монашеских рук. Вера должна оставаться незыблемой, подчиняя благодаря его влиянию на повелительницу и через нее каждого жителя Китая, стремительно устремляясь в бескрайнюю Степь. Построив с благословения императрицы сотни монастырей, других святилищ — как пагоды, кумирни, дагобы, субуртаны, чартоны и тахты, о чем его учителя не мечтали еще два десятка лет назад, он вынашивает новый грандиозный замысел — воздвигнуть и самую великую в мире фигуру Учителя-Гуру, предвестника последующих пророков и патриархов. Вырубить на века в каменной стене… В которой будет еще одно грандиозное святилище на века — Пантеон Гаоцзуну. Пока — Гаоцзуну. Там, кто его знает, кто окажется рядом?..
Подходящую стену, он давно приказал подыскать. Лучше в близлежащих горах не найти.
Общий план — для начала в два-три десятка саженей в глубину.
Основное — верхняя часть портала и самая впечатляющая воображение из существующих статуй в монолите скалы-навершия Гуру-Патриах Будда Шакьямуни. Духовный учитель и легендарный основатель одной из трёх мировых религий, получивший при рождении имя Сиддхаартха Гаутаама. Или потомок Готамы, успешный в достижении целей… Мир должен осознать, наконец, знать, что Будда представляет собой не бога — «посредника между людьми и высшими силами» или спасителя, как в других религиях, а только Учителя, обладающего способностью вывести разумные существа из сансары — круговорота между рождением и смертью в мирах, ограниченных кармой. В мировой космологии говорится о неисчислимом количестве подобных существ, но Гаутама-Будда является наиболее известным представителем в череде будд-пророков, продолжающейся с далекого прошлого. Его первым известным предшественником был будда Дипанкара, список из 24 будд перечислен в «Хронике будд» из «Нидана-катхи», — неканонического сборника историй о жизни Будды Шакьямуни. И так будет, он исполнит. Под порталом — грот-усыпальница, длиною в две тысячи шагов, которую он прикажет начать пробивать в скале уже завтра.
Да, непременно завтра же!
С этого и начать — с усыпальницы, где будет и ее последнее прибежище — Великой У-хоу — единственной женщины-императора за многовековую историю Поднебесной.
Под вечной защитой каменного исполина-Будды.
Во имя бессмертия славы Солнцеподобной императрицы У-хоу, не своей; должна же она это хотя бы понять!
Во имя бессмертия Дочери вечного Учителя и самого Гуру-Патриарха их веры, — и он ей это должен внушить.
Ей — в первую очередь, все другие не в счет.
Подчинив большую часть ее подданных канонам и постулатам учения Гуру-Патриарха Будды, основательно потеснившим слишком рассудочное, не принимаемое чернью конфуцианство, только он и его вера способны открыть ей все тайны божественной сущности бытия, недоступные низменным толпам. Разве он и его монахи за последние годы в повседневных трудах и заботах не упорядочили жизнь самого государства на свой лад и к лучшему? Еще как! И только с помощью буддийского философского откровения о справедливом и несправедливом устройстве государственного управления, которым она в последнее время пренебрегает, неосмотрительно раздавая высокие должности таким, как Ван Вэй и ему подобные. Лишь разумным чиновничьим властвованием на основе Учений Великого Будды, способным в корне изменить духовность бренного мира и религиозность государств вообще и Поднебесной в частности!
Он старался со всей изощренностью своего незаурядного ума увлечь полусонную и равнодушную императрицу высокими, как ему казалось, устремлениями в будущее. Вся пылкость его души была направлена только той бесчувственной и равнодушной, что была вершиной его творения, той, кто, обессмертив себя с его новой продуманной помощью, увековечит, как он считал, и его великое верование в Гуру-Патриарха.
Не Бога познают в первую очередь, себя в своей суете и природу сосуществования, построенной на Просветлении — вот что нужно внушить ей, не жалея любого красноречия.
Но во всем, что уже состоялось и сложилось вокруг за годы его служения Китайской державе, было еще много смутного, противоречивого, не всеми безоговорочно принимаемого. Продолжали существовать и враждовать различные религиозные школы-монастыри и отдельные властвующие над душами проповедники: на севере Китая — одни, на юге — другие, в горах Шао-линя — третьи. Сянь Мынь себя никогда не причислял к великим проповедникам, сила его влияния на паству заключалась в том, чтобы решать задачи самоутверждения и господства его веры в мире действительном и ощущаемом, обладающем реальными богатствами, а не отвлеченно воображаемом проповедниками-схоластами. Он для общины был не Гуру, не Учителем, он был, скорей, казначеем, понимая свое первичное предназначение и осознавая его тайную власть. Власть не там, где скипетр и корона, власть — где деньги и золото. А в том, что было привнесено юным наследником и ничтожными его советниками, особенно первым из них — отцом принцессы Инь-шу, бывшим князем Палаты чинов, находя поддержку в столице и во дворце, с каждым днем укрепляясь, стремительно приобретая сторонников, — с этим вообще необходимо покончить. Без промедления! Самым жестким и решительным образом. И он знает, с чего начинать и чем закончить. Конечно, с помощью Великой и под ее властью, немедленно возведя на царственный трон ее второго несмышленыша-сына. Он ощущал в этом не столько живую необходимость непосредственно для государства скорее управиться с ними — и с князем и с принцессой, — сколько страшную опасность, угрозу для себя и своего места при дворе со стороны тех новых вельмож, благодаря случаю окруживших трон молодого императора. Со стороны таких, как монах Бинь Бяо, бывший брат по вере. Громогласно ратуя за мир со Степью и тюрком-тутуном, Бинь Бяо становился опаснее остальных, вместе взятых. Говорят, Бинь Бяо высказал идею присвоить тутуну высшее звание князя-шаньюя и отдать в жены китайскую принцессу. И ни слова о том, чтобы склонить его к буддийской вере. Хотя бы в виде предположения, обговорив соответствующим предварительным соглашением, через тот же подарок — принцессу. Почему бы и нет! Подобные государственные дела совершаются сплошь и рядом, главное, как за них взяться, и ради чего. Нет, ни слова! Куда дальше?
И эти никчемные люди брались усилить мощь Поднебесной?
Что у них, кроме фонтана речей?
Монаху трудно было говорить об одном, а думать о другом. Внутренние размышления ему сильно мешали, и он говорил совсем не о них, живущих в нем остро на первом плане, сознавая, что во многом они пока более чем вредны. Другим, не ему. Ибо ум, ранее в человеке вызревший и навсегда укрепившийся, однако способный и противодействовать самому себе, остается непредсказуем и в настроениях и способах решения новых задач. Не стоит его тревожить раньше времени, как следует не подготовив. А повелительница к подобной глубокой беседе сейчас не готова, и он вынужден говорить о возвышенном, но не существенном в том своем плане, ради которого пришел. Он ждал, если уж не интереса хотя бы в ее взгляде к тому, что изливает, то хотя бы возмущенного возражения.
Любого.
И тогда бы он сообразил, как и о чем продолжить беседу, чтобы возбудить в ней новое возражение.
А потом бы — еще! И еще!
Кто-то — враз не припомнить, кто это был на пути его странствий — однажды внушил, что простой, заурядный человек не осознает Жизненной Силы Потоков Огня и Воды, только поэтому подвержен рождению, старению, смерти. Рассеивающая Сила Движения не является лишь простым вдыханием и выдыханием воздуха. Она является Жизненностью, которая поддерживает необоримую самовоспроизводящую энергию. Живет человек или умирает — целиком зависит от наличия или отсутствия в нем этого непрерывного Движения. Смерть называется истощением этого необходимого для Жизненности, и мертвое тело на какое-то время сохраняется таким же, как было при жизни, отличаясь от прежнего состояния лишь тем, что больше не может дышать. Нельзя допускать, чтобы сердце осталось пустым. Есть Печь, Котел и Меха. И нельзя впускать в себя злобность.
Он все это знал, во все уверовал, но утишить гнев на того же Бинь Бяо, азартного старика историографа, князя Палаты чинов и генералов из прежних времен, смягчиться сердцем и духом к их вредным, возмутительным деяниям не мог. С трудом дождавшись желанной возможности выложить часть своих мыслей, страстно и одержимо начав их изливать на У-хоу, призывать к смелым свершениям во благо Китая, он рисовал картины ее будущего величия, когда она объявит себя полновластным и единственным повелителем Поднебесной. И скоро с грустью понял, что не в силах пробиться к сознанию императрицы, ставшему недоступным. Возбужденность и страстность проповедника в нем быстро истаивали, но сдаваться настолько печальным для него обстоятельствам Сянь Мынь не собирался. Готовый уже признать нынешнее посещение повелительницы неудачным и покинуть покои, он упрямо чего-то выжидал, вновь и вновь напрягая работой измученный мозг.
Рассуждая о неблагодарном собрате, Сянь Мынь не мог не думать без прихлынувшей неприязни и о наследнике, и его первом советнике-князе. Они, в его понимании, дорвавшись до власти, и проявили, в первую очередь, оскорбительную для его чувств наглость и безнаказанность. Обретая большую власть, такие выскочки чаще всего погрязают в безрассудстве, как случилось с молодым повелителем и его первым князем-советником. Их самонадеянное упрямство не позволяет им слышать время в его протяженности, в которой всегда больше полезных уроков здравому правителю, чем в сбивающих с толку нашептываниях и сомнительных назиданиях. Но сопоставлять, сравнивать и выбирать, не опасаясь крупных ошибок, будущих, может быть, проклятий в свой адрес и ненависти к себе, всегда трудно.
Слабому трудно, сильный умеет и выбрать, и вовремя остановиться.
Для этого необходим не только жесткий, рассудочный ум, просветляющее предвидение, но и отвага, твердая воля, не лишенная здравых препятствий-сомнений. Нужны твердость характера, властность руки и линия решительного поведения.
Народ не становится единым сам по себе. Народ и державу едиными делает ведущий и властвующий.
От такой, какой выглядит в эти последние дни У-хоу, затаившись голодным удавом, ни государству, ни его народу пользы не будет, а смута, брожения только усилятся.
Сянь Мынь, как всякий не лишенный собственного слепого тщеславия, достигший значительных личных умственных высот, мог только уповать на Учителя-Будду, призывая его на помощь, и он в беспомощности воскликнул:
— Великая, за нами следит внимательный глаз Небесного Патриарха! Что скажешь ему?
* * *
Императрица упрямо хранила молчание, и монаху становилось труднее изливать себя безответно и пытаться услышать, словно подсказку, желанный глас не менее безучастного сейчас к нему Неба. Ему начинало казаться, что он вовсе не в покоях повелительницы, а стоит на коленях перед привычным каменным идолом, как стоял недавно, готовясь проникнуть в эти покои, и как бы испрашивал у безмолвного божества благословения на все, что задумал.
Скажет хоть что-нибудь эта женщина? Почему она будто немая, как те же боги, — ни злобы, ни гнева даже в глазах.
Наконец он снова поймал ее взгляд.
Императрица оставалась подавленной.
Ее мятущееся сознание нуждалось в поддержке, искало помощи.
Она выглядела совершенно отчаявшейся.
И не затаившимся сытым удавом она была, как монаху показалось вначале. Она была скована страхом.
Маленькие губы ее мелко дрожали. Перебирая длинную полосу шелка, тряслись ее руки. На лице совсем не было краски, на нем проступили морщины, которые она раньше скрывала, повелевая прислужницам каждое утро и особенно вечером, перед приходом красавца Жинь-гуня, тщательно замазывать белилами и румянами.
Как же она состарились с тех давних пор, когда блистала неповторимым алмазом среди обворожительнейших наложниц неукротимого императора-сатрапа! Никто и не знает ее той поры, кроме него да няни-старухи.
Тяжесть их отношений в последние дни усугубились несколькими десятками казней — как показательных, на мосту через Вэй, так и тайных, в подземельях дворца, смещением одних и назначением других вельмож и чиновников, что совершалось повелительницей словно бы нарочно в пику ему. Особенно сильно Властвующая переменилась после расправы с генералом-фаворитом Жинь-гунем, совершенной ею в невероятно жестоком и непонятном для монаха неуправляемом состоянии.
Да он и не знал об этом ее решении до самого исполнения не обычным палачом, а черным евнухом Абусом, облаченным в багрово-черные одежды палача. О казни генерала Жинь-гуня ему сообщили под утро, когда он общался с Великим Гуру и был на грани транса. «Сянь Мынь, — сказали два монаха, не побоявшиеся нарушить его уединение, — с восходом солнца топор приговора падет на шею Жинь-гуня. Генерал уже в подземелье». Больше они ничего не знали. Евнух, приближенный вдруг императрицей, в покои уже не впустил. И что он мог сделать?
То, что казнь генерала как-то должна была коснуться и его, сомнений не вызывало. Но что это было — сама генеральская смерть? Какая-то сильная в У-хоу досада, просто ночная причуда, самоуслаждение всевластием, угроза? Что насторожило их друг в друге больше, чем прежде, и что же случилось потом, поскольку с той поры Великая говорить с ним ни разу не захотела?
Обманом, перехитрив самого Абуса и только лишь на рассвете прорвавшись в покои повелительницы, монах весь был — покорность судьбе и само сверхтерпение. Он следил за государыней в робком сочиве зарождающегося дня и боялся ее, не зная, чем его посещение может закончиться. Что же все-таки с ней? Что с ним самим? Почему перестало получаться самое простое притворство, которое раньше нисколько не обременяло, возникая само по себе, как приятно волнующая игра, и почему, как ему кажется, что, сожалея о казни Жинь-гуня, она в этой смерти обвиняет его?
Перестав понимать мотивы поведения императрицы, монах перестал понимать и происходящее, раздражаясь собой значительно больше, чем поступками императрицы, еще более непредсказуемой теперь женщины, способной одарить его как новым всевластием, так и смертью.
Приучившись к циничному рассуждению о неизбежности жизненного пути любого, кто сопровождает правительницу Поднебесной на ее жизненном пути, кровавом и коварном, к чему он также приложил и прикладывает мертвецки холодную длань прагматического расчета, Сянь Мынь давно не думал о собственной кончине. Он вроде бы презирал ее на фоне, что получает за многогранные труды у трона и постоянный отчаянный риск, но после случившегося с генералом Жинь-гунем…
Нет, жалости к туповатому красавцу и не состоявшемуся полководцу-вояке монах не испытывал — поделом. Побаловался, поупивался незаслуженной славой, понаслаждался доступностью тела самой богини, пора честь знать. Поделом всем, по чину и шапка.
Но не ему. С кем она останется? Или она настолько ко всему бездыханно равнодушна…
Посмотрим, знавали мы всякое кажущееся равнодушие. Сегодня у нее на уме одно, завтра…
Посмотри, наступит и завтра. Достаточно искры, чтобы выжечь жаркий огонь, яростный пламень из любого бесстрастия.
А кто займет место рыжеголового генерала, — кому думать, как не ему, и он об этом уже в самых серьезных раздумьях. Не самому на старости лет, как в прежние годы…
Молодой нужен. Сильный. Дерзкий. Чтобы она задыхалась в его могучих объятиях, которые и есть ее главное вожделение.
Слабые ей ни к чему.
Бегло скользнув по его лицу, столкнувшись на миг с его напряженным взглядом, У-хоу опять опустила глаза, словно от еще более сильного испуга спрятавшись в дальнем углу широкого ложа под шелк и меха, поджав под себя ноги.
Словно нырнув, провалившись в кучу изорванного на узкие полоски шелка, она продолжала рвать его нервно и безостановочно.
— Осмелюсь напомнить моей божественной повелительнице, что первыми наши тревоги замечают враги. А наши тревоги рождают наши ошибки. Стоит ли жить, совершая, что ты совершаешь? Тебе нечем больше заняться? — произнес он сухо и строго, понимая, что слова его падают, кажется, в безответную пропасть.
Чтобы продолжить и знать, как и о чем говорить дальше, необходимо было дождаться ответа, и монах его все-таки услышал.
Оставаясь далекой, У-хоу сердито сказала:
— Для тебя все — истина. Вдоль что-то лежит или поперек, прямо или криво. Сегодня у меня нет нужды в пространной беседе с тобой, уходи.
— Я твой духовный наставник решением самого Патриарха-Гуру.
— Уходи или я позову Абуса.
Взгляд ее ледяной был неприятен, императрица, по-видимому, искала что-то у него на лице. И, должно быть, ничего не нашла, с особым вызовом, похожим на предупреждение, рванув за концы кусок скользкого, текучего, как вода, шелка.
Продолжительный треск, похожий на хруст снега, снова наполнил покои угрожающим холодом, заставив сердце монаха мгновенно замереть, а потом с новой, удвоенной энергией заколотиться.
4.Холод алькова и мертвые рыжие волосы
Нет, на этот раз она ничего ему не сказала, всего лишь поспешно скользнув по нему взглядом. И то, что застыло в ее глазах, Сянь Мыню снова было неясным. Слушая ставший омерзительным треск шелка, догадываясь, что может последовать, он сохранял спокойствие и видимость послушания
В то же время он должен был казаться и покорным, выглядеть кротким, что было не просто даже такому искушенному приспешнику трона, как он. Потому что и слишком кротких, готовых к немедленным услугам ее своенравная и капризная натура не очень-то жаловала.
Он хорошо ее знал, давно изучил в закоренелых привычках. Правящие династии прошедших времен управляли Китаем сотни лет каждая, многое меняя в жизни огромной державы. И когда приходили другие, наступали беспримерные потрясения, проливались реки невинной крови, в которых нередко текли струи, пролитые такими, как он. И кто как не он знает больше других о тайных и своевольных пристрастиях императрицы, в любой миг способных обрушиться умертвляющим царственным гневом на любого, намозолившего глаза. Нужно вовремя лишь угадать близость подобного гнева, и подсказать — на кого.
Нет, монах не был трусливым, вкусив соблазна от пирога тронной власти, вскружившего голову, не мог не желать большего. В этом они были более чем схожи. Он, монах, и она, повелевающая властно самим императором, одним этим и жили последние годы, подмяв под себя безвольного Гаоцзуна.
Власть им пришлась по нраву, хотя едва ли она кому-то бывает не всласть и не в упоение хотя бы на миг. Завладевая властью, от нее не отказываются, умело насилуя, приспосабливая и снова насилуя — в массе своей человек самое подлое существо из всего созданного Сеятелем и природой, упрямо отравляющееся этой подлостью с первого дня рождения до последнего. Безгрешия нет, и не предвидится, грешен сам Бог, сотворив много жестокостей.
Ей тщеславное упоение и самодурствующее безумие — для ее женского наслаждение, принижающее мужское величие, самодурств и жестокостей, на что он легко закрывал глаза и чем умело, расчетливо пользовался ради собственных устремлений. Ему, принимающему игру с этим унижением, вершиной которого, придуманное им же, припадание на колено и сладострастное облизывание ее обнаженных гениталий — для повсеместного укоренения божественной веры, возвеличивания Учителя-Будды и священного Просветления, которых без ее безмерного самоуправства императрицы ни с кем другим никогда было бы не достигнуть.
Долог был путь монаха к этой вершине, часто рискован и достаточно тяжек. Его приставили к юной тринадцатилетней наложнице, едва появившейся в гареме грозного императора, при виде которого у слуг и рабов замирало дыхание, для занятий разными науками. О чисто монашеском служении в то время речи быть не могло. Тогда всё во дворце дышало в большей степени конфуцианством и шаманизмом, перетекающим иногда в манихейство; буддизм встречал пренебрежение, был в Поднебесной изгоем, а военные, чиновники, молодежь, подражая дикой культуре Степи, любили напяливать на себя нечто из меха, обретая звероподобный, угрожающий вид. Щеголяя степными нарядами и облачениями на важных дворцовых приемах, они вызывали поощрительный смех своевольного императора, в жилах которого также бродила частица вольной степной крови, и глухую ненависть приверженцев ушедших времен. Во дворце и в столице было полно инородцев, торговцев и караванщиков, послов других государей, все шумело, гундело, тараторило на разных языках, бросалось в глаза пестрыми, чуждыми древней китайской земле одеждами, рождая невольное подражание или высокомерное презрение.
Юная наложница ничем подобным не увлекалась, ее страстью было и всегда оставалось как можно более оголенное тело. С нею в гарем вошли полузабытые страстные танцы, пластика, изумляющее искусство женского обольщения плотью. И молодой монах, сраженный непередаваемой свежестью ее красоты, изяществом гибкого сильного тела, вдруг, против своей воли, стал в ней это редкое природное умение поддерживать и развивать.
Пленительность ее вольных танцев была особенна тем, что, оставаясь по-восточному мягкой в главных линиях и движениях, юная фея непостижимо тонкой интуицией улавливала момент высшего возбуждения следящих за ней. Она умела будто бы вздрогнуть и неожиданно замереть, подать себя выгодно и всех ошарашить неожиданным неординарным заявлением. Могла, заставив замереть упивающихся ее божественной красотой, вздохнуть редкостно томно и страстно, оставаясь на ложе любви лишь жесткой и даже жестокой.
Она владела своим гибким телом почти в совершенстве, становясь не то расслабленно мурлычущей кошкой, не то хищной, готовой к прыжку пантерой, не то змеей, свивающейся в клубок.
В танце она была властно пленительна, редкостного телесного обаяния, во всем другом оставаясь не менее редкостно невежественной для изощренного и утонченного в обхождении двора.
Умея слышать не плохо пространственный мир, — что было, конечно же, даром Неба, посылаемым далеко не каждому, — она до изумления, не спуская глаз с повелителя, забавно упивалась только своими изящными движениями, предназначив себя одному сверхчеловеку — великому сюзерену.
Она откровенно подавала себя, соблазняя тем, какой будет на царственном ложе.
Она начинала дрожать, завидев императора, словно бы не замечая, насколько он стар и слаб как мужчина.
Она хотела принадлежать ему день и ночь. Изнывала бесстыдно у всех на глазах, включая и его, монаха, от опьяняющей жажды желаний служить его телу так, как ей когда-то внушили, как внушают воину страсть к битвам и что было высшей доблестью такого служения.
Она тяготилась, что, данное природой в ней остается целомудренным и нетронутым, словно испытывающая тесноту ножен ржавеющая без употребления сабля. Не стыдилась говорить об этом со всеми, кто ей прислуживал, евнухов и монахов, готовил к таинственному общению с повелителем, которого никак не случалось.
Оказаться в алькове Тайцзуна стало для нее необоримым вожделением.
Проснувшись и вызвав няню, сотрясаясь как в лихорадке, она могла говорить среди ночи, изумляя юного и неискушенного прислужника Сянь Мынь, мучительными страданиями, тайно слушающего ее девичьи стоны.
Император, проявляя внимание, награждая мимолетной улыбкой и лишь тем выделяя, на большее с ней долго не шел.
Но божественная ночь случилась, и в юном цветке императорского гарема произошли невероятные перемены. И к тем, кто научал ее тайнам искусства безумной любви, она стала вдруг пренебрежительна, как если бы все, что ей открылось в одну ночь на императорском ложе, переполнило таким сумасшествием и величественным самомнением, какое недоступно искуснейшим и самым сведущим в интимных утехах.
Случившись однажды, подобное не повторилось, у императора находились другие забавы и удовольствия, а Сянь Мынь увидел в божественно юной Цзэ-тянь — так тогда называли ее — хищную страсть зверька, жажду владения сильным правителем.
Она снова стонала и билась на своем холодном и безрадостном ложе, желая совсем других мук и терзаний.
Она умирала в неисполнимых страданиях и вновь оживала ей лишь одной понятной надеждой.
Утратив столь неожиданно интерес к наставлениям непревзойденных искусительниц, подвизающихся при гареме, развращающих его целомудрие забавами с ущербными евнухами, она не утратила влечения только к нему, монаху. Сосредоточившись и проникнувшись, не менее неожиданной страстью к познаниям, ведению изысканных бесед, их изяществу, она поражала Сянь Мыня, как быстро все схватывала.
Ум ее словно бы вдруг проснулся, требуя внимания, ласки, новых и новых восхвалений ее божественной изящности и красоты, нуждался в бурной и деятельной работе, а новых встреч с императором не получалось, что убивало в ней страсть, желания, огонь устремлений, рождая обиду и злость.
И тогда, тогда она однажды в гневе рванула подаренный ей удальцом-корейцем, молодым воеводой Чан-чжи кусок редкостной тонкой материи. Раздавшийся при этом треск — протяжный, созвучный тому, что исторгала ее страдающая плоть и натура, — пришелся ей по душе, удивил плачуще-ворчливым звуком, заставив снова и снова рвать на полоски текучую невесомую ткань.
А забияка Чан-чжи приносил новые куски, бросал и бросал к ее ногам этот легкий шелк, похожий на розовый туман…
Память Сянь Мыня отчетливо хранит, каким упоением горело ее раскрасневшееся лицо, словно бы У-хоу разрывала саму грудь императора, — и будет всегда сохранять как некую святость невинной юной души. Ноздри ее дышали, как они дышат у взнуздываемой и потому гневающейся молодой кобылицы. В глазах ее разгорался настоящий вселенский пожар. Забавляясь буйствующим своенравием юной наложницы повелителя, смеялся удалец-воевода Чан-чжи…
Скоро эта ее страсть стала известна двору. Вначале она умиляла сановников и вельмож, не больше. О юной рабыне заговорили, как говорят о тех, кому от души сочувствуют, но не в силах помочь. Имеющие разрешенный доступ в это царство-сераль спешили вознаградить страдания страстной рабыни множеством новых и новых кусков сверкающей ткани. Их приносили все, оставаясь обычной дворцовой забавой с пленительной и заносчивой наложницей, пока однажды с подобным подарком перед ней не предстал молодой наследник. Опытные монахи, присутствовавшие при этом посещении наложницы отца будущим императором-сыном, поняли многое и дали Сянь Мыню совет избавить наложницу от невольного и возможного в досаде протеста увлечения другим мужчиной, опасного в первую очередь им, служителям Будды.
«Порвать — что убить, Сянь Мынь, — сказали ему. — Нам кажется, ты поощряешь в ней лишнее».
Буйное поведение рабыни Тайцзуну стало известно, как остальное, включая первый кусок шелка, подаренный удальцом Чан-чжи, и участившиеся посещения гарема наследником: у императора были свои соглядатаи и советники, — и Великий правитель совсем вроде бы перестал ее замечать — прекрасных наложниц ему доставало…
Но и Тайцзун-император оставался мужчиной, и в нем зрела ревность.
И в нем, монахе, что-то мучилось, томилось и зрело, нарастало подспудно, побеждая прежнее, казавшееся устойчивым и незыблемым. Он… Он, монах, стонал по ночам, сам желал ее обнимать и в мечтах обнимал, страстно желал, просыпаясь в холодном поту и не в силах снова уснуть.
Он был на краю безумия, опасался к ней прикоснуться.
Было ли это замечено теми, кто его наставлял и кого он не мог не бояться, зная, как его строгая вера вразумляет подобное безумство? Скорее всего, что было, но недовольства и осуждения братья по вере никак ему не выразили, не высказывали предупреждений.
Когда император скончался, старый лекарь Лин Шу пожалел и его, монаха, и несчастную наложницу, тайно шепнув у смертного ложа Тайцзуна: «В ночь уезжай, Сянь Мынь. Увези, пожалей, ты все же монах… Иначе утром и с ней и с тобой произойдет непоправимое, вас ожидает страшная погибель в яме голодного зверя».
Страсть утишаться треском рвущегося шелка вернулась к У-хоу в ее монастырском заточении, где началась другая игра, и Сянь Мынь исполнял другую волю, возбуждая страстную рабыню тонко, расчетливо и продуманно всеми доступными средствами, днем и ночью, во сне насильственного забытья и наяву, опаивая травами. Он совершил невозможное, принудив хитро служить себе лучших знахарей, самого первого лекаря умершего императора Лин Шу и лучшего его ученика Сяо. Их дьявольский план удался: сделав ее хитрой и расчетливой, они заставили память наложницы навсегда позабыть о Тайцзуне. И тогда рядом с ней появился слабовольный Гаоцзун, возвысивший рабыню до немыслимого величия.
Но что же случилось спустя много лет?
Что снова случилось, когда мир у ее ног, подвластен как никогда и все равно раздражает?
Почему, сделав настолько значительный ход, как отстранение старшего и законного сына-наследника от власти, учинив жестокую расправу над его единомышленниками, она не решается сделать последний шаг? Шаг для решительного упразднения ненавистной новой знати, евнухам и монахам династии Тан. Посадить на трон для отвода глаз и на время младшего — Ли Даня, и самой стать императором.
Начав рвать шелк, она злится намного яростней прежнего, злобной памятью возвращается к прошлому, ненавидит, должно быть, совершенное по отношению к старшему сыну. Покинуть сейчас ее Сянь Мыню было нельзя. В то же время и говорить становилось опасным.
Рассвет наполнял покои, проникая и в ту часть алькова, где продолжала упрямо прятаться императрица. В любую минуту мог появиться евнух Абус, и тогда…
Тогда все может кончиться легким взмахом царственной злобной руки.
— Удел царей — совершать деяния, зная, что слухи об этих деяниях расходятся не только добрые. И ты, Божественная, должна совершать, такое твое предназначение. Я же рядом, чтобы ты могла слышать хорошее, — произнес монах, пересиливая тяжесть досады. Намереваясь сообщить, что вместо крепких обученных воинов генералу Кхянь-пиню, готовившему сражение за Желтой рекой и, возможно, начавшему битву в эти вот самые минуты, отправлены какие-то слоны, он собирался твердо сказать, что при таком управлении войсками сражения просто не могут быть успешными. Что в Чаньани говорят о тюрках Дикого Волка все громче, безнаказанно шепчутся, будто тюрк-тутун идет спасти лишенного власти наследника и желает примирения с ним. Что чиновники-вельможи, которых она второпях назначила своевольно, — трусливей прежних и ничего сами решать и менять не хотят, ожидая личных ее приказов, и ей необходимо постоянно встречаться с ними, давать строгие указания, поскольку ни с кем больше они считаться не будут.
— Я имела мужа и не была ему верна, имела сыновей и не любила их — кем я была, Сянь Мынь? — произнесла вдруг томно приторно императрица, не желая ни слышать о каких-то высоких и важных делах государства, ни тем более их обсуждать.
Синенькая жилка над ухом, на самом виске у нее напряглась и пульсировала. Показалось — она могла неожиданно лопнуть, оплеснуть его кровью.
Сохраняя выдержку, монах ответил с вкрадчивой льстивостью:
— Теперь ты на троне одна, царствующий никому и ничем не обязан.
— Я — не на троне, Сянь Мынь! Мне не нужен этот ваш трон.
— Возведи на него младшего, Ли Дань будет послушней Ли Сяня — Чжунцзуна.
— От жизни отвергнутую женщину спасают кинжал или яд, но что избавит от страдания мать? Сянь Мынь! Мерзкий монах! Ты сам поспособствовал тому, что во мне много от женщины, но еще больше от матери… Я раньше не слышала в себе мать, и от Гаоцзуна родить никогда не хотела.
— Почему? — предвидя ответ, спросил монах.
— Сила мужчины на ложе — мощь и величие в его будущем сотворении. Что можно родить от такого, каким был наш, слабый духом и телом…
Она не докончила мысль, как всегда, пожалев последнего сюзерена. Но добавила, помолчав:
— Так что же лучше, Сянь Мынь? Кинжал или яд… Кинжал больно входит, а яд… Он, говорят, очень горек.
— Солнцеподобная, мудрец как-то изрек: «Надо запастись либо умом, чтобы понимать, либо веревкой, чтобы повеситься». Ты права: яд и кинжал нашему телу — жестоко. — Он тоже помолчал не без значения и, собравшись с новыми мыслями, продолжил: — Твоя слабость страшнее веревки и яда, отринь ее, чтобы подняться над всеми. Честный муж сберегает жену и детей, женщина — верность, крестьянин — землю, воин — коня. Ты правишь, сберегая могущество власти, иначе все рухнет, а муж, крестьянин и воин погибнут. Власть — это величие. Быть ниже самого себя — невежество, а выше — лишь мудрость. Мысли о бренном царствующему — всего лишь помеха, ничтожность… Как ничтожны победа или поражение какой-то твоей армии, потому что у тебя их много. Битва за Желтой рекой, которой мы ожидаем, уповая…
— Имея один язык, при паре глаз и ушей, ты должен говорить вдвое меньше, чем слышишь и видишь, но ты, монах, утомляешь словами, уйди…
— Со вчерашнего дня тебя ожидают правый и левый канцлеры, Госсекретарь-управитель, военный министр, отважные генералы-сыгыни! Солнцеподобная, мне кажется, на той стороне Желтой реки что-то происходит не так, но, возможно, есть время поправить дело. Соберись и предстань хотя бы сегодня вельможам, совету! Требуются важные решения, кто без тебя примет?
Добиваясь внимания, монах не сдавался.
— Решайте, решайте, вы все сами хотели решать. — Императрица задыхалась, мяла и тискала шелк.
Шторы окрасил багрянец восхода. Порозовел балдахин и словно бы, рождая надежды, несколько посветлело лицо императрицы. Полный неясных ожиданий, монах проявлял редкостную по упорству выдержку.
Наблюдая за У-хоу осторожно, полузажмурив глаза, он вдруг увидел, что рядом с императрицей, выступая из кучи ткани, лежит высушенная голова генерала Жинь-гуня с ухоженными рыжими волосами. Императрица задержала на ней ненадолго руку и оттолкнула в сердцах. Качнувшись, голова коснулась ее оголившегося бедра и У-хоу, вцепившись в рыжие генеральские волосы, громко крикнула в сторону занавеси, колыхнувшейся на потайном входе в спальню:
— Где ты, старая каракатица? Почему нет Абуса! Абус, привезли князя? Войди, же, Абус!
* * *
Старший надсмотрщик императорского гарема непалец Абус всегда был глазами, ушами, тенью покойного Гаоцзуна. Своей вездесущностью, строгим надзором евнух-соглядатай изрядно досаждал У-хоу, навсегда оставаясь рабом одного господина. Сянь Мынь приложил немало усилий, чтобы хоть как-то заставить мерзкого кастрата служить своим интересам, и мало достиг. И Солнцеподобной не удалось приручить чернокожего строптивца. По одной только этой причине после смерти Гаоцзуна она должна была Абусу первому отрубить упрямую голову, но вдруг по непонятной причине приблизила к себе.
Когда раб вошел и покорно склонился, она, ровно и мягко, словно дразня монаха, спросила, решительно отодвигая рыжую генеральскую голову:
— Что, исполнено мое приказание? Доставили князя?
— Его пока нет. Потерпи, скоро увидишь.
Евнух был грубоват и немногословен, вызывал не ускользнувшую от взгляда У-хоу неприязнь Сянь Мыня, и правительница надменно воскликнула:
— Один переполнен пустыми словами, другой… Абус, ты будешь наказан. Где князь?
— Абус рядом с тобой, меня нет рядом с князем.
— Грубый мужлан!
— Абус просто дворцовый евнух, исполняющий капризы наложниц, — попытался рассмеяться монах, не совсем понимая, о каком князе речь. — Не скажет ли монаху Солнцеподобная, кого жалкий раб не может найти?
— Князя Хэна мы давно разыскали. Он выехал и скоро прибудет. — Абус обидчиво-шумно засопел и огорченно поджал толстые губы.
— Князь Хэн? — удивленно воскликнул монах, будто впервые услышав об этом желании правительницы, однажды уже говорившей о князе. — Великая вспомнила снова о князе-упрямце, которому Гаоцзун лет двадцать назад приказал отрезать язык? — Новость была неприятной, бросила в жар, и Сянь Мынь удивленно спросил: — Ты о нем вспомнила, когда решала судьбу историографа… отменив приказание лишить его языка? Простив одного, решила вытащить из небытия другого?
Невольное смятение монаха повелительнице понравилось, и она воскликнула с притворным укором:
— Ах, болтливый Абус! О нем, Сянь Мынь, о нем! Да, я вспомнила недавно, жаль, не вспомнила раньше. Ты помнишь нашего Хэна? — злорадно усмехаясь, спросила она игриво и мстительно.
— Он, вроде бы, из тайцзуновских удальцов, он живой? — утробным голосом произнес монах, понимая, что переигрывает в показном незнании; этого князя он знал и хорошо помнил, как не мог забыть и еще одного удальца из прежних времен.
— Когда-то его вывезли из Чаньани, я приказала, — произнесла У-хоу небрежно, но взгляд ее сохранял обостренность и снова что-то искал в нем недоброжелательно и напряженно, уставившись, не моргая.
— Да, да, я, кажется, слышал… Припоминаю, Великая и Божественная… Но зачем он тебе, Бесподобный наш Свет?
На этот раз монах не сумел скрыть внезапного волнения. Оно вырвалось из него неподдельным испугом, как если бы вместе с князем в покоях У-хоу мог появиться вдруг давно умерший император Тайцзун, выполнить предсмертное приказание которого в отношении любвеобильной наложницы он, ловкий Сянь Мынь, помешал…
Появится и прикажет завершить, что, не успел закончить при жизни.
Но перед глазами монаха возник другой образ — воеводы Чан-чжи.
Открытый, никогда не унывающий, безразличный к его монашеской неприязни, как будто нарочито не желая замечать Сянь Мыня, генерал-воевода протягивал У-хоу кусок тонкого шелка и громогласно хохотал, сотрясая покои и совершенно не испытывая неловкости.
— Вот привезут, узнаешь, — ответила императрица.
Откровенный и непритворный испуг монаха был ей приятен. Вяло вскинув тонкую, невесомую руку, как бы опираясь о воздух, императрица произнесла с угрожающим удовлетворением: — Узнаешь. Скоро, Сянь Мынь. — И с вызовом повернула голову в сторону евнуха: — Во дворце так неспокойно, не знаю, кому поручить… Беспокойство лишает сна, мне постоянно пытаются помешать. Будь рядом, Абус.
— Абус всегда рядом, Великая не должна бояться, — пробурчал евнух.
— Ну, вот, Абус будет рядом, — неопределенно сказала правительница и оживилась: — Дождемся несчастного князя, воздадим по заслугам. А ты, Абус… Ты всегда следил за мной ради желаний своего господина, теперь, когда господина не стало, послужишь вместе с князем в мою пользу. Назначаешься управителем моих покоев, а гарем — И она замолчала, вздохнув притворно, протяжно и отчужденно, точно навсегда отторгая бывшее меж ней с монахом, уставилась на Сянь Мыня.
Как умела она истязать подобной небрежностью, леденящей кровь того, с кем говорила! Как наслаждалась только намеками, улавливая страх и смятение на лицах унижаемых, и как не любил он ее за ничтожные, мелкие чувства, убивающие величие и стать повелительницы, но ничем в этом внутреннем протесте и сожалении не проявил. Наоборот, он всем усилием воли постарался не выдать того, что почувствовал и переживает, от унижения лишившись обычного красноречия. Он поднял руки, соединенные ладонями и, прижавшись лбом, заставил утишить растерянность. И втайне возликовал оттого, что в него вливается желанное умиротворение, что, сдержавшись, не доставил надменной правительнице еще большего торжества.
И никогда не доставит, пусть она не рассчитывает и, действительно, лучше отвлечется на время рассуждением об императорском гареме.
Он был многолюден — гарем Гаоцзуна, прибежище страсти, интриг и страданий. Злобствуя, тяготясь судьбою отверженного и ненужного, он продолжал жить по негласным законам странного женского сообщества, оставшегося без мужчины-властителя. И никто, включая Сянь Мыня, не мог понять, зачем У-хоу то, что она всегда ненавидела, чему мстила, безжалостно уничтожая нарождающуюся лишь в его среде фаворитку. Она позволяла ей народиться, нередко сама подбирала красивенькую наложницу на эту роль, позволяла Гаоцзуну какое-то время забавляться с новой прелестницей Сада Любви, но не давала возможности надолго завладеть императором. После кончины Гаоцзуна гарем сохранялся ею нетронутым, за небольшим исключением, но евнухи в нем уже не свирепствовали, бывшим наложницам, не без ее равнодушия и попустительства, дозволялись многие вольности и забавы.
Более чем странные вольности, о которых монаху доносили в смятении старые, искушенные в подобных делах рабыни и слуги; овладев собой, Сянь Мынь сумел сохранить равнодушным и выражение лица.
У-хоу смотрела на него долго, пронзительно долго, по-видимому, что-то пытаясь сказать или смутить. А может быть, наслаждаясь, что надумала без его участия и совета, словно это помогало взять над ним верх.
«Забавляйся старым Сянь Мынем. Сейчас это твоя игра и твой упоительный час. Но будет и мой», — сосредоточившись на устремленных к Небу руках, по-прежнему соединенных ладонями, думал монах не без горечи и некоторого разочарования.
Не добившись большего унижения монаха и поняв, что уже не добьется, переведя резко взгляд на евнуха, императрица произнесла:
— Разгони их, Абус. Научи ткать шелк, в который они наряжались, не зная ему настоящей цены… Покончим…
— Что я вправе, Непревзойденная, совершать на своем священном посту и как поступать не вправе? — спросил раб, удивив монаха смелым вопросом.
— Никто не должен входить ко мне, включая этого борова, не спросив твоего разрешения, а ты — моего, — пренебрежительно взмахнув рукой в сторону Сянь Мыня, сказала она тверже прежнего. — Я устала, хочу быть одна.
— Великая, осыпающая блаженством покоя весь мир подобно Луне! — снова напомнил о себе Сянь Мынь, сохраняя вид, будто сказанное правительницей его не касается. — Из провинций прибыли два генерал-губернатора. Военный министр подготовил важное сообщение о положении на Тибетской линии. Князь Ван Вэй, назначенный тобой управителем государственных дел…
— Ты, Сянь Мынь, надоел мне больше других! — властно перебила его императрица. — Лучше занялся бы вместе с Бинь Бяо телесцами, Баз-каганом и тюрками… Недавно я говорила о князе Тюнлюге и его уйгурах с Бинь Бяо. Он высказал довольно любопытные мысли о положении в Прибайгальской Степи, приведешь его снова.
Взгляд ее при этом перестал быть мстительным и опасным, он нервно блуждал и отталкивал, рука ее снова ласкала рыжие волосы мертвой головы генерала Жинь-гуня.
Капризы женщины не всегда поддаются здравой логике, иногда разумнее уступить ей в малом, чтобы не упустить более важное. Сянь Мынь непривычно суетливо поднялся, повернулся к выходу и рыхловато-вяло побрел, ощущая спиной неприязненный взгляд черного евнуха.
5.Смятение монаха
Сянь Мынь возвращался к себе тяжело, ноги его оставались бесчувственны. Помещение, которое он занимал во дворце, было одним из маленьких, обустроенное бедно и непритязательно. Простая циновка. Голые стены. В глубокой нише стены, тускло мерцал каменный Будда — подарок самого Гуру-Патриарха. Опустившись перед ним на грубую циновку, Сянь Мынь занял привычную позу сосредоточенности и будто забылся.
Уставшее тело спешило расслабиться, но только не мозг.
Дворец наполнился движением.
К нему пытались войти, но Сянь Мынь напоминал погруженного в транс, и его оставляли в покое.
День достиг апогея и снова пошел на умирание, и когда наступил новый вечер, и келья монаха наполнилась сумраком, Сянь Мынь словно бы очнулся от глубокого забытья и шумно вздохнул.
Украдкой наблюдающим за ним прислужникам показалось, что с утра он впервые вобрал в себя воздух. И слуги-монахи облегченно вздохнули.
Отошла ли У-хоу от дел, как многим казалось, Сянь Мынь теперь сомневался. Однако ему по-прежнему представлялось, что властности в повелительнице совсем не убавилось, просто она ждет какого-то нужного случая. Расчетливо выжидает, затаившись ненасытным зверем перед хищным прыжком.
О-оо, повадки этого зверя он знал, но заранее разгадать его злобный замысел было непросто. Придется напрячься, иначе…
Иначе ему первому, после Жинь-гуня, не сносить головы.
Испуг от услышанного ночью из уст У-хоу за день будто бы приутих, но он оставался, продолжал ворочаться холодом, давая повод к иным размышлениям, которые Сянь Мынь позволял себе редко. Его живой плотский разум давно смирился с обязанностями, которые поручили ему исполнять при гареме Тайцзуна, затем в тайном заточении бывшей наложницы старые наставники древнего учения, увлекшего Сянь Мыня в далекой молодости. Этот разум, утратив обычные каноны монашеского бытия, стал только формой, внешней оболочкой, перестав быть разумом «чистого» монаха, монаха-проповедника и мыслителя. Сделавшись главной опорой единоверцев в Чаньани, Сянь Мынь больше не вещал, не призывал, не «очищал», не «просветлял» — он наставлял и повелевал, укрепляя единство и единомыслие сильно разросшегося братства. Чувствуя себя той великой жертвой, на которую обрекает лишь Небо, он успешно сумел позабыть о жертвенности собственного предназначения и жил схоже с теми, кто стал его окружением, исполняя чисто монашеские обязанности не столь усердно, как прежде.
Продолжая испытывать досаду, которая вдруг обуяла его в спальне императрицы, он, подобающе изменив позу, страстным шепотом говорил маленькому каменному божку Будде, стоявшему в нише:
— Мы никогда не рождались и никогда не умрем. Но если нет ни рождения, ни смерти, тогда почему во мне все возбудилось? Ко мне снова вернулись размышления о конечных сроках живого и бренности бытия? Я уже вижу близкую смерть или только пока ее слышу? Я — тропинка по отвесной скале, ведущая паломников к вратам Неба, вера дает силы, закаляет и тело и дух, и зная, кто я, иду сквозь времена года и сияю, как звезда. Но вера бывает часто слепой и глухой, и в этом ее самая непоправимая слабость. Просто слепец жаждет неведомой остроты луча, о котором, наслушавшись восторженных восхвалений, он что-то воображает. Он жаждет обжечься, уколоться тем, чего не видит, — но все равно вожделеет. Что это чудо во мне — Свет Бесконечного? Как мне бороться с Огнем семи эмоций, которыми Ты назвал удовольствие, гнев, сожаление, радость, любовь, ненависть и желание? Как быть с пятью моими врагами, которыми являются: ухо, нос, язык, глаза и тело? Великий, я в затруднении! Я давно не был в храме у последнего в этой жизни, кто меня наставлял, вразумляя твоим праведным именем! Я пойду, я пойду, мой Великий Созерцатель нашей суетной жизни! Я должен пойти и воздать тебе должное в храме Учителя. Мой Повелитель, я грешен перед тобой! Прости, если можешь!
Наверное, не только испуг, но и тревога за все, чего он добился, находясь много лет рядом с У-хоу, и что может пойти другим путем, было самым неприятным в его ощущениях. Отбивая поклон за поклоном, он говорил с идолом долго. И с облегчением поднялся, только достигнув ублаготворенности и равновесия и высказав скрытую смуту верному каменному слушателю, заверив в очередной раз в своей бескорыстной преданности.
Силы к нему возвращались медленно, и по переходам дворца он брел теми же мелкими шаркающими шажками.
Устало опираясь на пики, в чуткой дреме застыли стражи покоев У-хоу.
Что-то свершалось в тайных убежищах бесчисленного императорского гарема. Похожий днем на вечно голодное, злое змеиное кубло, ночью, как всегда, в поисках соблазнов и развлечений, он шуршал шелком платьев, приглушенным грудным смехом.
Безлунная звездная тьма властвовала над Чаньанью, глубже и глубже погружая столицу Великой империи в тяжелые или сладкие сны. Но, сменяясь желанной ночью, прожитый день не всегда и не всем приносит лишь благость короткого забытья.
Где-то горели костры, возле которых грудились люди-бродяги и вертелись грязные дети, пытаясь согреть свои тела в отрепьях. Детей в этой плотной ночи Сянь Мыню показалось неоправданно много, и он с неприязнью подумал о том, что многие из этих бродяжек, созданий Вершителя Судеб, скоро станут ночными разбойниками, ворами или грабителями. Они подбирали объедки, разбрасываемые взрослыми бродягами, копались в кучах мусора, радостно повизгивая от удовольствия, когда находили что-нибудь пригодное и полезное для себя.
Перекликались стражи на угловых башнях крепостной стены и стражи у внутренних ворот, узнавая монаха и неохотно исполняя приказание пропустить в соседний квартал, поскольку подобные ночные прогулки разрешались далеко не всем.
Пустыми глазами смотрели в огонь уставшие кричать и вещать за день базарные канатоходцы, предсказатели, чревовещатели, толкователи снов, заклинатели змей, продавцы опасных зелий, знающие вроде бы все и не знающие собственной судьбы.
Скакали по своим надобностям поспешающие запоздалые всадники.
Ночные разбойники терпеливо выискивали свои новые жертвы.
И никому, ни единой живой душе не было дела до одинокого монаха, как и ему не было дела до встречных бродяг и неприкаянных полуночников.
Когда совсем близко раздался жалобный вскрик, взывавший о помощи, Сянь Мынь остановился и невольно напрягся. Но крик больше не повторился, и монах побрел дальше, склонив отяжелевшую голову.
Все в нем было раздергано. Мысли летали беспорядочно, как мошки вокруг разноцветных бумажных фонарей над парадными входами в богатые дома. И он вдруг снова подумал, что нет известий от генерала Кхянь-пиня о сражении с тюрками и почему-то давно нет сообщений от Баз-кагана.
Однако и это прошло как-то боком, мелкого, личного в нем в эту ночь было больше.
Жизнь обывательская ничтожна по сути — монаху ли не знать! Массы людей, сбитые в муравейники, ульи, ползают, копошатся, творят или разрушают, не всегда до конца понимая, зачем и для кого и ради чего. Им прикажут срочно построить дамбу — они будут строить ее, день и ночь таская землю в корзинах. Повелят вспахать — пашут и сеют, выращивают и жнут. Прикажут взять в руки пики — возьмут и пойдут без роптаний, протыкая смертельным жалом живое, представшее на пути. Они послушны, трудолюбивы, как пчелы, но редко когда испробуют меда, потому что поедать его допускают лишь избранных. У каждого из них есть господин, управляющий ими с помощью властного окрика, плетки раба-надсмотрщика. У этого господина свой господин — со своими, более надменными и злыми в надменности верными псами-слугами. А у тех — свои, проживающие в более крупных поселениях, обустроенных городах и дворцах с переполненными гаремами, своими законами, судьями и палачами. Люди-муравьи, люди-пчелы редко знают, не понимая почти, кто и зачем над ними. Плетка и окрик — извечны. С этим рождаясь, так и умрут под плетку и окрик. Возможно, выдохнув облегченно, что завершают свой грешный путь, дожив до благостной старости. Что умирают счастливо, если это может быть конечным человеческим счастьем, не под карающим мечом деспота, не на виселице непослушания, не в изгнании за свободомыслие, а рядом с детьми, внуками, просто близкими. Они есть для улья и муравейника, есть для счета, но нет для себя, все они для кого-то. Их невзрачная мелкая жизнь, являясь основой основ, твердью и плотью, упрямо, настойчиво размножаясь, никогда не способна уверовать, что в ней самой и заложено начало чьих-то несметных богатств, знатности и величия, достатка и развращенности, надменности и презрения к их несчастной плоти, настолько безликой и беспомощной. Да и кто ей позволит уверовать в свои силы и светлое человеческое предназначение, в то, что, не стань однажды ее во всех этих ульях и муравейниках, не останется ни господ, ни стражей, не будет великих держав, государств и народов.
Вообще ничего не станет… включая богов и его, монаха.
Вольность мысли показалась на миг кощунственной, да такой и была, но Сянь Мынь не отринул ее: что толку изгонять, если она снова вернется? Она ведь приходит без спросу, когда вздумается. Все чаще и чаще приходит. Ничтожность человеческая, убогость бытия людского множества, копошащегося из века в век во благо другим, никогда не потрясала ни Небо, ни возвысившегося господина или правителя подобным убожеством, ни знакомых Сянь Мыню монахов. Впрочем, как и его самого. И не потрясет. Все это короткие мысли, необходимые для зарождения других, более удобных и хитрых. Поскольку весь водоворот бессмысленного и жалкого, случайного и закономерно уходящего на самом деле устроен совсем не бесцельно и вовсе не глупо. Как в том же улье и в муравейнике. Он с тем и устроен, чтобы основывать чтимый порядок и свое чинопочитание и в улье и в муравейнике. И себя создавать, мелочный жалкий разум, обязанный слышать глас некоего высшего порядка, как и должно быть в обычном смешении жизней и судеб. И тогда со временем из убогого «ничего» может возникнуть следующий молодой раб-надсмотрщик, свеженькая наложница, новый мелкий сюзерен, а там средний, большой, самый большой, безгранично всевластный, утверждающий, что он равен Богу. Такова иерархия высшего смысла. Но самые большие господа так просто не впустят в «князи из грязи», они давно защитились от низменной ничтожности, построив удобные сообщества, свои защитительные берега, узаконив право на вечную святость, недосягаемую для остальных…
Да и сам он, монах-праведник, и его собратья по вере, взывая и научая других послушанию, не впустят лишнего дальше порога в свой вроде бы искренний мир, как бы и что бы ни сотрясалось и не падало на голову…
Недоумение — его посмели отвергнуть, жгучая обида — в нем перестали остро нуждаться, тоскливая отдаленная горечь — вроде бы жалко каких-то несчастных и замордованных… подобно ему, серых людей, бродили в Сянь Мыне. В соответствии с ними текли отнюдь не монашеские мысли. И зная, что они самые что ни на есть обывательские, далекие от святости, монах им нисколько им не противился.
Противоречивая суть и выспренняя сущность обычной пространственной обывательщины, всегда готовой к протесту, осуждению существующих устоев, словно он сам к ним никак не причастен, иногда увлекали Сянь Мыня и вовсе в ином устремлении. Ущербность, опасность подобной мирской повседневной рассудочности и схожего состояния ума были ему очевидны, любыми усилиями государственной власти должны подлежать разрушению, но незыблемо и постоянно наперекор этой власти плодятся, множатся и умирают, оставляя бессмертными и недовольства-стенания, и глухое презрение к самим власть предержащим. Неизменяемой остается и согбенность пашущего, сеющего, жнущего, с его потным хребтом, который всегда в страхе и послушании перед деспотом-повелителем и своим господином, которому ежедневно, не жалея лба, приходится отбивать земные поклоны.
А еще неизменны пустые глаза — разрушительный конец той самой веры, над которой господствует монах.
И никто никогда не изменит этот порядок порядков.
Пусть он глуп, несправедлив, нередко жесток, но он заложен изначально тем Сеятелем, который явил тьме живое, и только Первотворцу посильно что-то в нем переделать.
К сожалению, — но только ЕМУ, способному посеять жизнь заново, в само семя заложив другие начала, другие потребности и желания.
Сеятелю, еще не познанному человеком. Не богам, не идолам, которым люди возносят мольбы и надежды, жалуются и стенают; рядом с не видимым Сеятелем Великого Вечного боги бессмысленны и ничтожны. И не они создают живое и разумное, чистое и праведное и даже не загадочный Сеятель, а годы, века, миллениумы, преобразующие мысль, физиологию и не созревшие бытие.
Не солнцу, звездам, ветру, дождю, которые лишь содействуя физической жизни, побуждая поклоняться Вечному Творцу и Созидателю, называемому Великой Загадкой Микрокосма, побуждая верить Высшим силам Благости.
Не уложениям мудрых, не восстаниям обезумевших, не добрым правителям — все это случайное в жизни живого, кратковременно и бессмысленно в бесконечном.
«Но одни это знают, уверовали, как могут, пользуются умно и не очень, другие же в серой безликой массе и не знают, и не способны познать… Что им же на пользу», — рассуждал монах, нисколько не беспокоясь, что рядом с возвышенным и вроде бы праведным, в нем легко и дружелюбно уживается совершенно несовместимое и противоречиво ужасное. Что вроде бы сочувствуя униженным судьбой и происхождением, на самом деле он никому почти не сочувствует, живя своим унижением, которое, конечно же, по его душевным переживаниям ни с чьим другим несравнимо.
Но так часто бывает, когда радетель за некое общее дело и равенство таковым только кажется, живя личным праведным возмущением, мелкой обидой, своим, только ему понятным недоумением о свершающейся несправедливости, которая больно и жестоко его затронула.
Так случается повсеместно, когда у каждого и правда своя, и обида, и праведный вроде бы гнев, на самом деле, не стоящий гроша.
Рабский дух, рабская сущность, дьявольская игра в жизнь, продолжая давно начатое на земле и на небесах, витали над уснувшей и бодрствующей Чаньанью, дворцами владык и вельмож Поднебесной, утомляя Сянь Мыня. Имея возможность вещать, призывать, наставлять, управлять, он слышал в себе раба больше, чем слышат другие, потому что знал эту суть лучше других, способствовал ее насаждению, мешая рабу и слуге познать нечто большее.
«Вся беда не в крамоле мысли, шевелящейся во тьме непроглядного разума, а в языке, с которого слетают слова, — говорил себе Сянь Мынь, как говорят очень близкому, способному понять твои подспудные метания. — Мысль, удержи лишь, скоро умрет, не став никому известной. А слово есть враг и тому, кто его произносит. В нем яд соблазна и путь к поступку — в нашем скоропалительном слове. И в нем наша глупая бесполезная сила — от слова нигде нет защиты, но оно и не воздает по заслугам ни праведнику, ни грешнику. Оно — просто звук в пустоту, звук, сотрясающий воздух.– Последний вывод вроде бы показался упадническим, не понравился, и Сянь Мынь властно поправил свою прежнюю мысль, наполняя ее возвышенной надеждой: — Оно властно входит, овладевает душой и редко ее безболезненно покидает. Укрепляется и взрастает в ее тайниках, находит поддержку сокрытым желаниям. Но как же оно коварно и как нам с ним быть?..»
* * *
Приблизившись к храму, в котором служил и наставлял последний из его живых старцев-Учителей, в свое время принявший предложение переехать в Чаньань и быть постоянно рядом, Сянь Мынь остановился. Беседа с Учителем предстояла не простой
Нащупав кольцо, монах постучал о крепкую деревянную дверь.
— Давно ожидаю, — произнес тщедушный старец с трясущимися руками, встретив на входе дацана. — Ты не был у меня с весеннего равноденствия… Но, покидая Чаньань, был недавно Бинь Бяо.
В словах старого наставника слышался неприкрытый укор и Сянь Мынь подумал невольно: «Ну, вот и начало положено, Бинь Бяо уже был у старого наставника».
Приняв подобающую позу послушания и мелко шагая за хозяином молельного заведения, Сянь Мынь ничего не ответил.
В небольшой зале шло чинное ночное служение — единственное во всей Чаньани, совершаемое по незыблемым канонам, утвержденным когда-то первым Гуру-Патриархом, и Сянь Мынь, как глава столичной монашеской общины, об этом знал. Иногда ставил усердие настоятеля в пример другим, но сам давно не посещал служения.
Старец, медленно, кособоко, неуверенно переставляя плохо послушные ноги, не повел его к молящимся, направился в келью. С таким же изваянием Будды, как у него во дворце, несколькими тусклыми жирниками, грубой циновкой, давно утратившей свежесть, посредине земляного пола.
Обитель влачила жалкое существование, о чем Сянь Мыню так же было хорошо известно, но Учитель не обращался за помощь, подобно священнослужителям из других богоугодных заведений, а сам Сянь Мынь, по собственной воле, ни разу о ней не заикнулся.
Усадив на жесткую циновку Сянь Мыня и усевшись поудобнее, Учитель тихо и наставительно произнес:
— Я должен сказать: Бинь Бяо отдал себя Будде безраздельно, он добрее тебя, Сянь Мынь. Подчинив своей воле, почему ты в гневе отринул его? Разве монах монаху не брат? У тебя что-то с терпением или с желаниями?
— Не будем об этом сегодня, Учитель.
— Бинь Бяо также мой ученик. Он снова отправился в Степь, прихватив, по моему совету, еще десяток собратьев для лесных и Засаянских народов. И я рад, что Божественное Просветление великого Гуру-Патриарха, не без усилий монаха Бинь Бяо достигло Степи. Ты не слышишь, Сянь Мынь? Расширяясь, братство лишь крепнет.
— Я не только монах, мой Учитель, — смиренно ответил бывший послушник.
— Раб обычных желаний — хуже, чем раб.
— Знаю, Учитель, мы говорили об этом неоднократно, но снова отвечу: я не только монах, — еще смиреннее произнес Сянь Мынь.
— Божественное учение не любит насилия. Если Бинь Бяо не нужен в Степи, как монах, посоветуй вернуться в монастырь.
— Скоро я сам стану искать прибежища.
— О-оо, тебя привел ко мне страх? Изгнание для истинного монаха — достойная участь. Это путь к его будущей святости. — Старый наставник Сянь Мыня загадочно усмехался.
— Учитель, я давно…
— Ты давно не монах, я знаю, — сурово и властно перебил его старец.
— Прости, Учитель! Во дворце императоров, евнухов, наложниц нет Осветляющей Пустоты, которую ты исповедуешь. Там суета, соблазны и тлен развращения, низость падших, и я задыхаюсь.
— Покинь этот дворец. Ты устал, поручи другому наше дело. В монашеском рубище больше истины, чем в твоем платье пустого тщеславия… Я слишком стар говорить тебе иное.
— А Великая Лисица Поднебесной — кому ее поручить?
— Она приглашала на беседу Бинь Бяо. Зная, что для тебя нет секретов, он поспешил ко мне и сказал, что уходит, избавившись от соблазнов.
— Бинь Бяо пытался пристать к наследнику. С коварной У-хоу ему не справиться.
— Она настолько умна и хитра?
— Самый высокий ум ничто в сравнении с изощренным женским упрямством. Нам его никогда не понять.
— Я долго беседовал с Бинь Бяо — он ближе к сути вещей, чем ты. На старости я стал понимать смысл бытия, упираясь крепко лбом в землю, по которой самонадеянно расхаживаю каждый день. Погружаясь в глупые мечтания, Истины Просветления не достигнешь.
— Учитель, я не ослышался?
— Я не изрек ничего такого, о чем ты не думал хотя бы однажды, поддавшись соблазнам дьявола. Я просто изрек, думая о Бинь Бяо.
— Бинь Бяо смутьян.
— Прощаясь, он твердо сказал: будьте готовы, наследник однажды вернется, если…
— Что… — если?
— Если Сянь Мынь и генералы позволят ему жить.
— Наследник молод, еще неустойчив, править начнут другие, чуждые нам. Я должен оставаться во дворце, Учитель, и когда наследнику придет время вернуться на трон, я буду готов.
— Сянь Мынь, в Чадодарственном храме кощунствуют и богохульствуют. Я слышу ропот и возмущение. Множатся мерзкие слухи. Тебе ничего не известно или ты делаешь вид, что не знаешь о происходящем, о чем говорит вся Чаньань? Настоятеля пора строго наказать и заменить.
— Храм приносит самые большие доходы, Учитель.
— Доходы! Доходы! Что оглушает мои уши? Ты посмотрел на Цветок и Небесное Благоухание не иначе, как сквозь пелену тяжелого сна?
— Так и случилось, Учитель, я весь в мирском забытьи.
— В моем саду много настоящих цветов. Пойди, взгляни на них обычным взглядом, способным увидеть жизнь и цветка и былинки. На время забудь о дворце.
— Ночь, Учитель. Темно.
— Что увидишь, то и увидишь. В наших душах бывает намного темнее.
Сянь Мынь подчинился и вышел, сохраняя согбенность как знак великого послушания. Не скоро вернувшись, ровно сказал:
— Я долго смотрел. Цветы, распустившись во тьме, потом вдруг исчезли.
— Их больше нет? — спросил старый наставник.
— Не знаю, — ответил Сянь Мынь.
— Они еще есть? — спросил Учитель требовательнее.
— Снова не знаю. Есть то, чему я смог поклониться, — ответил устало монах.
— Ты вошел в Пустоту, — произнес облегченно старец и спросил: — Тебе было холодно или неловко и неуютно? Где тебе было больше всего неуютно?
— Я не запомнил… Нет, не было холодно и не было неуютно. Моя душа очерствела, иногда плохо слышит и ощущает. Во дворце мне в последнее время совсем неуютно. Я вижу зло и притворство на каждом шагу. И слышу в себе.
— Устал! Ты обессилен и духом и телом, Сянь Мынь. О чем еще хочешь спросить?
— Лучше я попрошу. Помоги мне заняться усмирением разума — он стал во мне слишком практичным.
— Посмотри на мой палец, — старец-наставник поднял вверх легкую, почти прозрачную ладонь, сжал в кулачок и, выбросив указательный палец, властно изрек: — Усни, погрузившись в себя, где никого нет, и скоро вернись. Ты просто глина. Летящий по ветру пепел, как нечто сгоревшее, которому нечего больше бояться… Ты сгорел, тебя больше нет…
— Начав искать цель, Учитель, я сбился.
— Путь не бывает единственным — у плетки страха и власти бывает один, и два, и семь коротких хвостов. Душа бессмысленна в цели, она должна быть свободной.
— Разве не ты наполнял меня Смыслом, поручая нести мою ношу?
— Душе праведника спокойнее в пустоте, она не должна жить одним узким смыслом. Она должна быть в Полете, где много всевозможных путей, не стремящихся к завершению.
— Я думал! Твоя тонкая мысль мне понятна, Учитель. Но, Учитель! В абсолютной пустоте и отрешенности никто и ничто не создаст, а я задумал вырубить статую нашему Будде-Гуру, какой не видел мир. Чтобы исполнить замысел, я должен и совершать. Что же тогда эта цель? С этим, не ожидая упреков, я и пришел… Я думал вчера и сегодня. Я думаю, слушая.
— Чаньань безумствует, много казней, Сянь Мынь… Что ты слышал, когда шел по ночной Чаньани?
— Разбойники обирали ночную жертву. Держась за кольцо твоей двери, я слушал себя. Но разве я должен слышать себя?
— Хочешь выпить воды?
— После… Конечно, из твоих рук твоей Светлой воды мне испить нелишне. Учитель!.. Учитель! — стряхивая легкое забытье, не осилившее его до конца, к чему, должно быть, стремился старый наставник, Сянь Мынь встрепенулся. — Истина призывает искать и достигать, а мы ведь достигли! Готовьте трактат о Великой Дочери Будды, он скоро нам пригодится… Учитель, не думать я не могу. И не слышать себя не могу.
— Она согласилась подняться на трон императором? — сдерживая волнение, спросил старый блюститель веры.
— Она еще женщина страсти, Учитель, я делаю, что могу. Сейчас рядом с ней нет никого, даже Жинь-гуня, и она почти образумилась. Я должен, Учитель! Я должен! Отступиться нельзя.
— Ты излишне встревожен, Сянь Мынь… О-оо, как встревожен, зря долго не приходил! Останься на ночь в моей келье. Я помогу ненадолго забыться. Тебе полезно на время отринуть тяжесть с души и тревоги. Останешься? — Учитель положил тонкокожую, почти бескровную старческую ладонь на бритый затылок Сянь Мыня, мял и тискал его толстую кожу.
— Князь Хэн! Зачем ей понадобился этот кастрат? Сначала — Абус, потом князь, следующим кто, воевода Чан-чжи?
— О, Небо, не ищи истину вне себя!.. Вернись, не испачкайся сильно, блуждая в своей темноте. Пойди, Сянь Мынь, и вернись. Я остаюсь наставлять, ты совершай — и будет над нами вечное НЕЧТО. Забудь и отринь, и я могу заблуждаться. Уйдешь, как следует отдохнув.
Старец сдвинул свою слабую, невесомую ладонь на лоб и глаза Сянь Мыня, подержав, повел ею медленно, широко по всему монашескому лицу, и Сянь Мыня в самом себе надолго не стало.
«Пойди и вернись! Пойди и вернись! Кроме тебя, больше некому. Ты, утратив, достиг, но можешь снова утратить. Чаще молись», — голосом далекого звездного Неба шептал издали наставник-Учитель, ясно давая понять, что сохраняет за ним право выбора Просветленного Пути. Отступать было поздно и некуда.
6.У стены за Желтой рекой
…Резко выбросив руку, оглан Кули-Чур ожидал мгновенного удара стрелы, но его не последовало. Казалось, стрела увязла где-то в ночи. Затаилась в погубительном полете и выжидает, когда нукер утомится держать навесу легкий щит, преграждающий путь к намеченной цели. Но он все же, дождался, и скользящий скрип острого наконечника не только услышал, но и почувствовал.
Вопреки его ожиданию и на счастье тутуна, скользнув по коже щита, стрела улетела в степь, едва не задев Мочура. Не разобравшись в случившемся, Мочур, невольно вжал голову в плечи и смотрел испуганно на оглана.
Не понимал, что произошло, и Гудулу, он отталкивал от себя этот щит, закрывший ему грудь и лицо.
Стрелков было двое. Поспешно вскочив, они со всех ног неслись к подножию холма, где позвякивали удилами их кони.
Зло подстегнув лошадь и скоро настигнув одного из бегущих, Кули-Чур с маху снес ему голову, а другого вдруг пожалел, оглушил крепким ударом сабли тупой стороной.
— Может, отдадим его на дознание Тан-Уйгу? — предложил Кули-Чур, стряхивая утяжеляющее оцепенение, продолжающее сковывать его вмиг вспотевшее тело. Проворно соскочив с седла, связав ночного стрелка и покатав сапогом по траве, добавил:
— Тан-Уйгу он может пригодиться.
— Чем пригодиться и в чем? — удивленно спросил Гудулу и крикнул пленнику: — Эй, ты, кажется, не стрелял? Почему не стрелял?
— Не успел, — едва слышно отозвался китайский солдат, в страхе давно распростившийся с жизнью.
— Как это ты не успел?
— Стрелу в траве потерял. И колчан… Как сквозь землю провалился.
— Куда его, Гудулу? — спросил Кули-Чур.
— Отпусти, — сухо приказал тюрк-предводитель.
— Да ты что?
— Отпусти, — повторил тутун. — С головой напарника на шее. Не тяжело? Донесешь голову друга, солдат? Генералу Кхянь-пиню передай: тутун Гудулу заждался, пора начинать.
Над полем предстоящей битвы занималась заря. Конь Гудулу, сыто помахивая головой, брел свободно от одного костра к другому и словно бы знал, куда ему надо. Сам ненадолго замирал, когда нукеры начинали возбужденно приветствовать сосредоточенного вожака, сам решал, куда следует направиться дальше. Гудулу ни с кем не разговаривал, ни о чем не расспрашивал, ничего никому не внушал, как это происходит обычно перед серьезной битвой. Он просто ехал, вскидывая иногда для молчаливого приветствия руку, оставляя другие заботы Мочуру и Кули-Чуру, следующим за его спиной.
Сражения и битвы одной массы людей с другой всегда дело странное. К ним долго готовятся. Много говорят и спорят. Выясняют, ставят задачи, обсуждают возможные пути решения. Рассчитывают и прикидывают в одиночестве, чем только что Гудулу занимался, простояв долго на высоком холме. Полководцы в такие минуты, как и он сам, вроде бы начинают любить солдат совсем иначе, нежели в будни походов, а солдаты проявляют новые чувства к предводителям. Сколько таких битв и сражений было в жизни тутуна и в жизни пришедшего сразиться с ним китайского генерала Кхянь-пиня!
Кто они друг для друга? В чем их вражда и ненависть, поставившие лицом к лицу на этой холмистой равнине?
А сколько всегда справедливого или несправедливого в этих заранее подготавливаемых массовых убийствах… если убийства вообще могут быть справедливыми?
Как может возникать и долго уживаться подобное устремление к кровопролитиям не в одной обезумевшей голове, а в тысячах и тысячах голов огромных армий, вечно ожидающих битв и сражений? И есть ли такие народы, которые их никогда не желали, не готовились к ним, не мечтали с помощью силы возобладать и прославиться?
Его невольные размышления не были слабостью военачальника, не уверенного в себе. Он думал и рассуждал об этом довольно часто. С первых дней, с той первой ночи, когда оказался в Ордосе, чтобы уже на рассвете обагрить свою саблю чужой кровью, в нем жили эти рассудочные противоречивые мысли. Но, рождая вроде бы протест и неприятие, что он совершал, они совсем не мешали ему продолжать грубое и жестокое дело — убийство людей, ни в чем перед ним не повинных.
Странно, но в нем снова не было зла и дьявольской ненависти, которая загодя застит глаза кровавым туманом. Его мысленные рассуждения, не свойственные обычному завоевателю, которые, выскажи он вслух, вызвали бы шквал гнева и возмущения у любого нукера.
А над всем в уходящей ночи будто взлетал, укоряя его, гнусавый старушечий голос: «Тебе, Гудулу, чужой крови не жалко! Ты ее много прольешь!»
Но и это не было странным — старуха-шаманка часто приходит к нему среди ночи с укором. Но, начав дружно, в едином порыве, как скоро начнется, зная заранее, ради чего начинали, как же без крови?
Мир оставался глух к его размышлениям, китайское войско, даже на глаз вчетверо большее, чем его, тюркское, стояло вблизи, на виду, и разойтись, не пролив крови, уже не удастся.
Что же такое случается с человеческим разумом, который является, может быть, действительно самым совершенным на земле, и разум ли это на самом деле, если желает смерти, сам ищет ее? А если это какой-то недуг? Страшный и неодолимый. О котором ни он, тутун Гудулу, познавший страсть к смерти, ни стоящий напротив генерал Кхянь-пинь даже не подозревают, потому что неизлечимо больны в самой голове?
Нужная, как проявление насилия через грубую мощь орт, корпусов и дивизий, тохар, туменов и армий, вовсе не многим, война беспощадна эгоистичностью по отношению к тысячам и миллионам, среди которых не оказывается способных возмутиться и отринуть ее.
Как же происходит, что горстка государственных мужей и предводителей делает безумными тысячи тысяч, заставляя ненавидеть друг друга целые народы, а потом с дьявольским удовольствием уничтожать себе подобных под самодовольство этих царей, императоров и полководцев?
Делать врагами народы, заставлять беспощадно и с упоением истреблять друг друга — бывает ли большее безумие разума!
И он, тутун Гудулу, из таких и всегда был таким.
Он поднял тысячи, привел убивать. И будет убивать, пока его слышат и слушают… Не он, так его! Как приходили и едва не убили, но убив его мать, братьев, сестер…
О матери он думал редко, как будто ее никогда не было. Почему? Кто знает, но нет ее в нем. Придет легким туманом, коснется головы, готовая что-то сказать и погладить, и тут же уйдет, не сказав ничего. Потревожит, но никогда по-матерински не приласкает… Шаманка Урыш что-то внушала, избавляя от странных судорог и метаний его память и принося облегчение — поэтому? Но мать есть у каждого и в каждом живет о ней вечное… как дыхание тихой ночи, когда бы ты ни лишился ее, случись хоть в день рождения…
Вообще-то мать у него как будто бы не убили, среди мертвых тогда не нашли. А если увели на аркане — еще страшнее, и дальнейшего лучше не знать…
Ему было грустно так думать, метаться от одной мысли к другой, но Гудулу находил в этом странное успокоение, наводящее в нем некий порядок и рождающее всегда один непонятный вопрос: а есть ли вообще у человечества разум, который, как принято утверждать, всегда выше сообразительности животного? Или человеческие способности думать и запоминать, высчитывать и принимать решения, предвидеть и умно, проникновенно говорить, обольщать, научать друг друга добру или злу — это нечто другое, лишь ошибочно называемое разумом? «Скорее всего, так и есть, — говорил он иногда, вовсе не обременяясь неразрешимым вопросом, — иначе бы человек не мог жить и существовать по скотскому правилу преимущества силы, а люди не уничтожали бы друг друга со звериной ненавистью».
Он знал, что вопросов у живого, беспокойного разума всегда было и будет больше, чем ответов, что не многие задают себе настолько простые вопросы, что животная тупость, животное равнодушие опаснее любого сомнения, но сомнение, сомнение-то что же?
Где Предел, где сдерживающие путы, где смирительная рубашка, оковы безумству?.. Если вокруг одни искушения, соблазны и миражи.
Способный созидать, человек всегда что-то строит, но что возведет, затратив не только свои силы?
Еще одну мифическую Вавилонскую башню?
Кровавое поле брани?
Укрепит новую силу отдельной личности, полной своей затаенной дьявольщины?..
Не этими ли рассуждениями был занят странник, встретившийся ему прошлой осенью в песках и сказавший: «Создавай, если можешь, зная, что создаешь снова неправедное».
А в чем оно — праведное и долговечное, если подвержено осуждению, еще не успев народиться, как тюркская Голубая орда шамана Болу, у которой все еще нет настоящего хана и повелителя?
Жаркая мысль потянула в новые рассуждения, которых Гудулу боялся. Чтобы избавиться, не думать, к чему постоянно побуждают и Мочур, и Дусифу, и настырный чаньанец-советник, и даже оглан Кули-Чур, жаждущие его ханского возвеличения, он вдруг, резко натянув поводья, остановил коня, заставив обеспокоиться совершенным над ним насилием, запрокинуть в протесте голову.
Подавляя невольную и нежелательную смуту, резко спросил:
— Мочур, ты думаешь о сражении? — Что-то внутри мешало сосредоточиться лишь на предстоящем и, по-всему, жарком кровопролитии, что-то жило в нем более важное, неуловимое; он сделал упор не на слове «думаешь», а на слове «сражении», и когда Мочур, не поняв его, что-то буркнул невразумительное, глухо добавил: — Я не могу о нем думать, мне бы скорее начать.
Но думал совсем не о том, как начать. Ума для этого много не требуется — он, безвестный тутун Гудулу, пришел в Застенные земли не начинать, а побеждать. Мир должен узнать новое тюркское имя…
Гудулу было жарко. Невыносимо жарко.
И ознобно холодно.
Как в ощущении стрелы, беззвучно летящей из ночи в спину.
Горели костры в междуречье, способном только рожать луговые зеленые травы и вечно служить живому, и тутун думал о них, сравнивая с орхонскими ковылями по самое стремя. Подремывали китайские и тюркские воины, бодрствовали стражи и военачальники — и об этом он думал, как о чем-то обязательном, но мельком и будто бы вскользь; полные сил и здоровья, покинув жен и детей, они пришли убить, еще не зная кого, или умереть.
Голубоватая тьма предрассветья была сыровато безмолвна. Она словно бы шевелилась и колыхалась лошадиными мордами, проступала размытым частоколом далеких пик. Небо, в котором ворочались таинственные светила в извечных звездных трудах, Небо, к которому, в надежде на некую высшую справедливость, устремлялись невольно странные мысли тутуна, сохраняло привычную холодную безучастность. Им, звездам и Небу, видевшим безмерно многое, предстоит увидеть еще одну земную ужасную битву во имя тюркской справедливости, но им все равно, ради чего начинается и чем она завершится. Как, должно быть, вообще наплевать на всякую земную справедливость.
* * *
Рассвет наступал равнодушно, не добавив тутуну ни презрения к себе, ни осуждения, ни настоящего гнева, — последний рассвет в жизни тысяч вчерашних ремесленников, пастухов и крестьян. И никто из них ни на той стороне, ни на этой, рядом с ним, не воткнул в землю копье, не вложил в ножны саблю, не отбросил в сторону боевой щит, как и сам он, тутун, этого ни за что не сделает. Осуждая насильственную смерть, они сойдутся сейчас ради смерти друг друга — и будут ее искать, пока не найдут. А если кто-нибудь вдруг попробует возмутиться и добровольно сложит орудие смерти и своей первобытной дикости, заявив, что не желает сражаться, потому что у него в противном стане нет врагов, его убьют самого — он, тутун Гудулу, сам и убьет, обозвав презрительно трусом. Вот и вся патетика военной морали, в какие бы доводы ни облачалась и какими бы не освящалась богами и нормами нравственности. И выходит, что разум — лишь полнейшее заблуждение вечных желаний или осознанное притворство, которое замешено на некоем догматическом гневе, затаившем собственную хищную корысть.
Снова в нем возбуждалась знакомая прежняя неудовлетворенность, досаждавшая в Ордосе, потом донимавшая в стане князя Фуняня на Желтой реке. Она одолевала бессонными ночами на озере в камышах, в конце концов, заставив покинуть лагерь шамана Болу и отправиться на Орхон.
Он искал встречи с каганом Толы и Селенги, надеясь на какое-то доступное разуму взаимопонимание, которого, конечно же, не могло быть ни при каких условиях, и обнаружил врага в лице уйгурского князя Тюнлюга.
Яростного врага — уйгурского князя Тюнлюга, и монаха Бинь Бяо — не врага и не друга…
Терзая себя, Гудулу никак не мог понять происходящего с ним. Того, что возникают в чувствительной и живой еще его человеческой совести неизбежными тяжкими сомнениями, истоки которых остаются неясными и непонятными никому.
Мучительные, но не способные уже ничего повернуть вспять.
Лихорадочным состоянием он понимал отчетливо и определенно-единственное — час тюркской судьбы приближался. Решающий и, может быть, последний во всей истории тюркских народов, который приблизился не без его участия. Потому что, проиграй они это сражении — продолжить начатое шаманом Болу и князем-старейшиной Ашидэ будет некому.
Ну, просто некому.
«Ты отчаянный и отважный, но не слишком ли ты как-то уж по-крестьянски осторожен, счастливчик-тутун? — дышала ночь жарко в затылок. — Сегодня с тобой все боги. Проигрывает сомневающийся. Он уступает, еще не начав. В каждом тюрке, который с тобой, бьется львиное сердце. Пойди без страха, разорви на куски, загони в реку желтую армию ваших вечных притеснителей и надменных владык. Возвращайся живым и овеянным славой туда, где тебя ждут».
«Ты кто? Ты жрица Зайят? А где меня ждут? Где? Дьявол возьми, с тех пор, как не стало Мунмыш, кто меня ждет?»
«Гудулу, ты многим желанен, но разве ты этого ищешь? И никогда никого не найдешь на этой земле, кроме себя. Таким тебя создал Бог, и люди должны смириться, что Бог у них только ты».
Конечно, это был голос жрицы Зайят, являющийся одновременно и его собственным внутренним голосом, окончательно и властно расставляющий все по местам в его беспокойной душе.
Тутун Гудулу хмуро взирал на свой тумен и китайскую армию, выстраивающиеся друг перед другом для совершения страшного деяния, для которого человек вообще не должен быть предназначен, поскольку родился для жизни. Две эти силы были полны надежд, и каждая рассчитывала на свою удачу. Но двух одинаково удачливых в одном бранном деле не бывает — ясно любому воину. Кто-то всегда сильней — и будет скоро праздновать, ликовать, упиваться жестокой победой, уже не принимая в расчет мертвых, а кто-то, сохранив жизнь чудом или постыдным бегством, будет испытывать тягчайшее угнетение и беспомощность.
…Утро лишь зарождалось, когда десять тюркских шеренг из тысячи всадников в каждой готовы были обрушиться на врага, готовящегося со своей стороны к смертельному столкновению. Между армиями лежало мирное пространство густых нетронутых трав, которое скоро будет истоптано и залито кровью. Легкий ласковый ветер трепал еще живые человеческие волосы, и живые, полные сил человеческие лица еще ощущали бесценную земную нежность. И Гудулу, кажется, слышал их шевеление, потому что и его волосы слегка шевелились, словно дышали в последний раз. Но способны ли они были ее ощутить в полную силу, в какой человеку доступно и возможно услышать живое, непринужденное и непосредственное в минуты покоя души, ее мирной одухотворенности? Всякий ли человек слышит в такую минуту себя в полной мере? О чем думает каждый из его воинов и каждый китайский солдат, полные естественного внутреннего страха перед возможной собственной смертью через мгновение или убийством того, кто ни в чем перед ним неповинен и кого он, возможный убийца, даже не знает в лицо?
Спросить было некого, да и как об этом спросить? Дусифу об этом, пожалуй, ни разу не задумывался — у него в голове все проще простого. Мочур на такие вопросы отвечать не любит, неглупый советник Тан-Уйгу далеко.
«Вот и вся суть войны, наше прошлое и будущее, если отбросить ненужные и ложные посылы, особую предназначенность и особенную у каждой армии цель, — сказал он себе, словно подвел решительную черту под всеми сомнениями. — Суть грязная и неоправданная, бесстыдная и заведомо мистическая. Это просто масса убийств. Им нет, и не может быть оправданий, потому что любое из них — безнравственное насилие над смыслом бытия и равновесия. Но и без них ничего не получается. Потому что люди не способны жить иначе и не пытаются этого делать. Им нравится лгать друг другу, затачивать постоянно клинки, обучать детей боевым искусствам, готовить к новым битвам коней и доспехи».
…Так ли думал в эти последние мгновения перед битвой его советник, тутун Гудулу не знал. Но, незаметно наблюдая за ним, пытаясь проникнуть в его чувства и мысли, сам он об этом пока еще думал и предстоящее принимал не без грусти.
Он был взволнован. От прилива крови словно бы взгустел смуглым тюркским лицом, испытывая чувство странной досады, что, столько лет отдав служению китайской державе, вынужден обнажить саблю, не подозревая, что и его советник испытывал нечто подобное и противоречивое.
И Тан-Уйгу ценил трудолюбивый китайский народ. Огромный сильный народ, прошедший тяжкие испытания. Познавший и рабство, и угнетение, и бесправие. В массе не очень воинственный. Мирно пашущий землю, отвоевывая, кусок за куском, у природы. И был глубоко убежден, что счастье одного народа на бесчестье другого никто еще не построил.
«Но народ не должен сносить унижения и чужую узду, и то, что случилось, вылившись в кровавую резню, что происходит в последние годы между китайцами и тюрками, — лишь в очередной раз подтверждает, что чувство приглушенного здравомыслия не может быть вечно спящим. По крайней мере, он, Тан-Уйгу, так представляет. Тюрки очнулись, и теперь попробуй их удержать! Какой такой непобедимой армией можно загнать снова в загон послушания? Кто способен?» — думал в эту минуту советник тюрка-тутуна, нисколько не смущаясь собственной нелогичностью, и того, что междоусобных стычках как раз-то и гибнет наибольшее количество людей, которым и воздух, и утренняя свежесть, и дальняя дымка скоро будут не нужными навсегда.
В этот серьезнейший час в его холодные расчеты никак не входили, да и войти не могли ни погубленные тумены Нишу-бега, ни десятки тысяч восставших, последовавших в пески за князем Фунянем и в колодках после трагического поражения угнанных в Чаньань. В подобных расчетах отсутствует многое — такова основа их «праведной преднамеренности». В том и дикость любой бойни, что для нее всегда находится объяснение, но не бывает раскаяния перед ее жертвами.
А восток пробуждался, томно светлел, час побоища неумолимо приближался. Воины двух армий, настраивающиеся на убийство, знающие, что через убийство они смогут сохранить собственную жизнь, уже различали друг друга в редеющем рассветном сумраке. Лишенные долгом и собственным предназначением, усилиями полководцев тех добрых чувств и великих ощущений, которыми в час рождения наградил их Великий Сеятель Пространств, они медленно и неотвратимо утрачивали в себе, убивали последнее человеческое, способное сострадать и сочувствовать. Сражение слабого не приемлет. Воины обеих сторон становились глухими к чувствам возвышенным и высоким, но не менее ложным, чем остальные. Они начинали жить чувствами и целями низменными, необходимостью только убийства, становясь похожими на истуканов, какими истуканами-убийцами становился сам Тан-Уйгу, тутун Гудулу, стоящие рядом его браться Мочур и Дусифу, каким в подобный момент, не зная близкой судьбы, становится всякий воин.
И в ком этих чувств будет больше — что так же есть суть всякой войны, ее низменности и необоримого мужества, — тот победит.
Стояла оглушительная тишина, давила на сердце всем одинаково сильно. И впервые давила так сильно на сердце тутуна, которое, затвердевая и каменея, не билось частым пульсом, как прежде, перед всякой другой битвой, не трепетало в горячем нетерпении.
Он вызывал на смертельный поединок огромную китайскую армию, превосходящую его воинство вчетверо, и должен был ее разгромить во имя прошлого, во славу погибших тюркских вождей, добровольно покинувшего мир шамана, — в надежде на будущее, которое он создает. И если он и его верные нукеры сейчас проиграют сражение, то… славное будущее в обозримом тутуну времени едва ли уже кто-нибудь сотворит.
В это безоблачное тихое утро сердце тутуна-воина было впервые холодным и расчетливым.
По крайне мере так тутуну казалось.
7.Горящее небо
Шеренги убийц-истуканов стояли друг против друга. Их отрешенные окаменелые лица, наполненные решимостью или страхом, были массивно тяжелыми, угрюмыми.
Они ожидали команды.
Тан-Уйгу с засадной тысячью укрылся в неглубокой, негусто залесенной лощинке ближе к реке и справа от холма, на который поднялись тутун с Кули-Чуром. В первых рядах его сотен среди молоденьких ветел, словно нечаянно потеряв что-то, носился одноногий юный эдиз Ишма. Деревяшка-протез его часто соскакивала со стремени, колотилась о ребра коня, и конь прибавлял прыти. Тан-Уйгу ни разу не пожалел, что принял его под свою руку, но вдруг подумал с жалостью и некоторым состраданием, что такие невоздержанные, горячие и безрассудные или погибают в первых же сумасшедше отчаянных атаках, или удалью прославляют себя.
Окажись рядом, Тан-Уйгу помог бы юноше успокоиться, но сейчас подобной возможности не было, и он, покосившись на Ороза, негромко подсказал:
— Присматривай за Ишмой. Жаль будет…
Старший сотник понял его, кивнул обещающе.
Слева от холма, с которого наблюдали за действиями войск тутун с Кули-Чуром, располагались сотни Мочура, а рядом с шадом внушительно и приметно возвышался джабгу Дусифу.
Крупный, массивный, старший брат был хорошей мишенью для любой глупой стрелы, Гудулу за него невольно заволновался и хрипло приказал Кули-Чуру:
— Пошли нукера за Дусифу. Пусть побудет с нами, там ему нечего делать.
— Он упрям и едва ли вернется, — вяло произнес нукер, но приказание исполнил, воина за джабгу отправил без промедления.
Армия генерала Кхянь-пиня не двигалась и выжидала.
Вглядываясь вдаль желто-мутного горизонта, ожидая, когда загорится мост на Желтой реке, не отдавал приказаний и тутун Гудулу.
— Ну, где? Что на мосту? Где Ишан, Кули-Чур? — начиная нервничать, спрашивал он громко, пожирая глазами пустую бесцветную даль, на границе которой на высоком утесе, вознесшемся над рекой, возвышалась старая крепость. — Они что, не дошли? Еще не дошли?
— Дошли, не дошли! Загорится — увидим, — ворчал Кули-Чур, сам сгорая от нетерпения.
Первым заметив дым за позициями китайской армии, он ухватил тутуна за рукав. Выразительным движением головы показав на потянувшийся к небу слабый дымок, радостно закричал:
— Ну, вот и дошли! Мост загорелся, тутун!
Дым вдали над рекой повалил гуще. В нем отчетливей проступили красные языки жадного пламени. Они вспухали и расширялись, вытягивались устремленными ввысь узкими полосками и разрывались.
— Сигнал, Гудулу? — спросил Кули-Чур, готовый, как было условлено, распустить по ветру синее знамя с пастью волчицы.
— Не спеши, китайцы, кажется, пока ничего не поняли, — успокоившись вдруг, произнес Гудулу и, усмехнувшись криво, добавил: — Мы пришли убивать. Мы многих сегодня убьем, нукер-оглан. С крепкой битвы начнется наша орда.
Пламя, похожее на огромную краснокрылую птицу, взметнулось особенно широко и привольно, озарив разом огромное пространство и высветив серые стены крепости. Тюркское воинство возликовало. Взлетели бунчуки, пики и сабли. Пронесся единый могучий рев, достигший китайских рядов, и эти ряды, как по команде, обернулись невольно.
— Можно! Пора! О, Небо, пошли! Знамя, Кули-Чур! — воскликнул Гудулу, разом утрачивая прежнюю сдержанность холодного и расчетливого вождя, беспокоящие сомнения, которыми жил, на глазах становясь воином, полным азарта и жажды бешеной сечи. — Следуй за мной!
Он с маху взбросил себя на коня, как дружно взлетали в седла другие из его личной сотни, стоящей под холмом, азартно и в новом стихийном упоении выхватил саблю.
Но умчаться, куда повлекло бешено застучавшее сердце, ему не пришлось. Поставив перед Гудулу распустившееся знамя с озлобленной волчьей пастью и решительно, твердо взяв его коня под уздцы, Кули-Чур глухо буркнул:
— Не пущу! Не забывайся, тутун Гудулу, ты вождь, а не нукер! Мне советник приказал присмотреть за тобой, успеешь еще, нарубишься.
— Ты!.. Ты, Кули-Чур!.. Отпусти повод! Причем советник? — Гудулу был взбешен, его глаза безумствовали. В нем ничего не осталось от расчетливого и рассудительного полководца. Он сгорал в неукротимом буйстве и, кажется, был уже где-то в китайских шеренгах.
— Не пущу, тутун Гудулу!
— Повод, оглан!.. Или я за себя не ручаюсь!
Гудулу неистовствовал, а Кули-Чур не уступал. Сабля побледневшего Гудулу, до предела сузившего глаза, взлетела над головой нукера. Чудом увернувшись от беспощадного удара, способного расчленить его надвое от плеча до самого паха, Кули-Чур изловчился пригнуться, прикрыться щитом и полоснул ножом по стременному ремню тутуна.
Потеряв опору и хватаясь за гриву коня, Гудулу завалился набок и беспомощно захрипел:
— Убью, Кули-Чур!
— Убей и опомнись! У войска должен быть вождь!
— Дай руку сижу на одной ноге! — пытаясь выровняться и кривобоко, толчками сотрясаясь, как в судорогах, кричал Гудулу.
На губах его выступала нервная пена.
— Тутун! Гудулу! Вот бешеный! Накричался до пены… Слезай! Полежи, Гудулу! — помогая тутуну выправиться в седле, нисколько не думая о себе и последствиях, испуганно вскрикивал сотник.
Ожидаемой вспышки гнева не последовало, тутун вытер вспененные губы, взыграв желваками и знобко передернув плечами, ухватившись за древко знамени, сказав пересохшим, чужим голосом:
— Не мог отскочить… Снес бы башку… К стремени он полез!
— Потому и полез, чтобы ты не умчался… Как бы я смог, чтобы быть впереди, мы не так договаривались, Гудулу… Вот бешеный! — Нукер судорожно рассмеялся. — Ну, не бешеный — самому захотелось!
— Зря не пустил… Как горячей водой окатило.
— Как же, сотня уходят, а он остается! Без него будут драться! Тут ошпарит!
— Трудно стоять, я никогда не стоял.
— Бешеный ты! Все говорят, да я только знаю… Снес бы башку! Конечно бы снес… — Что-то ходило по телу нукера, похожее на те же конвульсии, недавно ломавшие тутуна, Кули-Чур безотчетно по-звериному скалился и едва ли чувствовал. — Я следи-ил, совсем уж не знаю… Дикий какой! Ни за что рубит чужие головы, а еще — туту-ун!
Гудулу дышал тяжело, как загнанный конь, лицо его, набрякшее кровью, продолжало дергаться, но дьявольского безумства поубавилось. Перебарывая собственный страх, оглан как можно беззлобней и наставительней произнес:
— Следи за битвой, хан, потерявший стремя. Стремя ему помешало куда-то бежать!.. Бешеный ты, Гудулу… Видишь? Видишь? Смотри — вон где требуется предводитель! Советник, он знает тебя, вовремя подсказал!
Опираясь на древко знамени, как на спасительную опору, тутун осматривал бегло и цепко поле разворачивающегося сражения.
Смятение, охватившее войско противника, длилось недолго. Офицерам удалось справиться, и шеренги китайских солдат пошли на сближение с тюрками. Но Гудулу было ясно, что идут они с опаской, настороженно, тревожась, что у них неожиданного позади, в тылу, а с таким настроением победы не добывают.
Ему казалось, что никто, этого не понимает и не способен использовать робость и страх китайского войска. В какой-то момент он снова готов был сделать попытку сорваться и поскакать, врубиться в чужие ряды, ободрить нукеров сабельным буйством, дикой мощью коня, нескрываемой радостью боевого горения, но самая сильная волна его слепого порыва, безотчетности себе отступила, оставив лишь содрогание во всем теле. Нога, ощущающая стремя, устала держать его тело вскинувшимся и напряженным, а другая болталась, не находила опоры, и все в нем путалось, сбивалось, мешало быть там, впереди, возвращало мысли к беспомощной дурацкой ноге. Не находя другой возможности оказаться вместе со всеми, в шуме сечи и буйства, тутун пожирал жадными глазами все поле, мгновенно схватывая, где сотни бьются уверенно, легко и напористо теснят противника, а где сбиваются, медлят, мешают друг другу. И, словно уже позабыв о горячем безумстве скакать и рубиться самому, искал глазами шада Мочура.
— Где Мочур? Почему не вижу Мочура? А Дусифу? Ты посылал за ним? — кричал он, левой рукой сжимая луку седла и древко знамени, а правой — рукоять сабли.
Поза его была комичной, стараясь не рассмеяться и не вызвать на свою голову новый гнев, Кули-Чур приглушенно ворчал:
— Посылал, посылал! Твой Дусифу всегда непослушный.
— Отправь нового стража, — сердился Гудулу. — Скажи, я приказал!
Он впервые наблюдал за битвой, а не участвовал в ней, и это делало его особенно раздражительным. Всплескиваясь от напряжения и азарта, его чувства не находили немедленного воплощения в действие и лишь сжимали его сердце обжигающими тисками усиливающейся взбудораженности, невозможностью что-то вершить немедленно самому. Среди хрипов и стонов, предсмертных конвульсий и дьявольски ловких уверток тела, содроганий коня под седлом, скрипа самого седла он бы знал, как поступить. А как быть и вести себя здесь, в стороне от безумия битвы? Все в нем клокотало, взрывалось и путалось. Ему хотелось быть одновременно в разных местах сечи, и он чувствовал, ощущал, слышал безудержно захлебывающимся и замирающим сердцем, как повел бы себя там, где были особенно заметны самоотверженные усилия сотен, ввергнутых его волей в эту кровавую коловерть, стойко сдерживающие напор превосходящих сил противника.
Там, где должен быть главный и несомненный успех, в самом центре, сотни увязли, топтались на месте. Окружив, их на его глазах методично и беспощадно уничтожали, нукера за нукером. Тутуну казалось, что на каждом его воине, впившись, как шершни, висит уже по два и по три китайских солдата, тяжести которых не выдерживают даже надсадно хрипящие кони. Вздыбившись, они иногда ржали особенно громко и насовсем исчезали.
Все пошло не так, как он задумывал и к чему призывал сотников. В битве не было той тюркской легкости, которая разрубает в едином лихом порыве любые шеренги. Висело на волоске и вот-вот могло захлебнуться последним яростным криком, последним хрипом вскинувшегося коня. Заглохнуть.
Навсегда!
Он словно бы уже перестал слышать скрежет сабель, глухой отзвук щитов, скрип седел, увязшее там, в мясорубке сражения, среди насмерть сцепившихся тел, не хотело долетать, приносить ему радость.
— Да где этот Мочур? — не кричал он уже, а хрипел, вымотавшись куда сильней, чем устал бы в самом тяжелом бою, среди страшного визга, проклятий и стонов.
Крик смерти жесток и помрачителен. Заполняя и душу и голову, он кажется, навечно в них окаменевает.
Но смерть ужасна, кто видит ее как утрату и наблюдает со стороны, подобно ему в это утро. Тому же, кто идет на нее с безрассудной отвагой, с желанием выжить, подавляющим прочие рассудочные чувства, кто привык сшибаться с нею лицом к лицу и сотворяет ее сознательно, в горении праведной мести, она — почти наслаждение.
А он, предводитель, чьи воины сейчас у него на глазах бесстрашно братаются со смертью и умирают, — он, тутун Гудулу, вне битвы!
Он лишен сотворения славной тюркской победы, которой так страстно желает!
— Сойди на землю, Гудулу, — хорошо понимая, что происходит и что чувствует предводитель, как можно настойчивее просил Кули-Чур, с трудом сдерживая его коня. — Ну, сойди, Гудулу, мне нужно быстрее подвесить стремя.
Солнце всходило невероятно медленно.
Или это тутуну только казалось, как и то, что сражение длится давно, непозволительно затянулось, а его лихие ловкие нукеры топчутся на одном пятачке вместо того, чтобы летать и парить над врагами коршуном, соколом, ястребом!
Над полем жестокой сечи тучами клубилась пыль, поднятая копытами коней, и солнечные лучи не могли пробиться сквозь нее. На холм, где находился тутун, свет падал косо и сверху, был багрово-красным, точно закатным. И казался раскаленным, как знойный песок. Все обыденное и разумное исчезло, померкло, больше и больше ощущая себя только воином, не признающим ни доброго, ни щадящего, он был готов рушить и убивать, не задумываясь ни о благородстве, ни о высоком человеческом предназначении. Его состояние, уже допускающее возможность поражения, было схоже с медленным умиранием. Он видел перед собой залитое красным пространство. Пространство, причиняющее в пору прошлой тяжелой болезни острую боль глазам и безумству горячей головы, но самой боли, душащей вязким багровым туманом, уже не боялся. Его сердце, умирающее множество раз вместе с падающими с седел нукерами, вроде бы еще взрывалось надеждой, улетая в кровавую муть тумана и мрака, безумства криков, и ничем не могло уже напугаться. Страх смерти покинул его навсегда.
* * *
И все же удача могла еще повернуться к тюркам лицом, замирая обвально обрывающимся сердцем и снова оживая, тутун Гудулу в нее верил, не ослабляя внимания к битве.
Единая поначалу, она разбилась на несколько схваток, но почему так произошло, кто в каждой из них одерживает верх и на чью сторону склоняется общая чаша весов, оставалось неясным.
Участвуя во многих, куда более тяжелых сражениях, Гудулу никогда не имел возможности видеть все поле битвы сразу, в один охват. Видеть, как слева твои сотни оказались беспомощными и неспособными совершить, что предназначено, увязли, огорчаться и обмирать, понимая, как тяжело им, а справа лихо, на полном скаку проходят сквозь вражеские ряды, и опять замирать в предвкушаемом ликовании было для него невыносимым испытанием. Но что в его положении пока стороннего наблюдателя можно сделать сразу за всех — было сверх его понимания.
Прежде, он гневался на военачальников, которые, на тот его взгляд из самой сердцевины битвы, проявляли нерешительность и неспособность вовремя вмешиваться, исправлять положение, крепко удерживать в руках горячие нити происходящего. Взгляд, конечно, искрометно переменчивый, поскольку в битве все мгновенно и неустойчиво, но он заранее готов был найти и назвать виновника близящейся неудачи. Теперь он сам как будто оглох, отупел и мог жить лишь никчемным пустым гневом, не в силах дергать за властные нити битвы-судьбы, как это и случается в каждой серьезной битве, разрушающей многое заранее и умно, вроде бы, продуманное.
Отчужденное стояние над яростной сечей лишь истязало, тутун Гудулу оказался неподготовленным, чтобы так вот, с какого-то холма, издали принимать решения и не содействовать его немедленному исполнению. И что было самым ужасным из всего ранее пережитого и презираемого.
Он уже не хотел быть предводителем — он никогда к подобному особенно не стремился, — и хотел только драться.
Только драться, сносить головы. Но не посылать на смерть и не приказывать умирать, что знают все, начиная с шамана Болу.
Драться и драться — его страсть и его участь воина! В первых рядах, а не стоять за чьей-то спиной…
Но что же пошло не так? Что-то сдерживает нукеров, не позволяя свершить задуманное?
В центре, где намечался главный удар, чтобы расчленить войско Кхянь-пиня, китайцы держались упорно, плотной стеной, через которую невозможно было пробиться. Там его нукеры словно уперлись в неодолимую преграду, которой для них вообще быть не должно. Тюркские кони вставали на дыбы, теснились, теряя преимущество конницы, мешали друг другу, стесняли действия всадников. Тутун и на расстоянии видел, как падают с гривастых вздыбившихся лошадей его воины, натыкаясь на щетину выставленных навстречу копий. Как, привстав на стременах, размахивая саблей, пытается раздавать властные указания старший сотник Ороз.
Крупный, костистый, способный вызвать страх одним видом, сейчас Ороз был беспомощно жалок — Гудулу издали ощущал его беспомощность и растерянное состояние.
Что мешает Орозу — ведь что явно мешает, что сдерживает?
Во что уперлись лихие тюркские сотни?
Что видит Ороз, и не замечают или не имеют возможности исправить другие сотники?
Но любая встречная сила такой непробиваемой быть не может.
— Что, что, Кули-Чур? Что-нибудь видишь?
— Сам не пойму… Пыль…
Битва скоро изматывает.
Понимая, что самый сильный, самый яростный порыв его конницы истаивает, Гудулу ослабевал сам.
Воины и кони устали, не чувствовать невозможно. Наступал момент, хорошо ему известный, когда холодный расчет, умение сберечь в руке остаток силы, передохнуть, чтобы снова взорваться — единственная возможность обеспечить успех.
Но кто может быть примером подобной расчетливости и нового взрыва там, где нет его?
А Кули-Чур, напоминая о себе мелким покашливанием или тяжелым вздохом, продолжал крепко держать его коня под уздцы.
Он утомлял сильней битвы, и Гудулу наконец не сдержался.
— Кули-Чур, ты пойдешь, — сказал он надсевшим голосом. — Бери половину тысячи. Обойди! Ударь со спины! Заставь заметаться!
— Гудулу, я не пойду, я буду рядом, — холодно и твердо произнес оглан.
— Кули-Чур, — вскипел Гудулу, — не становись упрямей меня!
— Поручи другому сотнику. У тебя много, рядом с тобой я один.
От реки, где догорал мост, мчалось десятка два всадников.
Ошибиться было нельзя: их вели на полном аллюре Бугутай, Бельгутай и Бухат. Они спешили, не жалея коней.
Гудулу закричал:
— Смотри, Кули-Чур! Узнаешь?
В руках братьев разбойников были не сабли, над встрепанными головами поднимались и безжалостно опускались тяжелые шестоперы, которые были не каждому воину по руке, а уж размахивать и обрушивать….
Хруст и треск пошел по рядам солдат генерала Кхянь-пиня.
Наполняясь восторгом, зная, что больше не в силах стоять, что сейчас вопьется пятками в ребра коню и поскачет навстречу могучим сыновьям Ишана, Гудулу на мгновение зажмурил глаза.
— Пошел твой чаньанец, тутун! — произнес возбужденно Кули-Чур. добавляя новую надежду на возможность исправить положение.
— Где? — поспешно спросил Гудулу, пытаясь увидеть заставившее вскрикнуть оглана.
— Посмотри налево, под гору! Он! Тан-Уйгу! — приставив руку козырьком к глазам, оглан рассмеялся.
Да, повел в наступление засадную тысячу Тан-Уйгу. И повел именно туда, куда только что хотел устремиться сам Гудулу.
— Рассечь — и к реке! К реке гони, Тан-Уйгу! — взревел Гудулу во всю мочь, точно не понимая, что не может быть услышанным.
Бешеный натиск, произведенный напавшими с тыла сыновьями Ишана, дьявольский способ нападения, родивший безумные крики, особенный треск при сокрушительных ударах шестоперов по шлемам и панцирям сыграли куда больше на страх и смятение врага, чем остальное. От могучих, словно бы обезумевших братьев просто шарахались только при виде устрашающе вскинутых палиц. А братья и сопровождающие полторы дюжины нукеров, полные еще неистраченной силы, расширяя проход навстречу застрявшим нукерам в центре войска генерала Кхянь-пиня, упоительно вершили свое страшное дело.
— Гудулу, посмотри, и старый твой друг Ишан с ними! — рассмеялся Кули-Чур. — Видишь? Они его прикрывают с боков.
Действительно, с братьями был их старый отец.
Маленький, щупленький, на столь же невзрачном коньке, он тоже азартно размахивал саблей и наносил самоотверженные злые удары.
Засадная тысяча Тан-Уйгу, которая напористо рубилась, пробиваясь навстречу братьям, вдруг смешалась и замедлила продвижение. И только теперь Гудулу понял причину не состоявшегося ранее прорыва.
В середине боевых порядков китайцы толкали пустые телеги, прикрывались ими, создавая неодолимую преграду конному тюркскому натиску. Неожиданно натыкаясь на телеги и бревна меж ними, кони упрямились, не имея возможности преодолеть возникшее препятствие, и тюркские сотни оказывались в замешательстве и стеснении, завязывая мелкие стычки, в которых преимущество было на стороне многочисленных китайцев, ощетинившихся частоколом пик.
Но Тан-Уйгу оказался готов и к этому.
Кони его воинов, заранее набирая разгон, взлетали над головами китайской пехоты и падали ей же на головы по другую сторону телег. Солдаты в ужасе разбегались, лезли под телеги, чтобы укрыться от свистящих над ними сабель. А широкоплечий, могучий Ороз и полсотни эдизов, узнаваемых по присутствию серди них неудержимого, всегда с выброшенной вверх саблей, всегда громко кричащего, расхристанного юнца Ишмы, спешившись, растаскивали эти телеги, расширяя проход тюркским сотням.
Крупный, будто бы медлительный в движениях Ороз и здесь выделялся. Хватая телеги, как нечто несущественное, он просто их поднимал и расшвыривал, обрушивал на головы китайских солдат, лезущих на него со всех сторон, хватал в охапку или за грудки солдат, швыряя в кучу других, преграждающих ему дорогу.
Иногда в его могучих руках обнаруживалось бревно, и Ороз орудовал без труда как обычной дубиной.
По крайней мере, вокруг старшего сотника образовалась скоро постоянная полоса отчуждения, близко приближаться к нему охотников не находилось.
— Ну, Ороз! Ну, и чаньанец у нас, Гудулу, тебе не уступит! — вскрикивал Кули-Чур и широко улыбался.
— Что за прозвище? Кто придумал? — неожиданно рассердился тутун. — Как у собаки — чаньанец!
Добродушно покосившись на нервного предводителя, понимая его состояние, оглан хмыкнул миролюбиво:
— Сам однажды назвал, все подхватили. Не помнишь?
— Назвал, не назвал. Он у меня советник, не знаешь?
— Советником будет, бойл баг тарханом будет, так и скажи, что расшумелся? — хмыкнул оглан.
Расчленение армии генерала Кхянь-пиня совершилось.
Тан-Уйгу, примкнувшие к нему шеренги, которые бились перед телегами, погнали противника к реке, а появившиеся здесь же, в прорыве, нукеры во главе с шадом Мочуром насели на другую половину заметно поредевшего войска Кхянь-пиня.
Это была победа, которую оставалось лишь закрепить, усиливая натиск и создавая панику в стеснившихся, теряющих управление порядках врага.
— Поможем, Кули-Чур, бойл баг тархану? — успокоившись, насколько было возможно, произнес Гудулу. — Сбросим в реку китайцев, как они нас когда-то, или пусть разбегутся… Помнишь, оглан, как нас купали в Желтой реке? — Глаза тутуна сузились мстительно. — Помнишь, как мы спасали князя Фуняня?
— Я помню, тутун. Они над нами досыта поиздевались.
— Пошли, оглан Кули-Чур! Пусть заплачут их матери, но пощады от меня не будет!
Недавние размышления о бессмысленности самых жестоких битв и сражений в тутуне умерли окончательно — сейчас это были для него всего лишь мелкие, жалкие мысли случайной и глупой рассудочности и глубокими, выстраданными чувствами они уже стать не могли. Кровь и разум Гудулу-воина жили теперь другими желаниями. В сумасшедшем ослепление он желал еще и еще чьей-то немедленной смертью. Жил безжалостными новыми убийствами, услаждался воображаемой картиной гибели всех до единого солдат генерала Кхянь-пиня, горячей страстью властвовать над стихией, брызжущей во все стороны кровью.
Он давно уже там, среди нукеров, только мешал упрямый оглан.
— Хватит! У меня нет больше сил! Кули-Чур, отпусти повод!
Тутун Гудулу вскинул над головой саблю, подавая сигнал к наступлению своей застоявшейся тысяче и, указывая, куда следует ударить, впился пятками в ребра застоявшегося коня.
С двух сторон огибая холм, за ним понеслась лихая тюркская лава.
Убивать, убивать, убивать!
8.Тризна и пир
Уже опьяненные близкой победой, уверовавшие в нее окончательно, возбуждаемые бесстрашным предводителем, словно ставшие самыми злобными волками, не способными, да и не желающими слышать пределов этой животной и мстительной злобы, тюрки врывались в китайские порядки. Рвали и терзали, жили великим и страшным инстинктом понимания свободы. Так беспощадно, как ненасытная волчья стая, окружившая жертву-отару, рвущая беспомощных животных на части и на куски, отжимая по отдельности, китайцы драться не умели. Они были медлительной, нерасторопной армией надуманной дисциплины и наработанного порядка, способной одерживать верх бесчисленным исчислением, словно покрывая мощной волной тонущий корабль.
Завершив прорыв сквозь порядки противника, дюжина старого Ишана и его забрызганные кровью крепкие сыновья теперь совершали новое действие-пиршество уже под началом джабгу Дусифу.
Джабгу Дусифу было не узнать. Рыхлый и неуклюжий, он словно бы на глазах преобразился и сам решался отчаянно нападать на врага. Но его нападения были похожи на действия охотника, на которого дюжина сыновей Ишана, нукеров азартно и нацелено гонят добычу, а Бельгутай, Бугутай и Бухат всегда рядом, скачут с боков, исправляя вовремя и незамедлительно промашки неуклюжего предводителя.
Когда на Дусифу направили крупного и могучего гвардейца в панцире, заставив джабгу занервничать, Бугутай одобрительно закричал:
— Бери, Дусифу! Смелее! Я помогу! Саблю! Саблю вовремя выстави!
Но первым ударом у джабгу плохо получилось. Его сабля не смогла ничего решить, лишь соскользнула с крепкого доспеха и гвардеец сам опасно навис над тюркским военачальником. Но Бугутая был более чем внимательным, его пика легко и услужливо исправила промашку Дусифу, крепким боковым тычком выбила гвардейца из седла.
Натянув повод, Дусифу остановил коня, удовлетворенно смахнул с лица пот рукавом плотной, грубо связанной шерстяной кофты, на которую был надет зашнурованный кожаный нагрудник.
Горделиво оглядываясь, должно быть, желая быть замеченным, неловко сошел с седла, картинно поставил ногу в мягком сапожке с меховой оторочкой на грудь китайскому воину.
Гвардеец был еще жив, пошевелился.
Дусифу ткнул его саблей в незащищенное место под подбородком.
Трупов было вокруг бессчетно.
Нагромождение трупов.
Они лежали в прибрежных кустах, наполовину погруженные в воду, висели на ветках, плыли по реке, вдоль которой носились нукеры Тан-Уйгу и тутуна.
У одной из ветел, не сразу поняв, что привлекло, Тан-Уйгу придержал взмокшего коня.
На пригнувшихся к воде упругих ветвях раскачивались два безжизненных тела. Китайский и тюркский воины мертвой хваткой держали друг друга за горло.
«Наверное, сама природа оплодотворяет характер живого, — подумалось вдруг советнику, невольно засмотревшемуся на эти две смерти. — И зверя, и птицы, и трав, и людей. Чаще эта стихия полнокровно цветущего и возбужденного, реального и мистического поровну распространяет торжествующую одухотворенность на все живое вокруг. На все, и на самого человека. Но иногда особенную величавость, мистицизм и дьявольщину вдруг словно бы вкладывает во что-то одно, порождая и сверхвеликое и ужасное, похожее на… уродство. Да человек и создан ею ВЕЛИКИМ УРОДОМ. Гениальным уродом. Уродом, наделенным способностью ощущать и осознавать только себя. Вцепиться друг в друга, упиваясь собой — властелином, собой — победителем этой непобедимой и разумной природы, родившей его, упрямо не желающим понимать, что не он ее переделывает и создает. И конечно не смертью другого человека, будь он трижды заклятым врагом. И вовсе не создает, а лишь приближает уродливое неизбежное, копает поспешно себе же могилу. Ум его деятелен — и тем ему же опасен. Поступки решительны, но решительны в сиюминутности. Результат потрясающ и безумен в массе свершений. Он велик и могуч в придумывании убийств и ненасытен в изощренных убийствах. В его ослепляющем самовозвеличении, которому едва ли найдется еще на земле что-нибудь схожее и равное, заключается самое страшное. И беззащитной природе нечего ему противопоставить. Но где-то и что-то может и быть, должно быть — величие изначального РАЗУМА непознаваемо бесконечно. И однажды способно противостать сложившейся за века несправедливости — разве иначе бывает в природе, которая сначала кропотливо создает, а потом, ужасаясь, что создалось и сотворилось, этому и противится, рождая ужасных мутантов? Разве эти двое не стали безжалостными мутантами в пылу самой битвы? Нет, он, Тан-Уйгу, так бы не смог! Ни при каких обстоятельствах».
Брезгливость его к содеянному ненавидящими друг друга самоубийцами возрастала. В этом для него не ощущалось неизбежной необходимости, померещилось что-то странное, к чему он совсем не готов. Так убивать не готов. Разум — не только сплошные желания, поиски и открытия, разум — противостояние интуицией сокрытому лишнему и ненужному жизни, чувство опасности. Но, не приемля покоя, выживает, лишь буйно и вольно сражаясь за первобытно дикое право властвовать и опять что-то творить. Так что же они с тутуном сотворяют, величие или проклятие будущего?
— Эй, советник! Любуешься достойной смертью тюркского воина? — окликнул его Кули-Чур, лихо скачущий мимо.
— Нет, оглан. Страшусь, что вижу.
— Тан-Уйгу, почему все умники такие скучные? Догоняй! Пора подумать о пленных.
К полудню основное сражение закончилось, но продолжались отдельные групповые стычки и погони. Пленением китайских солдат руководили Мочур и Дусифу с неотступными телохранителями-братьями на левом фланге, со стороны предгорий, а Тан-Уйгу с Орозом и молодым предводителем эдизов Таньханем — на правом, от реки. Генерал Кхянь-пинь, бросив разметанную среди холмов пехоту, преследуемый до самых ворот дюжиной воинов-эдизов во главе с горячим Ишмой, с остатками кавалерии скрылся в ближайшей гарнизонной крепости. Лихой эдизский отряд, с разгону наткнувшись на закрывающиеся ворота, осыпаемый со стен стрелами, так же проворно отскочил, и только юноша-предводитель, прикрываясь щитом, азартно вертелся под градом стрел, словно выманивал на себя успевших укрыться за толстыми стенами.
— Ишма! Ишма, отходи! — кричали азартному юноше, и напрасно кричали.
Неподдельно искренняя досада, что упустили генерала, не успев перекрыть ему путь к бегству, делала пылкого юношу еще более азартным, но смеха в том, что Ишма вытворял, подставляясь под вражеские стрелы, было мало, и призывов к благоразумию юноша, кажется, не слышал или упрямо не хотел ничего подобного слышать.
Тогда к нему, прикрываясь щитом, подлетел старший сотник Ороз. Выполняя наказ Тан-Уйгу, обошел юношу с боку, с оттяжкой хлестнул плеткой по широкому крупу его коня и увлек за собой.
Потери с обеих сторон были огромными. Просторная луговина, соседние всхолмья топорщились ужасом и тяжестью смерти, которая, миновав счастливчиков, казалась не такой уж и страшной.
Приступив к главным полномочиям, напыщенный, важный и успевший захмелеть Дусифу распоряжался уже сбором оружия и другого снаряжения побежденных. Его хозяйственная сотня раздевала мертвых китайских начальников и офицеров, ловили разбежавшихся беспризорных коней. Шаманы и камы свозили тела погибших нукеров, готовили трупы к сожжению.
Они же, по мере сил и умения, занимались врачеванием раненых, занявших пологий травянистый берег реки.
На хромающей невзрачной коняге появился самодовольный Ишан. Реденькая седая бороденка его топорщилась и словно бы сама по себе ликовала. Старик был почему-то без верхней одежды, только в белом самотканом исподнем, чем вызывал добродушные восклицания и смех среди воинов, расположившихся у жарко запылавших костров с казанами. Забивались и разделывались изувеченные в сражении кони. Слетались горластые вороны, ищущие поживу.
— Эй, Ишан, — кричали старику, не забывая поглядывать, нет ли поблизости его могучих сыновей, — где штаны потерял?
— С генералом Кхянь-пинем, что ли, хотел поменяться?
— С генералом! Мы ждем, дождаться не можем, когда мост загорится, а он! Чуть не испортил.
— Да под мостом он был! С китаянкой!
— С сыном Бухатом на пару? И наш развратник Бухат с ним?
— Не-ее, Бухат на мосту сторожил!
— Под мостом? С китаянкой? Ну, Ишан! Ну и старый пройдоха! Тутун знал, кого посылать. Генерал, как только увидел Ишана в исподнем, без оглядки в крепость помчался.
— Старый солдат на все руки мастер! Смотри, каких сыновей настругал!
— Мастер! — смеялись беззлобно.
— Еще бы! А то: не горит и не горит на мосту! И мы ожидаем, не можем начать!
Довольный собою, совершенным, старик долго держался невозмутимо, но когда намеки стали нахальней, коснулись напрямую его щуплого тела, сам набросился на длинноязыких обидчиков?
— А-аа, зубоскалы! Ну, а как? Что бы хотели, когда сырое кругом и мост не горит? Я подсунул штаны.
— Так твои же маленькие. Снял бы с Бухата! — с новым азартом донимали Ишана.
— На Бугутае — еще попросторней.
— Ты болтай — с Бугутая! Ты еще поболтай, — сердился старик!
Напряжение жестокой битвы постепенно улетучивалось. Жизнь требовала своего привычного и постоянного, — такова ее внешняя простая природа и земные законы. И вознагражденные удачей словно не замечали сотоварищей, свозимых к сооружаемому в центре становища ритуальному кострищу, лежащих в разных позах, с открытыми и закрытыми глазами. На этот раз их смерть обошла стороной, и они имели полное право буйно, в полную силу радоваться, громко смеяться и зубоскалить — в обыденной непредвзятости жизнь неуемна.
— Дусифу! — не унимались остряки. — Джабгу Дусифу, Ишан у нас без штанов! У тебя нет штанов какого-нибудь генерала?
Рассматривая Ишана в белье, сыто захохотал и джабгу Дусифу. Зафыркал, хищно вздыбив давно не стриженые усы, шад Мочур. Постукивая деревянной ногой о седло, на котором сидел безмятежно, смеялся одноногий верткий эдиз Ишма.
— Прекратить! — раздался властный голос тутуна, и голоса разом смолкли. — Потешаетесь над седоголовой старостью?.. Дусифу, и ты заодно?
Джабгу Дусифу засуетился, и одежда Ишану скоро нашлась. Облачившись в нее, с кряхтеньем взобравшись на коня, старик, все такой же важный и горделивый, поехал своей дорогой и скоро уже распоряжался у ритуального костра, растолковывая, как лучше укладывать трупы к сожжению.
К ночи тюркский стан вовсю пировал. На поле бывшей брани запылал огромный погребальный костер, у которого, вздымая руки к Небу, камлали шаманы, суетились рабы и невольники, но вспыхнули и еще десятки огней, менее внушительных, — право на это имела каждая сотня. Телеги и волокуши, на которых подвозили тела погибших, скрипели и шуршали всю ночь. И всю ночь предводитель-тутун Гудулу в сопровождении брата Мочура, советника Тан-Уйгу и старшего сотника-оглана Кули-Чура расхаживал смурым среди нукеров, подсаживался, пил вместе с ними вино и крепкую брагу.
— Ну, вот, — говорил он доступно и простовато, — а то — много китайцев! Что ж, если много, к речке бежать и топиться? Хватит, их очередь наступила!
Будничность его речей была понятной и близкой, воины возбужденно восклицали:
— Слава тутуну!
— Тутуну? — возражали с искренним недоумением. — Слава нашему хану!
— Дальше куда, хан Гудулу? Веди на Чаньань!
— Вам слава, воины-тюрки! — остужая пыл крикунов, Гудулу поднимал иногда свой тост и говорил проникновенно: — За первую битву-победу Голубой тюркской орды, а то похоронили уже нас поголовно, перевелись для них тюрки Не-ее, мы еще есть! За Нишу-бега, Фуняня, шамана Болу! Их нельзя никогда забывать!
Для воинов битва — привычное действие. Опасное и рискованное, но только действие, работа, после успешного завершения которой следует вознаграждение. И жадный обычно, прижимистый в дележе добычи, джабгу Дусифу в эту ночь был несказанно щедр. Он сам сопровождал телеги с одеждой, оружием, ценностями, толпами невольниц, согнанными из окрестных поселений, и весело, пьяно кричал подобно зазывале-торговцу:
— Хорошая сабля китайского офицера! Ароматная роза из сада наместника! Широкий пояс из кожи буйвола! Крепкий железный шлем и наплечники!
— Коня, Дусифу! — часто кричали ему от костров. — Я без коня остался!
— Коня бы тебе выбирать! — смеялся старший брат предводителя, сам испытавший удачу. — Утром пойдешь в табун, сам поймаешь, бери, что дают! А ну-ка, наполни мне кубок — накричался я с вами.
Ему наполняли большой позолоченный кубок, с которым, привязанным на цепочке к поясу, Дусифу никогда не расставался, и джабгу хрипло орал:
— За тутуна Гудулу! Здравие нашему хану!
— За Гудулу-хана! — вторила остывающая осенняя ночь.
Шумели крыльями над становищем птицы, согнанные гулом сражения с гнезд и не нашедшие пока нового приюта. Кричала выпь на дальнем болоте. Неумолчно стрекотали цикады. Истекали последними каплями крови, попрятавшись в ямах и буераках, умирающие и больше никому ненужные израненные китайские солдаты.
Видеть, слышать, воспринимать своих воинов вожди-полководцы способны по-разному. Как и удовлетворять их потребности. Наверное, Дусифу был из тех, кто в первую очередь ценил нечто материальное — саблю, седло, приличную вещь, отобранную у поверженного противника. Он был особенно щедр аспидно-черной стремительно набегающей ночью, но и высокомерие его возрастало вместе с проявленной щедростью. Одаривая нукеров и сотников, он был горделив и счастлив и совершенно не понимал, почему брат Гудулу никак не хочет быть рядом, бродит вдоль берега на отдалении, никого не подпуская, хмурый, суровый и недоступный. Собрал бы всех отличившихся в просторном шатре — вон, сколько новых захватили, — произнес бы горячее слово, согрел улыбкой…
— Эй, я не звал тебя выбирать! — кричал он шустрым и проворным, норовившим исподтишка запустить руку в его богатства, и угрожающе потрясал неизвестно откуда взявшимся у него старым шестопером. — Возьмешь из того, что я назову. Хочешь красавицу, зачем тебе серебряное стремя?.. Ну, выбирай, выбирай! Так и быть, выбери.
Мозг человека подобен водной стихии, которая, напрягаясь, прорывает преграду и разливается, теряя недавно безумную мощь. Настроив все тело прорвать, совершить, достигнуть, мозг сам себя утишает последующим ровным течением чувств. «Дикость не в том, что кто-то кому-то бросает в награду плененную женщину: есть потребность — есть и награда. Дикость в том, что в мужчине живет сама необузданность и ненасытность в этой потребности. В усладе на ночь, поскольку с рассветом женщину попросту вышвырнут за порог юрты, — по-прежнему потрясенный сверх меры результатом неожиданно завершившегося сражения, размышлял Тан-Уйгу, издали наблюдая за сценами одаривания воинов юными пленницами, и неотступно следуя за тутуном. — Но кто виновен в этом? Только ли сам человек-животное? Сама природа желаний живого здесь не причем? — Рассудительно говорил сам себе: — Грубее надо бы стать. Поскорее огрубеть, оглан Кули-Чур подметил правильно — не в Чаньани, чтобы умничать».
И боялся, чему пытался последовать.
— Тан-Уйгу советник! — прервали его размышления прискакавшие в лагерь лазутчики. — Как ты приказал, пойманы несколько офицеров. Доставить к тебе?
— Приведите, — сказал советник.
Тан-Уйгу уже достаточно долго наблюдал за происходящим в окружении предводителя Гудулу с некоторым чувством досады. Готовясь к битве и стремясь в ней к победе, он видел иные ее последствия. Ему необходимо было нечто оглушительное в ее завершении, способное донести до Чаньани неизбежно суровое, совершенное тюрками как бы в защиту принца-наследника, желающего замирения со Степью, признание новой орды и хана-счастливчика. «Прикажи отловить с десяток офицеров, — посоветовал он тутуну. — Заявив, зачем пришел, отправь повторить в столице. Начнем внушать Чаньани не только страх своей силой, но и неизбежность возмездия».
Гудулу его не слушал. Просто не слушал, и все. Где он был мыслями, сказавши коротко и мимоходом: «Ты увидел самое важное в битве. Ты, Тан-Уйгу, хорошо увидел и вовремя поспешил». Так тутун сказал, когда они встретились на берегу реки, где тонули загнанные в воду сотни китайских солдат, и каждый пытавшийся выбраться немедленно получал стрелу в грудь.
Бессмысленной жестокости убийств Тан-Уйгу не принимал и резко спросил:
— Ты мстишь за старое, но разве солдаты в чем-то повинны?
— Солдаты должны побеждать или умирать. Никому я не мщу, я убиваю, — ответил холодно Гудулу, становясь еще более непонятен.
И тогда Тан-Уйгу произнес:
— Мне нужны китайские офицеры. Разреши, я прикажу нескольких отловить.
Тан-Уйгу было важно, что тутун оценил его умение видеть битву, вовремя вмешаться в нее. Но почему он не хочет понять, что многое решается не только битвой? Есть ближние цели и дальние. Как бывает жирное стадо и тощее. Осеннее, нагулявшее крутые бока, и весеннее, жаждущее свежей травы. И что жирные стада… опасны по-своему, а тощие — по-своему, и управлять ими нужно по-разному.
Отловленных офицеров набралось больше десятка. Они были молоды, никто не рассчитывал на пощаду, но держались достойно, успев привести себя в порядок, что Тан-Уйгу явно пришлось по душе.
— Настоящий офицер — всегда офицер, — произнес он, обращаясь к присутствующему тутуну. Затем, тыча плеткою в грудь, отобрал нескольких, и, указывая на предводителя Гудулу, строго сказал: — Послушайте нашего вождя, дарующего вам жизнь, и хорошо запомните, что скажет.
Гудулу посмотрел на советника, перевел отрешенный взгляд на поникших пленников, не понимая до конца, что требуется от него, медленно произнес:
— Возвращайтесь в Чаньань. Вы видели и участвовали, вами нельзя не поверить. Расскажите о воинах-тюрках и сколько нас за Желтой рекой, за Великой китайской Стеной. Нас еще много, мы рассеянная тьма. А там, — сабля тутуна в вытянутой руке указывала на другую сторону широкой реки, по которой еще плыли трупы, — в Шэньси и Ордосе намного больше. — Он смутно представлял, о чем должен сказать, и завершил с сильным нажимом в голосе: — Да содрогнутся стены Чаньани, творящей зло на моей тюркской земле!
Патетика его речи китайцам была непонятна, поскольку не их армия буйствовала в просторах вольной степи, а тюрки разбойничали в пределах Китая, безжалостно сжигая целые поселения, а им, воинам Поднебесной, приходится лишь защищаться. Офицеры злобно смотрели на тюркского предводителя с горящими глазами, еще не остывшего от горячей битвы, но возражать не решались.
Неудовлетворенность коротким заявлением тутуна испытывал и Тан-Уйгу. Не то и не так в этот поистине исторический час для тюркского будущего в Степи должен был произнести Гудулу, но и советник, проявляя выдержку, промолчал. Главное сделано, по горячим следам кровавых событий прозвучали слова воина-победителя. «Воина, но не хана, до хана тутуну все-таки далеко. До настоящего хана. Предводителя и политика, — обескуражено думал Тан-Уйгу. — Для начала так пусть и будет. В конце концов, его пылкие и жестокие речи дословно никто не записывает и, появившись в Чаньани, каждый получивший свободу будет рассказывать о своем».
Офицерам дали коней без седел, заулюлюкали вслед.
9.Тени ночного дворца
Увидеть У-хоу в последнее время можно было, как некогда императора, только глубокой ночью, бродящей с лампадкой по переходам дворца, подолгу замирающей перед покоями умершего Гаоцзуна и низложенного сына, и об этом в страхе шептались еще больше, чем о ее затворничестве. Иногда на отдалении за ней, сопровождаемой Абусом, следовал заметно сгорбившийся монах Сянь Мынь, оставаясь для них невидимым, не смея приблизиться.
Что мог сделать он для нее, переставшей искать в нем опору и слышать его советы?
Такой отстраненной, безвольной, потерянной он видел У-хоу только в далекой молодости, когда она, непокорная наложница, доставленная им в глухой монастырь, сдалась однажды ему, разом утратив прежнюю волю и дух протеста. Она так же, как здесь, во дворце в последние дни, бесшумно бродила ночами по монастырю, похожая на лунатичку, потом начала забавляться полосками шелка, слушая с дикой усмешкой, как он шуршит у нее на коленях, как разрывается с треском. Но тогда он сам управлял теми, кто мог войти к ней, общаться, прислуживать, принуждать и воздействовать на нее, мог наблюдать за переменами в ее психике и даже написал по этому поводу трактат, скорее медицинский, чем религиозный, никому, кроме Гуру-Патриарха, так и не показанный. Тогда он нашел средство вернуть ее к жизни! Теперь прежнее преимущество было утрачено, и Сянь Мынь ощущал себя чуждым в мире, где приближенными к императрице оказались евнух Абус, выскочка и неряха Ван Вэй, другие, едва прикоснувшиеся к власти.
Этот мир, угрожающе нависая над ним как дракон, стал опасен ему. Он пугался монаха и отторгал.
И все же Сянь Мынь сохранял надежду на возвращение былого всевластия, и сейчас наиболее важным было поскорее получить известие о сражении генерала Кхянь-пиня с тюрками.
Оно не должно было быть победным. Или — не явно победным. Генерал-победитель в Чаньани для него будет лишним. Он, Сянь Мынь, знает, как тогда повернется и как должно повернуться. Только провал кампании Кхянь-пиня встряхнет, как следует и дворец, и столицу, военную вельможную многозначность, усилит во дворце настороженные шептания и тайные расчеты сторонников князя-наставника на возможность замирения со Степью, по-настоящему напугает с правительницу, остальное, что нужно, он сделает сам.
Он сумеет.
Молебны о спасении Отечества и Просветленном величии Дочери Будды заказаны во всех монастырях, о чем он поставил в известность Великого Гуру-Патриарха, живущего в отшельничестве, и заручился его благосклонным согласием. Сочинен и новый трактат о той, кто вознесется с его заботливой помощью на уровень Будды.
«Да снизойдет на Поднебесную спасительный луч Света в невесомом божественном образе славной Дочери бессмертного Будды. Да услышат люди земли через ее уста Твой пророческий голос, наш неземной покровитель! Да вознесем через поклонение Солнцеподобному сотворению Небес и Тебя, наш вечный Гуру и Наставник!» — отмечено в нем блескучей киноварью как самое важное, чем Сянь Мынь очень гордился.
Но упрямство Великой и ее глухая опустошенность! Частое появление перед покоями бывшего сюзерена и старшего сына! Что с ней? Чувство вины на старости лет? Бессловесное покаяние? Не дай и не приведи — тогда рухнет сама Небесная Сфера, усыпанная звездами. Не жалость и не поиски примирения с прошлым должны сейчас наполнять сердце У-хоу. Ей нужен сильный толчок. Нужен гнев и, может быть, новые казни.
Он знал больше других то, что ей нужно. Или, по крайней мере, необходимо ему и запуганной Поднебесной. Остальное — глупость, позволительная тому, кто владеет властью и крепко держит в руках. Затянувшееся бессмыслие. Утрата прежнего преимущества.
Сянь Мынь бродил за ней тенью, ловил ее протяжные вздохи, пытался понять, посочувствовать и не мог. Лишившись покоя и сна, совершая длительные ночные прогулки по бесконечным переходам огромного дворца и ни в чем с прежней силой не заявляя о своем божественном всевластии, У-хоу жила вроде бы холодно отрешенно и только в странно равнодушном забытьи. Ходило по кругу солнце, летели по небу звезды, текли воды рек, проносился ветер, суетились люди — все двигалось, перемещалось и убегало, ничем не трогая утомленную императрицу. Ширящаяся досада монаха, лишенного возможности действовать при дворе как прежде, стучала протестным набатом. Добровольно загнав себя в другое измерение жизни, незаметно утратив прежние желания и ощущения и сохраняя только давящую тревогу, она впервые словно бы пугалась людей, не говоря о нем, Сянь Мыне, иногда позволявшем возникнуть мельком у нее на пути, часто вдруг втягивала голову в плечи. В зале большого императорского совета продолжали стоять два трона, и она, изредка появляясь в ней, устало, как в наказание, всходила на тот, на котором всегда восседала рядом с Гаоцзуном. Но всходила на трон У-хоу не сама, опираясь на руку Абуса. Опустившись на мягкую бархатную подушку, позволяла слуге поднять ее тонкие прозрачные руки, положить на колени, прикрыть узким куском шелка. Плохо слушая, о чем говорят, она явно осознавала, что говорят не для того, чтобы что-то решить, а чтобы напомнить ей о себе, заявить о целесообразности общего сосуществования, незыблемости порядка вещей и времен, называемого Высшей Государственной Властью. И чтобы лишний раз притворно восславить ее, Великую Императрицу, ставшую единственной полноправной правительницей Поднебесной. Для нее, по необходимости или капризу ранее встречающейся с образованными монахами, известными миру философами, прославленными историографами, знающими цель и значимость подобных бесед, придавался важный смысл и высокое государственное звучание каждому слову, теперь в этой зале, набитой высшими чинами и вельможами, теперь выглядело глупо и бездарно. Разом вдруг измельчало, утратило величие и потрясающую привлекательность, ей не с кем стало изощряться в хитрости и лукавстве, новые министры более и более утомляли пустой болтовней. Тогда У-хоу начинала нервно мять и с упоением разрывать лежащий на коленях шелк, слепящий глаза и холодящий душу, заставляя нередко сбиваться с ритма слуг с опахалами, произносящих доклады или сообщения — утрачивать проворную нить убогой чиновничьей мысли. Сама она говорила мало, больше коротко спрашивала, не поднимая взгляда от рук и куска цветной ткани на коленях. Вопрошала хрипло и рвано, подчас непонятно, вселяя в сановников еще большую потерянность и неловкость, порождая безотчетные страхи, ощущение чего-то временного, неопределенного и ответную затаенность.
Иногда рядом с ней в зале Большого Императорского Совета появлялся малолетний Ли Дань. Его усаживали на трон отца, что лишь утяжеляло мертвую обстановку. Не желая принимать на себя титул полноправного правителя, она не отдавала его младшему сыну, которого, шепчась по углам, давно называли с тайной подачи Сянь Мыня императором Жуйцзуном.
Для простых смертных высшая власть всегда представляет опасность, и все же для опытного чиновника она во многом предсказуема или хотя бы угадываема. Но власть высшей жрицы Государственного Пантеона Времен, точно бы раздвоившаяся, была теперь настолько непредсказуемой, что вообще как бы перестала существовать. Она сохраняла вроде бы все: и суровую повелительницу, и необходимые императорские символы, и мрачных стражей в тяжелых, начищенных до сияния доспехах. Как положено, бил глухой колокол, отсчитывающий начало, середину и завершение текущего дня, поддерживался общий порядок ведения дел, выносились высочайшие указы и повеления, витал и присутствовал страх неотвратимости наказания, но прежнего духа, сияния безграничной божественной власти, бросающей невольно в священный трепет, уже не было. Всюду, как и всегда, витал затаенный ужас, а трепета перед троном, как перед богом, — этого леденящего чувства, потрясающего саму человеческую душу, — не ощущал не только Сянь Мынь.
На троне восседала странная равнодушная женщина, способная, как и прежде, на многое — на очень многое! — но не было Бога, что, утяжеляя обывательское сознание, воспринималось как самое ужасное и угнетающее, не имея ответа, сколь долго продлится.
Из старых сановников при У-хоу остались лишь наиболее ловкие, в числе Государственного секретаря-шаньюя, одного из уцелевших канцлеров и военного министра, еще более осмотрительных и настороженных, будто на затянувшейся охоте. Их голоса звучали не столь уверенно, резко и твердо, как раньше. Они почти ничего не предлагали, мгновенно соглашаясь со всем, произносившимся императрицей. Как сговорившись, они избегали встреч и бесед с монахом. Его, по-старчески сгорбившегося, с еще более набрякшим, до фиолетовой синевы, шрамом через взблескивающую в переходах дворца бритую голову, разваливавшим надвое прищуренную постоянно нервную левую бровь, словно заглядывающую в этот же глаз, так уже не пугались, как было недавно. Не шарахались по углам и не прятались в укромных местах, едва вдали появлялись очертания его фигуры в длинной монашеской рясе, напоминающей мелко бегущего ворона. Теперь для многих пугалом стал черный евнух Абус, в Чаньани только и шептались, какие распоряжения он исполняет, спускаясь нередко вместе с У-хоу в мрачные зинданы сырых и вместительных дворцовых подземелий.
Дворец и столица жили тревожным ожиданием чего-то необычного, похожего на землетрясение или потоп. По переулкам и подворотням, на базарах шушукались о нашествии в Шаньси орды тюрок, грозящих освободить принца-наследника. Говорили о слабости войска генерала Кхянь-пиня, набранного из крестьян и ремесленников. О каких-то тибетских слонах, наученных безжалостно топтать врага и частью утонувших при переправе через Желтую реку, как признак неизбежного поражения.
Гибель слонов, недавно, в День поминовения предков У-хоу на священной горе Времен, вводивших обывателей в экстаз одним только величавым стоянием на пути следования императорского кортежа, воспринималась как самое мистическое предзнаменование, и в победу генерала Кхянь-пиня уже мало кто верил. Рождались совсем фантастические слухи, что Черный Волк песков, подобно другому подзабытому кровавому степному разбойнику, Кат-хану, намерен в скором времени преодолеть Желтую реку и напасть на Чаньань. А тут, как нарочно, была затеяна замена Восточных ворот крепостной стены и надстройка двух новых башен, усиливая подозрения. Передавали слухи украдкой, не собирая любопытной толпы. Выявленных распространителей хватали без долгих разборов и следствия, казнили тут же, у всех на глазах. Обагренные кровью помосты для скорых расправ стояли и на восточном и на западном базарах, во всех кварталах, огражденных решетками, на каждых воротах города — места для казней хватало, жизнь могла продолжаться только шепотом. Непривычно пустыми были увеселительные заведения с красными фонарями над входами, и самое шумное заведение-ресторация с музыкой, танцовщицами, гадалками и прорицательницами, придуманное недавно иноземными купцами.
А вестей из северо-восточных провинций по-прежнему не приходило.
Затем, под знаком той же таинственности, Чаньань и двор заговорили вдруг о мосте, сожженном на Желтой реке, бесконечных ливнях, мешающих переправе дополнительной помощи затерявшемуся где-то генералу Кхянь-пиню. Все было плохо, бездарно, рассыпалось и без того достаточно развалившееся.
Прошлая история веков, становления и разрушения цивилизаций, народов и государств знала и знает подобные времена неопределенности, внутренних смут и яростных, губительных противостояний. Знает она и то, что могущественные государства, народы и цивилизации на отдельном историческом витке успеха зарождались, строились и процветали благодаря необычайно сильным, смелым и предприимчивым личностям-вседержителям. Только беспримерно могучая личность способна творить и рождать внушительное и неповторимое, посредственность бесполезна и только мешает. Но время дьявольски сильных, нередко потом проклинаемых собственными потомками, когда-нибудь останавливается. На их место взбирается нечто весьма утлое, слабенькое умом, нередко и телом. Глухое к переменам наступившего времени и дыханию собственного народа. Не способное ни править, ни находить, кто править умеет. Убогое, недоношенное, рахитичное разумом, оно совершает одну ошибку за другой, сотворяет глупость за глупостью до тех пор, пока построенное другими, до них, возведенное в трудах и жертвах, казалось бы, на века, вдруг не начинает стремительно, бесповоротно рушиться.
Великая империя Тайцзуна обваливалась на глазах, и Сянь Мынь уже не мог этого не признавать. Утрачивая интерес далеких государей к Поднебесной, Чаньань покидали один за другим высокородные послы и посланники. Иссякал поток шелка в персидские, византийские, азиатские земли. Без всякой пользы для самого Китая перемалывались на тибетских военных линиях и сто-, и двухсот-, и трехсоттысячные китайские армии, набираемые из сельского населения. Приходили в запустение, как в дотайцзуновские времена, поля и посевы. Важные и доходные места доставались продажным чиновникам. Нищие ремесленники и землепашцы ударялись в разбой и грабежи… Но У-хоу словно не слышала и не видела ничего, запретив через Абуса появляться у нее без вызова кому бы то ни было, включая и его, бывшего и усердного монаха-советника. Отдавая отчет, как быстро рушится и разваливается недавно вроде бы прочное, Сянь Мынь острей ощущал собственный внутренний страх, опасаясь близкого времени, когда все рухнет окончательно, и он станет окончательно ненужным…
Или когда его не станет вообще.
В том, что люди по-разному ощущают бегущее время собственной жизни, не говоря о времени историческом как более содержательном и объемном, ничего сверхъестественного для монаха не было. Но одно дело — не слышать, не понимать, отвергать происходящее, и совсем другое — вольно или невольно содействовать усилению всеобщего хаоса, чем, на его взгляд, У-хоу вольно или невольно теперь занималась, продолжая без разбору и необходимости менять важных чиновников и вельмож. Это нужно было немедленно прекратить. Но как, если она не может решиться назвать себя императором и отменить существующую династию Тан?.. К дьяволу фальшивые и помпезные обычаи и устои! Его буддийская вера поможет Китаю создать новые и более надежные!
Как многое в последнее время, казнь князя-регента Се Тэна, отца юной жены наследника, состоялась без вмешательства монаха и совета У-хоу с ним. Сянь Мыню не было жаль наконец-то казненного князя, но думать он стал о нем достаточно часто. И думал невольно о том, чего настойчиво добивался князь-управитель — хотя бы о временном замирении со Степью и тюрками.
«Все же судьбу государства определяет больше не внешнее, а внутреннее состояние, — рассуждал он, думая о генерале Кхянь-пине. — Вот если бы генерал уступил тюрку-тутуну… Если бы только…»
* * *
Сянь Мынь шел переходами дворца, отодвинув на время генерала, войну с тюрками, рассуждая лишь об императрице, когда перед ним возникла фигура военного министра.
— Доносят ли Солнцеподобной, Сянь Мынь, что к Чжунцзуну тайно скачут и скачут гонцы, включая тюркских и даже тюргешских? — неожиданно заговорил коротконогий военачальник, преградив путь и пронзительно уставившись монаху в глаза. — Недавно пробрался, подкупив стражу, ловкий посланец твоего Тан-Уйгу, переметнувшегося к Черному Волку.
Тревоги в голосе министра, как ни странно, вроде бы не было, но насмешка и предубеждение чувствовались, вызвав новый прилив раздражения.
— Посланник Степи и неверный страж, вступивший в сговор, обезглавлены на глазах у наследника, — сдержанно произнес монах, пытаясь поскорее разминуться с генералом, по всему, настроенным к нему враждебно.
Генерала-министра этот исчерпывающий ответ почему-то смутил, и он, не уступая монаху дорогу, непринужденно меняя неприязнь на мягкую манеру дружеского обращения, воскликнул:
— Но что известно Солцеподобной, Сянь Мынь? Все ли вовремя доносят? Тебя ничего не пугает?
Министр не мог не знать о сложностях монаха в отношениях с императрицей — так чего же он хочет? Генерал не мог не знать и о том, как недавно в присутствии многих У-хоу с неприкрытой злобной угрозой бросила в его сторону: «Сянь Мынь, как ты мог упустить этого Тан-Уйгу? Где сын тюркского князя-старейшины? Его что, обезглавили? Ты говорил с ним о тутуне? Где твой главный знаток степи, монах Бинь Бяо? Не лучше ли нам послушать его, чем тебя?»
Показалось, она пожелала что-то узнать больше обычного, возбудив своим желанием. И он поспешно заговорил, готовый объяснять состояние дел, предлагая, как лучше поправить запущенные, но императрица опустила глаза и перестала внимать. Она не видела его и едва ли слышала себя, и он опять испугался невольно. Перед ним была совсем другая и женщина и правительница, ему совершенно не знакомая. И опасной У-хоу была для него, восседая на троне бесчувственным изваянием. Поверить, что эта коварная… бестия вдруг перестала слышать в себе женщину, было сверх его сил. Не умещалось в голове и то, что, страстно жаждая высшего величия, сравнимого только с величием Будды, она утратила это горение.
…Время смятения — время тягостное, неизбежно бесчестное в действиях и поступках иногда самых высоковельможных мужей. Честь, праведность и порядочность вдруг пасуют и отступают перед холодным практичным расчетом, при котором любая приличная мысль о судьбе человека, государства, народа более чем призрачна и почти неуместна. В такую смутную пору о народе и Родине, о величии державы кричат одинаково громко и выспренно, хорошо понимая тупость и глупость замордованной жизни. Но — только кричат, ничего не создавая. Создают будущее этого народа и государства вовсе не те, кто кричит, по случаю прибирая к рукам, что плохо лежит и можно прибрать, а кто в глухой безысходности, остро слыша нужду и свою жалкую никчемность, ни за что не покинет родимую землю в поисках лучшей доли. И это единственное — простой безыскусный труд на самого себя и детей, — что возвышает чистую душу и созидает грядущее во время любых смятений, раздоров и смуты…
Так что же нужно вылощенному министру, продолжавшему что-то внушать? Что напугало и заставило заговорить?
— Дождемся сражения в Шаньси, генерал, тогда, может быть, скорее поймем друг друга, — произнес монах, пытаясь опять обойти вельможу.
И услышал:
— Сражение уже состоялось, Сянь Мынь. К несчастью, оно состоялось… Следуй за мной, меня вызвал канцлер, а я приглашаю тебя. Завтра может быть поздно.
10.У военного канцлера
С ужасными подробностями поражения сорокатысячной армии генерала Кхянь-пиня раньше других прибыл в Чаньань кавалерийский офицер для особых поручений военного канцлера Цуан Бао-би. Смелый, отважный гвардеец, он ревностно и преданно служил уже десяток лет, и не поверить ему было невозможно. Канцлера, сохранившего голову только благодаря тому, что гнев Солнцеподобной пал на генерала Жинь-гуня, сковал мерзостный холод, и первое, о чем он подумал, была жалкая мысль, знает ли кто-то еще о примчавшемся порученце.
— Кто тебя видел? — выдавил, наконец, изменившимся голосом высокородный сановник, тупо созерцая распростершегося у ног офицера-вестника.
— Никто, мой господин. Понимая, как важно моему господину получить скорбную весть раньше других, я проявлял осторожность, требуя смены коней, и старался быть незаметным. Но дожди, трудная переправа! Желая добраться как можно быстрее, я загнал трех коней, пока достиг стен Чаньани.
— Мне важно, я доволен твоим усердием. Да, да, конечно, ты задержался… Поднимись, — меланхолично приказал канцлер, продолжая хмуро всматриваться в смертельно уставшего гвардейца, испачканного болотной, особенно прилипчивой глиной и грязью, и сорвался на визг: — Выкладывай, что еще не сказал? Говори, говори, Бао-би!
Генерал властно требовал. Он желает узнать настоящую правду? Но правда нередко стоит вестнику головы. Не решаясь подняться и встретить взгляд канцлера, пытаясь унять волнение и вполне объяснимый страх, призывающий к осторожности в докладе, по-прежнему не находя ничего лучшего, чем покорно лежать в ногах рассерженного господина, мужественный гвардеец ответил:
— Мой господин, у генерала Кхянь-пиня не было армии — был необученный сброд, не ходивший ни разу в атаку! Вместо умелых солдат ему прислали тридцать индийских слонов. Но мы же не в джунглях! Кто и зачем их прислал?
Приговор порученца проведенной в Шаньси кампании был слишком жестоким, показался несправедливым, даже оскорбительным, но Бао-би был опытным офицером, испытанным, канцлер привык доверять его сообщениям и почувствовал необходимость выслушать с глазу на глаз повнимательней. Мало ли как потом повернется, небрежность в подобных делах чревата непредсказуемыми последствиями.
— А две лучшие дворцовые дивизии, которые я выбил с таким трудом для похода? — возмущенно вскричал царедворец.
— Приученные к праздничным шествиям, на поле битвы они были не лучше других.
— Был полевой корпус Ордосского гарнизона, которым командовал до последнего дня Жинь-гунь! — гневался канцлер.
— Он оказался наполовину из новобранцев, мой господин, — упорствовал офицер, изливая неприятное канцлеру недовольство. — Тюрки разметали его первым, не помогли удачно примененные телеги.
Гневным окриком его можно было остановить, заставить говорить с подобающей осмотрительностью, но ведь возможно дознание, и если его поручат монаху Сянь Мыню или Государственному секретарю, может всплыть не такое. Смиряя гнев, канцлер спросил:
— Тутун Гудулу так силен, Бао-би?
Не решаясь умышленно принижать достоинство противника, инспектор ответил несколько своеобразно.
— Тюрки подобны диким осам, — сказал Бао-би, пытаясь из неудобного положения не выпускать из виду раскрасневшееся лицо канцлера, возбужденно передвигающегося по кабинету. — Они жалят и улетают, чтобы снова вскоре ужалить. Они сильны и отважны и всегда возвращаются, мой господин.
— Хочешь сказать, что нам нужен хороший шмель, убийца ос? — как бы подталкивая преданного службиста к другой теме тайной беседы, спросил канцлер, продолжая лихорадочно просчитывать возможные последствия проигранного сражения за Желтой рекой. — Генерал Кхянь-пинь совсем непригоден?
— Кхянь-пиня все торопили, и он спешил, как когда-то вынужден был поспешить генерал Хин-кянь, — бесхитростно, с искренностью, присущей честному военному, заступился за генерала-неудачника Бао-би. — Еще неприятные слухи, что тутун Гудулу и его новый советник пришли для поддержки юного Чжунцзуна…
Да, порученец имел свое понимание случившегося в Шаньси, и потому разумно выслушать его заранее и терпеливо… Лучше уж здесь, чем при всех, на военном совете.
— Но все же, почему генерал Кхянь-пинь выжидал, когда на него нападут? — преследуя свою мысль, спросил канцлер и в знакомой манере общения с подчиненными сердито крикнул: — Да встань же ты, наконец! Я устал смотреть на твой грязный затылок.
Гвардеец снова не подчинился, лишь два раза вскинув и опустив резко голову, всякий раз ударяясь лбом о циновку, он остался в прежней позе, уткнувшись лицом в пол.
— В армии заметны брожения. Начни генерал первым, он мог потерять все. — Оставаясь в неловком положении на ковре, и с последними словами опасливо подняв глаза на вельможу, офицер выглядел смущенным.
Имея приличные выслуги при военной канцелярии, он был еще молод. В скукожившихся в пути под дождем и солнцем одеждах, непроизвольно взмахивая иногда руками, он совсем не походил на боевого офицера, недавно смело смотревшего смерти в глаза, выглядел крикливым невзрачным юнцом. Его тоненькие гвардейские усики, свисающие по уголкам тонкогубого рта, утратили прежний холеный вид и выглядели жалко, беспомощно. Но взгляд его сохранил твердость, не дрогнул и не поблек под строгим взором начальника и словно бы неожиданно сбил с генерала прежнюю спесь и начальственную агрессивность.
— Да, да! — Канцлер без труда догадался, чего не договаривает офицер, и строго потребовал: — Доложи о потерях.
— Непосредственно в битве полегло тысячи три-четыре… Ну, пять, не больше. Гораздо более уничтожено за три дня преследования разбежавшихся в панике из полевого корпуса — это же были селяне!.. Пеших солдат в плен тюрки не брали, сгоняли толпами к реке, убивали и потешались… Мой господин, по реке плывут и плывут мертвые — преодолевая ее, я расталкивал трупы руками… Генерал Кхянь-пинь умело выстроил оборону, где мог — наступал и теснил. Применив телеги, мы держались стойко полдня.
— Ну, пешие — это… Им замену найдем. Дальше!
— Остальное, тысяч за двадцать… или почти двадцать, генерал сумел увести под защиту крепостных стен у Желтой реки… У генерала Кхянь-пиня не было армии, мой господин, он не мог перестроить ее в ходе сражения, в то время как тюрки… За нашей спиной горел мост!..
— Восточные земли за Желтой рекой нами утрачены? — Непонятно и странно спросил канцлер — и вроде бы не спросил, а потребовал безоговорочного подтверждения
— Они утрачены два года назад.
— Но тюрки приходят, разоряют и уходят, — как бы возражая и убеждая в ином, произнес холодно канцлер, не допускавший прежде подобных рассуждений в присутствии молодого гвардейца, и тем самым будто бы побуждая к непонятному новому откровению.
— Есть сведения, что на этот раз они не намерены уходить. Они укрепляются на зиму в гарнизонах Стены. Разграблена половина воеводств, наместничеств и княжеств… И еще, мой господин, есть момент… — Офицер замялся в нерешительности.
— Ну!? — властно и жестко потребовал канцлер. — Что еще у тебя, выкладывай!
— Род одичавших эдизов, являясь по корню уйгурским, совсем отошел от руки Баз-кагана. Он усилил орду на несколько тысяч.
— Мы накажем эдизов. Их развелось непомерно много. В Тибет, в Тибет! Мы пошлем высочайшее повеление кагану. Отловить — и на Западную линию! Что еще?
Взгляд сановника был откровенно растерянным, канцлеру было не до вельможной величавости и, осмелев, гвардеец добавил, как бы намеком давая совет:
— Мой господин, покинул границу всегда ожидающий подачек хитрый онг татабов Бахмыл. Неприятные вести поступают из Маньчжурии, вожди маньчжурских киданей князь Ваньюн и его брат-джабгу проявляют строптивость…
— Да… Полезное наблюдение, Бао-би. Мы поставим над ними нашего генерала.
— И только раздразним, мой господин! — подал новый скрытый совет Бао-би, приподнимая повыше голову. — Над Степью взлетел дух старой свободы, породивший много желаний и грез.
— У тебя есть разумные предложения? — удивленный как смелостью речи гвардейца, так и ее полезностью, спросил генерал.
— С тюрками нельзя медлить, но голыми руками не взять, — уверенней произнес вестовой.
— Мы можем вынудить подчиниться? — спросил генерал с возрастающим любопытством.
— Не имея в Шаньси крупных сил, такое, мой господин, едва ли возможно.
— Необходимо напасть где-то в другом месте?
— Скорее всего, мой господин. Но таких мест не много.
Рассудительность офицера и его толковые ответы канцлеру понравились. Сделав попытку подойти и поднять его, предложить перейти к чайному столику и сесть на циновку, и в последний момент передумав, поскольку с нетерпением ожидал появление военного министр, лишь покачивавшись в сосредоточии над инспектором-наблюдателем, генерал произнес:
— Назови удобные места, которые знаешь.
— Есть поселение с капищем в песках Алашани, построенное Нишу-бегом и тюрком Фунянем. По южную сторону Алтынских гор есть новый лагерь в Куз-Чугае. Есть верховье Орхона и ставка шада Мочура на землях эдизов, отошедших от Баз-кагана, — четко, со знанием дела докладывал офицер.
— Далеко, за Черной пустыней… Новую армию невозможно быстро собрать!.. Никак невозможно… Нет, инспектор, не получится.
— И нет полководца, мой господин, недавно прославившегося в песках. — Бао-би даже позволил себе усмехнуться, тут же пожалев об этой кривой и недовольной усмешке — настолько колючим оказался вскинувшийся взгляд канцлера.
Порой, не нарушив субординацию, салонные каноны и этикет, в минуту редкой благорасположенности начальства, не сумев заявить о себе достойно, удачи не добьешься — с этим негласным законом продвижения по служебной лестнице гвардейский офицер Бао-би был знаком хорошо. Удача сама шла к нему в руки, и он должен был не упустить ее. Словно бы спеша исправить совершенную оплошность с небрежной улыбкой, не понравившейся канцлеру, офицер-порученец произнес, как бы по-прежнему легкомысленно, создавая видимость, будто не придает особенного значения предлагаемому снова:
— Впереди зима, можно назначить отважного полководца… Снять дивизию с Западной линии. Зимой и весной пески вполне проходимы.
Но и канцлер был не глупцом и не мог не заметить стараний своего порученца. К тому же советы его были вполне приемлемы, а военный министр все где-то задерживался и, меняя гнев на милость, канцлер устало и скучно сказал:
— Начальствующих высшего ранга назначаю не я, Бао-би.
— Мой господин не смеет подсказывать Солнцеподобной?
— Подсказывает монах.
— Можно убедить монаха.
— Ты знаешь генерала, умеющего драться в песках? — взорвался с новой досадой канцлер. — Ты же сказал, у нас таких нет!
— Я только напомнил о генерале Хин-кяне, мой господин. Такого полководца еще поискать!
— Хин-кяня давно нет.
— Зато есть два других, знающих Черные пески. Тюргешский князь-воевода Джанги и любимчик императора Тайцзуна генерал-воевода Хэйли Чан-чжи, из корейцев.
— Тюргеш Джанги на тюрков не пойдет, — кажется, не желая обсуждать с офицером подобные темы, сказал генерал, уже не испытывая прежнего раздражения, и с удивлением почувствовал, что с Бао-би беседовать проще, чем с генералами военного ведомства и военным министром. — Или пойдет и переметнется к ним. Чем он лучше тутуна?
— Князь Джанги может перекинуться, — согласился Бао-би и осмелился дать новый совет: — Тогда лучше назначить воеводу-корейца. Когда-то я состоял под его началом. Он смел и сражаться умеет.
В самом деле, когда-то канцлер сам направлял Бао-би к воеводе и тогда еще получал от него подробные и толковые донесения. И офицер, кажется, был безумно влюблен в воеводу Чан-чжи.
Впрочем, кто из молодых офицеров не слышал о геройстве старого удальца на Тибетском фронте! В порыве нахлынувшего откровения канцлер признался, нисколько не смутившись, как признаются равному и достойному:
— Не получится. Его ненавидит Сянь Мынь, воевода в опале…
Но это было последним недосказанным откровением канцлера. Генерал подобрался, нахмурился и замолчал. И мысли его пошли привычным путем высокого военного вельможи. Полученные сведения необходимо было незамедлительно доложить Государственному секретарю и монаху, в каких бы отношениях он сейчас не состоял с властьпредержащей. Приказав порученцу оставаться вблизи апартаментов, он, в ожидании военного министра, присел к маленькому столику, сделал несколько поспешных записей, выразил неприкрытое удивление, когда вслед за министром, необыкновенно возбужденный, мелкими шажками вкатился кругленький, толстый Сянь Мынь.
Интуиция канцлера не подводила, безошибочно подсказывая линию поведения в затруднительные моменты. То, что У-хоу сохранила ему и Государственному секретарю жизнь и должности, ни о чем еще не говорило; сохранив сегодня, завтра она может ее отобрать, лишь нахмурив сердито брови. Или только кивнуть Абусу-евнуху, денно и нощно бодрствующему рядом с ее покоями, ставшему едва ли не главным и самым искусным ее палачом, когда дело касалось тайных убийств шелковыми шнурками или в бассейнах с вином.
Поспешно вскочив, канцлер с особой учтивостью поприветствовал монаха и, пригласив к чайному столику, произнес:
— Известия, нас достигшие, утяжеляют мое дыхание… Не знаю, Сянь Мынь, как и начать.
Канцлер был бледен. Руки его тряслись, выдавая крайнее волнение.
Сердитым движением головы отказавшись присесть, монах пискляво-сурово спросил:
— Одни люди едят, чтобы жить, другие живут, чтобы есть. Ты из каких, стесняющий страхом собственное дыхание?
Глаза монаха прятались под насупленными бровями. Сянь Мынь был сердит, но не был расстроен и не считал нужным скрывать свое состояние.
— Сянь Мынь, сражение бездарно проиграно… Стереженная мысль осторожна, и я намерен обдумать, прежде, чем сообщать дальше! — доверительно заговорил канцлер, пытаясь расположить Сянь Мыня к себе, заявить о единстве с ним.
— Пусть мудрецы стерегут свои мысли, а ты военный канцлер, — оборвал его грубо монах, раздражаясь при виде трясущихся рук и покорно-молчаливой, услужливой фигуры притихшего канцлера.
— У меня нет решения, кроме того, о котором мы много раз говорили, Сянь Мынь. Мы не можем ходить вслед за тюрками. Назначив опытного начальствующего, мы должны однажды крепко ударить…
— Ты снова напоминаешь о воеводе Чан-чжи? — спросил монах. — Ты видишь только его?
— Достойнее нет, — недопонимая чего-то в поведении монаха, почти словами гвардейского офицера настойчивей произнес канцлер.
— А хан джунгарских Степей, которого мы пощадили? Не пора ли бросить на тюрок этого бездельника?
— Сянь Мынь, бездельник с тутуном не справится! Уж лучше послать его вместе с карлукским джабгу прямиком на Орхон. О хане Дучжи я вспоминаю часто. Последние донесения о нем… Нет, нет, не его! Сянь Мынь, наша армия нас не поймет, лишь Чан-чжи будет к месту! Воевода знает пески лучше, чем знал генерал Хин-кянь! Сколько будешь его ненавидеть, не позволяя во всю силу служить Китаю? Укроти старый гнев, момент очень важный, Сянь Мынь, подумай, как ты умеешь!
Собираясь сказать нечто резкое и решительное, чтобы отмести неприемлемое предложение, хотя другого не возникало и у него, монах, втайне удовлетворенный полученными сведениями, уступчиво произнес:
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.