
Бесплатный фрагмент - Филиант
Выходной понедельника
Он подскакивает в половине седьмого утра, только и успевает проглотить чашку кофе вместе с чашкой, да, влезает в деловой костюм, что-то тесноват стал костюмчик, надо бы пару остановок пройти пешком — только некогда, некогда, бегом-бегом на троллеавтометробус (и где-то в этом слове еще должен тренькать трам-трам-трам-вай), и бегом-бегом на работу по темноте улиц еще не проснувшегося города на работу, скорей-скорей-скорей, и вот уже телефон разрывается на куски, всем все надо, все и сразу, и срочно, и немедленно…
Здесь-то его и подстреливают — где-то нигде на перекрестке без улиц, вот так, пулей в голову, он падает, и как будто продолжает бежать, еще сжимает телефон, откуда кто-то кричит, уже не докричится, алло, алло…
— …вот так, — он опускает незамысловатый мушкет, — понял?
Киваю, тут же спрашиваю:
— А… а обязательно из мушкета стрелять?
— Знаешь… оно вроде как и не принципиально, только вот мне кажется, из мушкета надежнее… а вот пули серебряные не надо, нет…
…очередное убийство очередного понедельника потрясло общественность. Напомним, это уже седьмой случай — и снова полиция ничего не может сделать. В правоохранительных органах заявили, что вообще не расследуют происшествия с днями недели, — поэтому ждать раскрытия дела в ближайшее время не приходится…
— А это у вас… заказать можно?
Денебой смотрит на незнакомца, спрашивает как можно непринужденнее:
— Что заказать?
— Ну как же… это самое…
— Что… это самое?
— Ну… понедельник…
— Вам понедельник? Пожалуйста, любой понедельник вам на выбор, вот, например…
— Да нет же… понедельник… ну… это самое…
— Так вот, я вам про понедельник и говорю…
— Да нет же… — голос понижается уже не до шепота, а не пойми до чего, — понедельник… ну… вы понимаете… чтобы его не было!
— И что же вы хотите сделать с понедельником, чтобы его не стало?
— Да как вы не понимаете… — человек хватается за голову, — убить понедельник! Убить!
Я уже жду, что Денебой спохватится, заорет, да вы что такое себе позволяете, что говорите такое вообще, убить понедельник, ну и мысли у вас. Денебой хмурится, почти готовый взорваться негодованием, тут же безучастно смотрит куда-то в сторону, говорит холодно, без интонаций:
— Две штуки с вас.
— Смеетесь? За понедельник?
— За понедельник.
— Да вы с ума сошли…
Денебой не отвечает.
— Ладно… черт с вами…
Он протягивает нам две сырные лепешки, Денебой довольно кивает.
— Заметано… считайте, что завтра понедельник не наступит, можете хоть до обеда спать, хоть до ужина…
— Да какое спать, я чуть свет на рыбалку, и только меня и видели…
— Вот это правильно, вот это вы молодец… а про понедельник не беспокойтесь даже…
Денебой поворачивается ко мне:
— Твоя очередь.
Понимаю, что не отвертеться. И понимаю, что стрелять в тире, целиться по мишеням, это совсем не то же самое, что подбить понедельник — живой, настоящий, с умными глазами и бьющимся сердцем.
— Твоя очередь — повторяет Денебой, и я понимаю, что отступать поздно.
Слишком поздно.
Сжимаю мушкет, иду через площадь, выжидаю, когда он пробежит мимо, быстрый, шустрый, вечно куда-то спешащий, вечно куда-то не успевающий…
Он проносится мимо меня, я сжимаю мушкет, я понимаю, что не смогу выстрелить, просто…
…не смогу…
— Ну? Ты чего? Стрелять разучился, а?
— Сейчас… сейчас…
Бегу за понедельником, смеюсь сам над собой, что я делаю, как будто вообще возможно угнаться за понедельником, а уж тем более, его догнать…
— Уважа… уважа… уважаемый… поне… поне… понедельник…
Он кивком показывает, что слышит меня, тут же отвечает кому-то по телефону, да, да, да…
— Уважаемый… понедельник… а… а почему вы встаете так рано?
— Ну как же… — голос у него хриплый, нервный, срывающийся, — я же спешу, спешу!
— А куда… а куда вы так спешите?
— Ну как же… я же опаздываю…
— А куда вы так опаздываете, позвольте узнать?
(это я все сбиваясь ног, задыхаясь на бегу)
— Ну как же… как же… я же…
Понедельник спохватывается, понедельник не знает, куда он так бежит, а правда, а куда, а зачем, а…
— А…
— Уважаемый понедельник… а вы… а вы не устали?
— А?
— А вы… не устали?
Понедельник первый раз смотрит на меня как следует, о чем-то думает…
— Устал… если бы вы знали, как я устал…
— А вы… а вы не пробо… — теряю его в толпе, бегу со всех ног, прыгаю на подножку какого-то троллеавтометробуса (и где-то в этом слове еще должен тренькать трам-трам-трам-вай), — а вы не пробовали… отдохнуть?
— От… что вы сказали?
— Отдохнуть?
— Это… это… это как?
— Ну… вот, например… выспаться.
Понедельник задумывается, понедельник никогда вообще не думал о том, как это так — выспаться, а тут нате вам, предложили, и как же это сделать…
— Например… отключить будильник…
— Отключить будильник? Ка-ак?
— Ну вот, там есть кнопка на телефоне… да давайте я вам покажу…
…полиция наконец-то спохватилась и теперь расследует убийство очередного понедельника — что поразительно, на этот раз тело понедельника не обнаружено, люди просто проснулись утром не в половине седьмого, а часов в десять, и увидели, что на улице по-прежнему воскресенье.
— …уважаемый понедельник… а вы не пробовали по утрам пить кофе?
— Ну, я каждый раз успеваю закинуть в себя чашку…
— Нет, не закинуть… а заварить хороший вкусный кофе… посидеть с чашечкой на веранде…
Понедельник в клетчатом халате устраивается на веранде в плетеном кресле, в кресле напротив устраивается чашечка кофе, они сидят, болтают о том, о сем…
…невероятную развязку получила история с пропавшим понедельником — он обнаружился совершенно внезапно, сидящим на веранде своего дома (как будто у понедельника есть дом) в компании чашечки кофе. То, что люди приняли за воскресенье, оказалось понедельником, который не спеша позавтракал, и…
— Уважаемый понедельник… вам нравится?
— А? — понедельник отрывается от монитора, в котором вдохновенно возводит что-то бесконечноэтажное, эфирное, воздушное.
— Вам нравится… как вы провели сегодня поне… э-э-э… самого себя?
— Да, это было здорово.
— А сколько понедельников подскакивают ни свет, ни заря, куда-то бегут…
— Да, это ужасно… чудовищно просто…
— А может… а может, вы научите их… что можно… вот так? А?
— Научить другие понедельники? Но ведь ни один понедельник никогда не делал ничего подобного!
— Вы будете первым…
— Думаете… у меня получится?
— А вы попробуйте. Говорят же, не попробуешь, не узнаешь…
— …ну и что это? И что это, я хотел бы знать?
— А… а что такое?
Смотрю на своего шефа, уже понимаю, скандал будет нешуточный.
— Я вас зачем посылал? Я вас зачем посылал, я вас спрашиваю?
— Ну… э…
— А я вам напомню — вот… вот, смотрите…
…город погрузился в полнейший коллапс, какого еще не видывал свет — не ходят троллеавтометробусы, не горит светектричество, не летают летефоны, дороги ничем не дорожат, отопление никого не топит и само не топится…
— И где? И где, я вас спрашиваю? — шеф рвет и мечет, хлопает крыльями, — почему в городе все работает? Почему город живет? Почему, я вас спрашиваю? Почему?
Отвечаю не сразу, хотя понимаю, что могу ответить только одно:
— Думаю… думаю, это надо спросить у понедельника…

Лес заблудился
Тем же утром лес собрал кой-какую снедь, взял ружье, и ушел в лес. Мы говорили ему не делать этого, мало ли что может случиться в лесу — но лес настаивал. Он говорил нам, что виноват в том, что лес заблудился в лесу, и теперь он должен пойти в лес и найти лес.
Лес ушел в лес, когда солнце встало над деревьями — мы ждали его весь день и весь вечер, даже когда стемнело — но лес так и не появился. Мы поняли, что он тоже заблудился в лесу.
Мы были возмущены происходящим, — той же ночью мы долго выговаривали лесу, что так нельзя, что вообще за дела такие творятся, лес пошел в лес искать лес и заблудился. Лес признался, что ему очень стыдно, что так получилось, и он готов сию минуту пойти в лес, чтобы разыскать лес. Лес так и сделал — мы ждали его до рассвета, но лес так и не вернулся, заблудился в лесу.
Мы хотели помочь лесу, но совершенно не знали, как это сделать, — как можно помочь лесу, который без конца плутает в самом себе и не может выбраться? Мы вообще готовы были махнуть рукой на эту затею, если бы не одно но — мы сами заблудились в этом лесу, так бесконечно давно, что уже не помнили, есть ли вообще в мире что-то кроме бесконечного леса. Более того, иногда в наших скитаниях и попытках выбраться из чащи мне самому казалось, что я тоже — лес…
Кто отверг саговник
А мы спасаем планету.
Это очень важно.
Вот вы там сидите у себя, не знаем, где, а мы спасаем планету.
И это очень важно.
Вы сами-то посмотрите, сколько лесов на планете осталось?
Верно, нисколько, уже двести лет нет никаких лесов, одни безжизненные пустыни, одни руины и осколки.
А мы спасаем леса. Это очень просто, посмотрите сами: нужно набрать пластиковых обломков, они сейчас повсюду, потом переплавить. В расплавленную массу добавляем зеленый краситель, хорошенько размешиваем. У нас даже целая фабрика есть, и красители самых разных оттенков. И формы у нас есть, куда заливаем получившееся месиво, вот, посмотрите — тонкие, изящные ветки, узорчатые листья, стройные стволы, тончайшие травинки, — а есть умельцы, которые даже ухитряются сделать капельки дождя и воздушные паутинки на ветвях.
И получается лес — бермудский сабаль, нет, не соболь, сабаль, дум-пальма, должно быть, думает много, саговник отвергнутый, интересно, кто его отверг, красный кедр, мы ему иголки с красным красителем сделали, каменная береза — мы складывали её из камней, как положено.
И получается лес.
Пока он еще маленький, несколько гектар в пустыне, — но он будет все больше и больше, пока вся земля не покроется лесами, как в старые добрые времена, когда планету еще не загубили. Что сказать, трудно, конечно, мы даже иногда отказываем себе в новых запчастях, чтобы купить что-нибудь для фабрики.
Само собой, нам хватает и хейтеров, куда же без них, мы уже привыкли. Да ну вас совсем, лучше бы делом занялись (а это не дело), лучше бы детям больным помогали (вы когда последний раз за сто лет хоть каких-то детей видели?), с жиру беситесь (это мы-то, у которых уже корпуса разваливаются и провода замыкает), а куда ваши родители смотрят (а они нам помогают), ничего у вас не получится (ну, конечно, а лес тогда откуда?) уничтожить вас всех надо (без комментариев).
Но больше всего добил человек, который сказанул буквально следующее: мы, видите ли, неправильно делаем лес, и это не лес вовсе. Что ничего у нас не получится, потому что лесов не осталось, и зря мы стараемся. Нет, мы с сумасшедшими дело не имеем, только их нам еще не хватало, но этот был какой-то уж совсем не в себе. Бредил про какое-то там живое, неживое, сам ничего толком объяснить не мог.
Ладно, черт с ним, собака лает, караван идет, — мы продолжаем высаживать лес, мы верим, что через десять тысяч лет планета покроется лесами, как в старые добрые времена…

Оазис
— Завтра я пойду, — сказал тропический лес.
Мы даже не спросили — куда, мы и так понимали — лес пойдет в город, искать выход из города, должно же быть что-то в мире кроме этого бесконечного города.
Мы даже не сказали лесу, что он не вернется, — как не вернулся хвойный лес и бамбуковые заросли. Насчет хвойного леса мы сомневались — мы не видели, как он уходил, это буковая роща сказала, что он ушел — и мы боялись, как бы на самом деле буковая роща не сделала что-нибудь с хвойным лесом.
Мы ждали тропический лес три дня — разумеется, он не вернулся, как не возвращался никто. В глубине души мы уже понимали, что из бесконечного мертвого города нет выхода, — но боялись в этом признаться сами себе.
Больше нас беспокоило другое — то один, то другой осторожно спрашивали друг у друга, как так получилось, что мы все здесь вместе, ведь не может быть такого, чтобы в одной точке планеты жил хвойный лес и тропический лес, поросли ягеля и мексиканские кактусы. Почему мы не желтеем по осени, почему у нас не облетают листья.
Мы старались не думать об этом — сами не знаем, почему, как и не думали, почему нам не нужна вода, ведь её не было здесь, на маленьком оазисе посреди мертвого города…
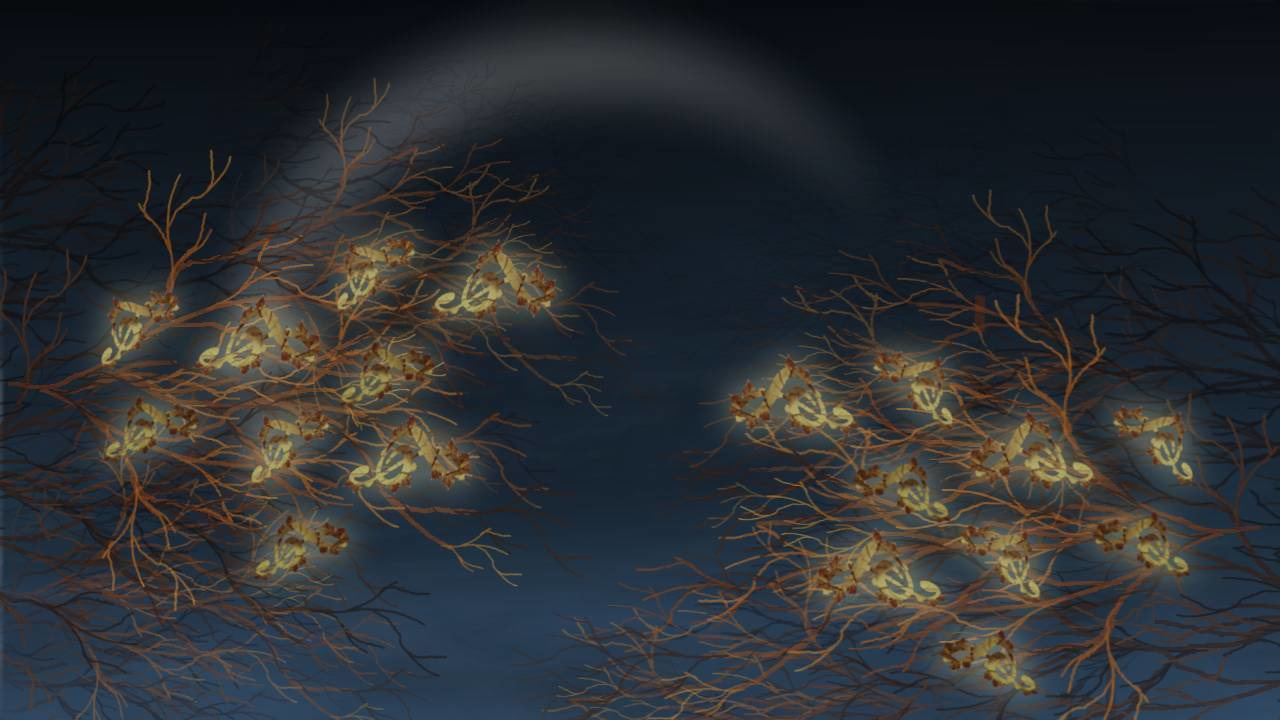
Ч… Е… Л… О…
В этой истории у героя не будет имени, оно останется где-то там, за пределами истории, за шорохом страниц. А здесь он будет просто человек.
Ч
Е
Л
О
В
Е
К
И у него будут очки. Вот так:
О
Ч
К
И
Очки непростые, какие-нибудь понаворочанные, стимпанковские, через которые человек
(Ч
Е
Л
О
В
Е
К)
…видит мир. Смотрит на фонарь, например, а видит —
Ф
О
Н…
…ну, и так далее.
Каждую буковку видит, а каждая буковка сидит, запертая в клетке, все-все буквы по клеткам сидят, чтобы слова получились.
А у человека ключ.
К
Л
Ю
Ч
Вот он этим ключом клетки-то и открывает, щелк, щелк, — и готово, порх, порх — буквы и полетели.
Полиция человека ищет, у всех спрашивает, — не видели ли где человека, не пробегал ли? А у кого спросить, у кого, если нет никого, то есть, совсем, — ни фонаря, ни дерева, ни улицы, ни бульвара какого-нибудь — ничего, все разлетелись буквами, буквами, вольными, крылатыми, и не разберешь уже, что это было — Л, В, А, Б, Р, Ь, У, или там — Ь, Ф, Н, О, Р, А, или там еще как.
Так что человека и не поймать. Вот побегут за ним по мосту, а человек по мосту пробежит, М или там О из клетки выпустит, мост-то и обрушится вместе с полицией.
Полиция его вообще побаивается, — не мост, конечно, человека. Вот так вот подкрадутся к нему, а он П из клетки выпустит или там О, или Ц — вот уже полиции и нету.
Так что тут как-то по-другому действовать надо.
А вот…
— Уважаемый… человек… у вас такие замечательные очки…
Человек раскланивается, благодарит.
— А вы бы не могли дать померить?
Человек настораживается, нет ли какого подвоха, наконец, нехотя снимает очки…
Вот тут.
Вот сейчас.
— Смотрите!
И показываем ему на собор на площади.
Он смотрит.
Видит.
А ведь только что не замечал никакого собора, только что видел плененные в клектках буквы, О, С, Б, Р, О, а тут нате вам — изящные колонны, узкие арки, высокие окна, пустота, изваянная в камне, или камень, изваянный в пустоте…
Человек опускается на колени, бормочет что-то, что я наделал, что наделал, — не замечает, как сзади подходит полиция, подбирает оброненный ключ, щелкает замками клеток…
Порх —
Ч
Порх —
Е
Порх —
Л
Порх —
О
Порх —
В
Порх —
Е
Порх —
К…
Вот и весь человек.
И уже поздно спохватываться, ой, не надо, не надо, ну зачем там, лучше бы очки его разобрали на Ч, К, О, И, или там ключ…
А уже ничего не исправить, разлетелись буквы, только их и видели.
А полиция не дремлет, полиция буквы ловит, рассаживает, вот Ч прицепили к Часам, К, Л, Е, О — к Зеркалу, Е и В — ко времени, время в часы посадили, ну какие же часы без времени, а циферблат на зеркало посадили…
И каждому прохожему, который остановился посмотреть время, кажется, что вместо своего отражения он видит человека.
Ч…
Е…
Л…
Деночь
Шаманка пела песню тепла, призывая весну.
На холме стоял вертолет, готовый отвезти нас на большую землю.
Это последние строчки романа.
А первых не было, и вообще больше никаких не было, только эти.
Вот такая несправедливость, что про нас остались только две строчки на обгоревшей странице, и — все.
Мы стали думать, что это за такая большая земля, почему земли две, большая и маленькая. Да еще и расположены они так, что с одной на другую можно полететь на вертолете.
Мы еще могли представить себе две планеты неподалеку друг от друга — но с планеты на планету пришлось бы добираться на космических кораблях, не меньше. Значит, в нашей книге две планеты были слишком близко друг к другу, чтобы у них была общая атмосфера.
Мы пробовали сделать вот такую систему планет — у нас ничего не получалось, большая земля разрывала малую землю в клочья своей силой тяжести. В книге была какая-то система, неведомая нам, с какими-то другими законами физики. Мы прикидывали, как планеты могут вращаться друг против друга, наверное, на большой планете есть полоса холода, над которой проходит малая планета, а малая планета и вовсе пропадает в тени большой земли. Мы воображали себе атмосферу — необычайно плотную — и легкое, почти невесомое притяжение между двух планет.
Мы стали думать, кто такие мы — ведь были же в книжке какие-то мы — мы вообразили себя вытянутыми, истонченными, не то пьющими корнями сок земли, не то идущими по земле. Мы придумали себе огромные глаза, чтобы видеть в темноте — потому что мы будем выходить из своих нор на большой земле только когда над ней появится малая планета, настанет ночь и притяжение совсем ослабнет. Мы придумали себе легкие перепончатые крылья, чтобы парить в темноте ночи… нет, это время ненастоящей ночи должно было называться как-то иначе, например, деночь, а сами мы будем деночники или деночеры, или…
…а что поделать.
От нашей книги осталась одна страница.
Две строчки.
И надо было восстанавливать все самим, с нуля.
Мы стали думать, как шаманка призывала весну, как вообще получается весна — какие-то колебания планет, наклоны осей, дрожь магнитных полей, — и голос шаманки входит в резонанс с магнитным полем, поворачивает планету день за днем.
Осталось понять немногое, совсем немногое. Ну, помимо всего прочего — кто мы такие, сколько нас, как нас зовут, что мы делаем в этой истории. Но сначала — про что вообще была история, что там случилось, наверное, почему-то не стало весны, а мы её как-то вернули.
Тут-то мы и догадались, что случилось с нашей книгой — она сгорела. Кто-то в отчаянии сжег её в печи, чтобы согреться бесконечно долгой зимой.
Но почему ушла весна, спросили мы себя. Наверное, что-то случилось с шаманкой, может, она умерла. И мы приехали с большой земли, чтобы… ну… чтобы научиться петь песню весны, но у нас ничего не получалось, получилось только у одной девушки, она и стала новой шаманкой…
…или нет, все было не так, совсем не так, сказал кто-то из нас — неизвестно, кто, потому что еще ни у кого не было ни имени, ни вообще ничего. Кто-то убил старую шаманку или шамана, чтобы некому было позвать весну… а вот кто?
А кому это было выгодно вообще?
А кому-то с большой земли, — кто-то хотел, чтобы на большой земле климат стал лучше, а для этого надо убить весну на малой земле, вот кто-то убил старую шаманку…
— …сударыня!
— А? — юная шаманка настороженно смотрит на меня.
(Я даже еще не знаю, кто я)
— Сударыня… что именно вы сейчас пели?
— Звала весну…
— Вы уверены?
— Но…
— А давайте начистоту. Вы сейчас пели так, чтобы оставить две планеты в том положении, в каком они были — чтобы на малую землю не пришла весна, чтобы на большой земле было по-прежнему тепло… потому что вы сами с большой земли, за этим вы и прибыли сюда…
Смотрим на шаманку, понимаем, что ей нечем крыть, что уже все понятно, что не отвертеться…
— Постойте… погодите… я видела… видела… там… — показывает куда-то в никуда, как будто вообще за пределы этого мира.
— Что вы видели?
— Мы неправильно решили про малую землю… неправильно… там что-то другое… другое…
— Вы что… были там… за пределами…
— …за пределами книги, да…
— Что… что вы видели…
— Я… я плохо понимаю… плохо…
— Ну, хотя бы примерно…
— Кто-то читает нас… кто-то…
— Кто?
— Я не знаю… — умоляюще смотрит на нас, — честное слово, не знаю…
— Вот что, — спохватываюсь я (ну есть же в книжке какой-нибудь я среди всех нас, а?) — а этот человек… он может… найти книгу нашу… только целую?
— Кто его знает… может, и может…
— Постойте, постойте, давайте лучше его сюда позовем, — возражает кто-то, — ну, не позовем, ну вы, сударыня, сделаете, чтобы он здесь появился… вы же можете…
— Могу, — в глазах девушки первый раз появляется живая искорка, — это могу…
— …и он расскажет нам все про свой мир… как оно там должно быть…
— Нет-нет, постойте, так он не сможет найти книгу, а книга-то наша нам нужна, — возражаю я.
— Да, давайте дадим ему время найти книгу… или книгу придумать… а если не справится, вы его сюда заберете, узнаем, что там за большая земля такая…

Ниспровергатель ниспровергателя
А мы сиводни сабирали памить для памитника а я памить расыпал а мине сказали што я плахой и ваабще пазор. А ище мине сказали што памитник нисправергатилю аснов ето очинь важна а я фсе испортил.
Кор вспоминает.
Посмеивается.
Сегодня все кончится, говорит себе Кор.
Просто.
Сегодня.
Все.
Кончится.
Смотрит на город, роняющий длинную тень на самого себя.
Смотрит на громадину памятника, от которого тени нет…
ВВЕДИТЕ СВОЕ СООБЩЕНИЕ
Люди, я уже не знаю, к кому обращаться, дело-то вообще из ряда вон выходящее. Вы представляете, что мой сыночек ненаглядный сегодня учинил? Вот ни за что не догадаетесь. Стыдно сказать даже. Отказался сдавать память для памятника. Так ладно, я все понимаю, память лишняя не бывает, отдавать-то не хочется, так мало того, он что выдал-то? Он что заявил-то вообще? Взял и ляпнул, что Ниспровергатель вообще позорище, и ничего хорошего не создал, только опровергал все. Вот и думаю, что делать-то…
ОСТАВИТЬ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ
Ну, если бы у меня сын такое отмочил, у меня бы сына уже не было.
Ремня ему, да покрепче, чтобы потом неделю сидеть не мог.
Да какую неделю, месяц, не меньше.
Ну, еще не понимает, что несет вообще, чучело…
Это ясное дело, кто ж такое в здравом уме скажет…
За такое в здравом уме вообще стрелять надо без суда и следствия…
— Ну что ты натворил? Что опять натворил, я спрашиваю?
Это отец. И лица на нем нет. И смотрит на Кора так… Никогда на Кора так отец не смотрел, а тут нате вам, будто не на Кора смотрит, а сквозь Кора, будто и нет у него сына больше.
— Да я только…
— Ма-а-альчать! Ты мне поговори еще! Нет, вы на него посмотрите, он еще разговаривать будет!
Кор не понимает, а как еще, если даже оправдаться не дают. Он же только…
Он же…
…только…
Беспрецедентный и вопиющий случай поразил всех своей немыслимостью — если здесь вообще уместны какие-то слова. Некий подросток*
* — имя по правилам закона не указано.
Уничтожил величайшее творение Ниспровергателя — за что, несомненно, должен быть осужден на смертную казнь. Однако, нашлись и те, кто защищают юношу — они апеллируют свое утверждение тем, что невозможно уничтожить то, чего не существует. Ведь величайшее из творений Ниспровергателя — постамент, на котором возвышается пустота, если о пустоте вообще можно сказать — возвышается. Отсюда возникает вполне резонный вопрос — можно ли судить за уничтожение того, чего, по факту, и не было? Правда, убрать то, что подросток поместил на место пустоты не представляется возможным — он устроил там коллапс, — нечто с бесконечно малыми размерами, бесконечно большой массой и температурой, — так сказать абсолютное все в противовес абсолютному ничто, которое там было. Мнения расходятся…
— …сегодня, в день памяти Ниспровергателя грех не вспомнить о нем, — каким он был, что он делал, чем запомнился нам?
— Боюсь, мы так ничего толком о нем и не скажем.
— Что вы имеете в виду?
— То, что он запомнился только одним.
— Чем же?
— Он ниспроверг.
— Мы слышим это со школьной скамьи… но что же именно он ниспроверг?
— Основы. И если вы спросите — какие основы — вы будете неправы. На этот вопрос нельзя ответить, потому что он ниспроверг все. Никто и никогда до него раньше и не задумывался, что произведением искусства может быть пустота, ничто, отсутствие чего бы то ни было…
— …вы мне поможете.
Понимаю, что это не вопрос, и даже не приказ — утверждение какое-то, что вот только так, и никак иначе, и черта с два я от него отверчусь, отстреля… м-да-а-а, мне-то отстреливаться нечем, в отличие от него, который направил на меня пушку…
— Вы мне поможете.
Стараюсь держать лицо:
— Да с удовольствием.
— Да вряд ли вам это удовольствие доставит… Мне бы вот мало было удовольствия, если бы мне пистолет в голову… вы извините, что так, дело-то серьезное… вопрос жизни и смерти…
Присматриваюсь, только сейчас узнаю:
— Так это вы… это вас ищут…
— …ага, там уже какие-то баснословные суммы за мою голову… эх, жалко, головы лишней нет…
— … разрушили творение Ниспровергателя…
Смотрит на меня, смеется:
— И скажите на милость, и как можно разрушить пустоту? Ничто? Там ничего нет!
Меня передергивает, я не хочу слышать это — ничего нет, я не хочу слышать кощунственную правду.
…правду?
Нет, нет, не думать, даже не думать…
— Так чем я могу быть вам полезен?
Он смотрит на меня, глаза стеклянные, жуткие какие-то:
— Мне надо в прошлое.
Меня передергивает, в прошлом-то он что забыл — тут же догадываюсь, а ведь все так просто, ну где еще можно затаиться так, чтобы не нашли, только сотни лет назад…
Настраиваю хроноход, все еще надеюсь что-нибудь сделать с этим, который вломился ко мне, ну хоть как-нибудь незаметно добраться до телефона, — незваный гость опережает меня, стреляет в притаившийся на полке телефон, тот падает, залитый кровью.
— Без глупостей мне тут давайте… — сжимает зубы, — сами ж понимаете, если пустоту Ниспровергателя уничтожил, то вас и подавно раз плюнуть…
Жму на старт.
Хроноход, дребезжа и покачиваясь, катится куда-то в прошлое, год, два, десять лет…
…пятьдесят…
…сто…
…двести…
…только сейчас понимаю, что он смотрит на часы, выверяет что-то, высчитывает, ищет какую-то определенную дату…
— …здесь.
Вынимает ключ из хронохода, — у меня холодок по спине:
— Я что, останусь…
— …не останетесь. Вместе назад вернемся.
— Меня же там…
— …никто вам ничего там не сделает, как и мне.
— Вы уве…
— …уверен. Так что давайте мне тут без глупостей…
Хлопает дверца хронохода, понимаю, что я в ловушке.
Холодеют руки, мерзко покалывают пальцы, я только сейчас догадываюсь, что он задумал. Отчаянно соображаю, как можно открыть хроноход, здесь, сейчас, немедленно, бегом-бегом-бегом, пока он не успел совершить непоправимое…
Но нет, нет, поздно, я уже вижу его, — не этого, которого привез сюда, а — Ниспровергателя, узнаю его чуть нескладный силуэт, здесь, на улице у полуразрушенного фонтана — он идет куда-то, нетерпеливо смотрит на часы, которые показывают неправильное время, он еще не знает, что он — величайший гений всех времен и народов, и…
…и он этого не узнает, никогда не узнает, потому что этот, сзади, уже взводит курок, уже готовится сделать роковой выстрел, уже…
Ниспровергатель (еще не Ниспровергатель) оборачивается, недоуменно смотрит, кажется, что-то говорит, отсюда не слышно, что, что-то вроде ты чего, парень, вообще рехнулся, что ли…
…мир замирает.
Секунды, растянутые в вечность.
Мой пассажир оборачивается, размашистыми шагами идет в сторону хронохода, отмыкает дверь, падает на сиденье, долго не может пристегнуться, в гневе бросает ремень, пряжка отскакивает с обиженным звяканьем.
- Назад давай… назад…
Я не понимаю, почему назад, на смерть, на погибель, я не понимаю, почему он не выстрелил, я не понимаю, и самое главное я не понимаю — почему у того, обернувшегося, было лицо моего пассажира, почему…
— Ну что молчишь? Рассказывать будем или нет?
— Ну, Ниспровергатель…
— Очень хорошо, дальше…
— Ниспроверг…
— Что ниспроверг?
— Ну… э… все…
— Единицу захотел или как?
— Ой, не надо, не надо единицу, ну пожалуйста-препожалуйста!
— Ну так рассказывай давай, что стоим-то?
— Про… про что?
— Про Ниспровергателя, горе ты мое!
— Ниспровергатель…
— Дальше! За одно имя Ниспровергателя тебе оценку не поставят!
— Э… ниспроверг…
— Что ниспроверг?
— Все?
— Да неужели так трудно запомнить, что было до Ниспровергателя?
— А… ничего.
— А конкретно?
— Да ничего…
— Да не просто — ничего, а люди поклонялись пустоте, понимаешь ты, пустоте, отсутствию чего бы то ни было! Люди смотрели на пустоту на пьедестале и поклонялись пустоте! И Ниспровергатель единственный догадался поместить в пустоту нечто бесконечно горячее, бесконечно малое, бесконечно тяжелое и бесконечно яркое — заполнить пустоту, вместо ничего сделать что-то, вместо нуля — единицу! Рассказывай, как он был казнен?
— Ну… э…
…общественность в растерянности — одни говорят, что преподаватель с многолетним стажем заслуживает снисхождения, другие уверяют, что за фразу «за одного Ниспровергателя оценку не поставят» учительница заслуживает не менее чем смерти…
— …это вы его надоумили?
— К чему… надоумила?
— Ну как же? Что он сделал с Творением?
— А… силы небесные… а что он сделал?
— Вот мы тоже не понимаем, что… видите как… он взорвал Творение.
— Взор… нет, что вы такие ужасы мне говорите… да как такое вообще может быть…
— А вот может… он взорвал Творение, оно разлетается с огромной скоростью во все стороны…
— Ужас какой… арестовали его?
— Да там уже нечего арестовывать, говорим же, взорвал он там все…
Неправильный мир
…на самом деле никакого Чесснайта не существовало — этот персонаж полностью выдуман автором. Нет смысла искать какие-то аналоги в реальном мире, перебирать биографии известных шахматистов, пытаться склеить из их судеб историю Чесснайта — у вас все равно ничего не получится, кусочки будут распадаться мелкими осколками. Многие читатели не могут принять правду, что их любимый герой не существует — они пишут письма на имя Чесснайта, кто-то даже признается ему в любви.
Тем не менее, уже научно доказано, что Чесснайта существовать не может, — вернее, не может существовать его непревзойденного стиля, с помощью которого он одерживал победу над самыми коварными и хитрыми противниками. Ученые доказали, что невозможно заставить человека идти не по прямой линии времени, а на две клетки вперед, одну вбок, в параллельное время. Люди неспособны пересекать временные потоки, ни один человек не способен сначала идти по реальности, в которой он выбрал служение творчеству, по вечерам сворачивать в мир, где он выбрал семью, забирать жену и пятерых детишек, и вместе с ними отправляться в мир, в котором он смыслом жизни сделал богатство — и сидеть в окружении близких людей в роскошном доме. Уникальные, можно сказать, паранормальные способности Чесснайта — не более, чем удачная выдумка автора…
…автор блестяще передает все тонкости вымышленной игры в шахты — кое-где в предыдущих редакциях эта игра названа шах-на-ты, но это, скорее, ошибка, какая-то бессмыслица. Многие пытались воспроизвести игру, воссоздать шахтные партии — и еще никому это не удавалось. Исследователи уверяют, что шахтная игра в принципе невозможна, её правила противоречат не только друг другу, но и всем законам физики и математики. Прежде всего, поражает выдумка автора, который вводит в повествование так называемых хуманов, — казалось бы, они описаны в романе максимально точно, подробно, и тем не менее, мы до сих пор не можем представить себе этих существ, шагающих по клеткам судьбы из вчера в завтра. Появляются даже целые шахтные клубы, где пешки, туры, а то и даже знатные ферзи делают деревянные фигурки людей и ставят их на доску. Иногда таким фигуркам внутри вырезают полости, подобно указанным в романе легким, сосудам, желудкам, сердцам, даже сбрызгивают все красной краской и кладут в желудок искусно вырезанный из дерева хлеб. Но на вопрос, можно ли создать настоящих хуманов, ученые отвечают однозначно — нет.
…посвятил свою жизнь тому, что выискивает миры, которые чем-то отличаются от мира, описанного в романе «Шаг шахматиста» — например, мир, в котором не существует главного героя или мир, в котором нет указанной в романе игры. Почему он решил убивать эти миры, остается загадкой, но мы предупреждаем всех, кто прочитал роман и заметил, что в его мире что-то не соответствует истине — берегитесь, вас ожидает погибель, если вы не найдете способ, как отвратить от себя беду…

В кашемировом пальто
…я не могу видеть эту битву — она умерла две тысячи лет назад, так какого черта я е ё вижу, живую, настоящую, окружающую меня всем своим кроваво-лязгающим месивом. Почему я там, где арбалеты и мечи, когда я должен быть тут, где шустрые пальтомобили и трехглазые комильфоры. А я, тем не менее, здесь — где падает меч с простреленной головой и арбалет рвется с цепи. Роют копытами землю боевые кони, грохочут по полю боевые слоны, плывут боевые ладьи, мечутся боевые пешки. Мне так непривычно без кашемирового пальто, я уже и забыл про те времена, когда кони ходили без пальто, облаченные только в доспехи.
Мне страшно. Я хочу позвонить — хоть кому-нибудь — летефон вырывается из рук, вспархивает куда-то в никуда, я пытаюсь угнаться за ним, не могу. Мне страшно — потому что война умерла, черт её дери, она умерла две тысячи лет назад, так какого же черта.
Мне страшно.
Я не умру, говорю я себе.
Я не умру.
Потому что я не умер тогда, две тысячи лет назад, я не умер, я выжил в этой кровавой бойне. Я выжил — потому что не бросился на защиту своего города, вот сейчас, вот сию минуту, я отступил, я бежал с поля боя, я не видел, как жгли дома и улицы столицы столиц — и остался жив. Я отступаю, я бегу прочь, перескакиваю через трупы мечей, копий, стрел, скачу с клетки на клетку, две вперед, одна вправо, две вправо, одну вперед, — прочь, прочь, в жухлое редколесье сентября…
…я вырываюсь из битвы — внезапно, стремительно, мои копыта бьются о мостовую мегаполиса, я оглядываюсь — слишком поздно, когда стремительный пальтомобиль уже сбивает меня — навзничь, насмерть, я даже не успеваю спохватиться, что моего летефона со мной нет…
— …что на этот раз?
— Немного…
— А подробнее?
— Вот… эта штука… летает и звенит, летает и звенит…
— Гхм… любопытно… может… это дверной колокольчик?
— Да нет, похоже, что-то посложнее…
— Или что-то вроде шарманки, которая играет незамысловатые мелодии…
— …и снова мимо… мне кажется, это что-то большее, но черт возьми, что…
…сжимаю арбалет — сильнее, сильнее, арбалет рвется с цепи, хлопает крыльями, заливается оглушительным лаем, готовый бросится на графина и растерзать его в кровавые клочья. Графин еще пытается сохранить остатки самообладания, но у него это получается плохо, очень плохо — я вижу, как он бледнеет в ожидании неминуемой смерти. Понимаю, что не могу застрелить его просто так, что я ждал этого момента годы и годы, что я должен сказать ему многое, очень многое, — это тебе за войну, это тебе за убитых коней, за застреленные мечи, за павшие копья, за сломанные судьбы, которые уже не склеить, за…
…за Аделаиду.
Почему-то все по ошибке считают, что это женщина, почему-то я никого не разубеждаю, хорошо, пусть будет женщина, вам так проще, и мне так проще, не придется ничего объяснять, что это был город, дивный город, столица столиц, имя которой переживет века. Она появилась давно, бесконечно давно — я читал упоминания о ней в рукописях десятитысячелетней давности, — где-то на востоке. Потом столица столиц расположилась на западных берегах Европы, пару раз её видели в Африке, потом она перекочевала в устья Амазонки пятьсот лет назад, и, наконец, сюда — где жесточайшая битва не пощадила её, как и многие, многие города…
Графин смотрит на меня — только мертвецкая бледность выдает его страх — сжимает в руках что-то тренькающее, крылатое, с причудливыми раструбами и цифрами, у графина много таких штучек, не пойми каких — наконец, кивает:
— Вы пришли убить меня.
Понимаю, что мне нечего ответить, и так все ясно.
— За войну.
Снова хочу ответить, снова не отвечаю, и так уже понятно все.
— За Аделаиду.
Ёкает сердце. Сжимаю поводок рычащего арбалета.
— Вы, наверное, думаете, что я выжил из ума…
Снова ничего не отвечаю, потому что что тут думать, так оно и есть.
— …устроить кровавую бойню, похоронить десятки столиц…
Молчу.
— …позвольте же объясниться… если вы будете так любезны уделить мне немного внимания…
Он не ждет, пока я отвечу, он продолжает — медленно, плавно, не спеша, в этом он весь, вот в этой неспешной плавности, текучий, обволакивающий…
— Вот скажите мне, друг мой…
…меня передергивает от этого — друг мой, — стараюсь не подать виду.
— …вот скажите мне, какие события люди помнят лучше всего?
— Ну… э…
— Ну, вот скажите, вы что лучше запомните, как вы покупали хлеб у пекаря или вот эту битву?
Молчу. И так все понятно, и так все само собой разумеется.
— Ну и вот… знаете вот это ощущение… когда что-то было много лет назад, а как будто вчера? И спохватываетесь — а что, а неужели двадцать лет прошло?
Знаю, говорю я себе. Знаю. Аделаида. Аделаида, которая была бесконечно давно — и в то же время как будто вчера, лабиринты улиц, заблудившихся в самих себе, дома, устроившиеся на ночлег, летящие над городом сказки…
Вчера.
Не далее, как вчера…
— Ну и вот, понимаете, через много веков люди вспомнят эту битву, вспомнят, как будто она была вчера, и как вы думаете… это просто иллюзия? Игра воображения? Обман психики? Или… что-то большее?
Пожимаю плечами, как это может быть что-то большее — на всякий случай настораживаюсь, мало ли…
— Вот я вижу ваши сомнения, вы мне не верите, думаете, это просто психология… я тоже так думал… гхм, до поры до времени… но знаете… что вы скажете об этом?
Графин показывает мне монету, блестящую, новую, подкупить меня хочет, что ли…
— Взгляните… на дату, на дату посмотрите…
Уважительно склоняюсь, монете почти триста лет…
— А выглядит как? — графин прищуривается.
— Гхм… как новая…
— Как… или новая?
— Ну, она не может быть но…
— …вы так думаете?
— Но как же…
— …а ведь я подобрал её там… в той битве… тогда…
Выцарапываю из памяти познания в истории, вроде бы…
— …битва при Ордене?
— Верно говорите…
— Бойня, в которой не было выживших…
— Ну, не совсем… — графин многозначительно смотрит на меня, догадываюсь:
— Вы…
— …мне повезло… хотя не знаю, что было бы лучше, пасть там или вспоминать это месиво крови день за днем, год за годом…
Догадываюсь.
Бью словами — хлестко, больно:
— Вы бежали с поля боя?
Кажется, побледнеть еще больше невозможно, тем не менее, у графина это получилось, ага…
— Вы… да как вы…
Посмеиваюсь. Графин смотрит на монету в своей руке, вспоминает что-то бесконечно далекое, что было как будто вчера…
— Монета… я взял её оттуда, с поля боя… до сих пор не могу поверить, что это было наяву, не то сон, не то воспоминание, такое яркое… монета в пыли поля, блестит золотом… до сих пор толком не верится, что она настоящая, что на самом деле у меня в руках… Что… не верите?
Презрительно фыркаю.
— Хотите покажу еще несколько вещиц из прошлого?
— Да хоть целый музей…
— Понятно… тогда позвольте показать вам одну штуку совсем из другого времени…
Он показывает на непонятное, крылатое, с раструбами и цифрами, сидящее в птичьей клетке. Настораживаюсь, уж не подсунули ли мне под шумок оружие — нет, не то, не похоже на оружие, слишком не похоже…
— Знаете, откуда это?
— Гхм… даже не могу представить.
Он показывает куда-то в никуда, как я понимаю, не вперед и не вверх, а…
— Можете взглянуть на дату изготовления… если, конечно, будете так любезны, придержите свой арбалет.
Мне не по себе, я не хочу придерживать арбалет, я хочу спустить его на графина, какого черта я вместо этого тащу поводок на себя, подхожу к клетке, смотрю на что-то непонятное, прыгающее по жердочкам, читаю дату…
— …ничего не замечаете?
— Один девять пять один…
— Что скажете?
— Ну… это же не год выпуска…
— Отчего же? Он и есть… мы достали это оттуда…
— Вы… были там… в тысяча девятьсот… через полвека после нас…
— Не был… там был кто-то, переживший эту битву… вспоминавший её, как будто это случилось вчера… знаете… он был чем-то похож на вас, тот старый конь, обронивший это, — графин постукивает по клетке, — вы, случайно, не ускакали с поля боя?
— Да как вы сме…
— …черный конь с белой звездочкой на лбу, не закрывший собой городские врата…
Все переворачивается внутри, я не хочу вспоминать, как бежал, как пала Аделаида, не убереженная мной, это было не со мной, это был не я, не я, не я…
— …ну, вот видите, а еще вините меня в гибели Аделаиды… думаю, сейчас вы будете в бешенстве, вам захочется спустить на меня арбалет, только так вы ничего не узнаете… совсем ничего…
Тьма.
Не знаю, как это называется иначе, да это и не называется иначе, — тьма.
Глубокая, наползающая откуда-то из ниоткуда и отовсюду одновременно, пожирающая саму себя — тьма.
Бежать, бежать в никуда, спотыкаться, падать в ожидании неминуемого, в ужасе смотреть, как тьма проскальзывает мимо, куда-то в глубину комнат…
Выжидать. Выжидать целую вечность, чтобы кинуться в дальние комнаты, где кабинет графина, крикнуть в пустоту:
— Ну и что вы наделали? Что вы наделали, я спрашиваю?
Он не отвечает, он сидит спиной ко мне в кресле, которое терпеть не может, он делает вид, что не слышит меня, но я-то знаю — только делает вид…
— А вы молодец, ничего не скажешь… продолжили, так сказать, добрую традицию… воспоминания… воспоминания, которые не забыть… думаете, как далеко в прошлое они тянутся? Век? Два? Тысячи лет?
Молчит, делает вид, что не слышит, ну-ну, делай, делай вид…
— Мне так кажется, еще больше… и как вы думаете, для кого весь этот путь через тысячелетия из века в век? Как вы думаете, кто шел по этому пути? Боюсь, ответ вам не понравится. То, что я видел…
Не договариваю, смотрю на него, на прокушенное горло, на домашний халат, залитый кровью, вот черт…
Он даже не смотрит в мою сторону, зачем ему смотреть в мою сторону, у него таких было, и есть, и будет миллионы…
Он.
Парящий в пустоте космоса.
— …нам нужна война — говорит он, наконец, — битва… которая запомнится на века…
— Нам кто-то угрожает?
— Нет, ничего подобного.
— Вы хотите захватить какие-то земли?
— Да нет же…
— Тогда… для чего же…
— Нет, это совершенно невозможно объяснить… каждый раз не знаю, как сказать… — он смотирт на меня, смеется, первый раз вижу, чтобы он смеялся, — понимаете… нужна война, которая останется в памяти людей… …вот скажите мне, какие события люди помнят лучше всего?
— Ну… э…
— Ну, вот скажите, вы что лучше запомните, как вы покупали хлеб у пекаря или вот эту битву?
Молчу. И так все понятно, и так все само собой разумеется.
— Ну и вот… знаете вот это ощущение… когда что-то было много лет назад, а как будто вчера? И спохватываетесь — а что, а неужели двадцать лет прошло?
Знаю, говорю я себе. Знаю. Аделаида.
Киваю:
— Летефон… летефон в клетке… вы тогда так и не поняли, для чего он нужен…
Он оторопело смотрит на меня:
— Вы… вы? Но… но как… немыслимо… невозможно…
— Я тоже так думал, что невозможно… и немыслимо… что я лучше навсегда останусь в прошлом, чем пойду в будущее через войны…
— Но вы пошли…
— …пошел.
— …что-то я не припомню ни одной глобальной войны… без меня…
— Верно, и не припомните… я не устраивал войны.
— Но тогда как…
— Знаете… я и сам не ожидал, что окажутся другие способы…
— И какие же?
Улыбаюсь:
— Аделаида… Аделаида…
— Город, который вы предали…
— …и воссоздал… город жил веками, умирал, возрождался через тысячи лет, как феникс из пепла… потому что люди помнили о нем, помнили через века и века…
— Помнили… о городе? Немыслимо…
— …и тем не менее. Помнили о городе. Хранили воспоминания, которые перерождались в легенды, легенды прятались в книгах, спали в них веками, пробуждались от спячки, пускали корни в людские умы, и люди, вдохновленные, снова возводили город… снова и снова… так я и шел сюда от Аделаиды к Аделаиде… уважаемый… графин… или вы тогда были графин, сейчас вы уже кто-то другой… особенно мне понравилось, как вы разыграли меня с тьмой, я же был уверен, что это она вас пожрала, кто же знал, что вы и есть тьма, которая спряталась под оболочкой человека, покинула мертвое тело, которое стало ей не нужно…
Тьма надвигается на меня — вот теперь уже сомнений не остается, что это тьма, в которой не осталось ни капли человеческого, черты лица расплываются, выпуская тьму из глубины веков…
…почему я бью его арбалетом, вот так, по старинке, откуда у меня вообще этот арбалет, ах да, оттуда, из прошлого, из воспоминаний о прошедшей битве, там, где пала Аделаида, где лежали мечи с простреленными головами и копья, истекающие кровью. Арбалет вонзается в то, что осталось от тела, рвет на клочки — что-то невидимое, неуловимое ускользает прочь, я не успеваю его поймать, знаю, — не поймаю, он ускользает куда-то в завтрашние дни, в грядущие тысячелетия…
Смотрю на город, раскинувшийся в пустоте космоса, еще не верю, что Аделаида спасена.
Спасена…
И так хочется остаться здесь, передохнуть, снова заплутать на улицах, которые заблудились сами в себе, потеряться в толпе домов, спешащих домой к вечернему чаю… и понимаю, что не останусь, что поспешу туда, в грядущие годы, в пучину веков, от вехи к вехе, от города к городу, искать своего врага, спасать Аделаиду…
Кутаюсь в пальто — наконец-то они снова вошли в моду — встаю на дыбы, закусываю уздечку, скачу во весь опор…

Сбежавшая Сухаил
— …вы будете за ней следить.
— Мы…
— …будете за ней следить… куда ходит, с кем общается, какие кафе посещает, с кем сидит после работы…
— Но…
— …я вам заплачу, не беспокойтесь даже, вы таких деньжищ еще не видывали вообще…
— Однако…
— …посмотрите. Круг её общения. Ближайшие друзья. Враги. Кого она любит, кого ненавидит…
Не выдерживаю:
— Мы вообще-то… обсерватория.
Не добавляю, что обсерватория состоит из меня одного, какая разница в самом-то деле…
— Так я в курсе.
— Так мы…
— …так вы посмотрите за ней, да?
— Э…
— …говорю же вам, за ценой не постою, в золоте у меня ходить будете… только за Сухаил присмотрите…
— А…
— …она сбежала, понимаете, сбежала!
— Сочувствую…
— Да нет, даже не так… она продолжает сбегать… дальше и дальше…
— А почему…
— …вот вы и разберетесь, что с ней случилось.
Хочу снова повторить про обсерваторию. Что-то переклинивает, что-то напоминает мне, что обсерватория доживает последние месяцы, если не дни.
— А давайте.
— Вот хорошо, а я знал, что мы с вами договоримся… вот с умным человеком всегда договориться можно…
Думаю, кого тут считают умным человеком, меня или себя. Хочу спросить, разумеется, не спрашиваю.
— Ну вот… давайте… телескопы ваши настраивайте…
Откашливаюсь:
— Думаю, мы и без телескопов справимся… где она… Сухаил-то ваша?
— Ну, я не знаю, как вы без телескопов справитесь…
— Ну, по улице за ней пойдем…
— …без телескопов?
— Ну… э…
Хватает меня под локоть, сильно, больно, ч-ш-ш, что делаешь-то, ты мне еще руку сломай, хотя нет, ломай-ломай, я у тебя хоть денег отсужу, еще полгодика проживем…
— Вот… глядите…
Смотрю в темноту неба, не понимаю, чего от меня хотят…
— Видите? Видите?
Напрягаюсь, вспоминаю созвездие, ну не обязан я их все наизусть помнить, не обязан…
— Корма…
— …вот-вот, Корма… а там Сухаил… как думаете, почему она сбежала?
Хлопаю себя по лбу, только сейчас понимаю, что речь идет про звезду.
— Ну, конечно… Сухаил… Дзета Кормы…
— Вот-вот… вы видели, как она стремительно перемещается?
— Да, что-то аномальное… стремительно движется по звездному небу…
— Вот-вот… вы разберетесь с этим? Обязательно?
Киваю.
— Сделаю все возможное…
Смотрю на новый телескоп — с легкой опаской, мало ли что от него ждать. Трогаю уздечку, телескоп отзывается легким фырканьем, это хороший знак. Все еще не решаюсь прыгнуть в седло, а что делать, ставлю ногу в стремя, хоп — телескоп оказывается непривычно податливым, мне достаточно слегка дернуть поводья, он все понимает, скачет вперед, в небеса…
— …она была здесь?
Нет, не с того я начал, надо было хотя бы — добрый день — хотя какой в космосе может быть день — или добрый вечер — хотя здесь и вечера-то нет, или там… или не знаю, что… здравствуйте… хотя можно ли желать звездам здоровья…
И ведь я даже не уточнил — кто она…
— А-а-а, вы её и не догоните уже, — кивает старая туманность, покачивается на лавочке, бросает космическую пыль редким кометам, — за ней разве угонишься…
— Надо угоняться… ищут её…
— Бросьте вы это дело, вы её в жизни не поймаете…
Беру быка за рога:
— А так вообще про неё что говорят?
— Да… кто ж что говорить будет, она ж нынче здесь, завтра там…
— А почему она такая быстрая?
— Да кто её запретит-то… а вам завидно, что ли?
— Да не завидно… странно просто…
— Что странно, завидует он, куда ему-то пять километров в час…
Даже не отвечаю, что никакие не пять, могу и двадцать километров в час, не вопрос — только здесь это никому не интересно.
…не так я себе это представлял, не так, совсем не так, отчего-то казалось — в кои-то веки появятся деньги, чуть больше привычных жалких копеек, позволю себе что-нибудь особенное, чего не позволял давным-давно, или вообще никогда, что-то такое, о чем не мог и мечтать…
— …вот, посмотрите… позавчера она была в ювелирном магазине…
Показываю фотографию. Настороженно смотрит на фото:
— Оттуда ничего не пропало?
— Пропало, и немало… Сегодня её видели в «Кофейниксе», знаете, маленькое кафе на перекрестке… можете себе представить, оттуда пропал чайный сервис…
— Знаете, и почему-то я не удивляюсь… но где она сама?
— До сих пор не могу угнаться за ней…
— …так могите. А то, знаете… астрономов-то сейчас не так уж и мало…
Все понимаю, и мне нечем крыть, что нормальные обсерватории его разорят до нитки, и вообще кто сказал, что другие что-то найдут, и вообще…
Не выдерживаю:
— Слушайте, если вам так надо её найти, могли бы и сами…
— Не могла бы.
— Отчего же…
— …меня давно уже нет в живых.
— Сочув…
— …и честное слово, в этом замешана она…
— …ну, вы и спохватились, её уже двадцать лет как тут нет…
Сжимаю зубы, хочется колотить кулаками в стену, только тут нет стен…
…пропади оно все пропадом, пропади, пропади, гоняться за стремительной звездой…
Ухожу в яркие огни кафе под роскошными арками и причудливыми потолками, официант настороженно косится на мою потертую куртешку, нда-а, надо было бы прибарахлиться для начала…
Заказываю что-то, непонятно, что, приносят что-то, непонятно что, знать бы еще, как это есть, или это вообще не едят, и где тут съедобное, где несъедобное, вот, печеньице попробую, тьфу ты, черт, это же деревяшка вообще, какого хрена её в тарелку положили…
Заливистый женский смех — в двух шагах от меня, дамочка за соседним столиком, смотрит, как я выплевываю деревяшку, заливается хихиканьем, черт бы её побрал, так бы и запустил ей деревяшку эту в голову…
— Ах, какой вы смешной право…
Думаю, что лучше, развернуться и уйти отсюда ко всем чертям или ответить что-нибудь такое… такое… что… И ни черта я не отвечу, я двух слов связать не…
…черт…
— Сухаил?
— А, вы про меня уже наслышаны…
— Да уж, наслышан… и немало…
— Ну, знаете, если верить всему, что говорят…
— Я верю только одному… что вам угрожает смертельная опасность.
— Да ну?
— Ну да… разрешите… подсяду?
— Ой, первый раз вижу, чтобы ухаживали вот так оригинально…
Снова смеется, смейся, смейся…
— Как вы думаете, что вам помогает двигаться с такой стремительной скоростью?
— О, да вы мастер на комплименты…
— А я вам скажу, что может заставить звезду двигаться так стремительно…
— И что же?
— Дыра.
— Простите?
— Дыра… огромная черная дыра, которая притягивает вас все больше и больше, все стремительнее и стремительнее, и рано или поздно вы погибнете в её объятиях…
— Чудовищно… но откуда вы…
— …можете поверить, астроном это знает… Вы побледнели…
— …еще бы…
— Не беспокойтесь, я знаю, как вам помочь… пойдемте, сударыня… пойдемте…
Она смотрит на меня, она сомневается, она не верит, но я понимаю, что направится со мной, выбора у неё нет…
— …вы арестованы.
— Что, простите?
— Вы арестованы…
— Вы с ума сошли, вы обещали спасти меня…
— Боюсь, спасать надо не вас, а ваши жертвы… вернее, их уже не спасти…
— Не понимаю, о чем вы говорите…
— Прекрасно понимаете… вы убили свою сестру.
— Но у меня не было никакой…
— …да, это вы всем говорите… не было…
— …у вас никакой сестры? Ну да, конечно, про неё никто не знает… вы убили её почти сразу же после рождения, вытянули энергию ближайшей звезды, отчего она взорвалась, отбросила вас взрывной волной, отчего вы двигались так стремительно…
Смеется. Холодно. Надменно.
— Вы ничего не докажете. Ничегошеньки-ничего, даже не пытайтесь… вас только поднимут на смех, вы станете посмешищем… а я буду носиться все быстрее и быстрее и светить все ярче и ярче…
— …узнаете?
Она посмеивается, ну еще бы ей не посмеиваться, — уже всем понятно, что она победила, немеркнущая стремительная звезда, которая сейчас совсем близко — она светит ярче полной луны, смотрит на меня единственным глазом. Величественная и прекрасная, она на обложках журналов, на бесчисленных интервью, на экранах, еще на чем-то там таком, чего в мои времена не было вообще…
Я не могу ответить ей — уже не могу. Мне нечем отвечать, меня нет, только истлевший остов в высокой башне подле мертвого телескопа, остов, глядящий пустыми глазницами куда-то в никуда.
Я уже ничего не скажу — в отличие от миллионов и миллионов, воздающих хвалы чарующему сиянию.
Мы с телескопом ждем.
Нам остается только ждать.
Дни.
Часы.
Года.
Сияние в полнеба.
Ослепительная вспышка.
Я не могу видеть, как умирает звезда — и все-таки вижу.
Я знаю, что будет так.
Знаю.
Сколько я их видел — звезды, разгорающиеся все ярче и ярче и гибнущие в одночасье…
…и сколько увижу еще…
Чимэг
Нам налево нельзя.
Там нет меня.
И направо нельзя.
Там нет Чимэг.
И прямо нельзя.
Там есть и я, и Чимэг, но мы не нужны друг другу.
И уж тем более нам нельзя назад.
Потому что там хан.
Выбираем извилистую дорожку, которую я присмотрел еще позавчера, прислушиваемся, — не сразу слышим топот копыт сзади…
Поблёскивает сабля палача, еще не обагренная моей кровью.
— Где ты был? — вопрошает хан, — куда ты шел?
Хан… если это малехонькое недоразумение вообще можно назвать ханом, крохотный властитель, властителишко со своей бандой головорезов, который даже армией назвать нельзя. Это я только думаю, этого я никогда ему не скажу, но кажется, он догадывается, о чем я думаю…
— Я… в степь… заплутал… овцу искал…
Вру, как дышу, даром, что не было к меня никогда никакой овцы, да какое это имеет значение, тут любое вранье сойдет, самое дерзкое, самое безумное, самое наглое. Даже если скажу, что ходил охотиться на дракона — и то сойдет, сгодится, даром, что драконы в степи не водятся, они ближе к горам…
Играют блики солнца на сабле, еще не залитой моей кровью, путы больно впиваются в запястья.
— Ты шел на запад, — говорит хан, не то мне, не то куда-то в пустоту — ты ехал на запад, не так ли?
Понимаю, что отступать бесполезно.
— На запад.
— Ты ехал на запад… с Чимэг…
— Я встретил её… случайно…
— И что же Чимэг, звезда сердца моего, случайно делала в чистом поле? Без лошади?
— Её лошадь… пала… сломала ногу… я вызвался подвезти её…
— И где же её мертвая лошадь? Да что ж ты несешь, исчадье ада, отрезать бы тебе лживый твой язык! Вы ехали на запад… зачем? Зачем?
Хочу ответить, что нам можно ехать на запад, что нет такого, чтобы нам нельзя было ехать на запад — не отвечаю, понимаю, здесь это не прокатит. Вот хану нельзя на запад, это да, там, ближе к западу, начинаются сюжеты в которых хана нет вообще. И Аяна там нет вообще, а Аян не знал, побежал со всеми, еще когда вместо настоящих мечей и сабель играли палками, кто со мной, все со мной, а ты чего, трусишь что ли, ах-ха-ха, зайчишка-трусишка, айда с нами, айда, айда… И Аян бежит со всеми через тонкие, едва ощутимые грани, где кончается одна история и начинается другая, чуть-чуть не такая как наша — и на этот раз это самое чуть-чуть в том, что Аяна нет…
…нет…
— Аян! Ая-а-а-н! Ая-а-а-н!
Надрывный, до слез, голос матери в ночной степи.
— Где Аян? Где братец? Вы вместе были, братец твой где?
Что-то реву, что-то второпях отвечаю, а мы туда-а-а-а пошли-и-и, а тама не сте-епь, а тама ле-е-ес, а тама грибы во-о-от такуущие, а Аян маленький у юрты остался, а то мало ли там чего в лесу-у-у… Мать ругается, чего оставил маленького, и на Эрдэнэ ругается, чего за маленьким не уследила, и снова рыдает, Аян, Аян, Аян… я говорю что-то — осторожно, почти шепотом — а давай пойдем мы все, а давай поищем Аяна — мать гневается, ух, тебя еще не хватало, чтобы ты пропал, у-ух, придет отец, ух, задаст вам всем…
…перевожу дух, обошлось, пронесло.
Никто и не пойдет туда, неведомо куда, никто и не будет проверять, что в этой реальности Аяна не было. Вечером собираются у костров, говорят про страшных алмасов и шулмасов, про страшного колчина, которые рыщут по степи, уносят детей…
Сжимаю зубы, может, и здесь обойдется, может, поверит хан (да что хан, мелкий ханишко, не сегодня-завтра теряющий власть), может, замешкается, а там, глядишь, и свергнут его братья, а что его братьям до меня и драгоценной моей Чимэг — будем надеяться, ничего, и мы снова поедем с ней на запад…
…тянется по ветру дым от костра.
Смотрит на дальние горизонты Сохор Тарба пустыми глазницами…
— Сказки… — говорит чуть с хрипотцой — много сказок… вест мир уже, считай, сказками усеян… где одна сказка кончается, там другая начинается, и пошло, и пошло… тесно им уже, друг на друга лезут… вот в нашей сказке мальчик в степи пропал, думали, колчин его забрал, а оказалось, дядя от племянника избавился, чтобы власть захватить… А вон за той горой, — слепец показывает куда-то на север, — там и правда колчин мальчика забрал, там по-другому сказка пошла… А вон за рекой там малец в степь сбежал, запрятался, чтобы на дядю его подумали, да казнили дядю… а там и вернуться решил малец, да не успел, дикие звери его там растерзали… сам себя наказал… а вон там мальца дракон унес, дядя его спасать ходил… — Сохор Тарба задумывается, видит что-то невидимое, не подвластное нашим глазам, — много сказок есть, много… вот про меня тоже… черная оспа пришла, кто здоровый был, те бежали, меня оставили… тело все как в огне горит… думаю, срок мой вышел, пора уже в подземные края к Эрлик-хану… а Эрлик-хан смиловался, домой отпустил… сказал, возьми с собой, что душа пожелает… много чего там было, ой, много… а я выбрал сказки… — голос слепца чуть теплеет, — много сказок, не счесть… А вот дальше граница там, а дальше история, только я уже не Сохор Тарба, а Дуранте Дельи Альигеро, и спускался я по кругам подземного царства… А от той истории новые ростки пошли, вон… ла комеди хумани… инферно какое-то там… далеко уже, не знаю я толком… там меня уже нет, меня туда нельзя, где меня нет… ты смотри, малец, если в какой сказке нет тебя, ты в такую сказку не ходи, а если в какой сказке убили тебя, то и подавно, нечего там тебе делать…
— …поехал на запад с драгоценной моей Чимэг, исчадье ада… — хан (да что хан, мелкий ханишко) смотрит на меня со страхом и ненавистью, — почему на запад? Потому что не было меня там? Так, да? Отвечай, исчадие ада, не было меня там? Да?
Понимаю, что уже не отвертеться:
— Да… да…
Взмахивает клинок.
Мир замирает в ожидании неведомо чего…
Хромой Тимур смотрит на меня узкими глазами:
— Видел, значит… видел края, где меня нет… много мест исходил, много чего видел… а еще чего видел?
Спохватываюсь. Только сейчас понимаю, что у меня есть козырь, такой козырь, что мало не покажется…
— …великий хан…
…усмешка.
— …я видел края, где ты станешь величайшим властителем, множество земель подчинятся тебе!
— Врешь? Врешь, чтобы увести меня туда, в историю, где меня нет?
Кровь приливает к щекам — назад, назад, тп-р-ру, стоять, никто не должен знать, что я вру…
— Это правда, Великий хан… там… за холмами…
Сжимается сер…
…ется сердце, ну пожалуйста, пожалуйста, пусть мне повезет, пусть там за холмами будет сказка, в которой хана нет, пусть, пусть…
…стук копыт.
Хромой Тимур пришпоривает коня, замирает возле меня:
— Ай, молодец, ай, удружил так удружил! Проси, чего душа хочет, ничего не пожалею для любезного друга!
Не верю себе, неужели и правда там, за холмом открылась сказка, в которой Хромой Тимур, упавший с лошади, стал властелином мира…
…некогда рассуждать, некогда задумываться, говорю то, что вертелось на языке так давно:
— Чимэг…
— Ай, будь по-твоему, забирай свою Чимэг, пусть вам счастье будет! — скачет туда, в пустоту неведомой сказки, — не понимай лихо-о-ом!
— …да как же… как так-то? — Сохор Тарба смотрит на меня в ужасе, кажется, вижу его взгляд, хотя быть не может у него никакого взгляда…
— Что же… негоже Хромому Тимуру становиться безжалостным тираном, хорошо хоть не в нашей сказке, а в другой…
— Ты сказал… что повел его туда… — Сохор Тарба безошибочно показывает в пустоту горизонта, куда уходит солнце, — да? Да?
— Да, и…
— Да как же ты не понимаешь, что не сказка там! Не сказка!
— Да как не сказка, я же видел, там…
— О-ох, что ж ты наделал, горе ты мое… ох, непросто тебе будет выгнать оттуда завоевателя… ох, непросто…
Сжимаю зубы:
— Выгоним… обязательно… вернем его сюда… клянусь… вернем…
Чувствую, что краснею, хорошо, что он не видит, как я краснею, хорошо, что не знает, что никудашеньки-никуда я не пойду, останусь здесь в сказке, которая наконец-то стала доброй, в сказке, где нет Хромого Тимура, где я навсегда останусь с драгоценной моей Чимэг…
…просыпаюсь — обнимаю спящую Чимэг, мягкую, теплую, родную, отгоняю от себя непонятный сон, откуда он вообще взялся, какие-то пирамиды из черепов, горы черепов на выжженных пустошах насколько хватает глаз. Надо бы оберег повесить от дурных снов, ладно, успеется…

История про детство и юность, про молодость и старость, про жизнь и смерть, про лето и осень, про маленький городок
…вы меня просили написать историю про детство и юность, про молодость и старость, про жизнь и смерть, про лето и осень, про маленький городок… Собственно, я даже не знаю, с чего начать, мне никогда раньше не приходилось писать историю, где будет так много персонажей. Я вот даже не представляю, как их всех разместить… Ну ладно, пусть они живут в трехэтажном доме с эркерами и эклерами, балясинами и балюстрадами, анфиладами и амфитеатрами. На первом этаже у них будет холл, кухня и ванная, на втором этаже будет спальня жизни и смерти, это будут супруги, и еще две комнаты — лета и осени, это брат и сестра. А на третьем этаже будет спальня для детства и юности, и еще две комнаты для молодости и старости. Вот так, вроде никого не за… а-а-а, нет, придется к дому пристраивать мансарду, потому что в ней будет жить маленький городок, он маленький, за ним старшие присматривают, особенно старость — смотрит и неодобрительно качает головой.
Вот теперь вроде никого не забыл. По утрам молодость будет заваривать кофе, лето будет готовить завтрак, и все будут сидеть в холле, или на веранде, пить кофе… а потом жизнь посмотрит на часы и пойдет на работу, а старость будет прибирать в доме, а осень…
…нет, стоп-стоп, что-то же должно произойти, интересно вот, что… А вот, например, пусть пропадет юность, и все будут подозревать в её пропаже детство, ведь они же супруги. Но смерть быстро расследует это дело, она быстро поймет, что виной всему осень, потому что… ну… потому что должен же кто-то быть виновен…
А… а что не так? Что вам не нравится? Я все сделал, как вы просили, написал про детство и юность, про весну и осень, про жизнь и смерть, и про маленький городок. Вы бы хоть намеки какие дали, ну что там будет, в каких отношениях будут детство и юность, кем работает молодость, какое лицо у осени, сколько лет смерти, на каком этаже живет старость… А то как же я сочиню, если вы мне толком ничего не сказали.
Ну ладно, тогда давайте так. Детство работает в бюро расследований, и однажды к нему приходит лето, и рассказывает, что кто-то убил смерть. И детство со своим новым напарником — маленьким городком…

Шьевр
Я хочу Париж — но Парижа нет, вернее, он есть, но его нет, вместо Парижа железная дорога и нависающая над ней отвесная скала, на которой ютятся дома, непонятно, как не падают. Я не верю, что такое есть в Париже, но память подсказывает — да, есть. Я смотрю дальше, на обшарпанные улицы, облепленные строительными лесами, на нагромождение часов — нет, это не часы, это памятник какой-то… часам…
…снова пробую Гент — Гент получается какой-то блеклый, тусклый, дождливый, весь в узких тесных улочках, зажатых между крохотными домишками. Я хочу другой Гент, изящный, ажурнвй, мистический, — но его нет, покойный даже не подумал пройти по площадям и мостам, видно, был проездом, скорей-скорей, на пару часов, по какому-то делу, что-то кому-то передать, бумаги какие-то, и дальше, дальше, бегом, бегом, в тряском поезде… Ух ты, у поезда два этажа, я хочу на второй этаж — но покойный как назло не поднимается на второй этаж, ну встань ты, ну поднимись ты, ну же, ну… черт…
Я говорю — покойный, хотя правильнее сказать — умирающий, ведь он еще не умер, я еще только высасываю из него все соки — вместе с памятью. В отчаянии я пробую на вкус его родной городок — городок получается неживой, никакой, привычный до тошноты, когда его перестаешь замечать, когда проходишь мимо ратуши — и в упор её не замечаешь. Это невыносимо, говорю я себе, лучше никак, чем так. Я отбрасываю от себя измочаленное тело, черное от запекшейся крови, — и знаю, что буду возвращаться к нему снова и снова, пока будет что высасывать из прошлого…
И все-таки я недоволен, я поднимаюсь из подвала по извилистой лестнице, я выговариваю старому Барриджу, — я же просил туристов, туристов, настоящих, долго странствующих, видавших все и вся, а не какого-то там сидельца на одном месте, который изредка мотается по городам, чтобы что-то где-то подмахнуть и подписать… Старый Барридж извиняется, но тут же добавляет, а как же я узнаю, сэр, кто из них кто, сэр, это же вы умеете вот так, к человеку в память, а не я, сэр… Даже не поправляю, что не в память, а в прошлое, старый Барридж все равно не поймет. Осторожно говорю, что ну хоть бы поговорил сначала с людьми, дал им чашечку чая или чего покрепче, подбросил бы парочку вопросов, а вы кто, а откуда… Смотрю мысли старого слуги, понимаю, он и правда спрашивал, и человек с воодушевлением рассказывал ему что-то, да, я бывал в Париже, в Брюсселе, в Генте, — хе-хе, кто ж знал, что он мотался проездом туда-сюда, не более того…
Снова спускаюсь в подвал по извилистой лестнице, соскальзываю по ступеням, оставляя блестящий след, снова пускаю корни в измочаленное тело, снова слушаю, пытаюсь найти хоть что-нибудь. Как назло ничего, ну хоть бы что-нибудь про первый летний день, или как первый раз весной босиком по траве, или тени от облаков на земле, или… наконец, нащупываю что-то в каком-то ресторане, где все блестит и сверкает, он пробует (и я пробую) что-то изысканное, пахнущее не пойми чем, ему не нравится — соответственно, мне тоже, тьфу ты, черт…
Мне все скучнее с каждой секундой, я хочу отбросить растерзанный труп — но не отбрасываю, я привык допивать прошлое до конца, кто знает, что отыщется там на самом дне. И терпение вознаграждает меня, — я чувствую жар знойной весны, я чувствую разгоряченное тело женщины, обнимающей меня, я чувствую её раскаленные губы, я знаю её имя… нет, не то имя, не то название — весна, весна, и мысли убитого — это моя весна только моя, она моя, моя, ничья больше. Чуть погодя замечаю оковы на тонких руках не то женщины, не то весны, длинную цепь, ведущую к стене темной башни. Я не могу видеть что-либо из окна башни, я могу только догадываться, что мы очень высоко над землей.
Я (он) оставляю в комнате чашу с водой и чашу с солнцем, я (он) не отвечаю на её мольбы снять цепь.
Я (он) спускаюсь по бесконечным ступеням, я спешу куда-то через маленький городок мимо ратуши, которую не замечаю…
…прошлое обрывается, я высосал его дочиста — теперь передо мной лежит опустошенный, высушенный остов. Пытаюсь понять — отчаянно, лихорадочно, скорей, скорей — где может быть ратуша, про которую я ничего не знаю, знаю только, что не Гент и не Париж…
Отчаянно перебираю увиденные образы, отчаянно листаю атласы, нахожу что-то невнятное, непроизносимое — Шиеврес, Шьевр, какой-то городок где-то неведомо где.
Мне страшно.
Я никогда не пробовал ничего подобного, я вообще не представляю себе, что могу сделать что-то подобное, выбраться за пределы поместья, ускользнуть туда, неведомо куда, по глухим лесным тропкам…
Прислушиваюсь к тишине дома, старый Барридж, должно быть, уже спит, тем лучше, не будет задавать вопросов, да он хоть как не будет задавать вопросов, ему не положено.
Уже ускользая в темноту ночи, спохватываюсь, успею ли до рассвета, — и чем дальше в бесконечную темноту ночи, тем больше мне кажется, что нет.
Оборачиваюсь, — за деревьями чуть виднеются огни замка, отгоняю от себя тревожную мысль, что еще можно вернуться, еще можно забыть весну, прикованную цепями…
Ускользаю в темноту, извиваюсь между корней, — лес кажется бесконечным, ночь тоже, но я боюсь, что ночь кончится раньше, чем лес, намного раньше. Хуже всего, что мир перед глазами все больше тускнеет — из глаз, взятых у убитого, все больше уходит жизнь. Я отчаянно цепляюсь за остатки восприятия, я боюсь остаться наедине с пустотой внутри меня, с миром, которого я больше не смогу видеть.
Снова прислушиваюсь к воспоминанию — все больше тускнеющему, стремительно тающему, — образ весны уже не кажется таким ярким и четким, я уже начинаю сомневаться, видел ли его вообще.
Понимаю, что надо спешить, что времени осталось катастрофически мало, мир тускнеет, мир меркнет — прислушиваюсь к тишине ночного леса, не сразу замечаю чуть слышные шорохи на шоссе. Выбираюсь на ленту дороги, чуть подсвеченной фонарями, прислушиваюсь, — так и есть, слышу поскрипывание самоходного экипажа, он приближается, он почти совсем рядом. Бросаюсь в полоску света, бросаюсь в экипаж, скорее, скорее, там же весна, весна, как вы не понимаете. Зима-то уже затянулась на годы и годы, никто понять не может, что случилось, а случилось-то вот что, весну заперли в заточении, надо освободить. Экипаж несется в холод ночи, в темноту зимы, смотрю на лицо водителя, покрасневшее от легкого морозца, я хочу сказать ему, чтобы поторапливался быстрее, быстрее, мы же так ничего не успеем, весна зачахнет там, в башне, и все. Экипаж выруливает к городку, в котором с трудом узнаю этот самый Шиеврес или Шьевр, или как его там, городок, заметенный снегом, ждущий весну, которая совсем близко, только об этом никто не знает.
Я хочу сказать ему, чтобы остановил здесь — я настолько забываюсь, что трогаю возницу за плечо — в ту же секунду тишину ночи пронзает оглушительный вопль, я сам не понимаю, как меня отбрасывает прочь выстрелом в упор, буквально разносит на клочки. Я не успеваю сказать ему ничего, совсем ничего, а как же весна, заточенная в башне, а как же, а как же…
…сознание возвращается не сразу, если я вообще могу говорить про какое-то сознание у меня. Мир постепенно собирается — по осколкам, по кусочкам, я уже различаю город вдалеке, и башню чуть ближе — причудливую, остроконечную, оскаленную шпилями. Пытаюсь понять, как я чуствую, как я это вижу единственным оставшимся глазом, слышу остатками каких-то ушных нервов, отобранных у того, убитого, который запер весну в башне…
Спешить.
Скорее.
Пока не поздно.
Скольжу по снегу, обгоняя рассвет, уже готовый зардеться над лесом, беспомощно ударяюсь в запертую дверь, просачиваюсь корнями в замочную скважину, чтобы открыть. Еще одна дверь, потом лестница, которая кажется бесконечной, потом еще одна дверь…
Поворачиваю замок, открываю дверь, уводящую, кажется, в никуда, пытаюсь разглядеть что-то в непроглядном мраке — наконец, вижу тусклое мерцание впереди, тянусь туда, ближе, ближе, чтобы почувствовать весну совсем рядом…
Она коротко вскрикивает, отскакивает, хчет бежать от меня — как будто цепи дадут ей бежать — я настигаю её в углу, я вонзаюсь в цепи, чтобы открыть хитроумные замки — обессилевшее тело весны буквально падает в мои объятия…
— Не бойтесь… — с трудом выдавливаю из себя звуки, похожие на человеческую речь, — по-жа-луй-ста-не-бой-тесь… я-ос-во-сво-бо…
Не могу выговорить — освобожу, слова не слушаются меня, — но весна понимает, весна кивает, пытается встать, я поддерживаю её, обвиваю, обволакиваю, не то весну, не то женщину…
Вонзаюсь в пронизанную солнцем плоть, пронзаю корнями, колющими иглами, глубже, сильнее, больнее, высасываю — до крови, досуха, дочиста, чувствую, как мой разум буквально переполняется чужой памятью, которая хлещет через край…
Весна — или женщина — падает на каменные плиты пола, — я уже не замечаю её, я перестаю её замечать, в ней не осталось ни капли света, ни капли солнца, теперь самое время перебрать по каплям, по мгновениям, по нотам то, что впитал в себя…
Солнце обжигает — больно, сильно, безжалостно, я пытаюсь вырваться от обжигающего света, — не могу, слепящее сияние испепеляет меня дотла…
Город наоборот
— Почему легенды? — спросил он.
Мы посмотрели на него недоуменно. Собственно, мы все думали об этом — почему легенды, почему, почему, — но никому и в голову не приходило, что можно сказать это вот так, вот вслух, при всех…
— А почему легенды? — спросил он.
И продолжил — хотя никто не просил его продолжать, хотя и этого было достаточно еще как:
— Вот с чего наш город начался? С легенд. Со слухов. С обрывок каких-то баек непонятно о чем…
Мы кивали — хоть это мы могли делать без страха, кивать, а говорить вслух еще никто не решался. Что город начался с легенд, которые потом сложились в историю города — хотя обычно бывает наоборот, сначала получается история города, а потом распадается на мифы и легенды.
— А потом были дома… — не унимался он…
Тут уже мы хотели зашикать на него — но не зашикали, потому что все думали именно это, что сначала у нас появились дома (Почему? Почему?), а только потом в этих домах поселились люди, и моим первым воспоминанием было — я сижу на веранде своего дома, пью кофе, и тут же спохватываюсь — а я вообще, кто, откуда я, почему я здесь…
— Сначала дома, потом люди… а дома кто построил?
Я подскочил, как ошпаренный, хотел зашикать на того, кто это сказал, и тут же спохватился, что это говорил я сам. И ладно бы замолчал, так нет же, продолжал, как ни в чем не бывало:
— Кто-то же должен был построить эти дома… но кто, если людей не было? Не легенды же их возвели, в самом-то деле?
— А что, интересная версия… — добавил старый дом, — легенды построили дома, дома породили людей…
— Позвольте-позвольте, ничего подобного, — возразила старая легенда, — мы не создавали людей, они появились сами… и историю мы тоже не создавали.
— А чем живет наш город? — спросил тот, кто начал разговор.
Мы стали отвечать что-то про театры, про праздники, — но он резко оборвал нас:
— Ну, вы же понимаете… сначала люди находят что-то хорошее… нефть, уголь… или ловят рыбу на берегу моря… потом там строятся хижины, одна, другая, третья, маленький городок, а там и складывается город…
— Верно, а у нас-то все наоборот, — подхватил я, — сначала появился город, а уже потом море, в котором мы ловим жемчуг и продаем свежий жемчуг на уху…
— …еще копченый жемчуг хорош… — вспомнил кто-то. На кого-то зашикали, нечего было дразнить нас вкусным копченым жемчугом. И то правда, лучше было подумать, что за чертовщина происходит в нашем городке…
— Может, время идет назад? — предложил кто-то.
Мы не могли сказать ни да, ни нет — мы не знали.
— Я знаю, — сказал человек, имени которого никто не помнил, — мы умерли.
— Умерли? — меня покоробило.
— Умерли… наш город умер, мы все умерли, мы живем в царстве мертвых…
— Постойте! — я хлопнул ладонью по столу, — но ведь в других городах все в порядке, сначала там появились море, или горы, или еще что хорошее, потом хижины рыбаков или горняков, потом город, потом у города появилась история, обросла легендами, мифами… а с нашим-то городом что не так?
— А может… — спросил тот, кто начал разговор, — может, кто-то убивал город… постепенно… сначала мифы и легенды, потом историю города, переврал её, например… потом забрал у людей дома, потом умертвил самих людей, или обрек их на смерть…
— Но… кто?
— Думаю, рано или поздно он тоже умрет… и окажется здесь, чтобы снова разрушить наш город…
— …тогда мы должны ждать его… и встретить достойно, — сказал я.
— Отлично, так составите мне сегодня компанию? — спросил тот, кто начал разговор.
— В смысле?
— Ну, кто-то же должен караулить город, ждать, когда он придет… этот… давайте сегодня ночью мы с вами постоим на страже…
Соглашаюсь — сам не понимаю, зачем, стою на карауле на площади возле дворца, почему-то мы решили, почему-то мы решили, что он живет где-то в центре города, значит, и умрет там же, и появится на площади…
Светает.
Я уже понимаю, что никто не появится, никто не придет, по крайней мере — не в эту ночь…
— Никто не придет, — говорю я.
— Не сегодня, — поддакивает он, чьего имени мы даже не знаем, — вы… вы что?
Разряжаю в него всю обойму, смотрю, как обмякшее тело падает на асфальт.
Спохватываюсь, что я хотел спросить у него, какого черта он делал с нашим городом — понимаю, что уже не успею, он уже ушел куда-то туда, дальше, в какую-то другую смерть, которая будет после смерти…
Картина?
— …она ваша дочь? — спрашивает незваный гость.
Усмехаюсь:
— А вы сами как думаете?
Смущается, старается держать лицо, у него это получается плоховато, лицо выскальзывает из рук, падает, катится по полу — мой гость торопливо подбирает его, ставит на место.
— Право же… теряюсь в догадках и не могу ничего предположить… мне кажется, она могла быть вашей дочерью…
Снова смеюсь:
— А если девушка в окне моя молодая супруга?
— В таком случае мне не останется ничего кроме как откланяться и извиниться за причиненное беспокойство.
— Что же… спешу вас порадовать, она мне не жена, и сердце её свободно.
— Вы даже не представляете, как окрыляете мое собственное сердце.
— И вы уверены, что это единственное препятствие?
Старается держать лицо, снова чуть не теряет.
— Думаю, да… больше не вижу причин, которые мешали бы мне просить у вас разрешения повидаться с ней.
— Повидаться с ней… а мне нравится ваша самоуверенность… увидели мельком силуэт в окне, и уже намечтали счастливую жизнь и смерть в один день… Вы даже не знаете, какого она роду-племени, из каких краев, куда её завтра унесет судьба, не отвергнет ли она вас, не разобьет ли ваше сердце?
— По крайней мере… я попытаюсь…
Хитро прищуриваюсь:
— А скажите-ка… в каком окне вы её видели?
— В левом окне над кухней.
— И смотрели на неё довольно долго… скажите… она хоть раз шевельнулась?
— Нет, но… неужели вы хотите сказать…
— Знаете, современные живописцы умеют создавать настолько правдоподобные полотна, что вы ни за что не отличите такое полотно от живого, настоящего образа…
Делаю многозначительную паузу.
— И все-таки я хочу попытаться…
— Не боитесь ошибиться? Уверены в своих способностях отличать произведение искусства от живого человека?
— Думаю, что справлюсь.
— Право же, первый раз вижу настолько храброго молодого человека… слушайте, вы мне все больше нравитесь… если у вас ничего не получится с Бертой, имейте в виду, мне нужен толковый секретарь.
— Не хочу вас разочаровывать, но я уже посвятил себя медицине, и не вижу себя в другой роли.
— О, так это вообще великолепно, Берту ждет неплохое будущее… если, конечно, она окажется достаточно благоразумна, чтобы принять ваши ухаживания… что же… пойдемте, представлю вас моей… впрочем, не будем забегать вперед, вы сами догадаетесь, кто она…
— Добрый… добрый день, — мой гость замирает на пороге, смотрит на неподвижный силуэт в раме, хмурится, не понимает…
Пауза.
Ничего не происходит.
Берта не шелохнется, не дрогнет, будто бы не существует вовсе…
— Простите… я побеспокоил вас…
Берта, наконец, поворачивается к гостю:
— Да какой же день, вечер уже! — смеется чему-то, она всегда чему-то смеется, и трудно не засмеяться вместе с ней.
— Позвольте спросить… вы… вы не картина?
Вздрагиваю, чувствую, что никому не позволю оскорблять Берту, что он себе позволяет вообще, этот хлыщ…
Берта снова смеется:
— А вы-то сами как думаете?
— Я думаю… вы живая.
— Ну, пусть будет так, раз вы так хотите!
Слышу смех Берты на садовой дорожке, скрип повозки.
Сегодня Берта едет выбирать свадебное платье.
Мне не по себе, как-то быстро все получилось, а может, это я старомодный, мы-то годами ухаживали, не то, что молодежь сейчас, через пару месяцев решили обвенчаться. Ну да ничего, поживем-увидим, все будет хорошо…
— …нет ли препятствий для свадьбы?
Мертвая тишина в зале, все почему-то смотрят на меня, ждут от меня чего-то…
Откашливаюсь:
— Позвольте напомнить, что свадьба невозможна, если один из вступающих в брак является не живым человеком, а картиной.
Лекарь недоуменно смотрит на меня:
— Вы хотите сказать… что Берта…
— …ни в коей мере.
— Но тогда… в чем же дело…
— Взгляните на себя, друг мой, вас сделали настолько убедительно, что вас почти невозможно отличить от живого человека! И все-таки я это вижу… я вижу тончайшую рамку картины…
Вздох ужаса в толпе.
Ободряюще киваю Бетти, спасибо, милая, отлично сработано. Оглядываю сидящих в зале, ударяю молоточком:
— Итак, дамы и господа, сегодня на торги выставляется полотно «Сельский лекарь»! Стартовая цена — тысяча таймбургеров! Кто больше?
Ветер из настоящего
Сегодня на городок обрушился ветер прошлого — пригнал пески времени, устроил настоящую песчаную бурю, так что на улицу страшно было не только выйти, но и выглянуть в окно. Сидели по домам, пили чай, прислушивались к завыванию ветра. Наутро осторожно выбирались на крыльцо, расчищали ступени от обломков прошлого, которые принес ветер — осколки амфор, старинные монеты, кости древних животных, легенды о богах и героях. Ближе к вечеру нашли человека, изможденного долгой дорогой: когда-то белые, а теперь потускневшие одежды укрывали его тело, обожженное солнцем. Человек на ломаном, всеми забытом языке сказал, что странствует из прошлого в будущее уже давно, и стремится в дальние века, где все так хорошо и безоблачно. Мы пытались разуверить его, объяснить, что в будущем все может оказаться вовсе не так и хорошо, как ему хочется, а может, там одни руины и время, глодающее истлевшие кости — но он и слушать нас не хотел.
В понедельник ветер переменился, — теперь он дул со стороны будущего, принося с собой туман и холод. Мы не хотели верить, что будущее будет туманным и холодным, искали туману и холоду какие-то другие причины. Ветер из будущего набросал на город что-то легкое, невесомое, призрачное, тающее. Принес ветер и обрывки наших судеб — они цеплялись за ветви деревьев, повисали на фонарных столбах, трепыхались на крышах, вертелись на тротуарах, как осенние листья. Люди бросались подбирать их — скорее, скорее, — и кто-то наступил на обрывок моей судьбы за секунду до того, как к нему протянулась моя рука — и когда судьба оказалась в моей руке, там уже было ничего не прочитать, только чей-то жирный отпечаток ботинка.
Долгие дни стояло полное безветрие, и гость из прошлого нервно расхаживал взад-вперед по холлу, смотрел в окно, не заколышутся ли верхушки деревьев, предвещая новые ветра. Деревья и правда согнулись под ветром, но то оказался ветер из какой-то другой реальности — он принес нам узорчатые листья, обрывки газет на непонятных языках, рисунки причудливых зверей и птиц. Кто-то нашел газету, где на первой полосе было его фото, и очень этим гордился, всем и каждому показывал газету. Мы мягко намекали ему, что радоваться нечему, это может быть статья о его казни, или о том, как он совершил страшное преступление. Он и слушать нас не хотел, кажется, обиделся не на шутку.
Через неделю снова подул ветер из прошлого — на этот раз намного сильнее, яростнее, он налетал на наши тополя и клены, превращал их в причудливые араукарии, куксонии, сильфии. Мы попрятались по домам, боялись высунуться, чтобы не столкнуться с прошлым, настолько далеким, что про него толком никто и не знал.
А вот наш гость, напротив, обрадовался, так заторопился, что даже не попрощался с нами — просто расправил свои одежды, как паруса, и полетел по воздуху, только мы его и видели. Долго потом гадали, жив он или нет, и что ждало его там, в завтра, и какое оно вообще, это завтра.
Ждали пасмурных вечеров, когда уже не осень, но еще не весна (а зим у нас не было), и дует ветер из тех краев, где крылатые звери, говорящие птицы и деревья, которые видят сны. Мы все выходили на улицы, собирали молодильные яблоки, фляги с эликсирами бессмертия, страницы книг с заклинаниями, — на улицах стояла полиция, ловила листки, чтобы никто не прочитал заклятие смерти или неурожая, и какая-то ветхая старушка тянулась через ряды бравых солдат, дайте, дайте, сын умирает, сын умирает… мы вместе вступились за женщину, в кои-то веки делали что-то все вместе, да совесть имейте, в конце-то концов, сын же у неё… Старушке отдали листок, наутро сгорело полгорода, заклинание оказалось, чтобы вызвать пожар, старушка мстила городу, что тот когда-то казнил её сына, убийцу молодых девушек…
…мы ждали.
Ждали, когда во всю мочь подует ветер с другой стороны, принесет серые будни и тусклый реальный мир. Мы ждали этого ветра — чтобы, наконец-то поднять паруса и отправиться на нашем кораблете по ветру из реального мира дальше, туда, в ту сторону, где все больше и больше чудес…

На главную роль
— …я еще Гамлета могу… — говорю, сам не знаю, зачем, они меня уже не слушают, я это понимаю, — быть или не быть… вот в чем вопрос…
Они молчат — там, по ту сторону экрана. Я даже не знаю, есть ли там кто-то по ту сторону экрана, мне все больше кажется, что нет, что это насмешка какая-то, розыгрыш, или что похуже, и сейчас начнется — переведите на такой-то счет все свои сбережения… нет у меня никаких сбережений, да мало ли…
Мы с вами свяжемся, — пишут оттуда, пишут таким тоном, что непонятно, свяжутся или нет, да что непонятно, у них таких, как я, вагон и маленькая тележка…
У нас таких, как вы, вагон и маленькая тележка… мы не знаем, кого выбрать…
Вздрагиваю. Меня пугает их непосредственность, они говорят, что думают, вот так, откровенно, у них так принято, у кого, у них, когда, у них, через три тысячи лет, когда-то там никогда…
У вас новое сообщение.
Добрый день.
Высылаем вам сценарий.
Хорошего дня.
Холодеет спина, руки становятся раскаленными, я не верю себе, этого просто не может быть, чтобы мне сценарий, чтобы выбрали меня, из миллионов, из миллиардов — меня…
…тут же одергиваю себя, это ничего не значит, ничегошеньки-ничего, потому что… что-то подсказывает мне, что сценарий отправляют всем, всем, всем, и это еще не значит, что выбрали меня, это еще ничего не значит.
Что такое полиполис, спрашиваю я себя.
Что такое акциация, спрашиваю я себя.
Что такое кумолактика, спрашиваю я себя.
Не понимаю.
Продираюсь сквозь малопонятные слова, сквозь перевод с какого-то там на наш, современный, — кто-то пытался перевести мне сценарий, кто-то вспоминал слова, которых никогда не знал, кто-то писал — комната, чтобы отключиться, я понимал — спальня, и тут же через пару страниц хлопал себя по лбу, нет, никакая не спальня, они там правда что-то выключают, не пойми что. А надо понять, потому что я буду играть все это, я буду заходить в комнату и что-то выключать. И почему надо выбирать между акциацией и кумолактикой, тоже надо понять, и почему нельзя выбрать ни то, ни другое, просто невозможно выбрать, и все-таки надо выбирать — я тоже должен понять. Потому что это я буду выбирать, и не смогу отказаться от выбора.
Они обещали связаться.
Они не связываются.
Не связываются уже который месяц, и эти месяцы плавно перейдут в годы, в десятилетия, а я буду ждать неведомо чего до самой смерти, а они спохватятся через какие-нибудь двести лет, а это был, а как его, а не знаем, а где он, а как нет, а был же, а как это люди столько не живут, а сколько, а почему, а как…
Стоп, снято.
Опубликовать.
Почему вообще связались со мной, почему не с какими-нибудь бредопитами и томакрузами, почему меня, чей потолок — ютубовские видосики, полтора подписчика, три лайка…
Я представляю себе комнату для выключения, — не могу представить, я изображаю, как захожу туда и выключаю что-то… что-то… что, черт побери, я должен выключить. Я читаю сценарий дальше, герой убивает своих соперников, убивает какими-то древними, давно забытыми методами — долго думаю, что за методы, наконец, спохватываюсь, что прекрасно их знаю, — показываю на камеру, как закалываю кого-то ножом, раз, два, три, больше, больше, больше…
Вам сообщение.
Спина холодеет до абсолютного нуля, руки раскаляются до температуры поверхности солнца.
Покажите, как вы выключаете в комнате выключения.
Чувствую, что должен признаться, что никак, что я вообще не понимаю, что показывать. Мне пишут, что комната для выключения должна быть наверху, совсем-совсем высоко. Пишут так, что я снова не понимаю, взяли меня или нет, или можно не рассчитывать…
Начинаю понимать, что единственное, что я нормально могу сыграть в фильме — это финальную сцену, когда герой сидит на каменистом острове, на берегу ледяного моря перед остовом какого-то древнего вымершего животного, сидит, не то победивший, не то побежденный, и то ли это финал, то ли только начало настоящих приключений героя, то ли он не знает, что делать дальше — я так и не понял. А придется понять, придется играть все это…
Оно того стоит, говорю я себе.
Черт возьми, оно того стоит.
Чтобы увидеть мир через три тысячи лет, чтобы жить в пять тысяч каком-то там году, где-то там, впереди всех, вперед по стреле времени…
Интересно, как они это сделают, говорю я себе.
Хочу спросить у них.
Не спрашиваю.
Вместо этого спрашиваю другое, а когда вы, наконец, поймете, что вам нужен именно я, не какие-то там остальные восемь миллиардов, а я, единственный, неповторимый, полтора ролика на Ютубе, полтора подписчика, полтора лайка…
Они снова пропадают — на месяц, на два, на три, я живо представляю себе, как чего-то не хватает для фильма, денег там или ночлег каких-нибудь, и сценарий задвигают на дальнюю полку, в список Топ гениальных фильмов, которые никогда не были сняты.
А работу когда найдешь, а никогда, а жизнь когда нормально обустроишь, а никогда, и вообще, моя жизнь, а не ваша, и вообще, не скажу же я, что на хрена мне вообще все это, квартиры-работы-машины, я же жду, они же не сегодня-завтра постучатся в дверь, или что я говорю, ни в какую дверь они не постучатся, снова будет — вам сообщение, вы приняты, собирайтесь, интересно, как собираться… и буду ждать еще сколько-то-дцать лет, и смотреть в пустоту уходящей жизни тускнеющими глазами, не мелькнет ли сообщение, вы приняты…
А сколько еще таких, думаю я, скольких еще они подбирают для роли, — я все больше боюсь, что восемь миллиардов, не меньше, а то и больше, кто сказал, что им интересны только мои современники, они, может, перебирают актеров в театре Глобус, нет, мистер Шекспир, вы нам не подходите, или проводят кастинги в следующем столетии через какие-нибудь навороченные приложения, которые вставляются прямо в голову…
— …а я это… жду… на роль… ну, что мне роль дадут…
Мысленно хлопаю себя по лбу, на кой черт я это ляпнул, на кой…
Ника (если она правда Ника, не только по Инстаграму, а по паспорту какая-нибудь Дуся-Фрося окажется), так вот, Ника брезгливо морщится:
— Ой, да ну их, то да, то нет, ни му, ни хрю, то мы с вами свяжемся, то сценарий читайте, то не читайте, то так, то эдак, то вообще не пойми что… я вот и не жду уже… ну как… ну так, ну если позовут, ну я пойду, ну а так, чтобы ждать…
Руки нагреваются до температуры большого взрыва.
Абсолютный нуль в груди.
— Ты… ты тоже… тоже?
— Так все тоже, Ритка вон, Юлька… Ритка такая их все видосами забрасывает, как она эту кумолактику ищет, а сама не понимает ни черта, думает, её возьмут…
— А ты… — мой голос меня не слушается, — кумолактику понимаешь?
— Ну-у, так… понимаю, объяснить не могу…
Смотрю на Нику, или как её там, нутром чую, шансов у неё больше, просто… потому что больше, и мы здесь одни, здесь, в парке, и никто не видит, никто-никто, и сколько раз я это делал на камеру, колол воображаемого соперника, раз, два, три, больше, больше, больше…
…получилось, говорю я себе, — это уже потом, когда читаю — убийца до сих пор не найден…
Получилось.
Перебираю ролики на Ютубе, ищу, как кто-нибудь колет невидимого противника, или выбирает между неведомо чем и чем… потом догадываюсь искать по тэгам, кумолактика, полиполис, акциация… у них сотни просмотров, сотни лайков, обскакали меня, черт бы их драл…
Вам сообщение…
Мне сбрасывают какие-то штрихи, какие-то наброски, финальная сцена, каменистый остров, герой, не то победивший всех и вся, не то проигравший, не то завершивший свою историю, не то только начинающий — он и сам не знает, сидит возле остова давно вымершего существа… мне пишут — обратите внимание на эту сцену, порепетируйте как следует, это важно, очень-очень важно.
Я знаю, что они шлют такое же сообщение миллионам.
Миллиардам.
Я уже знаю, что делать.
Перечитываю страницы сценария, где герой истребляет конкурентов — беспощадно, безжалостно.
Раз.
Два.
Три.
Удар.
Удар.
Удар.
Перелеты куда-то никуда, Москва, Рим, Токио, Катманду, Канберра… нет, в Канберру визу не дали, черт, черт, черт, а ведь там эти двое, так и кажется, первые претенденты на роль…
…по подозрению в убийстве арестован…
…не я.
…ваша задолженность по кредиту составляет…
…не хочу слышать, не хочу знать. Выискиваю в сети еще какую-то фифу, у которой больше шансов, фифа в Финляндии, меня с моими долгами даже туда не пустят, фифа живет и здравствует…
Вам сообщение…
Они пишут, они зовут меня здесь, сейчас, куда-то в никуда на каменистый остров, где герой сидит на берегу в финале. Какого черта я срываюсь с места, вот так, с собеседования, не видать мне нормальной работы, как своих ушей, какого черта бегу куда-то в никуда, на автобус, межгород, билетов нет, такси, такси, да что вы цены такие заламываете, вы люди или где… уже заснеженные поля на севере, черт, ну и холодина, маленькие городки, продуваемые насквозь ветрами, а где у вас тут куртешку купить можно, что значит, нигде, какие-то дороги, ведущие в никуда, на самый край земли…
Не выдерживаю, пропади оно все, пропади, пропади, пропади пропадом, хороши издеваться уже, ищите кого хотите, только не меня, хороши издеваться уже со своими кумолактиками, пусть кто угодно под вашу дудочку пляшет, только не я…
Вам сообщение.
Читаю, не понимаю, что значит, вы приняты, что значит, согласны ли вы, это ошибка, это не может быть мне, а даже если мне, еще передумают сто миллионов раз…
…нет.
Не передумают.
Удобно ли вам на съемки, и все такое.
Очень удобно, думаю про себя, на ледяном ветру на краю земли. Это я только думаю, а отвечаю — Да.
Да.
Люди в маленьком автобусе косятся на меня, — я понимаю, что ехали сюда за тем же, зачем и я, и еще понимаю, что они каким-то образом узнали, что выбрали меня, меня, не их, и я уже догадываюсь, что будет дальше…
…я не зря репетировал так долго, я блестяще играю свою роль, раз-два-три-еще-еще-еще, вонзаю заточку в бесконечные тела, тела, тела…
…только потом понимаю, что лодкой управлять не умею, и черта с два доберусь до островка, чертов ветер, чертовы волны, чертова лодка, чертово все…
Лодка беспомощно врезается в скалы, оглушительно трещит — успеваю выскочить на камни, скольжу, падаю куда-то в никуда, держусь-держусь-держусь…
…смотрю на обломки лодки, пишу им, а как я буду домой добираться — мне отвечают, никак, ведь мы берем вас в фильм.
Я все еще не понимаю, как они собираются взять меня в фильм, я все еще жду чего-то, сам не знаю, чего, — ничего не происходит, день сменяется ночью, ну и холодина, ночь сменяется днем, и все равно холодина, смартфон жалобно пищит, я пишу на остатках заряда — так меня берут, или нет, или что — оттуда отвечают, да успокойтесь, да уже взяли, да вы уже в фильме, да все прекрасно получилось.
В остатки заряда мне сбрасывают фото, не фото, не пойми, что, смотрю, — только сейчас до меня доходит вся правда, жуткая, обжигающая…
…три тысячи лет спустя…
…не то растерянный, не то нашедший себя герой на каменистом острове возле остова вымершего существа…
…три тысячи лет спустя…
Белые книги
— Понимаете… я сегодня не получил книгу… — говорит он вам.
Вы примирительно отвечаете:
— Ну что же, почта иногда запаздывает… и если бы только иногда…
— Да нет, вы не поняли… да вы и не поймете…
— …постараюсь понять, — говорите вы.
— Понимаете… — ваш гость хрустит пальцами, вы ненавидите этот хруст, да прекрати же ты, прекрати, — каждый год я получал от неизвестного адресата белую книгу…
— Книгу в белом переплете?
— Не только в переплете… она вся белая.
Вы смеетесь:
— Уж не хотите ли сказать, что страницы тоже были чистые, без единого знака?
— Вот именно.
— И ни слова на обложке?
— Ни слова… если не считать моего имени и фамилии.
— Интересно… может, кто-то присылал вам… именной ежедневник?
— Нет… понимаете… — снова хрустит пальцами — я прямо чувствую, что это не ежедневник, а что-то иное… понять бы еще, что именно…
— А когда вы получили первую книгу?
— Двадцать лет назад.
Вы присвистываете.
— Ну, ничего себе… это у вас уже двадцать книг…
— Больше, много больше… иногда я получал три книги в год, или даже четыре, был один год, когда мне прислали сразу шесть книг… вернее, не сразу, а где-то по книге раз два месяца… И понимаете… на каждой еще стоял год выпуска… и каждый раз это был следующий год, понимаете, следующий!
— Книги… из будущего?
— Да я сам не понимаю, что это, черт возьми, такое…
— Интересно… но… собственно, я не понимаю вашей тревоги… кто-то подшутил над вами, кто-то разыграл вас, а теперь ему это наскучило…
— …мне бы тоже хотелось так думать, но боюсь, здесь все намного сложнее… что-то происходит, но я не могу понять, что именно… и от этого становится страшно…
— Что же… я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы разобраться в вашей ситуации…
Он суетится, сует вам какие-то банкноты, вы тоже суетитесь, не надо, не надо, я же еще ничего не сделал…
Вы же разберетесь с этим?
Верно?
— Что же… думаю, я разобрался в вашей ситуации.
Он вздрагивает, бледнеет, похоже, не ожидал…
А вы говорите:
— Это ваши книги.
— Мои… книги?
— Книги… которые вы написали…
— Вы с ума сошли, я в жизни ничего не… хотя вру, было время, пытался что-то сочинять…
— Извините, не так выразился… не написали, а могли написать. Но не сделали этого, что-то помешало вам… да что, да все помешало, выбрали себе какую-то другую стезю…
— Ну да, на книжечках-то много не заработаешь…
— Вот они и приходили к вам, ваши ненаписанные книги… год за годом…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.