
Бесплатный фрагмент - Фаталист
Желающего судьба ведет, нежелающего — тащит
Предисловие от автора
Дорогой друг!
Я рада, что ты заинтересовался этой книгой, и это значит, что скоро мы пустимся в путешествие, где я проведу тебя по тропе главного героя, по карте его чувств и поступков, и где мы будем проживать главное событие его жизни — выбор, который ему предстоит.
Эта книга создавалась с перерывами долгих 16 лет. Почему так долго?
Потому что очень сложно делать выбор в пользу искусства, которое требует полного погружения и много сил, а в наше время приоритеты, к сожалению, выстраиваются в пользу монетизации времени, но не полету души…
Об этом я тоже повествую в одной из глав романа. Как мы ошибочно идем по социально приемлемой дороге, игнорируя зов души или свое истинное предназначение, и чем это оборачивается.
В жизни каждого из нас приходит момент переосмысления всего, что происходит, и мы встаем перед сложным выбором. Однажды я спросила себя, о чем бы пожалела, если этот день оказался последним? Когда стоишь на грани жизни и смерти, разум наполняется кристально честными мыслями. Уходит дымка навязанных обязательств и чужих ценностей, и просыпаются намерения в чистом виде, которые и повлекли за собой новый виток в моей судьбе. Я сделала свой выбор: уволилась с работы, закрылась от всего мира и к январю 2017 года все-таки дописала роман. Я реализовала свое сокровенное желание прикоснуться к коллективному бессознательному и поделиться с миром частичкой своей души. Это был один из самых сложных и в то же время один из самых лучших периодов моей жизни.
Кто-то называет этот роман «психотерапевтическим», кто-то — «сказкой для взрослых», а кто-то «философской притчей». Локации, в которых побывает наш герой — прототипы известных городов Праги, Амстердама, плавающей деревни и храмов Камбоджи, а так же Индии, где я черпала свое вдохновение. И, тем не менее, все, что описано в романе не имеет определенного времени и места, потому что суть этого произведения определяют события и чувства.
Фатализм — вера в предопределенность бытия, мировоззрение, в основе которого убеждённость в неизбежности событий. Но как бы ни были предопределены события в жизни человека, и как бы ни складывались обстоятельства, всегда есть выбор, который выражается в поступках.
Благодарю тебя, мой друг, за то, что ты будешь со мной в равной степени участвовать в сотворении этой книги, которая была написана для того, чтобы ее прочли.
Не могу не выразить свою благодарность людям, которые с ювелирным трудом и невероятной любовью подошли к работе над этим произведением.
Наташа Иванова — звукорежиссер и композитор, чью талантливую работу я бесконечно ценю!
Женя Рубцов, который озвучил героев и по-настоящему вдохнул в аудио книгу жизнь.
Ярослав Сродных — за его необыкновенную музыку, которую он подарил этому роману, и которая наполнила строки произведения удивительными оттенками.
Ну, и тем «бойцам невидимого фронта», самый ближний круг, который перечислять не стану, но без которых ничего бы не произошло.
Отдельной строкой, я благодарю Людмилу Улицкую, классика при жизни, которая в числе первых прочитала рукопись, и задала единственно верный вопрос, который я оставлю за кулисами, но который веско повлиял как на мою дальнейшую жизнь, так и на выход этого романа в свет.
Диана Ольшанская
Глава 1
Желающего судьба ведет, нежелающего — тащит.
Клеанф,
древнегреческий философ-стоик
В моих руках Калейдоскоп. В нем перемещаются разноцветные камешки, застывая симметричным узором необыкновенной красоты. Красные, синие, желтые и зеленые, они, меняя положение, создают образы моих воспоминаний. Череда вех, отражающихся в зеркалах: важные события, значимые люди, незабываемые чувства…
Легкий поворот Калейдоскопа, и самоцветы меняют узор: новые явления, новые лица, новые чувства. С каждым поворотом меняется все…
Память, невесомо держа меня за руку, ведет по ступеням лестницы, в глубь прошлого, в бескрайнее хранилище воспоминаний, где снова и снова я вижу Тебя…
Я чувствую Твое дыханье, в теплом ветре слышу Твой шепот, в каплях дождя вижу Твои слезы. В осеннем хороводе листьев я смотрю на огненно-рыжие танцы, когда Ты рисуешь сложный орнамент своих фантазий, и мы никогда не знаем что Ты придумаешь на этот раз и кто станет участником Твоей игры — по своей или против своей воли…
Восседая на троне, имя которому Вечность, Ты взглядом скользишь по строкам длинного свитка. Ты выносишь вердикты, которые вскоре зачитаешь нам… каждому — свой…

Когда Ты занесла нас в эти края, до моего двадцатилетия оставался почти месяц.
Мы ехали вдоль длинной дуги горных лугов, протянувшихся по склонам и взбегающих почти к самым вершинам, изобилующим родниками и водопадами, отчего и рождалось это зеленое буйство природы. По сочной зелени травяного ковра были рассыпаны желтые и красные тюльпаны, фиолетовые ирисы, синие гиацинты. Причудливо изогнутые деревья, росли здесь прямо из скал, с которых иногда срывались длиннокрылые птицы и плавно парили вниз.
Когда мы остановились, и все стихло, мне послышалось мерное дыхание огромного зверя — плеск большой воды. Этот звук для меня был настолько непривычным, что я не сразу понял, что слышу, но вот мы уже стоим на огромном утесе, возвышающемся над просторами Кобальтового Моря. Сегодня, как и каждый день с момента нашей первой встречи, оно невероятно красивое…
От самого горизонта до берега, подгоняя и раскатывая волны как тесто, слой за слоем, оно напевало низким грудным голосом свою морскую мелодию. Ярко-синее вдали, возле самого берега оно было светло-бирюзовым. Расплавленный от жары воздух искажал восприятие, и, только приглядевшись, я увидел, что возле берега бирюзовой была не вода, а плоские крыши домов. Перед нами был целый город бирюзовых крыш, и с высоты утеса казалось, что дома укрыты тонким покрывалом прибережных вод.
Мы оказались в лагуне Синего Города, отделенной от моря широкой полосой коралловых рифов.
За годы моих странствий я повидал немало удивительных городов и селений, роскошных замков и дворцов, самых разных чудес, как природных, так и созданных руками человека, но такой Город, такое Синее Царство, столь идеально вписавшееся в прибрежное пространство Кобальтового Моря, видел впервые.
Уже на подходе, мы обнаружили, что не только крыши, но и сами дома, прилавки, и даже старый форт были окрашены в неповторимый синий цвет, местами с белесым налетом выгорающей краски — неизбежная дань щедрому солнцу.
Мы шли по улицам, и внимательно наблюдали за происходящим вокруг, постигая атмосферу и местные порядки. Повсюду были фонтаны — выполненные из железа и камня, в основном в форме растений, украшенные орнаментами, так или иначе символизирующими воду, они возвышались в центре небольших бассейнов. Дойдя до городской площади, мы увидели большой ансамбль фонтанов различных размеров, которые как мы узнали позже, в назначенный час устраивали целое представление, приплясывая струйками в сопровождении хора, поющего а капеллой. Мы с любопытством смотрели по сторонам, вглядываясь в синие улицы, воздух в которых и тот казался нежно-голубым. Прислушиваясь к городу, я испытывал необыкновенное волнение. Я видел столько нового, и мне все так нравилось, что я заведомо дал внутреннее согласие на все, что там должно было произойти.
У жителей этого города, называющих себя кобальтийцами, были большие, черные, с влажным блеском глаза. Женщины, в одежде, напоминающей замысловатую драпировку из ярких тканей, ходили плавной походкой с вытянутой, как мачта спиной, неся на головах большие корзины с бельем, или фруктами. Легко маневрируя между людьми, они плыли как разноцветные каравеллы, каждая своей дорогой по синим улицам этого каменного моря. Поджарые мужчины, одетые в широкие штаны и просторные рубахи в основном сидели в своих небольших мастерских и перерабатывали растение, из которого и добывали синюю краску, идущую как на нужды города, так и на продажу другим городам.
Мимо нас то и дело проходили люди с синими руками, которым оказывали явное почтение: им приветливо кивали, кто-то их угощал выпечкой или сухофруктами, а дети, пробегая мимо, останавливались и уважительно прикасались к их синим натруженным рукам, которые, очевидно, считались символом добродетели. Стоя на площади, мы наблюдали за этим необычным обрядом и обменивались короткими замечаниями о традициях этого места.
«Служение своему городу — большая честь для каждого кобальтийца», — подслушав наш разговор, сказал торговец возле прилавка, демонстрируя еще не смытую с рук краску, которую сам когда-то добывал.
Внезапно гул на площади стих. Люди замолчали, опустили головы и расступились, пропуская шествие молодых женщин в длинных балахонах. Все как одна — они были коротко стрижены, на щиколотках босых ног висели маленькие колокольчики, сопровождающие тонким «дзинь» каждый их шаг. Они шли друг за другом, мелко переступая, тихо, почти про себя напевая мелодию, от которой я замер, словно погружаясь в гипнотический транс, невольно начиная ему вторить. По мере их приближения площадь наполнялась минорным настроением, и каждый взрослый, и каждый ребенок — все как один подхватывали и тихо напевали эту тягучую песню без слов. Девушки шли мимо, неся в руках большие чаши с водой, стараясь не пролить ни капли, а я не мог оторвать взгляд от их лиц, которые были расписаны тонкими горизонтальными линиями и символами воды. Как только они отдалились, уходя за поворот, люди перестали петь и вернулись к своим делам, как ни в чем не бывало.
«Служительницы ходят в горы собирать родниковую воду для Храма Принятия», — пояснил нам торговец. Сейчас он с важным видом указывал в сторону уходящих девушек, не упуская возможности вновь продемонстрировать свою гражданскую добродетель в виде синих рук.
Следуя за вереницей Служительниц мимо алтарей и фонтанов, выложенных мозаикой, наблюдая смиренное благоговение жителей, мы шли следом за их песней, спускаясь и поднимаясь по бесконечным лестницам из красной глины, которые огромными кольцами обвивали весь город. Проходя под арками домов, чьи своды усиливали акустику, мы слышали, как дивные звуки их голосов разносились по самым потаенным уголкам, залетали в каждый дом, в каждый двор, уходя дальше, куда-то вглубь, наполняя синее пространство улиц неизвестным нам смыслом. Останавливаясь на короткую передышку, мы теряли шествие из виду, но продолжали идти за тонкой россыпью колокольчиков на босых ногах Служительниц, наблюдая ритуал, значение которого нам еще предстояло узнать.
Процессия, к которой примкнули не только мы, но и некоторые местные жители, пересекла город и, выйдя за каменные ворота, оказалась на побережье, где перед нами на расстоянии вытянутой руки разливалось Кобальтовое Море. Строгое, оно величественно синело, местами золотясь солнцем, и, продолжая мерно дышать, неспешно накатывало волны, одна на другую…
От берега мы вышли на выложенную каменными плитами дорожку, которая уходила в открытое море и исчезала за утесом. Шагая по ней, я думал о том, правильно ли рассчитана высота плит и не затапливает ли их во время прилива? И скоро, в унисон моим мыслям, мы продолжили свой путь уже почти по морю, погрузившись в него по щиколотку. Шепотом, вторя песне Служительниц, я отметил, что мелодика воды и их голосов была совершенно созвучной. Мне хотелось узнать, кто же автор этого музыкального рисунка, контур которого повторял водную стихию, но не успел я спросить об этом, как мы свернули за утес и, пройдя несколько шагов, встали как вкопанные. Перед нами из ниоткуда вырос удивительный Храм, высеченный в глубине известняковой скалы, которая укрывала его в утробе своего могучего тела. Со стороны берега Мать-Скала, как ее назвал один из шествующих, ничем не была примечательна, и последнее, о чем можно было подумать, что она скрывает в себе белоснежный купол, колонны и стены, покрытые резными узорами, словно шкатулка или кружева, — будто бы Храм был не построен, а соткан. Мы все еще стояли не в силах оторвать от него взгляд, когда девушки одна за другой поднялись по лестницам и скрылись за ажурными стенами этого удивительного строения.
Вопреки ожиданиям, внутри Храм Принятия оказался зеленого цвета с замысловатой росписью внутренних помещений. Я предполагал, что увижу привычные полумрак и свечи, которые обычно описывали книги, но тут все было иначе. В Храме было довольно светло благодаря ажурным стенам. Снопы света пронизывали это пещерное царство и все, что нас окружало, от колонн до полусферы высокого свода — было увито растениями напоминающими плющ. Повсюду свисали лозы, которые переплетались, поднимаясь по перилам до второго яруса, тянулись вдоль стен, дотягиваясь до самых окон, выходящих на море. Перед нами был большой многоугольный зал, полный морской воды, которая серебрилась мириадами точек светящегося планктона. Словно я смотрел не в воду, а на звездное небо — самое красивое звездное небо, находящееся в изумрудной воде этого Храма. Я был глубоко потрясен таким архитектурным решением. В моем воображении я, забежав вперед, видел уже не яркий день, а наступившую ночь, и уже грезил о том, как буду смотреть в небо на звезды сквозь кружевной купол этого Храма, стоя перед водной гладью, также полной мерцающих звезд, теряя ориентир в пространстве, ощущая себя прямо посреди Млечного Пути.
По небольшим мостикам можно было перемещаться по периметру и даже подняться на балкон второго этажа, откуда как на ладони был виден алтарь, исполненный в виде большой чаши. Круговая обходная галерея позволяла двигаться по всему Храму, не нарушая ход службы, и наблюдать за всем, что происходит в самом его сердце. Служительницы шли по каменным дорожкам, выложенным до алтарной чаши, и одна за другой выливали в нее родниковую воду. Они продолжали напевать свою песню, но уже почти шепотом, и чем ближе подходили к алтарю, тем тише звучали, словно отдавали ему не только свою воду, свое смирение, но и свои голоса…
Когда последняя из них опустошила принесенный сосуд, в воцарившейся тишине мы услышали доносящийся издалека голос, который нарастал медленно, но неизбежно. Он заставил нас обернуться и увидеть сквозь тонкую дымку благовоний женщину, сидящую на высоком стуле, которую поначалу можно было бы принять за скульптуру, высеченную из камня. Если бы не магический Голос…
Тонкая полупрозрачная ткань скрывала ее лицо, руки неподвижно лежали на коленях, но Голос неумолимо приближался, становясь плотной звуковой волной, которая неожиданно нас накрыла… Мне подумалось, что это эффект высоких сводов, которые создавали идеальную акустику, направленную внутрь помещения, но уже через мгновенье понял, что мы попали в плен звукового потока, который шел откуда-то сверху, сбоку и даже снизу, рожденный в недрах Женщины-Певуньи и отпущенный на волю редкий дар — голос, бередящий души.
То была странная музыкальная какофония в виде длинных нот, которые почему-то не резали слух, а напротив, вводили в своего рода транс, заставив замереть, в то время как Служительницы тихонько отбивали пятками такт, позвякивая колокольчиками на щиколотках.
Мы слышали тот же протяжный лейтмотив, за которым следовали по всему городу, но здесь он был более насыщенным, витиеватым и импульсивным. Держась за шлейф этой странной мелодии, которая вытягивала из нас чувства, прошивая нитью какой-то внутренней скорби вдоль самого сердца, мы беспрекословно шли за ней куда-то в тонкий мир, укутанный от всех тайной не свершившегося. Выдыхая самое сокровенное, Певунья так долго держала одну ноту, что казалось, звук сливается с вечностью. На самых высоких нотах она пела с такой проникновенной болью, отчего першило в горле, и наворачивались слезы. Этот голос тащил меня на самое дно моего подсознания: слушая ее, я испытывал непреодолимое желание быть за что-то прощеным, стать лучше или умереть…
Выдыхая из себя все до последней капли, после секундного затишья она делала резкий вдох, и вновь растягивала меня на дыбе своего мощного Голоса, отчего я дрожал всем телом, сжимался в крохотную точку и, не смея шевелиться, продолжал ее слушать. Она стала наматывать нить песни на кисти своих рук, вращая ими так, словно плела музыкальные гобелены. Я видел, как от этого звука по воде шли круги, растворяясь в синей стихии, во имя которой и были однажды построены этот Храм и этот Город, окрашенные кобальтовым бризом чьих-то слез…
Жители Синего Города поклонялись водной стихии, поэтому между собой называли его «Городом Воды». Величественный и скромный, в яркой, но нежной палитре, он обладал странным магнетизмом. Довольно быстро я попал под его чары и даже не заметил, как мои мысли и чувства вошли в согласие с этим умиротворяющим ритмом воды, присутствующей здесь повсюду: в фонтанах, в ручьях, в самом море. Я наблюдал за этой мудрой стихией, которая в достижении своей цели, не сжигала, как огонь, не засыпала песком, как ветер, а просто затекала туда, куда хотела, принимая любую форму.
Узнав о нашем приезде, Служительницы Храма во главе с Певуньей попросили нас о помощи. Город готовился к большому празднику, и кто как не мы, с нашей славой уникальных изобретателей, могли помочь жителям в изготовлении сложных механизмов, так нужных для проведения церемонии. По правде говоря, среди самих жителей Синего Города и поручить дело такой сложности было просто некому.
За последнее столетие этот праздник должен был стать самым запоминающимся. Главным его событием был Ритуальный Танец Воды, исполняемый Танцовщицей Моря. Для этого в Храме необходимо было соорудить платформу, на которой она могла бы исполнить этот танец, медленно погружаясь в воду. До праздника оставалось всего сорок дней — крайне мало для выполнения такой работы, но вместе мы могли решить любую задачу.
Мы принялись за чертеж, и уже наутро в мастерской висел эскиз большого механического цветка, который, по задумке, должен был, медленно вращаясь, раскрывать свои лепестки. Для усиления эффекта, мы задумали оснастить цветок зеркалами. Крутящаяся платформа должна была вместе с Танцовщицей Моря медленно погрузиться в воду, где девушка и завершала свой Танец.
Для удобства наш Дом расположился неподалеку от Храма. Помимо того что побережье здесь было неописуемо красивым, мы также подумали о том, что отсюда будет сподручнее переносить к месту готовые детали, конструкции, зеркала, уменьшая риск их повреждения в дороге. Первые дни мы проводили много времени в самом Храме, бесконечно делая все замеры, а также собирали необходимые материалы для небольшой пристройки, в которой мы в скором времени уже плавили стекло из кварцевого песка, привезенного из пустыни, а дальше серебрили готовые листы, изготовляя зеркала. Применяя законы геометрической оптики, мы создавали иллюзию бесконечности пространства, манипулируя зеркальными лепестками цветка, направленными друг на друга. Работа спорилась, все шло своим чередом. По подсчетам, мы успевали к сроку и даже раньше.
Кобальтийцы нас уважали. Правда, они не прикасались к нашим рукам, но всегда здоровались и улыбались, благодарные за нашу лепту в подготовку их большого праздника. Крутящаяся платформа для Храма создавалась у них на глазах, и им уже не терпелось увидеть этот «цветок» в действии. Иногда родители отсылали нам своих детей — озорных черноглазых ребят, которые приносили свежеиспеченный хлеб. А мы отдавали им зеркальные обрезки и они с радостью убегали пускать по городу своих солнечных зайчиков.
Каждое утро из моря возвращались рыбаки с ночным уловом, они затаскивали лодки на берег и располагались на короткий отдых, пока их жены разбирали сети. Однажды я услышал их разговор о том, что в глубинах Кобальтового Моря живут огромные девы с рыбьими хвостами, которые могут утянуть внутрь себя не только рыбака, но и целую лодку. Рыбаки конечно при этом погибали, но, по словам очевидцев, их всегда находили выброшенными на берег с застывшими улыбками на лицах, умиротворенными, будто они, наконец, обрели желанное пристанище. А дальше разгорались бурные споры, где же лучшее пристанище для человека.
Я не знал, где человеку лучше всего и, приближаясь к своему двадцатилетию, думал о том, что человеку, безусловно, важно «где», но еще важнее — «с кем».
Я размышлял о том, что Ты дала мне за годы жизни: людей, которые меня окружали, друзей, которых я любил. Сейчас все складывалось так, как мне хотелось, и не было сомнений, что в этом удивительном месте всех нас ожидало нечто особенное. Синий Город сам по себе был необыкновенным, а в преддверии праздника — становился еще красивее и загадочнее в ореоле легенд о главном ритуальном Танце Воды.
Вспоминался мне и другой Город, в который я когда-то был влюблен, — он дал мне новый смысл существования и, как мне казалось, помог навсегда оставить свое прошлое и идти дальше. Но Синий Город или Кобальтовое Море, а быть может, само песнопение, которое постоянно доносилось до нас из Храма, наводили меня на переосмысление всего, что со мной произошло, показывая витиеватое устройство моей жизни снова и снова.
Каждый день, встречая на берегу свой «кобальтовый рассвет», я вспоминал все, что пережил за эти годы, часто спрашивая себя о том, надо ли мне было проходить всё то, что я прошел? И если да, то для чего?
Я часто видел Тебя в храме, где Ты была особенно задумчива, и, несмотря на все, что было раньше, я благодарил Тебя за то, что Ты позволила мне быть счастливым. Ведь когда мы встретились впервые, все обстояло совершенно иначе…

Глава 2
Легкий поворот калейдоскопа, и самоцветы меняют узор…
Сквозь страшную боль и собственное бессилие, я увидел Твое лицо, Твою улыбку, с которой Ты в одночасье лишила меня всей семьи, погребая под обломками горящего дома мое прошлое….
Ты улыбалась, когда огонь поглощал все, что было мне дорого. Пламя уничтожало целый мир, мой мир, все, что у меня когда-либо было и что уже никогда не вернуть.
Надругавшись ржавым гвоздем на доске моей памяти, Ты вычеркнула все, что было «до», не оставляя надежды на «после».
Возле этого Костра Безумия я видел в Твоих глазах азарт, а на лице — все ту же улыбку — улыбку, с которой Ты обрекаешь нас на вечные поиски и отчаянную надежду когда-нибудь встать перед Тобой на колени и вымолить себе прощение… и свое счастье…
Мне все еще казалось, что я слышу крики о помощи, хотя и понимал, что это невозможно и ни у кого из тех, кто был внутри, не было ни малейшего шанса выжить, как бы они ни кричали…
Матушка, отец, сестра…
Я хотел погибнуть вместе с родными, но меня крепко держали, чтобы я не прыгнул в горящий дом, и все, что я мог делать, — это, глядя на бушующее пламя, истошно кричать, как будто этим криком я мог что-то исправить. Я уже ничего не чувствовал и почти не слышал себя, но все еще продолжал выть от дикой, невыносимой боли…
…Я умолял Тебя остановить это безумие, вернуть мне семью, мой дом, то кем я был… Но Ты меня не слышала. В этом сплошном мареве горя и отчаяния мой голос был для тебя просто звуком. Пустым и бессмысленным.
Я кричал до тех пор, пока боль не сомкнулась у меня между лопатками. Разрастаясь, она скрутила все нутро и, сделав неожиданный вираж, вцепилась в горло. Сквозь потоки ледяных слез на пылающем от жара лице я пытался прошептать имена своих близких, но не мог выдохнуть ни единого слова. Я хотел попрощаться с ними, но, открывая рот, издавал лишь булькающие звуки и был похож на заплаканную рыбу… Мы не можем видеть слез рыбы, умирающей на суше, как и рыбы не могут видеть слез тонущих людей…
Я понимал, что все изменилось навсегда и что ничего и никогда не будет по-прежнему, но не знал, как это принять и что с этим делать… Все это необратимо застыло в памяти и настигло меня в ту ночь, когда я впервые встретился с Тобой…
…Ночь постепенно отпускала свою темную хватку, и я бы хотел, чтобы все это оказалось жутким сном. Но рассвет неумолимо просачивался сквозь серое небо, безжалостно обнажая весь ужас произошедшего ночью. Земля все еще клубилась белым дымом неостывшего горя, и я по-прежнему не мог говорить. Мне было шесть лет, и, кроме детства, хоронить было нечего…
Ты швырнула мне в лицо перчатку отрочества, выбросив на улицу, научила ненавидеть и не доверять, скитаться в трущобах человеческих отбросов, частью которых стал и я сам…
Оказавшись за кулисами этого безумного театра, я замкнулся в себе, окутанный беспросветной болью, понимая, что передо мной захлопнулась дверь в мое будущее, в мое возможное счастье.
…Теперь я знал, что Ты так и не прочла длинные письма моего детства, которые я писал Тебе каждый день. Там были все мои мечты и все просьбы… Ты просто выкинула их, небрежно шлепнув на уголке конвертов слова «никогда» и «навсегда», лишая меня самого главного: свободы выбора… Я оказался внутри Твоего огромного калейдоскопа, где все зависело только от того, как прокрутится цилиндр и какой сложится узор. Ты замаскировала все двери под зеркала, и я не понимал, какую из них выбрать, если в каждой видел свое отражение…
В полном одиночестве, я был оторван от всех ориентиров, ощущая себя в глубокой пустоте, почти осязаемой и вязкой, в которой не хватало ни воздуха, ни сил всплыть на поверхность, потому что я был прибит болью к самому дну. Я даже не мог Тебя возненавидеть…
Я стал бессловесной рыбой, окруженный совершенно чужим мне миром, миром без единой родной души, миром, где я ни с кем и ничем больше не был связан…
Я пытался жить той жизнью, которую Ты скинула мне со своего плеча — опаленную мантию — ненужный дар, который я, подхватив по глупости, хотел вернуть и сказать о том, что это не моя жизнь, полная отчаяния и горя. Моя — была совершенно другой: с запахом ванили от воскресных лакомств матушки, с поцелуями и сказками на ночь, ее мягкими руками и глазами медового цвета; с большим деревом шелковицы во дворе дома, прилипчивой младшей сестрой, которая не давала мне прохода и ябедничала; с суровым отцом, которого, как мне тогда казалось, я совсем не любил, и все же…
Каждую ночь, перед тем как закрыть глаза, в своих мыслях я наивно повторял Тебе, что все произошедшее со мной — страшная ошибка и что, наверное, кто-то просто все перепутал и вскоре все обязательно прояснится, а сейчас… Я просил Тебя вернуть все на свои места: мою настоящую жизнь, полную любви и надежд, где все было возможно, и все были живы…
Шло время, и с момента пожара я так и не мог выдавить из себя ни единого слова. Поначалу я старался что-то сказать, делал какие-то движения ртом, но каждый раз увязал в беззвучной мимике неизреченных желаний. От досады я кусал язык до крови, лишь бы он, наконец, зашевелился, выговаривая слова, — но тщетно, я ничего не мог с собой поделать…
Завязав себе рот платком, я прекратил попытки даже иногда заговаривать с людьми. Отчасти потому, что жить в молчании все же лучше, чем терпеть издевательства, насмешки или жалость, ведь ничего другого я в ответ не слышал. И, несмотря на то, что я все еще жил, влача свое молчаливое существование, я был уверен, что умер…
Я не мог привыкнуть к этому жуткому запаху гари, осевшему в моих легких, надеясь, что однажды он раздерет мои внутренности своими ядовитыми испарениями, но он лишь мучил меня, преследуя повсюду, был в носу, на пальцах, языке, я ощущал его даже в глазах.
Продрогнув на Площади Подаяния, где собирались все обездоленные нашего города — кому что перепадет, я каждый день возвращался к руинам моего дома. Мутный пруд тревожился серебристой рябью холодного ветра, скрипели безжизненные карусели. Осень оплакивала дождями свою шевелюру. Колыбельная матушки слышалась мне привычным однообразием, и, забравшись под старые тряпки, которые я натаскал отовсюду, я потихоньку согревался, отяжелевшие веки заволакивали унылый пейзаж. Теряя вес, я падал в пустоту, ощущая себя одним из тех исковерканных холодом листочков.
В своих коротких и тревожных снах я часто видел, как задыхаюсь, но, как бы мне ни хотелось умереть, к своему огорчению, каждый раз я все же просыпался. Я совсем ослаб, почти не ел, перебивался объедками со столов соседей, которые иногда оставляли мне кое-какую еду возле сгоревшего дома; бродил по пепелищу, возлагал на обугленный остов собранную по дороге осеннюю листву или сыпал лепестки увядших цветов, там, где когда-то была наша гостиная, и тихо плакал, ожидая смерти…
Утром я проснулся от страшного холода: руки и ноги окоченели, одеревеневшие пальцы невозможно было разогнуть. Я не знал, сколько времени прошло с пожара, и как долго я уже скитался в трущобах, но ночи с каждым днем становились холоднее, а поутру было все сложнее выбираться из своего логова — полуразрушенного камина нашего дома, у которого сохранились только стенки. Накрыв его доской вместо крыши, я натаскал внутрь разного тряпья, почти как наш домашний питомец, который устраивал себе норку из лоскутков старой одежды, где прятался от нас с сестрой. С трудом открыв глаза, я увидел, что все вокруг покрыто инеем — кочки и камни на дороге, ветки деревьев и кусты, окна и крыши домов — всё, что меня окружало, искрилось белоснежно-голубым.
В город, наконец, пришла зима, и если раньше я думал, что умру голодной смертью, то теперь стало понятно, что умру я, скорее, от холода и протяну совсем недолго, потому что сил согреть свое тело мне не хватит… Свернувшись калачиком, я горько плакал. С неба крупными хлопьями начал падать пушистый снег, в памяти всплыли сказки, которые сидя возле камина, читала нам матушка… Наш чудесный камин, который отец сделал своими руками, кропотливо укладывая каждый кирпич. Мы так любили сидеть перед огнем холодными вечерами, укутавшись в плед. Я часами смотрел на мерцающие угли, которые, переливаясь алым, постепенно превращались в золу. Я думал, что скоро окажусь вместе со своей семьей и размышлял о том, как легче было умирать: от огня — как погибли они, или как я сейчас — замерзая… Отчего-то мысль о смерти меня убаюкала и даже немного согрела: не чувствуя окоченевшего тела я стал засыпать, как вдруг лай уличных собак заставил меня вернуться из полузабытья и даже подскочить на месте. В поисках пищи возле мусорных куч я не раз избегал столкновения с такими стаями, рискуя быть загрызенным, но так или иначе мне удавалось от них убежать. Собаки, как всегда, рыскали по подворотням и уже оказались поблизости. Я не сомневался, что они меня учуют. «Надо бежать», — промелькнуло у меня в голове и, не успев додумать эту мысль, я пустился наутек вдоль пустынной улицы, короткими перебежками прячась во дворах соседей, зная, что ранним утром мне никто не поможет, даже ловцы бездомных животных, страх перед которыми оттеснял одичалых собак за городскую черту.
Инстинкт гнал меня все дальше, и казалось, что я настолько остервенел от страха, голода и холода, что был готов убить человека, только чтобы прекратить эти мучения. Меня могли бы отдать в руки правосудия, которое за отобранную жизнь предполагало только смерть, но мне уже было все равно. Собрав последние силы, я шел в самый дальний и опасный район города — Квартал Услуг, где было много закоулков и можно было незаметно отдать свою душу, получив за нее горячей еды…
…Глядя на нас сквозь шелковые вставки своего веера, иногда Ты разыгрываешь большую лотерею, желая увидеть, как мы распорядимся своей жизнью, если нам дать еще одну возможность.… И вдруг Твоя тонкая рука, обтянутая черным кружевом перчатки, протянула мне Счастливый Билет. Один настоящий — среди тысячи липовых, который Ты предлагаешь всем нам, каждый день…
Стоя неподалеку от потасовки, Ты внимательно наблюдала за тем, как я угодил в руки торговцев «чудесами», живущих на окраине города. Там, в трущобах, они варили свои разноцветные зелья, каждое из которых могло дать свое наслаждение. Я видел прилично одетых людей, которые приходили туда за разномастными упаковками своих грез. Воровато оглядываясь, они быстро расплачивались и уходили, не желая быть застигнутыми врасплох в таком месте. В этой части города они не здоровались даже с друзьями, делая вид, что не знают друг друга.
А я всего-то хотел подобрать валявшийся кусок хлеба, но торговцы поймали меня, как зверя, накинув на шею аркан. Содрав с меня «повязку молчания», они заставляли меня издавать «звуки рыбы», гогоча и потешаясь, а заодно решая, не продать ли меня какому-нибудь пожилому ценителю булькающих диковин. По их словам, я мог бы стать ценным приобретением, ведь чтобы со мной ни сделали, рассказать об этом я бы не смог. Но самый гнусный из них сказал, что «такой хилый недоносок» не доживет до продажи, и предложил выдавить мне глаза — «всё ж какая-то забава».
Я не сопротивлялся и уже обмяк в его руках, потому что силы мои иссякли. Я думал о том, что благодарен Тебе за решение прекратить мои страдания человека-рыбы, и я бы сказал спасибо Тебе, но не мог. А Ты, склонив голову набок, смотрела на то, как я умираю: петля, накинутая на шею, сдавливала горло, заставляя открывать рот в поисках спасительного крика, на который кто-то мог прийти. Но крючок, на который Ты меня поймала, — был крепче: я по-прежнему оставался нем…
Я уже видел матушку, наполняющую слоеные трубочки кремом, и младшую сестру, которая стояла неподалеку в ожидании, когда мы снова будем играть в прятки за белыми парусами сохнущего белья… Мое сознание расплывалось, превращая простыни в облака… Еще немного, и я бы навсегда остался там, но что-то пошло не так.
Поманив к себе Профессора, легким кивком Ты указала ему на меня и удалилась неспешным шагом, оставив на его усмотрение все, что произойдет со мною дальше. Ты передала ему право выбора. И как всегда, никто не узнает, что послужило причиной такого поворота, какими дорогами Ты вела нас навстречу друг другу, как сплела обстоятельства, в которых мы оказались в одно время в одном месте…
…Профессор
Он выкупил меня, напуганного до смерти, а я, пусть уже очнулся, но все еще не верил в свое спасение, дрожал всем телом, прикрывая рот рукой вместо повязки и не понимая, как преодолеть весь этот ужас. На ватных ногах, не отставая, я шел за этим человеком, выбираясь из жуткого квартала, и думал о том, что при первой же возможности сбегу от него, юркнув в проходные дворы. Там я смогу дождаться темноты и уже под покровом ночи проберусь к своим обгоревшим руинам. Не успел я подумать о собаках, которые могли облюбовать на зимовку наш полуразрушенный камин, как услышал над собой бархатный голос: «Ты свободен и можешь идти… Если хочешь, конечно».
Я впервые взглянул на своего спасителя и замер. Он смотрел на меня с высоты могучего ветвистого дерева, такого родного, сквозь листву которого просвечивало ласковое солнце. Он и сам был человек-солнце с лучистым взглядом, полным сострадания и любви. К своему отчаянию, я был не в силах выдавить из себя ни звука. Но Профессору слова были не нужны. Он внимательно посмотрел на меня, и на глаза его навернулись слезы. Я видел, как ему стало больно. Я даже не думал, что человек может обладать таким даром — чувствовать боль другого человека, как свою. Это сквозило даже в его жестах, я увидел, как бережно он возвратил мне то единственное, что у меня осталось: мою грязную, затоптанную повязку, за которой я чувствовал себя хоть немного защищенным… Будто мне вернули воздух. Благодарный до слез, я протянул ему руку, которая тут же утонула в его теплой ладони, полной неведомого мне доселе доверия.
В тот миг я почему-то передумал бежать, и, кивнув друг другу, мы ушли от всего, что осталось где-то там, за городской чертой, куда я, точно знал, больше не вернусь.
Несмотря на страх перед неизвестностью, в глубине души я радовался, что наконец удаляюсь от своего прошлого, от города, не дающего мне дышать, потому что дым того пожара все еще стоял в легких. Дрожь моей руки передавалась Профессору, и пока мы шли, он успокаивал меня своим удивительным голосом, говоря не совсем понятные вещи о том, что страх живет только внутри нас и является уникальным ресурсом, вопрос лишь в том, как его использовать. «Вопрос как всегда в выборе, мальчик мой», — сказал он и стал моим наставником и проводником в Мир Добра, в которое я перестал верить, но которое ко мне все же пришло…
Когда мы подошли к дому, где жил Профессор, я остановился и зажмурился. Мне было страшно открыть глаза, потому что я думал, что происходящее со мной — сон. Но это была явь: мы стояли перед настоящей громадиной на колесах, весьма похожей на двухэтажное бюро с множеством окон, аркообразным входом с двух сторон, винтовыми лестницами, ведущими на второй этаж, опоясанный по периметру узким балконом. Это был самый удивительный дом из всех, что я видел. «Ларго», как мне представил его Профессор. Мы подошли ближе, когда этот механический зверь нас заметил, заурчал и, мягко покачиваясь, стал двигаться навстречу.
Я не понимал, что происходит, и уже подумал, что наверняка тронулся умом, видя «живой дом», направляющийся к нам, когда в эту самую минуту, может, от избытка впечатлений, а может, просто от голода, в моих глазах внезапно потемнело и, обессиленный, я упал без чувств.

Глава 3
Легкий поворот калейдоскопа, и самоцветы меняют узор…
Поначалу я еще был очень истощен и боязлив, как дикий зверь, с которого, наконец, сняли ошейник, но, принимая заботу Профессора, я послушно пил приготовленные им целебные настойки, чувствуя, как с каждым днем иду на поправку. Мне все реже снились сны, в которых я кричал, задыхаясь от дыма, и потихоньку я начал верить в то, что и невозможное иногда случается.
Сидя возле моей кровати, Профессор подолгу рассказывал увлекательные истории своих странствий, которые вдыхали в меня жизнь не меньше его эликсиров. Он был самым необыкновенным человеком из всех, кого я когда-либо встречал: умным и бесконечно добрым…
В день, когда мы встретились, Профессор шел с Черного Рынка, находящегося по соседству с Кварталом Услуг, где приобрел зернышко редкого растения — древоцвета, которое за всю жизнь вырастало размером с ладонь, не больше. Раз в год на нем появлялась одна ветка, и только раз в семь лет зацветал один единственный цветок «необыкновенной красоты», как говорил Профессор. Цветок не опадал, а покрываясь корой, превращался в деревянный кокон, где вызревало новое зернышко и, посадив его, можно было взрастить еще одно деревце, которое давало много кислорода. Профессор считал, что если каждый вырастит хотя бы одно такое, то мир навеки будет обеспечен чистым воздухом. Но люди, думающие иначе, давно вырубили эти уникальные растения, и теперь на Черном Рынке зернышки продавались дороже драгоценных камней.
И вот на моем подоконнике появился маленький горшок, в который мы посадили семечко в ожидании, что через год увидим результаты. Профессор говорил, что оно обязательно прорастет, особенно, если «почувствует мою любовь». «Как и со всеми существами, с ним надо общаться», — сказал мне Профессор. Но я все еще молчал и носил свою повязку. И даже ночью натягивал одеяло до середины лица, потому что это по-прежнему давало мне чувство защищенности… Все, что я мог делать для зернышка, чтобы оно чувствовало мою заботу, — это регулярно греть ладошками горшок и, украдкой снимая повязку, дышать на влажную землю. Впервые совершив этот ритуал, я вдруг осознал, что мне снова захотелось жить… Я хотел, чтобы семечко не пропало, чтобы оно проросло, знаменуя собой начало новой, нашей жизни. Я хотел, чтобы Профессор смотрел на меня с одобрением и всегда сидел рядом, рассказывая мне про Дом и про филина, который как я понял жил в одной из комнат и был «важной птицей», всегда оказываясь в нужное время в нужном месте, тут и там, словно мгновенно переносясь в пространстве. Как всегда, я вел свой диалог с Профессором в уме, отмечая про себя, что всегда легче перемещаться, когда у тебя есть крылья. Я хотел поскорей выздороветь, чтобы увидеть эту птицу своими глазами и наконец, самому окунуться в мир, откуда Профессор приходил ко мне каждый день. Для меня стало важным все, что его окружало.
Как и в день нашего знакомства, на Профессоре всегда был кожаный жилет с множеством карманов, из которых торчали маленькие отвертки с разными наконечниками, пассатижи, пинцеты, зажимы, многолезвийный складной нож. Там же, где-то в недрах этого удивительного жилета, лежали коробочки с разнообразными винтиками, металлическими пластинами, катушки с проволокой и другие предметы, названия которых я пока не знал. Однажды он принес мне наручные часы, которые починил, и рассказал, как менял зубчатое колесико таких размеров, какое не увидеть невооруженным глазом, как смазал механизм мельчайшей капелькой масла и «что ни на сотую грамма ошибиться нельзя, потому что в часах самое важное — это точность, как ни крути». Пока Профессор рассказывал — я слушал, как тикали часы, и старался запоминать ход его мыслей и каждый предмет в его кабинете, о которых он упоминал, и знакомство с которыми мне еще предстояло.
Профессор называл «удивительной, необыкновенной или уникальной» почти каждую вещь, делая таковой по-своему исключительной. Для него всё имело свое особое значение. «Даже самый большой механизм рождается из крохотного винтика», — любил повторять он, проявляя особое участие ко всему, что попадалось ему на пути.
Однажды когда он зашел в комнату и положил руку на мой лоб, проверить температуру, я взял его большую теплую ладонь и прижал к своей щеке. Я не знал, как отблагодарить Профессора за свое спасение, а он смотрел на меня своим необыкновенным взглядом, куда-то глубже, чем в глаза…
«Мы не всегда можем избежать боли, мальчик мой, — говорил он, — но нам по силам выбрать, как к ней относиться. Можно проклинать и ненавидеть, а можно попытаться найти в этом какой-то смысл. Мы неизменно близоруки, и до конца не узнаем замысел Судьбы. И то, что нам сегодня кажется убийственно невозможным, назавтра вдруг окажется вполне вероятным и даже, быть может, более удачным исходом. Так устроен мир. Не надо жить вчерашним или завтрашним, исправнее всего наш механизм работает здесь и сейчас».
Многое из сказанного Профессором умом я не понимал, но почему-то слышал сердцем, думая о том, как бы мне хотелось, чтобы всё, о чем он рассказывает, слышала моя матушка, отец и даже сестренка. Я был уверен, что все его поймут. Да и как могло быть иначе, ведь этот человек излучал такое тепло и сострадание, что я раскрывался ему навстречу всей душой и отчего-то плакал…
Я все больше узнавал об удивительном Доме, в котором мы жили, переезжая с места на место. Позже изучая его, я шел по дорожкам воспоминаний, которыми он был устлан вдоль и поперек благодаря рассказам Профессора. Похоже, Дом жил своей жизнью и был больше, чем крыша над головой или средство передвижения, он был пристанищем, родиной, приютом снов и душ, хранилищем истории, свидетелем течения жизней.
В юности у Профессора была мечта. Он хотел путешествовать, обучаясь у лучших мастеров мира различным наукам, искусствам и ремеслам. Хотел рисовать, заниматься ботаникой, изучать языки и конструировать механизмы. Для этого ему всегда и везде было необходимо иметь все книги и инструменты, мастерскую и лабораторию, а вдобавок хорошо бы — спальню и кухню, словом, целый дом. Именно о таком доме мечтал талантливый студент университета «юный гений механики» — как он нем говорили, и к концу своего обучения, будучи уже магистром, он представил невероятный проект — созданный им Механический Дом. Во время показа произошло нечто удивительное. Поначалу Дом замкнулся изнутри и напрочь отказался кого-либо в себя впускать, не подавая никаких признаков жизни. Тогда Профессор произнес имя — Ларго и, к удивлению почтенной комиссии ученых, Дом чудесным образом отворил свои двери. Он был исключительным механическим чудом, и все же он был «живым». Потрясенные таким изобретением, старейшины университета единогласно проголосовали «за» и магистр заслуженно получил профессорское звание. Он был единственный, кто с помощью механики соединил несколько пространств, сконструировав помещения таким образом, что в каждой из комнат имелась еще одна комната, а в той — еще одна, но большего размера, — «Спиральная модель Вселенной» — как он мне объяснял, размером с двухэтажный дом с плоской крышей, состоящий из рубки и комнат, расположенных на разной высоте и в разном порядке, но в которые можно было попасть без особого труда, интуитивно, по винтовым пролетам понятных коридоров. Наполненный уникальным собранием знаний, Ларго родился благодаря гению Профессора, который вдохнул в него жизнь. Мастерская, лаборатория, библиотека и гостиная, кабинет и остальные комнаты — все эти помещения были пропитаны духом не только исключительного ума Профессора, но и бесконечной теплотой его радушного сердца.
Мечта Профессора сбылась, и он стал ездить по свету, посещая самых известных мастеров и ученых, останавливаясь где на месяц, где на год, в зависимости от того, что изучал, и, перенимая опыт, а также делясь знаниями, продолжал свой путь. Перемещаясь из одного пункта в другой, Профессор помогал всем, кто в нем нуждался. «В нас есть душа, мы чувствуем, а значит — можем сострадать. Сострадание зиждется на любви, а Любовь — это Приятие. Себя, окружающих, обстоятельств, всего, что происходит. Сострадание — гениальный механизм души, у которого безграничные возможности».
В городах и небольших селениях — повсюду, где приходилось бывать, он старался помочь людям и в устройстве каких-либо механических приспособлений, и в лечении различных недугов — Профессор с радостью делился всем, что у него было, всем, что он знал. А знал он, конечно, многое. Я бы мог часами говорить с ним на любые темы, о любом предмете, будь то музыка, механика, математика или языки, но пока я не мог разговаривать — я просто запоминал все, что он мне рассказывал.
Ларго был в служении уже более тридцати лет. Большой и надежный, раскрыв дружеские объятья, он впустил меня, с первой минуты нашего знакомства став и моим домом. Так же как и Профессор, он помогал мне жить, дав надежду, очищая мои легкие от копоти прошлого, и, благодарный этому исполину, всем своим существом я впитывал дух и щедрость его удивительного пространства…
Вечерами Профессор читал мне труды древних философов о том, что такое счастье, любовь и предназначение. «Ты должен мечтать, — говорил он. Многие думают, что мечта — это журавль в небе и его невозможно поймать. Но есть и другой путь. Ты все можешь сделать собственными руками…». Он скрещивал ладони и, сцепив большие пальцы, расправлял пятерни, превращая их в крылья и мягкими движениями, неспешно сгибая и разгибая пальцы, кружил над моим лицом, отбрасывая тень воплощенной мечты — журавля, парящего на белоснежной стене моей комнаты…
Немного окрепнув, я сделал первую вылазку. Мне хотелось поскорее пройтись по тропе рассказов Профессора о Ларго и, конечно же, ужасно не терпелось увидеть птицу. Я знал, что знакомство с любым животным нужно начинать с угощения, и, припрятав кусочки хлеба и дольку яблока, начал свой путь в поисках филина.
Снаружи Ларго казался не таким большим, как изнутри, где было много комнат и коридоры местами были освещены, а местами такими темными, что даже с фонарем по ним было сложно ходить. Пробираясь между высокими стопками покрытых пылью книг, которые упирались в потолок и стеллажами, забитыми до отказа всякой всячиной, я плутал по коридорам, заглядывал в комнаты и кладовки, и уже начал волноваться за бедную птицу, которая, возможно, где-то застряла и даже могла задохнуться.
Я открыл следующую дверь и замер на пороге. Из описаний Профессора я почему-то не помнил такой комнаты. Может, просто упустил рассказ о ней? Судя по вещам, тут кто-то жил, но внутри царил аскетичный порядок. Идеально убранная кровать, разглаженные складки, единственный стул, небольшой стол, на котором лежали письменные принадлежности и другие предметы один к одному так ровно, что мне даже стало как-то не по себе. Всё на своих местах: от маленького к большому, в строгой последовательности, и, судя по всему, ничего лишнего. Стены этой комнаты были увешаны чертежами разных механизмов: колес, каких-то труб и клапанов, причем всё в определенном порядке, прикреплено одно за другим, не выше и не ниже, не выбиваясь за пределы отведенного пространства.
Я зашел внутрь и стал внимательно все разглядывать, думая о том, что, скорее всего, это комната отдыха Профессора. Взгляд мой упал на комод, где стояла небольшая пирамида из дерева, с встроенным внутри нее металлическим стержнем. Неловкое движение моих рук, — и вдруг стержень, выскочив наружу, стал раскачиваться из стороны в сторону, как маятник, издавая звук, похожий на тиканье часов, только громкий. Я смотрел как завороженный на его равномерное качание вправо и влево, слушая это странное цоканье. «Для чего нужны часы, которые не показывают время? У них ведь даже нет стрелок!?» — раздумывал я. Взгляд мой упал на небольшой металлический предмет, лежащий тут же на комоде. Меня привлекла его форма, напоминающая то ли цветок, то ли ключ, то ли вытянутую подковку со стальной полоской в середине, загнутой концом вверх. Я взял его в руки, дернул за оттопыренный конец и подковка глухо задребезжала. Я стал дергать полоску снова и снова, и так увлекся этим, что не сразу заметил, что творилось за моей спиной.
Обернувшись, я вдруг увидел в проеме двери хмурого коренастого мужчину с огромными черными глазами, который стоял, скрестив руки на груди, и сверлил меня тяжелым взглядом. Не произнеся ни звука, он напугал меня до смерти. К своему ужасу от неожиданности я выронил из рук вещицу, от чего та обиженно лязгнула и умолкла. Всмотревшись в его глаза и крючковатый нос, я робко попятился, где-то в подсознании мелькнуло, что это, наверно, и есть Филин, а я просто запутался в собственных фантазиях и домыслах…
Но что сделано, то сделано. Я стоял незваным гостем в его комнате, за моей спиной предательски цокал маятник, подковка валялась на полу, и я бы хотел извиниться, но все еще не мог произнести ни единого слова. Руки задрожали мелкой дрожью, глаза стали наливаться слезами, но Филин, не обращая никакого внимания на мою «молчаливую трагедию», скривив рот в гримасе неудовольствия, произнес: «Понятно…» — прошел мимо меня, подобрал предмет и остановил маятник.
Я уже бежал по коридорам Дома в свою комнату. Теперь многое из рассказа Профессора о Филине виделось мне иначе. То, что я себе надумал, рассеялось, все встало на свои места, и у меня больше не было никаких иллюзий про огромные крылья птицы, как и мечтаний о крепкой дружбе, на которую я мог рассчитывать, если бы не этот казус. Оставалось надеяться, что Филин когда-нибудь простит мое вторжение и примет меня.
Спустя какое-то время, я уже знал, что по утрам он проводил обход Дома, заглядывая во все комнаты, в каждый темный уголок, потом поднимался на крышу, проверял различные крепления и механические паруса, о которых мне рассказывал Профессор, также не забывал о генераторах, словом, как врач совершал ежедневный плановый осмотр своего пациента.
Уход за Ларго был основным занятием Филина, который относился к нему как к своему питомцу. Как заботливый хозяин Филин «выгуливал, купал и кормил» преданного механического пса, то есть — смазывал скрипящие рессоры, устранял поломки, латал появившиеся трещины, подтягивал разболтавшиеся гайки, зачищал контакты, замечал все изменения до мелочей и тут же все записывал, чтобы потом все исправить.
Я пока не знал, что произошло в его жизни, как он оказался в этом Доме и стал им управлять, я только видел его невообразимую преданность Профессору и готовность служить ему и Дому всегда. Ларго в ответ был благодарен Филину всей своей механической душой и в часы стоянок, когда мы с Профессором делали вылазки в город за провиантом и водой, Филин проверял тормоза, гоняя Дом взад-вперед, и тот, казалось, даже потявкивал от удовольствия, хотя скорее позвякивал металлическими деталями. Ларго и Филин были похожи на резвящихся детей. Я видел, что Дом — единственное, что могло вызвать скупую улыбку мрачного Филина, но все же не сдавался и верил, что однажды смогу достучаться до его сурового сердца.
Я уже знал шаги Филина и, заслышав их издалека, открывал дверь своей комнаты, садился на кровать, выпрямлял спину и согласно разработанному мной «плану нашей дружбы», был готов в любую минуту кивнуть ему головой в знак приветствия, если бы он посмотрел в мою сторону. Но Филин каждый раз проходил мимо, продолжая не замечать меня. Несмотря на свою мрачность и замкнутость, он мне нравился. Я хотел быть к нему ближе, меня тянуло к нему, как к старшему брату, у которого я мог бы многому научиться. В моих мыслях он был самым доблестным и почему-то бесстрашным воином, на которого мне хотелось походить… Я даже пытался хмуриться, как Филин, свербя взглядом зеркало, но тщетно. Мои брови никак не хотели сводиться, а лишь поднимались «домиком», вопреки всем стараниям, но я все же продолжал думать, что мы обязательно поладим, а пока был просто наготове, приветственно махал ему рукой при встрече, надеясь, что однажды он хотя бы кивнет мне в ответ.
…Железная оплавленная Пуговица — единственное, что у меня осталось от моего детства, в котором я пережил пожар, — предмет из моего прошлого, найденный в руинах нашего сгоревшего дома. Она всегда лежала у меня в кармане и, перед тем как выйти из комнаты или лечь спать, я непременно проверял, на месте ли она. Всякий раз, сжимая ее в кулаке, я причинял себе боль, которая напоминала о том, что со мной произошло: о моей семье, о том, что всех нас постигло. Я чувствовал вину за свое счастье, в котором пребывал у приютившего меня Профессора, и как только мне было особенно радостно, чтобы не забывать о своем горе, я сжимал кулак, отчего железные края Пуговицы впивались мне ладонь, не давая зажить старым ранам. Однажды Профессор увидел мои свежие шрамы. Он посмотрел на меня долгим взглядом, а я достал из кармана пуговицу и виновато ему ее протянул. Внимательно рассмотрев ее со всех сторон, он неожиданно сказал:
— Это удивительная пуговица, хочешь, я научу тебя в нее играть?
С того дня Пуговица стала для нас предметом игры, которая учила «включать интуицию», как это назвал Профессор. Пряча за спиной руки, он спрашивал меня, в какой из них она находится, и просил, чтобы я ответил быстро, показав в правой или в левой, не успевая об этом подумать. Мы играли в эту игру сотни раз, и я все чаще угадывал загаданную им руку, когда ориентировался на внутренний голос. Я думал о том, что так я мог бы расти со своим отцом. Эта несбыточная мечта воплощалась с каждым днем его присутствия в моей жизни.
Я полюбил Профессора так, что стоило мне просто задуматься о том, что рано или поздно он, как и все, уйдет из моей жизни — меня одолевало щемящее чувство невосполнимой потери, которую я должен буду снова однажды пережить. Вне зависимости от места, где мы находились, даже когда сидели за столом или шли куда-то, стоило только мелькнуть этой мысли, — и я не мог сдержать предательски рвущихся наружу слез. Утирая их, я понимал, что это бессмысленно — горевать по еще живому Профессору и вспоминал его слова о том, что каждую минуту со дня нашего рождения мы, так или иначе, приближаемся к смерти, и что именно ограниченное время делает жизнь особенно ценной.
…Иногда мне просто хотелось броситься ему на шею и кричать о своей бесконечной любви, умоляя, чтобы он никогда, никогда не уходил… Но боль и пустота от представленного сковывали меня, душа вдруг замирала и переставала проситься на свободу, чтобы успеть проявиться, пока он жив. Украдкой вытирая слезы, я старался отогнать от себя мысли о смерти, которая была мне ненавистна и подлость которой была хорошо известна. Она ничем не гнушалась. В ней не было сочувствия или чего-то еще. Она была рабой Судьбы, как и все мы… Желала она того или нет, она убивала по Ее приказу. Детей, отцов и матерей — косила всех без разбору, лишь видела помеченную специальной меткой дверь. И я хотел бы стереть эту метку с двери нашего сгоревшего дома, но понимал, что никому на свете сделать этого не дано. Никто не может повернуть время вспять, и, глядя на Профессора, я мысленно его заклинал: только живите, Профессор, только живите…
Я все больше убеждался, что доброта может спасти мир. Однажды меня спас Профессор, а я так и не мог найти слов благодарности, да и не мог говорить, но все же решил сделать ему свой подарок, вручив самое ценное, что у меня было. Найдя в ворохе ниток красивую тесьму, я обмотал ею свою Пуговицу и протянул Профессору. Он удивился, задумался, поправив дужку очков, которая постоянно развинчивалась, а потом спросил, точно ли я хочу ее отдать, на что я закивал головой, потому, что мысль о том, что я могу что-то ему подарить, делала меня по-настоящему счастливым. Не знаю как, но Профессор видел все мои раны и шрамы, и мне казалось, что от одного его взгляда они потихоньку затягивались.
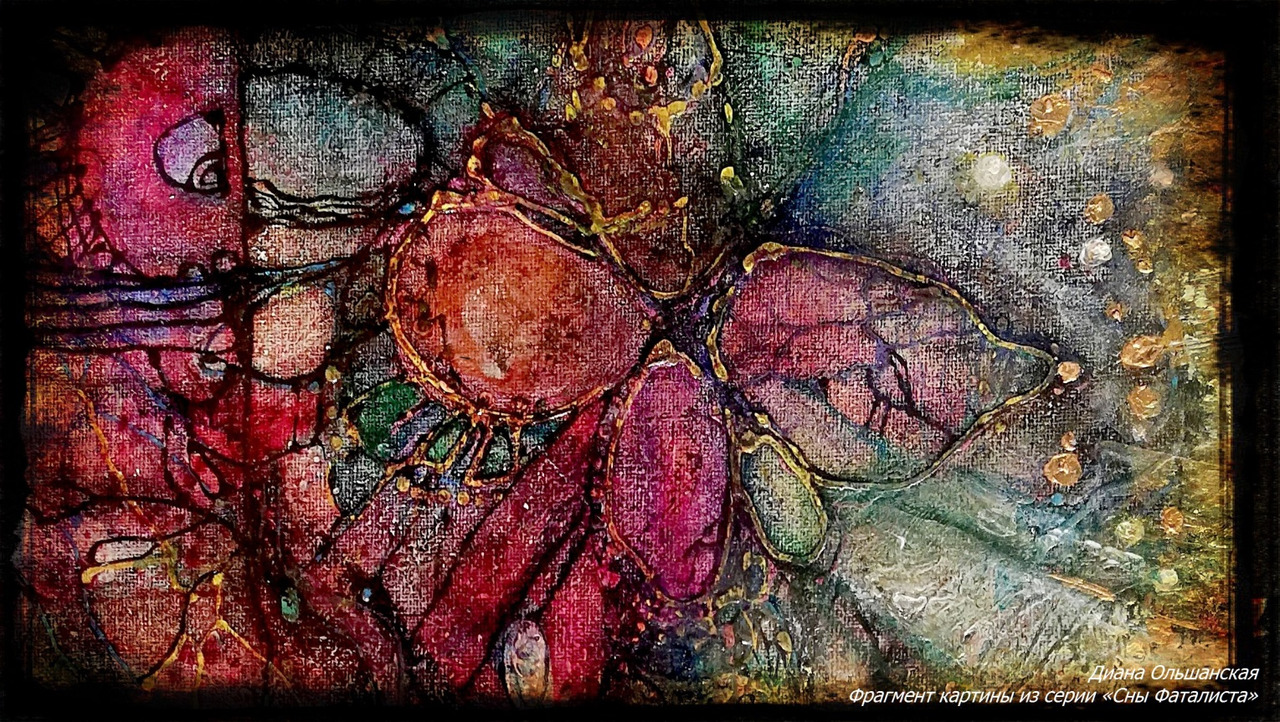
Глава 4
Легкий поворот калейдоскопа, и самоцветы меняют узор…
Просыпаясь от переполняющего меня счастья, я вскакивал с кровати, умывался, поливал древоцвет, мое чудесное деревце, — семечко все-таки проросло, дало ствол и даже одну веточку, и летел к Профессору. Жизнь для меня начиналась в тот момент, когда я открывал дверь его мастерской. По обыкновению я замирал на несколько секунд, перед тем как зайти внутрь. Вобрав в себя воздух, я заходил на выдохе в удивительный мир своего наставника, в мир его учений, мыслей и необыкновенных чувств…
Поначалу мне было непонятно, как в кабинете Профессора могло вмещаться столько предметов, но, освоившись, я понял, что каждый сантиметр этого пространства был использован сверхрационально. Были учтены даже такие параметры, как температура и освещение. Изобилие различных предметов создавало некоторый хаос, но при этом все оставалось на своих идеально подобранных местах.
Вдоль стены крепились длинные стеллажи с картами, с полок на меня смотрели деревянные фигурки, гравюры, колокольчики, четки, музыкальные шкатулки…
Старые предметы внушали мне благоговейный трепет: передо мной возникал сумеречный мир прошлого, который странным образом был связан с настоящим. Я бы хотел знать об этом больше, но даже фарфоровая статуэтка древнего мудреца покачивала головой из стороны в сторону, повторяя вот уже целую вечность: «Я ничего не знаю…»
Зайдя сюда впервые, я решил, что попал в мастерскую художника — столько там было картин, но я уже знал, что основой этого искусства была инженерная мысль. На столе лежали циркуль, лупа, ножницы, карандаши, железные перья, баночки разноцветных чернил, над самим столом висели наброски размером с ладонь, напоминающие, скорее, крупные марки. Это были «заметки» из блокнота Профессора, который всегда находился при нем. Он говорил, что лучший способ запечатлеть мысль или образ — это визуальный. Мелкими штрихами он, не теряя мысли, делал эскизы новых изобретений, фиксируя бесконечный поток своих озарений, прорисовывая каждую деталь механических устройств, сопровождая полным ее описанием со всеми расчетами, чтобы любой человек мог бы это сделать своими руками. Все было тщательно законспектировано с точки зрения последовательности действий, алгоритмов и каких-то формул. Но для меня главным было то, как это было нарисовано. Изящные линии и удивительные полутона создавали объем, а цвет оживлял рисунок, передавая на бумаге фактуру и оттенки настоящего железа или стекла. Каждая гайка и каждая мысль была прорисована тонким пером и растушевана кистью. Так, например, у большой механической рыбы были точно выписаны металлические плавники с полупрозрачными перепонками и тут же нарисованы колеса, прикрепленные к брюшку, с помощью которых, она могла ездить по дому, а может, даже и по дну. Я мог подолгу рассматривать мазки его кисти, местами более прозрачные, а где-то более плотные, пытаясь понять технику светотени, с помощью которой и достигался «эффект объема», как говорил сам Профессор.
Я очутился в мире механизмов, которые Профессор придумывал, оживляя любой материал: стекло, дерево, фарфор, металл.
В дальнем углу стояло старое бюро, с множеством маленьких ящичков, где на его выдвижной крышке стопкой лежали пожелтевшие чертежи с изображением различных механических животных, птиц или насекомых, у которых крепления головы и лап к туловищу были в виде винтиков, гвоздей, шестеренок и гаек. По такому чертежу из подготовленных деталей мастер вполне мог собрать, например, бабочку или ящерицу. Это были ювелирного труда механические стрекозы, которые могли махать крыльями и даже летать, прыгающие лягушки, сворачивающиеся в кольца змеи.
Я восхищался тем, как Профессор продумывал каждую деталь каждого «существа» и при этом он неизменно повторял, что все это однажды уже было создано и что это лишь механика. «А хорошо бы освоить и механику души», — иногда добавлял он, улыбаясь. И хоть я и не совсем понимал, о чем шла речь, я все равно восхищался тем, что он делал.
Слева вдоль стены стоял рабочий стол, яркое освещение над которым обеспечивала система зеркал, которая фокусировала и направляла поток света в нужную точку. Там же — большой микроскоп, а возле него — кожаный отрез с множеством карманов, в которых были разложены инструменты Профессора: отвертки с разными насадками, пинцеты, ножницы, зажимы и крохотные плоскогубцы. Тут же были выстроившиеся в ряд масленки, кисти в банках, растворители и клей.
Больше всего я радовался микроскопу, который открыл для меня невидимый доселе мир. Последовательно я устанавливал линзы, многократно увеличивая объект наблюдения, и с трудом верил своим глазам, разглядывая при большом увеличении знакомые предметы. Так я увидел, что крылья бабочки состоят из отдельных чешуек, а в капле воды кипит жизнь, о которой я и не подозревал. Профессор говорил, что даже воздух, которым мы дышали, полон невидимым: пыльца растений, частички кожи, бактерии и многое другое.
Будучи инженером-механиком, Профессор больше походил на врача: работая с большими линзами-очками на глазах, которые крепились кожаным ремешком на затылке, и мог часами корпеть над одной пружинкой или шестеренкой, потому что все его механизмы должны были работать, как он говорил, «безупречно». Его окружали всевозможные измерительные приборы, большие и маленькие, на некоторых из них по бокам крепились градусники, имелся даже телескоп, а также множество других неведомых мне механических и оптических чудес, созданных его руками.
Над столом висели длинные горизонтальные полки для прозрачных емкостей разной величины, в которых хранились винтики, гайки, заклепки и другие детали. В большом ящике с отсеками лежали разнокалиберные шестеренки: от размера с каплю до величины почти с кулак. С другой стороны стола были прикреплены тиски и лампа, а возле них распростертая тушка железной стрекозы с крыльями. Тончайшие, они были выполнены сеткой из почти невидимой проволоки. Я завороженно смотрел на полусферы зеленого стекла, которые должны были превратиться в ее глаза, задаваясь вопросом: неужели она сможет видеть? Но Профессор, как всегда прочитав мои мысли, сказал, что подглядев у природы, встроил в стрекозу сенсорную навигацию — длинные тонкие усики на голове, которые не дадут ей разбиться.
Даже в самых смелых мечтах я не мог и представить, что на свете есть что-то интереснее, чем наблюдать за тем, как на моих глазах оживает груда колесиков и металлических трубок, превращаясь в «живое существо»!
На одной из стен этой удивительной мастерской висели часы самых разных размеров: от больших настенных до карманных. Звук их стрелок создавал «музыку времени, которая утекает в песок», как говорил Профессор, указав мне на огромные песочные часы, стоявшие в дальнем углу. Это были любимые часы Профессора — подарок одного из его учителей, которые нравились ему «своей метафорой». К ним он приделал особый механизм, который переворачивал стеклянную колбу всякий раз, как только в верхней части иссякал песок.
Я учился правильно ухаживать за всеми часами. Спустя какое-то время я уже умел разбирать самые простые из них, чистить и заводить. Профессор учил меня чувствовать натяжение внутренней пружины и не переступать черту, за которой часам будет «неуютно». Я уже знал, что их нельзя было заводить рано утром, пока дом еще не прогрелся, или слишком поздно, когда воздух уже остывал. Я любил эти уроки «часоводства» и посвящал этому много времени, стараясь делать все правильно, чтобы не подвести Профессора, который в меня верил.
Однажды Профессор с Филином заперлись в мастерской и долго гремели какими-то железяками, пока я слонялся возле двери, отчаянно пытаясь понять, что же там происходит. Мне было немного обидно и даже страшно. Я уже привык к тому, что Филин занимался Ларго, а я помогал Профессору в его работе, но тут я засомневался: а что если я как-то провинился перед ними или окончательно рассердил Филина, который убедил Профессора, что я ему больше не нужен? С каждым часом мое сердце все больше сжималось от страха, и я уже подумывал, не опередить ли события, сбежав раньше от своего позора? Но неожиданно дверь мастерской распахнулась, и оттуда вышел Профессор, а за ним и довольный Филин. Я не мог прочитать на его лице — результатом чего была такая радость, но был почти уверен, что он все-таки рассказал Профессору про мое вторжение в его комнату, про маятник и подковку, которую я чуть не сломал. Мысленно, я попрощался со всем, что меня окружало, когда мы с Профессором вышли на улицу, но, обернувшись, вдруг увидел Филина с велосипедом в руках. Я посмотрел на Профессора, который улыбался мне своей лучезарной улыбкой, а Филин стоял равнодушный, будто бы его заставили делать противную работу, но все равно он справился с ней.
— Его зовут Странник. Он твой, — сказал мне Профессор, отчего я встал как вкопанный, не веря своему счастью. Профессору даже пришлось слегка подтолкнуть меня, и я сделал шаг в сторону этого механического чуда, сделанного руками удивительного человека. Он не хотел меня выгнать — нет! И даже Филин, скорее всего, ничего ему не рассказал. Я сделал еще один шаг к своему подарку, когда Филин с легкостью вспрыгнул на велосипед и стал на нем кататься. Описав небольшой круг, он затормозил перед нами.
— Он твой, если ты скажешь «спасибо» — сказал Филин и радостный стук моего сердца на мгновенье остановился. Я погрустнел, опустив голову. Я бы хотел. Я бы очень хотел, но не мог этого сделать… Я посмотрел на него глазами полными слез, на что он недовольно буркнул «понятно» — слово, которое я уже не раз от него слышал. Но тут вмешался Профессор. Посмотрев на Филина долгим взглядом, он забрал у него велосипед и подвел это механическое чудо ко мне.
— Ты ничего не должен, кроме того, чтобы быть счастливым. Странник — твой.
Слезы мгновенно высохли, и я стал внимательно разглядывать велосипед. Ручки руля и седло были обтянуты кожей и закреплены шнуровкой, два колеса с крепчайшими спицами и широкие металлические педали. Странник был необыкновенно красив! Скорость менялась при помощи рычага, прикрепленного под рулем, — как мне объяснял Профессор. Еще он объяснял, что для того чтобы не упасть, нужно было постоянно поддерживать динамическое равновесие, говорил что-то про рулевую ось и точки опоры, которые смещались в сторону, и про скорость вращения колес, но я не только почти ничего не понимал из произносимого, я уже почти ничего и не слышал.
В нетерпении я сел на своего двухколесного друга, который, к моему удивлению, даже не собирался быть покладистым, каким был в руках Филина. Резвый, он словно вставал на дыбы или норовил лягнуть задним колесом, а я не мог удержать равновесие и заваливался. Это было больно и очень обидно. Филин смотрел на меня с разочарованием, а Профессор стал учить кататься на велосипеде. Сначала он держал одной рукой сиденье, а другой руль, регулируя равновесие, пока меня качало на неустойчивых колесах из стороны в сторону.
— Ты все можешь, — повторял он мне, — только поверь в себя.
Еще через какое-то время он стал отпускать нас со Странником почти в свободное плавание, только слегка поддерживая одной рукой, а вскоре уже бежал трусцой рядом с нами и помогал только на поворотах. Через два часа я стал ловчее, зато Профессор при этом заметно сдал. Он был весь растрепан, вспотел, и у него появилась легкая отдышка, а я и не заметил, что он совсем убрал руки и вот я уже мог самостоятельно ехать!
Скучающий Филин, наблюдая за нами, крикнул: «Ты спишь или едешь? Давай быстрей!». Мне и самому хотелось прибавить скорость, но я пока не решался, потому что было страшно упасть с железного коня и стать предметом насмешек. Я хотел, чтобы Профессор и Филин нами гордились. Но тут я даже не понял, как нас понесло, ведь поначалу я еще крутил педали, а потом только вытянул ноги по бокам и из-за быстрых оборотов никак не мог поставить ступни обратно. Филин начал было выкрикивать что-то про тормоза, но я ничего не слышал, потому что, был уже далеко и не заметил, как Странник налетел на камень, отчего я рухнул на землю и кубарем откатился в придорожные кусты.
Подбежавший Филин поднял меня, а Профессор осматривал ссадины на локтях и коленках, приговаривая: «Это ничего. Это заживет». А в моей голове только и пульсировали слова: «Я смог, смог!». Опьяненный своей велосипедной победой, я почти не чувствовал боли. А как же мой конь? Я смотрел на Странника, который, как и я, получил несколько ссадин, а Филин спросил: «Что, сядешь снова на этого зверя»? На что я уверенно закивал головой, а он в ответ пробурчал недовольное «посмотрим…», но уже мягче, чем когда-либо, а впрочем, мне это могло только показаться.
Когда я окончательно выздоровел, Профессор стал учить меня письму. Потихоньку я освоил грамоту и, пусть я все еще не мог говорить, читал я бегло, книгу за книгой, отчего мое израненное, зажатое воображение потихоньку расширялось, впитывая в себя образы, которые закаляли сознание больше, чем ночь в трущобах, а каждая строчка насыщала больше, чем кусок украденного хлеба…
Иногда Филин приходил задать Профессору какой-нибудь важный для себя вопрос. Это могло быть слово, которое он вспомнил, но не знал его значения, географическое название местности, которую мы проезжали, или иной «механический аспект», который ему было важно прояснить. Как всегда немного поразмыслив, Профессор безошибочно отвечал на любой вопрос. Я уже давно подсчитал, сколько секунд ему для этого требовалось. Пока Филин ждал, я ясно представлял себе картину, как Профессор листает книгу своей необъятной памяти, находит искомое, пробегается по тексту, закрывает ее, ставит обратно на полку — в среднем на всё шесть секунд. На его ответ Филин то вскидывал вверх свои черные брови похожие больше на крылья, то стягивал их к переносице, да так живо, словно бы они жили своей отдельной жизнью. Под ними располагались его большие глаза — темные каштаны на голубоватых белках. Его кожа была без единого изъяна, будто бы он был выточен из слоновой кости — редкого материала, из которого Профессор вырезал крохотные детали для механических игрушек. Но главной достопримечательностью его лица был, безусловно, нос. Длинный, с горбинкой, он дополнял весь его облик, особенно выразительный в профиль. Иногда, затаившись неподалеку и зажмурив один глаз, я, прикрыв пальцем горбинку его носа, представлял на нем другой, ровный нос. Тогда Филин вдруг полностью менялся, превращаясь из грозного — в забавного, совсем не страшного человека. Но если вдруг он замечал меня за этим занятием, то так сверкал глазами, почти испепеляя меня взглядом, что я мгновенно ретировался. И все же я старался нечасто попадаться ему на глаза, в основном наблюдая за ним издали, насколько это было возможно, понимая, что прежде чем он простит мне вторжение в его пространство, должно пройти время…
В свою очередь мрачный Филин тоже не стремился подружиться со мной. Он вообще мало разговаривал и больше возился с Домом, иногда обсуждая с Профессором дорогу, место привала или пункт назначения, но коротко, по существу и без лишних слов. Словно бы что-то его сковывало. Я видел, как иногда он хотел сказать что-то эмоциональное, красноречиво выразить мысль, но почему-то вдруг осекался, переставал жестикулировать, не позволяя себе даже улыбаться, хмурился еще больше и уходил, сверкая глазами.
В перерывах между вождением Дома я видел как Филин старательно, день за днем делал скворечники, словно выполнял поставленную перед собой задачу или следовал необъяснимому зову души — сделать сотни, а может быть, и тысячи убежищ для пернатых. Его скворечники были устойчивы почти к любым погодным явлениям и помимо всего — необыкновенно красивы. Круглые, прямоугольные, квадратные, — Филин самозабвенно выкрашивал их в яркие цвета, отпугивая такой пестротой хищников. Предварительно изучив местность, на которой обитали те или иные птицы, он делал скворечники именно для них, учитывая их предпочтения. Прибивал жердочки разной длины, выше или ниже, делал не один, а несколько входов, сверлил дырки на дне или приколачивал какие-то ступеньки, словом, устраивал лучшее жилье, какое только могли себе представить эти птицы. По готовности такого домика, Филин уходил в лес, подальше от дороги, и устанавливал свой подарок. Для этого он пользовался механическими складными руками, сделанными Профессором. Они вытягивались на невероятное расстояние, могли достичь почти любую высоту, давая возможность прикрепить скворечник к стволу в самом труднодоступном месте. Помимо всего Филин учитывал такие нюансы, как размещение скворечника в определенном направлении и под определенным углом, чтобы в него не сильно задували ветра, и не заливалась дождевая вода, а также обязательно учитывал положение относительно солнца, чтобы внутри домика птицы не страдали от жары. Будто бы в Филине жил дух его собственной птицы. Профессор когда-то рассказывал мне, что народ Филина верил в духов. Конечно же, больше всего я хотел знать, как и почему Филин оказался в доме Профессора, но все еще ничего не мог спросить…
Проходя мимо закрытой двери комнаты Филина, не желающего впускать меня в свое пространство, я вспоминал свою сестру. Как передо мной Филин — я закрывал дверь своей комнаты перед ее носом, и малышка оставалась за пределами своих надежд, грустная и отвергнутая мною. Еще какое-то время я слышал ее тяжелые вздохи и знал, что если прямо сейчас открою ей, она, смахнув с лица печаль, а возможно уже навернувшиеся от обиды слезы, улыбнется, быстро усядется на стул и будет радостно болтать маленькими ножками, наблюдая за тем, что я делаю. Но тогда она меня раздражала: слишком игривая, слишком глупая, слишком липучая. Она мне надоедала. Теперь же, стоя возле закрытой двери Филина, я понимал, что ей просто не хватало друга, брата, как и мне сейчас.
Шрамы от Пуговицы на моих ладонях уже зажили, и я катался на своем любимом велосипеде каждый день, освоив самое сложное вождение «без рук», бесконечно гоняя Странника даже просто вокруг Дома, когда мы делали остановки. Ларго от радости такой компании всегда бряцал нам каким-нибудь железом в знак приветствия, а я, отпуская руль, хлопал в ладоши или махал ему в ответ.
Однажды Профессор, наблюдая за нами, ушел на некоторое время в мастерскую, а когда вернулся, за его спиной раздалась звонкая металлическая трель. Мне показалось, что это колокольчик, но звук был близким к механическому.
— В какой руке?
Я показал на левую и угадал. Это был велосипедный звонок. Оттягивая пальцем железную лапку, Профессор негромко в него зазвонил и улыбнулся своей лучезарной улыбкой.
— Тебе нравится этот звук? Это удивительное «дзинь»?
Он смотрел на меня, прямо в глаза, куда-то еще глубже, и я, как всегда, раскрывался ему навстречу всей душой, испытывая необыкновенное счастье…
Профессор протянул мне звонок, который вдруг сверкнул знакомым мне блеском. На верхней части его полусферы была закреплена моя Пуговица, которую я ему подарил…
— …Чтобы помнить, не обязательно резать ладони, можно просто звонить в звонок…
Я смотрел на мою оплавленную Судьбой Пуговицу, которая, благодаря Профессору, вновь обрела жизнь. Более того, она зазвучала легкой трелью светлой грусти, почти хрустальным «дзинь», и не было ничего лучше, чем такой удивительный подарок, ставший частью моего велосипеда, — воплощение новой жизни, где нашлось место и моему прошлому, — ведь это «дзинь» вызывало образ матушки и ее теплых рук, образ сестры, и даже отца, который мне улыбался.

Глава 5
Легкий поворот калейдоскопа, и самоцветы меняют узор…
Когда мы нащупаем в озябших пальцах протянутую Тобой нить, мы наконец поймем, как ожидание мечты в Твоих руках обретает дух и плоть… Ради этих вожделенных мгновений, Ты делаешь невозможное возможным: переплетаешь тысячи дорог в одну, и только Тебе известно о назначении каждой…
Во время наших остановок на природе, Профессор брал меня с собой на прогулки, рассказывал о разновидностях местной флоры: от трав до плодовых растений. Занимаясь растениями как частью природы, он определял их, характеризовал и систематизировал. Библиотека Дома была уставлена книгами в кожаных переплетах с вензелем Профессора, в которых содержалось описание и анализ всевозможных трав, кореньев, цветов, грибов и деревьев. Книги были пронумерованы и расставлены на полках в алфавитном порядке с аккуратностью и педантизмом, которые Профессор проявлял в любой работе. Я с интересом читал его записи о многообразии флоры, собранные им сведения о тысячах растений, в том числе комнатных и оранжерейных, причем описание характеристик каждого вида сопровождалось искусно выполненной им зарисовкой. В каталогах кроме описания видов, родов или семейств представителей флоры с анализом их возраста, условий произрастания и распространения, особое внимание уделялось классификации на консервативные и прогрессивные виды, а также их взаимодействию. Труды эти опирались не только на наблюдениях, но и на сведениях людей той или иной местности об окружающем их мире. Также как и врачевание Профессора основывалось на многовековом опыте и знаниях, тщательно собранных у целителей и травников, которых он встречал на своем пути. Располагая сокровищницей описанных лекарственных растений, большинство из которых не были широко известны, он мог в любую минуту приготовить лечебный настой от множества болезней. В свое время начало этой науки для Профессора положил известный Травник, у которого он когда-то учился, постигая премудрости врачевания, и теперь я помогал Профессору в подготовке своему учителю необыкновенного подарка, над которым он трудился почти год. Это были большие механические часы, внутри которых помимо циферблата, фаз Луны, дня и ночи имелся встроенный механический календарь посева и цветения определенных трав, указывающий дни в году, когда их следует собирать. Они уже были почти готовы, когда Профессор объявил, что мы направляемся к Травнику в Плавучую Деревню для того, чтобы вручить ему Подарок.
Я захлопал в ладоши, радуясь всему новому, что мог встретить, но Филин, сверкнув глазами исподлобья, приструнил меня одним взглядом, насупился, произнеся свое ворчливое «понятно», а на следующий день мы тронулись в путь.
По дороге мы видели, как косяки рыбы шли по реке, перепрыгивая через мелкие препятствия, неслись вперед, будто наперегонки с Домом. Мы продвигались вдоль берега, иногда останавливаясь на перевалах, а они плыли дальше и, как мы наблюдали, — нерестились в верховьях, а потом возвращались к устью и там уже наши пути расходились.
Мы проезжали большие поля и маленькие лужайки, расположенные на террасах обрывистых склонов. Тщательно высаженные руками человека и орошаемые талой водой с гор, они создавали гигантские ступеньки, в которых росли злаковые культуры всех оттенков зеленого. Вода попадала в предгорья, а когда потоки разливались в долине, замедляя бег, они останавливались и затихали, образовывая цепь болотистых лугов. Это были замкнутые миры, где улитки чистили водоемы от водорослей и сорняков, а лягушки помогали бороться с вредоносными насекомыми. Если те поля и возделывал человек, то его сосуществование с природой приближалось к идеальному: они не уничтожали, а напротив, помогали друг другу.
Профессор часто говорил о «дестабилизации экосистемы — могиле человечества», которую оно так старательно себе копало. «Самое ценное, что мы можем передать следующему поколению, это выверенный алгоритм мирного взаимодействия человека с природой», — говорил он мне. Обращаясь к примерам истории, Профессор рассказывал, что если раньше периоды вымирания различных видов животных и растений были вызваны такими причинами, как столкновение с небесными телами, землетрясение или извержение огромных вулканов, то текущий период, на его взгляд, был печально уникален: с момента расселения людей по планете, они ее разрушали, охотясь, убивая, ломая или опустошая, словом, всячески нарушали среду обитания и разносили болезни. Исчезновение целых видов существ, по мнению Профессора, было важнейшей проблемой. В самый разгар своих размышлений вслух, он начинал расхаживать по комнате, иногда жестикулируя, снимал очки, поправляя отвинтившуюся дужку, и растирал колено ладонью. Открывая один из ботанических каталогов, он говорил: «Вот, например, это растение является единственным источником препарата против москитной лихорадки. А теперь представь, что будет, если оно исчезнет?! Когда один вид исчезает, возникают популяционные изменения и в других видах, и тогда экосистема необратимо меняется… Понимаешь?». Я кивал ему в ответ, даже если не всегда понимал, о чем шла речь. Глядя на его волнение и желание донести до меня «истину», я просто не мог поступать иначе. Разговоры эти частенько прерывались Филином, который из рубки Дома легким гудком предупреждал о наступлении полночи, и мы прощались до следующего утра.
Оставляя Дом без присмотра, Филин как всегда кряхтел от недовольства, долго закрывал его на всевозможные замки, секретные и не очень, перепроверяя по несколько раз — все ли надежно заперто. Мне казалось, что Ларго обреченно вздыхал, когда его оставляли одного. Хотя, быть может, я путал эти вздохи со звуками, издаваемыми остывающими трубами. В эти минуты Филин обычно увещевал Дом: «Не скрипи, в другой раз и ты с нами», — и это означало, что он готов ненадолго с ним расстаться. Последний щелчок последнего замка, и мы уже шли по тропинке вниз к реке, где, по словам Профессора, в камышах была спрятана небольшая лодка.
Филин обычно нес большую дорожную сумку Профессора, в которой лежали различные детали, мешочки с крепежом: гайками, винтиками, гвоздями, инструментами, а также множество пузырьков с настойками из редких трав. Кто знает, что именно и в какой момент может пригодиться? На этот раз в этой сумке лежал и подарок Травника. Мы с Филином плелись позади Профессора, потому что, как правило, он никуда не спешил, любил частенько останавливаться возле какого-нибудь заросшего пруда или интересующего его дерева, постоять несколько минут и сделать запись в своем блокноте, с которым никогда не расставался. Сейчас он встал возле небольшого куста, внимательно разглядывая его листья и почву, на которой он произрастал. Мы с Филином были неподалеку, когда он протянул мне драгоценную сумку Профессора.
— Хочешь понести? — спросил он меня таинственным голосом, понимая, что для меня это большое доверие с его стороны. «Конечно же, я хочу! Спрашиваешь?!» — я энергично кивал головой, не зная, как еще выразить свою радость, а Филин посмотрел на меня своими огромными глазами, словно и вправду был птицей и, тут же прищурившись, добавил: «А ты попроси».
Я чуть не задохнулся от возмущения, а он, глядя на меня, все чего-то ждал. И ужаснее того, что я не мог ему ответить, был его разочарованный взгляд. Он отвернулся в сторону со своим «понятно», и мы пошли дальше, делая вид, что все в порядке вещей.
Но Профессор всё и всегда знал. Ему необязательно было видеть, что происходит между мной и Филином, он, лишь окинув нас взглядом, сразу всё понимал. Этот удивительный человек учил меня смотреть на вещи по-новому, учил радоваться и принимать. «Разочарование — это чувство, которое может испытывать только неравнодушный человек. Если ты все еще приносишь огорчение Филину, значит, он все еще ждет, что ты заговоришь, — говорил мне Профессор, пока я украдкой вытирал слезы. Он ждет, когда ты заговоришь, а ты — что его участие в твоей жизни будет выражаться иначе. Ожидания почти всегда приносят разочарования, мальчик мой. Ничего не жди, просто никогда не теряй надежды».
У берега мы сели в лодку, о которой знали только те, кого жители Плавучей Деревни были готовы подпустить к своему жилищу. Пройдя устье реки, мы вышли в огромное озеро, где и располагалось это селение, в тридцать домов, не больше. Пока мы плыли, я слушал рассказ Профессора о Плавучей Деревне, которая стоит здесь, на воде уже триста лет. В ней жили ведуны и врачеватели, многих из которых Профессор знал лично. Когда-то в знак благодарности за знания, которые они ему передали, Профессор сконструировал механические ходули, на которых дозорные могли с легкостью перемещаться по озеру, опираясь о дно, чтобы охранять свое поселение и предупреждать приход незваных гостей. Иногда к ним пытались проникнуть охотники поживиться чужим добром, полагая, что у жителей деревни есть драгоценные камни, которые можно было намыть у берегов реки, но местные этот промысел не вели, а если у кого и имелись камешки, то они были, скорее случайной находкой.
— То есть надо быть готовым ко всему, — заключил недовольно Филин. Но Профессор, посмотрев на него, миролюбиво улыбнулся.
— Главное сохранять спокойствие, — сказал Профессор, — и просто наблюдать, — добавил он, глядя на меня.
Словно в подтверждение этого разговора нас внезапно окружили дозорные на высоких механических конструкциях, о которых рассказывал Профессор. Но даже если бы он ничего о них не рассказал, я бы сразу признал его работу. Филин напрягся всем телом, но один из дозорных, узнав Профессора, приложил руку к груди, кивнул головой, сделал знак другим и беззвучно исчез в окружавшем нас тумане вместе с остальными так же неожиданно, как и появился.
Мы доплыли до дальнего дома, который скорее был похож на огромную плавающую комнату с бумажными, как мне показалось, стенами, построенную на деревянном плоту. Бедность проглядывала из всех его щелей. Вместо двери — большая занавесь, горшки с цветами, готовые развалиться на части — перевязаны веревкой… Заметив мой взгляд или просто читая мои мысли, в чем я был совершенно уверен, Профессор сказал, что внешний лоск для жителей этой деревни не имеет никакого значения и что они предпочитают оставаться чистыми в душе.
На пороге плавучего дома я увидел девочку с необычными чертами лица: нависающие веки, узкий разрез глаз. Казалось, она смотрит с прищуром, и все же взгляд ее был мягким, а оливковая кожа слегка блестела, отражая щедрое солнце. На вид ей было лет пятнадцать. Расчесывая гребнем густые и черные как смоль волосы, она вплетала в них небольшие цветки. Я не мог оторвать глаз от этого действа. В ту минуту мне казалось, что вся гармония мира была не где-нибудь, а тут, в длинных волосах этой девочки, покачивающейся в своем плавучем домике, в окружении небольшой лужайки с цветами в горшочках, что плавали вокруг, словно поплавки. С другой стороны на маленьком пришвартованном плоту росла карликовая яблоня, а мостиком к ней служила деревянная лестница. Это был сад, состоящий из единственного деревца на воде, а вокруг него было укреплено множество жердей с клетками, в которых пели и чирикали разные птицы, каждая на свой лад.
В этом гомоне я слышал и голос девочки: чем ближе мы подплывали, тем четче я слышал переливы вибрирующих гортанных звуков от низкого к высокому и обратно, прерывающимися порой резкими выдохами, свистами и трелями. Поочередно юная птичница повторяла голоса всех пернатых, оказавшихся в ее плену, а они вторили ей, как своему сородичу.
Я огляделся вокруг. Странное поселение, где жили люди… Дни напролет они проводили в воде, занимаясь своими делами: ловили рыбу, стирали одежду, мылись, а дети — просто играли в этом растворе бурого цвета, напоминающем скорее жидкую глину, чем воду. Я не понимал, какая здесь может водиться рыба, но ведь и рыба водилась, и люди жили, и как я видел, вполне счастливо, насколько человек может быть счастлив на воде.
«Что мы знаем о том, кто у кого в гостях: суша у воды или вода у суши?» — почему-то спросил Филин, на что девочка, внезапно замолчав, посмотрела на нас глазами, полными интереса и тут же, явно не понимая значения слов, коверкая их и проглатывая звуки, тем не менее, воспроизвела вопрос Филина. Она подражала любым звукам, которые слышала — и птиц, и людей. Это невинное занятие, однако, меня смутило, я отвел взгляд и машинально поправил повязку, означающую мое молчание. Когда я набрался смелости вновь на нее взглянуть, мы уже были на расстоянии вытянутой руки и пришвартовались у ее дома.
Неожиданно для меня Профессор стал говорить с ней на незнакомом мне певучем языке со странными нелогичными ударениями в словах, резкими перепадами интонации, издавая то писклявые, то низкие гортанные звуки. Но девочка не стала его передразнивать, а склонив приветственно голову и приложив руку к груди, спокойно ответила. Профессор пояснил нам, что девочка с оливковой кожей — внучка Травника и что нас пригласили войти в дом.
Филин привязал лодку к причалу и, последовав примеру Профессора и «Оливковой Девочки» — как я ее про себя навал, мы сняли перед дверью обувь и вошли в дом.
Внутри дом выглядел как большая лаборатория по созданию различных лекарственных средств: мазей, смесей, порошков и жидкостей. На большом столе были расставлены запечатанные стеклянные банки и глиняные сосуды с надписями, которые я не мог прочитать, ступки с пестиками и венчиками разных размеров, колбы, весы, множество инструментов — деревянных и металлических. В окружении полок с книгами, а также огромного количества трав, развешанных пучками вдоль стен, сидел худощавый старец с точно такой же оливковой кожей и такими же глазами, как и у его внучки. Увидев Профессора, Травник засветился улыбкой. Я увидел в нем то же, что меня так удивляло в Профессоре: ум в глазах и любовь, с которой он принимал все происходящее. Он распростер руки, и они с Профессором обнялись. Мы с Филином стояли поодаль, пока Оливковая Девочка не предложила нам жестом присесть на подушки в дальнем углу комнаты, одновременно разжигая огонь под странным чайником с носиком длинной в целую руку.
Пока мы сидели в ожидании напитка из трав, собранных в прибрежных лесах Плавучей Деревни, Профессор и старец переговаривались на странном «птичьем языке». По просьбе Профессора Филин достал из сумки подарок, который тот преподнес своему учителю. Девочка подбежала посмотреть на часы, провела кончиками пальцев по корпусу и, хихикнув, стала разливать нам травяной напиток. Пока мы его пили, в ее руках оказалась металлическая подковка, точно такая же, какую я однажды видел в комнате Филина. Я все еще не знал назначение этого предмета, но вдруг она приложила ее к губам, и, не плотно смыкая зубы, стала дергать стальной язычок инструмента, создавая удивительные по своей красоте глухие металлические звуки. Вот оказывается что это такое! Я даже не мог себе представить, что суровый Филин играл на музыкальном инструменте, и, конечно же, я был в восторге! Потрясенный своим открытием, я повернулся к Филину и выпучил на него глаза, всем своим видом говоря, что я, наконец, понял, что было у меня в руках в ту неловкую минуту, когда он застал меня в своей комнате.
— Я смотрю, сегодня ты особенно многословен, — произнес Филин, понимая все, что я пытался ему донести. — Понятно… — произнес он, и снова я видел это разочарование в уголках его скривленных губ. Но звуки музыки завораживали меня больше насмешек Филина, а Оливковая Девочка, продолжая играть, смотрела на меня, улыбаясь одними глазами.
Внезапно всю эту идиллию нарушил чей-то душераздирающий вопль за стенами дома. Мы переглянулись с Девочкой, которая тревожно нахмурилась и поднялась. Следуя какому-то внутреннему зову, я тоже вскочил со своего места и, опережая ее, побежал к двери. Я смотрел по сторонам в поисках того, кто нуждался в помощи и помимо клеток с птицами, вдруг увидел возле причала клетку, которую почему-то не заметил раньше, — в ней сидел кот, орущий во всё горло. Я поспешил к нему на помощь, но, сделав несколько шагов, замер. Перед клеткой, а теперь уже и передо мной скрутилась в кольцо большая змея с поперечными черно-белыми полосками, которая шипела и никак не могла решить, кого укусить первым: меня или кота. Это замешательство дало возможность Оливковой Девочке догнать нас, и в ту самую секунду, когда змея сделала выпад все-таки в мою сторону, в ее шее оказался дротик с перьями на конце. Змея тотчас перестала шипеть и обмякла. Я обернулся. В руках Девочки была бамбуковая трубка, из которой вылетел дротик, и теперь змея распласталась перед нами полосатым носком, почти внушая жалость. Пока я стоял как вкопанный, Девочка, нисколько не смущаясь, взяла змею за хвост и втащила в дом. Она положила ее на стол Травнику, который пояснил нам, что в деревне уже привыкли к нашествию водных змей и что у всех всегда с собой есть дротик с усыпляющим веществом и трубка, с помощью которых они и обороняются, и ловят их, чтобы сцедить бесценный яд, а потом отпускают на волю. Он ловко открыл пасть этой страшной рептилии и нацедил яд в специальную банку. Девочка подошла к нему и осторожно макнула в красноватую жидкость шелковую нить. Я не понял, для чего она это сделала, а Травник лишь улыбнулся ей, переливая яд в маленькую колбу, запечатал ее сургучом и отдал Профессору, который с благодарностью принял этот ценный дар. Пока Травник упаковывал яд, Девочка положила змею в глиняный кувшин, плотно закрыв крышкой с отверстиями, и почему-то мне улыбнулась. Я видел, как она вспрыгнула на маленький плот и, отталкиваясь от дна длинным шестом, за считаные секунды оказалась возле клеток с птицами. Скоро она вернулась с разноцветными перьями в руках, отчего Филина передернуло, но она лишь перекинувшись парой слов с Травником, села возле огня и стала что-то мастерить. Спустя минуту, она протянула музыкальную подковку Филину, призывая его сыграть. Поначалу Филин хмурился, но Профессор перевел нам просьбу Девочки — «помочь ей» и Филин сдался. Инструмент сначала ворчливо задребезжал, но потом стал издавать свои завораживающие звуки. Пока Филин играл, поднимая и опуская брови, Травник объяснял нам, что, согласно древнему обычаю, все жители деревни делают амулет, который называется «Ловец снов». Он защищал спящих от плохих снов, в то время как хорошие, продолжая свой путь, снились людям. Многие приплывали в деревню именно за этим амулетом, который изготавливался согласно строгим традициям с учетом всего необходимого: прут особого дерева, шелковая нить, намытые в реке камни, перья живых птиц и определенное количество завязанных узелков, все, что надо для поимки ночных кошмаров.
Оливковая Девочка взяла гибкий прут дерева, соединила оба конца и посмотрела на меня. Хитро прищурившись, она подхватила кончик нити, разматывая большую катушку, и связала концы прута вместе. Через минуту в ее руках был круглый каркас, который она начала неторопливо оплетать толстой нитью. Закончив, она взяла шелковую нить, на которой уже высох яд змеи, и стала плести внутри кольца сеть, один за другим накладывая витки внутри круга. По мере плетения она нанизывала на нить маленькие красные камни, которые зависали как роса в паутине. Она что-то приговаривала, переплетая их между собой, превращая в узоры. Травник продолжил свой рассказ о том, как его внучка и изобрела «Ловушку Судьбы». Для этого она смачивала ядом водной змеи нить, из которой плела силки, куда, по ее мнению, и должна была попасть Судьба. Но Девочка не хотела ее отравить, а лишь одурманить, чтобы прежде чем Судьба уйдет из силков, человек успел бы выпросить у нее свое счастье. И люди старались заполучить эту «Ловушку Судьбы» даже чаще, чем «Ловца снов». Они верили, что с ее помощью смогут поймать свою Судьбу.
Мне было смешно и грустно одновременно: заманить в сети Судьбу как какую-то птицу. Думаю, людям просто больше не во что было верить, вот они и приплывали сюда отовсюду, добирались издалека месяцами, лишь бы стать обладателем своей маленькой надежды, чтобы поймав Тебя, выторговать Твою благосклонность. Но я хорошо знал, как они заблуждались.
Зачем Тебя ловить, если Ты всегда рядом? — думал я, видя Тебя на расстоянии вытянутой руки. Ты стояла возле Оливковой Девочки и наблюдала, как та перебирает тонкими пальчиками узелки этих необыкновенных узоров безвременья. Ни одна «Ловушка Судьбы» не повторялась и делалась только для того, кто лично присутствовал во время этого действа. Люди думали, что получая свою «Ловушку», к ним придет удача, и что со временем Ты все равно в нее попадаешься.
Склонив голову набок, Ты внимательно рассматривала эту странную Девочку, которая осмелилась подумать, что ей подвластно расставить для Тебя силки. Какая нелепость… Ты и есть одна большая ловушка, которая может поглотить любого из нас, было бы Тебе угодно. Но пока Тебе не было угодно. Пока Ты просто усмехалась этой дерзости. В любой миг Ты могла лишить ее всего, что у нее было, и эта власть, как всегда, забавляла Твое холодное сердце. Улыбаясь одними губами, Ты склоняла голову то вправо, то влево в сомнении: как же Тебе поступить с такой самоуверенностью? Сделать из Девочки юродивую, лишив разума? Или еще посмотреть: а вдруг за свою жизнь она «наплетет» что-то полезное? Я хорошо знал этот взгляд, но что я мог?
Я смотрел на Филина, которому было не по себе. Он мрачно наблюдал за Девочкой, когда она привязывала к кругу перья, ерзал на месте, сверкал глазами, его лоб покрылся испариной, но он держал себя в руках, все еще играя на музыкальной подковке. Травник словно застыл на месте, и мне даже показалось, что он, как и я, видит Судьбу, по крайней мере, он смотрел в ту же сторону, а Профессор глубоко задумавшись, временами уходил мыслью куда-то далеко за пределы этой комнаты и снова возвращался. Я смотрел на это «оливковое спокойствие» и недоумевал. Казалось, девочке было все равно, что Ты о ней думаешь. Периодически она хитро щурилась, поглядывая на меня, улыбалась, нашептывала странные по звучанию слова, которые Профессор иногда переводил, но я все равно не запоминал их. Короткие простые словосочетания. Для каждого человека она произносила «его слова», которые рождались вместе с этим рисунком в круге. Тогда искусница, подхватывала их и произносила вслух, тут же вплетая в нити своей «Ловушки».
И все же я знал, что это были просто кольца перевязанные нитками, с перьями и камнями, а настоящая добыча никуда не уходила. В том и была Твоя Ловушка. Ты все еще стояла там, размышляя как Тебе быть. И пока Тебе было интересно, какой же узор Девочка сплетет в следующий раз, — она действительно Тебя поймала. Ведь Ты стояла там уже Вечность…
Затянув последний узелок, Девочка протянула мне «Ловушку». Филин удивленно вскинул брови и перестал играть на подковке. Профессор и Травник улыбнулись, а я в недоумении взял в руки невесомое творение Девочки и поклонился ей в знак благодарности. Неожиданно она залилась хохотом и, вскочив на ноги, вышла из дома. Через мгновенье она вернулась, протягивая Филину клетку, в которой, уже давно успокоившись, мирно спал большой кот.
Профессор перевел нам надпись: «Марс. Потомственный мышелов». Девочка начала щебетать о том, что когда-то этот камышовый разбойник был привезен сюда, чтобы ловить мышей.
— Двести восемьдесят шесть мышей — перевел Профессор.
— Понятно… А кто вел счет? — не моргнув, скептически спросил Филин, но девочка не отреагировала на его вопрос. Она лишь спросила у Профессора, не могли бы мы забрать кота с собой, потому что, чтобы они ни делали, как бы его не гоняли, кот знал все лазейки и нещадно душил всех несушек Плавучей Деревни, а постоянно в клетке его было невозможно держать. Мы слушали историю кота и понимали, что он так и будет душить птиц не ради еды или вознаграждения, а по своей кошачьей природе, из чувства кошачьего долга и просто потому, что так написано на его кошачьем роду.
Сейчас кот выглядел вполне безобидно, хотя мы ожидали увидеть дикое животное со сверкающими зелеными глазами. Ведь только такого зверя можно было заточить в эту ужасную клетку. Но перед нами лежал пушистый комок шерсти палевого цвета, которому было совершенно безразлично или просто даже лень взглянуть в нашу сторону. Он валялся брюхом кверху, задрав лапы, совершенно ничего не опасаясь, находясь в бесконечном доверии к миру, и сладко спал. В книгах я читал о том, что сначала люди полюбили котов, и только потом начали задумываться об их пользе, и даже если не находили ее для себя — все равно продолжали любить эти урчащие меховые моторчики. Я подумал, что, быть может, нам рассказывали о другом коте, а не об этом миролюбивом тюфячке, но нет, это все-таки был кот-птицегуб собственной персоной. Позже мы узнали, что у Марса были не зеленые, а удивительные глаза чайного цвета и даже нос с маленькой горбинкой, до смешного напоминающий нос Филина. Но сейчас я смотрел на Профессора умоляющим взглядом, надеясь, что мы обязательно заберем кота с собой. Какое-то время Профессор слушал Оливковую Девочку, переводя взгляд то на меня, то на Филина, который пробурчал, что «у нас нет мышей, и дармоеды нам не нужны».
И вдруг почему-то именно эта фраза сработала как рычаг, побуждающий Профессора принять решение, будто бы он только ее и ждал.
— Хорошо, — кивнул он, — Марс так Марс.
Я все еще разглядывал пернатых узников, а Филин нетерпеливо смотрел по сторонам в ожидании какой-то опасности, а может просто оттого, что видел птиц в клетках. Профессор и Травник поклонились друг другу, прижав руки к груди в знак взаимной признательности.
Филин поставил большую клетку с котом в лодку, но вдруг тот начал истошно мяукать, ныть, скрести когтями пол, явно намереваясь из нее выбраться. Он тянул лапу между прутьев, растопырив когти, пытаясь хоть как-то зацепиться за полу одежды Филина, а тот ворчал: «Вот ведь глупое животное, как оно есть. Что скребешься? За борт хочешь?», но поймав на себе долгий взгляд Профессора, Филин, насупившись, притих, впрочем, как почему-то умолк и кот. Теперь Марс беззвучно старался дотянуться до кожаной сумки Профессора, а я пытался поймать его за лапу, за что и удостоился грозно сверкающего взгляда Филина и тоже притих. И через минуту мы тронулись восвояси с ценным грузом на борту.
Уже наступила ночь, и, чтобы осветить озеро, жители деревни зажгли висящие возле своих домов лампы и пустили по воде легкие лодочки бумажных фонариков, которые сопровождали наш путь.
Я всё смотрел на Оливковую Девочку, впервые чувствуя странное влечение, с которым не был знаком прежде, и, не зная, как с этим быть, отвел глаза. Так и не услышав моего голоса, она не знала, как меня передразнить и, стала зачерпывать воду, стараясь меня обрызгать, при этом хохоча как одержимая. Травник пытался утихомирить озорницу, что-то приговаривал, поглаживая ее по голове, а я не знал, куда деться от такого внимания, но спрятаться было негде. Профессор улыбался им, а Филин, ни на что не отвлекаясь, продолжал грести в сторону Дома. Тогда она прикрыла себе рот рукой, все же передразнивая меня, но прыснув со смеха, захохотала еще громче. Не знаю почему, но вместо того чтобы замкнуться от униженья, как это бывало со мной раньше, я вдруг почувствовал под своей повязкой улыбку. Я снял ее и помахал ей на прощанье, чем явно удивил Профессора и внес толику тревоги в привычный уклад жизни Филина. Но все вернулось на круги своя, я вновь повязал себе рот и уже просто помахал ей рукой. Почему-то мне хотелось верить, что в своем крохотном мире на воде, в мире странных ловушек и ловцов, Оливковая Девочка была действительно счастлива…

Глава 6
Легкий поворот калейдоскопа, и самоцветы меняют узор…
Густой лес, пропитанный зноем дня, наполненный щебетом птиц и теплый запах душистого поля… Из тенистой прохлады зарослей Ты выйдешь на луг с высокой колосящейся травой и цветами: желтые, сиреневые, красные — разбросанные тут и там пестрые маковки зеленого покрова. Кто-то выводит заливистые рулады в вышине крон, кто-то шуршит под ногами, торопясь юркнуть под куст… Но Ты, растянув свою невидимую паутину, словно в гамаке качаешь попавшихся в нее, обволакивая дурманящим ароматом до тех пор, пока мы наконец не привыкнем… И когда однажды возникнет желание выпутаться из трясины наших привязанностей, что мы можем обещать взамен, чтобы Ты нас отпустила?
Как говорил Профессор: «В каждый дом когда-нибудь приходит свой кот». И в наш пришел свой. Оказавшись на берегу, мы решили отпустить Марса на свободу, но он почему-то даже не пожелал выйти из клетки. Он шипел и сопротивлялся, и Филин даже получил несколько боевых царапин, пытаясь его оттуда вытащить. Тогда Профессор остановил все это одним жестом руки, и мы внесли клетку в Дом. Когда мы вошли, мне показалось, что Ларго удивленно ухнул, а Марс неожиданно для всех величественно вышел из клетки и, задрав хвост, поприветствовал его, произнеся впервые свое многозначительное «мек».
Несмотря на то, что Марс принял свое новое жилище, первые дни он ходил с испуганным видом, то и дело, в ужасе отскакивая от самых простых предметов, таких как веник или стул, поднимал шесть дыбом и возмущался, но принюхавшись, всё же мирился с существованием непонятных ему предметов.
Для того чтобы кот не точил когти о косяки, Профессор придумал для него специальную обивку, и теперь Ларго изнутри был местами обит толстым войлоком. И все же Марсу это не всегда нравилось. Войлок войлоком, а драть он больше всего любил дерево или кожу. Первой жертвой его когтей стала дорожная сумка Профессора, за которой Марс начал охотиться еще в лодке.
— Вот ведь разбойник, — покачал головой Профессор и поручил Филину воспитание кота. Для человека, который строил скворечники, защищая птиц от таких как Марс, и для которого дисциплина была превыше всего — это стало настоящим испытанием. А Марс будто бы услышал слова Профессора и с той самой минуты стал крутиться вокруг хмурого Филина, всюду его преследуя. О положительных качествах Филина Марс ничего не знал и игнорировал любую дисциплину: ел, когда вздумается, спал, где ему нравилось и когда хотелось, и в основном бездельничал.
В свое свободное время и когда Марс того хотел я играл с ним, привязывая к нитке фантик, пытаясь поймать его как на крючок, бегал за ним по дому, а потом он гнался за мной, пока мы не надоедали Филину, который угрожающе кричал на весь коридор: «Ма-а-а-арс!», и мы затихали.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.