
«Этажи»
№2 март 2016
Главный редактор — Ирина Терра
Редактор отдела поэзии — Игорь Джерри Курас
Редактор отдела прозы — Улья Нова
Редактор рубрики «Литературная кухня» —
Владимир Гандельсман
Редактор рубрики «Чердак художника» —
Таня Кноссен-Полищук
Экспертный совет редколлегии:
Вера Павлова
Дмитрий Воденников
Даниил Чкония
Женя Брейдо
Макет, оформление и вёрстка — Екатерина Стволова
Выпускающий редактор — Мария Шандалова
Иллюстрации:
обложка журнала, стр. 4, 109 Таня Кноссен-Полищук
стр. 18 Анна Агнич
стр. 52 Юлия Беломлинская
стр. 63 Римма Мустафина
стр. 88 Виктория Романова
Фотографии:
стр. 129 — 134 Б. Ю. Понизовский
стр. 140 Самарий Гурарий
стр. 137, 145 Анна Артемьева
Сайт журнала: www.etazhi-lit.ru
Эл. адрес: etazhi.red@yandex.ru
Свидетельство о регистрации СМИ
Эл № ФС 77 — 63655 от 10 ноября 2015
© Редакция литературно-художественного журнала «Этажи»
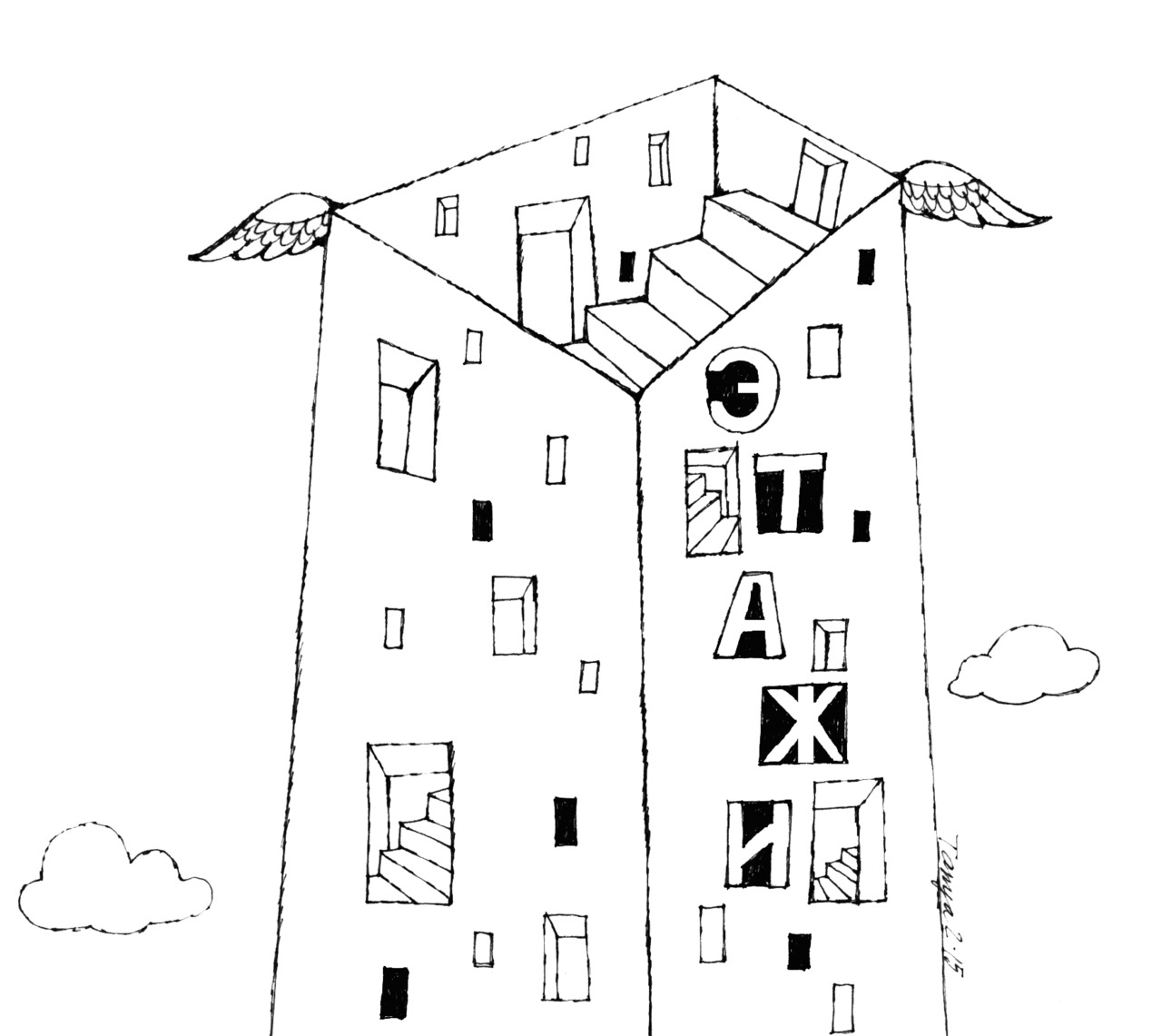
Александр Кабанов
* * *
Море волнуется раз, море волнуется два,
ты замираешь на три где-то у моря внутри,
весь в паутине теней, водорослей, в дыму:
гжель — твое тело, гжель — спишут под хохлому.
Чуешь ли ты меня, видишь ли ты меня,
знай: человек-амфибия просит еще огня,
превозмогая соль, жабры свои садня,
наш человек-амфибия просит еще огня.
Брось ему флягу с джином и подмешай «Tabasco»
в море, чтоб запотела у человека маска,
чтоб отвалился к бесу этот дефис амфибий,
брось ему амфибрахий и за свободу выпей.
Пусть он всплывет и выйдет на освященный берег,
был под водой — сангвиник, стал на земле — холерик,
больше ему не плавать морем в гламурных ластах,
больше ему не слушать марши на всё согласных.
* * *
Летний домик, бережно увитый
виноградным светом с головой,
это кто там, горем не убитый
и едва от радости живой?
Это я, поэт сорокалетний,
на веранду вышел покурить,
в первый день творенья и в последний
просто вышел, больше нечем крыть.
Нахожусь в конце повествованья,
на краю вселенского вранья,
«в чем секрет, в чем смысл существованья?» —
вам опасно спрашивать меня.
Все мы вышли из одной шинели
и расстались на одной шестой,
вас как будто в уши поимели,
оплодотворили глухотой.
Вот, представьте, то не ветер клонит,
не держава, не Виктор Гюго —
это ваш ребенок рядом тонет,
только вы не слышите его.
Истина расходится кругами,
и на берег, в свой родной аул,
выползает чудище с рогами —
это я. А мальчик утонул.
* * *
Речной бубенчик — день Татьянин,
взойдя на пристань, у перил
бездомный инопланетянин
присел и трубку закурил.
А перед ним буксир-кукушка
на лед выпихивал буйки,
и пахла солнечная стружка
морозной свежестью реки.
И, восседая на обносках,
пришелец выдыхал псалмы:
«Пусть голова моя в присосках —
бояться нечего зимы…»
И было что-то в нем такое —
родная теплилась душа,
как если бы в одном флаконе —
смешать мессию и бомжа.
Бряцай, пацанская гитара:
народу — в масть, ментам — назло,
и чуду, после «Аватара»,
нам удивляться западло.
Отечество, медвежий угол,
пристанище сановных рыл…
…он бластер сломанный баюкал
и снова трубочку курил.
Но будет всё — убийство брата,
блужданье в сумерках глухих,
любовь как подлость, как расплата,
любовь, и шансов никаких.
Исход москвичей
Вслед за Данте, по кругу МКАДа, отдав ключи —
от квартир и дач, от Кремля и от Мавзолея,
уходили в небо последние москвичи,
о своей прописке больше не сожалея.
Ибо каждому перед исходом был явлен сон —
золотой фонтан, поющий на русском и на иврите:
«Кто прописан в будущем, тот спасен,
забирайте детей своих и уходите…»
Шелестит, паспортами усеянная, тропа:
что осталось в городе одиночек?
Коммунальных стен яичная скорлупа
и свиные рыльца радиоточек.
Это вам Москва метала праздничную икру —
фонари слипались и лопались на ветру,
а теперь в конфорках горит украинский газ,
а теперь по Арбату гуляет чеченский спецназ.
Лишь таджики-дворники, апологеты лопат,
вспоминая хлопок, приветствуют снегопад.
Даже воздух переживает, что он — ничей:
не осталось в городе истинных москвичей.
Над кипящим МКАДом высится Алигьери Дант,
у него в одной руке белеет раскаленный гидрант,
свой народ ведет в пустынные облака,
и тебе лужковской кепкой машет издалека.
* * *
Чтоб не свернулся в трубочку прибой —
его прижали по краям холмами,
и доски для виндсерфинга несут
перед собой, как древние скрижали.
Отряхивая водорослей прах,
не объясняй лингвистке из Можайска:
о чем щебечет Боженька в кустах —
плодись и размножайся.
Отведай виноградный эликсир,
который в здешних сумерках бухают,
и выбирай: «Рамштайн» или Шекспир —
сегодня отдыхают.
Еще бредет по набережной тролль
в турецких шортах, с черным ноутбуком,
уже введен санэпидемконтроль —
над солнцем и над звуком.
Не потому, что этот мир жесток
под небом из бесплатного вайфая:
Господь поет, как птица свой шесток —
людей не покидая.
* * *
Я люблю — подальше от греха,
я люблю — поближе вне закона;
тишина укуталась в меха —
в пыльные меха аккордеона.
За окном — рождественский хамсин:
снег пустыни, гиблый снег пустыни,
в лисьих шкурках мерзнет апельсин,
виноград сбегает по холстине.
То увянет, то растет тоска,
дозревает ягода-обида,
я люблю, но позади — Москва,
засыпает в поясе шахида.
Впереди — Варшава и Берлин,
варвары, скопцы и доходяги,
и курлычет журавлиный клин
в небесах из рисовой бумаги.
Мы — одни, и мы — запрещены,
смазанные кровью и виною,
все мы вышли — из одной войны,
и уйдем с последнею войною.
Анна Агнич
Ночная почта
1
Из окна спальни родителей, бывшей Оксаниной детской, виден угол необычного дома. Он построен в начале двадцатого века в стиле модерн, но в нем нет характерной для модерна томной изысканности. Дом со всех сторон облеплен чудищами, как если бы химеры вышли из ночных кошмаров и взгромоздились на карнизы и крышу.
Киевляне так его и зовут — «дом с химерами» и рассказывают о нем легенды. Будто бы жил в Киеве купец, и больше всего на свете он любил свою дочь. Девушка утонула в Днепре, а купец сошел с ума, на все деньги построил этот безумный дом и довольно скоро умер. По другой версии, утонула дочь архитектора. Он, как можно легко догадаться, сошел с ума, выстроил этот безумный дом и умер. Еще говорят, что все было проще: архитектор построил это здание, потому что владел цементным заводом и хотел продемонстрировать возможности нового материала — бетона.
Оксане нравится последняя версия, пусть не романтичная, зато без жертв. Она не любит жестоких историй, наверное потому, что работает врачом и навидалась всякого. А может просто характер такой: спокойный и обыденный.
2
В тот вечер шел то ли дождь, то ли снег, светлые капли вырастали на ободе фонаря и, срываясь, рисовали по темному фону яркие линии. Оксана, накинув плед, стояла на балконе, ждала Володю. Узнала его за три квартала: идет вразвалочку, будто асфальт под ногами качается как палуба. Всегда так ходил, еще в школе — только тогда он вел палкой по ограде ботанического сада, получалось громкое «тр-р-р». И ранец тогда носил — для спины лучше, а сейчас портфель, раздутый, как кабан… по-латыни портфель и есть кабан, издали видно, какой тяжелый, что он там вечно таскает?
В сухом тепле комнаты Оксана встряхнула плед, улыбнулась тому, как капли колко брызнули в лицо, поставила сковородку, внесла с балкона кастрюльку с компотом — Володин любимый, из дулек– сухих мелких груш.
Да где же он? Что так долго не идет? Выглянула на лестницу — пусто. С балкона тоже не видно. Выбежала на улицу, заглянула во двор, в ближние подворотни. Бегом вернулась — не пропустила ли звонок? Старалась не думать о плохом — не вышло, никогда не выходило: профессиональная аберрация, искажение восприятия, характерное для врачей.
Через час позвонили из милиции — сына задержали за хулиганство. Володя потом рассказывал, смеясь:
— Представляешь, мам, иду себе, а навстречу девушка такая… в длинном пальто. Перед собой держит торт без крышки — знаешь, как выносят хлеб-соль? Никогда не видел, чтоб так торты носили по улицам. Подходит ближе, на креме надпись шоколадная «Сюрприз». Девушка смотрит мне в глаза, улыбается и — раз — вываливает торт на себя. Я стою… сюр какой-то! Кафка пополам с Аверченко. Дальше уже по Зощенко: выбегает милиционер из подворотни, за ним трое парней. Все трое — студенты юридического, и все видели, как я портфелем выбил торт у девушки из рук. Они, когда показания давали, краснели и в глаза не смотрели — это хорошо. Не безнадежны.
— В каком смысле — не безнадежны? — только и спросила Оксана.
— Ну, стыдно врать им, совесть не потеряли еще.
В тот раз обошлось, даже пятнадцати суток не сидел. В институт, правда, пришло письмо, вызывали к декану, но не выгнали пока. Сын говорил, волноваться просто смешно: не тридцатые же годы, а цивилизованный восемьдесят второй.
3
Через месяц на лестнице Володю остановили двое, загнали на чердак и сильно избили. Он перестал выходить из квартиры один, его теперь всюду провожали друзья или Оксана. По Би-би-си передали, что в Киеве преследуют студента такого-то, редактора независимого журнала.
— Какого журнала, Володичка, что они плетут?
— Ну, мам… я тебе не говорил… понимаешь… мы его с первого курса делаем, почти год. Отличный был номер о «Солидарности»! Жаль, нельзя было тебе показать.
Ночные посиделки в доме стали тише. Раньше Оксана выходила к молодежи на кухню, прижимала палец к губам и затворяла дверь в прихожую: там стоял телефон, через него могли прослушивать квартиру. Теперь друзья сына сами закрывали дверь, а кто-то придумал нахлобучивать на телефон ушанку. Залихватский вид аппарата в шапке набекрень, с торчащими кроличьими ушами, смешил всех, кроме Оксаны.
Володя унес из дому большую часть бумаг и пишущую машинку, дал прочесть брошюру с советами, как вести себя при обыске, и попросил ничего не подписывать, никаких имен не называть, даже просто знакомых. Все будет хорошо, надо только правильно себя вести.
Боже мой… восемнадцать лет… он же ничего, совсем ничего не понимает! Там работают профессионалы, они умеют запугать, запутать, довести до срыва, чередуя страх и надежду. Если тебе несколько суток не давать спать, ты становишься другим человеком — и никто не знает, каким он окажется, тот другой человек, никто не может знать заранее. Можно сломаться, и как потом мальчику, мужчине с этим жить? Вот мама в тридцать восьмом бросила все, уехала в село, пересидела, переждала… Сбежать из Киева подальше, скрыться, переждать — только бы уговорить Володю! Но сын смеялся, отшучивался. Ему сейчас было важно другое: чтобы не перестал выходить журнал.
Арестовали всю редакцию, всех четверых. Улики нашли в дровяном сарае Володиного школьного приятеля. Журнал перестал выходить.
4
Оксана осталась одна в старинной квартире с лепными потолками и окнами в ботанический сад. На потолке среди барочных завитушек жили ангелы: двое целых и одна сиротливая пятка. Тот, кому принадлежала пятка, обитал за фанерной перегородкой в Володиной комнате. Крылатые младенцы казались детьми, но на самом деле им было по сто с лишним лет — столько же, сколько дому. Одного из них мастер вылепил улыбающимся, с прижатым к губам пальцем — как напоминание не болтать лишнего.
С утра наваливалась усталость. Теперь Оксана ходила медленно, и молодые люди больше не пытались знакомиться с нею на улице. Иногда умолкала посреди разговора, стояла, будто спала с открытыми глазами. Приходила в себя, оглядывалась, вспоминая, зачем она здесь. Говорила себе: это все бессонница, усталость, пройдет со временем. Вот только перед родителями пациентов неловко — Оксана работала участковым детским врачом.
По ночам жаловалась потолочным ангелам, только им, больше никому. Крылатые толстые дети глядели с потолка, и тот, что держал палец у губ, сочувственно улыбался.
5
В зал суда пустили только родственников, остальным не хватило мест. Когда открыли двери для публики, стулья были заняты чужими людьми. Оксана пришла с отцом, матери ничего не сказала — боялась за ее сердце. Друзья мерзли на улице, пили чай из термосов, ждали приговора. Володе присудили пять и три: пять лет лагерей и три года ссылки.
После суда пришлось сказать матери — тянуть было незачем, ее и так пугало, что внук долго не навещает. Оксана пришла к родителям в субботу утром, чтобы у матери было побольше времени до ночи. По ночам тяжелей всего, это она хорошо знала. Шла пешком, через Крещатик — сначала вниз, потом в горку, мимо дома с химерами — пугающего, неустойчивого на вид, выстроенного на таком крутом склоне, что с одной стороны было шесть этажей, а с другой три.
Отец выбивал ковры: выносил во двор, развешивал на перекладине и колотил деревянной гимнастической палкой. Хлипкую бамбуковую выбивалку он сегодня уже изломал.
Оксана накапала валерьянки в рюмку с водой, протянула матери. Та отвела ее руку:
— Говори, не тяни. Он жив?
Оксана оглянулась на отца. Тот стоял над свернутым ковром, по лбу катилась капля пота. Понятно — говорить придется самой.
Мать выслушала, глядя в стол. Помолчала. Сказала:
— Никогда не прощу вас, что не была на Володичкином суде. Как вы смели решать за меня? — и не поднимая глаз, прямо держа спину, ушла в спальню, тихо прикрыв за собою дверь.
Оксана осталась посреди комнаты с рюмкой валерьянки в руках. Протянула отцу:
— На, выпей.
— Нет. Вот моя валерьянка, — он потряс гимнастической палкой, взвалил на плечо пеструю скатку ковра и вышел во двор.
Оксана легла щекой на стол, на знакомую с детства вышитую скатерть, и стала считать размеренные удары палки, гулкие в колодце двора.
6
Сын присылал бодрые письма, похожие на те, что слал когда-то из пионерского лагеря. Писал, что ему повезло: он попал в уникальное место, в зону для политических. Люди собрались интересные, есть писатели и публицисты, у них можно многому научиться. Для будущего журналиста всякий опыт полезен.
Оксана не спорила, знала: этот опыт не полезен никому.
Спустя год ее навестил товарищ сына по лагерю — украинский поэт, мягкий, уважительный человек. Только очень больной, он так и сказал: отпустили помереть на воле. Приходил еще с полгода, с каждым разом все труднее взбирался на высокий третий этаж. Однажды сказал, что пришел попрощаться: уезжает в родное село под Богуславом. В тот вечер Оксана оставила его ночевать.
Лежали, обнявшись, в темноте, за окном ветер стучал ветками мокрых деревьев. Оксана водила подушечкой пальца по дугам его седых бровей, гладила стриженую голову. Не плакала.
— Зачем ты уезжаешь?
— Там у меня есть мать. Я ж вполовину не так стар, как выгляжу.
— Оставайся. Здесь у тебя есть я.
— Нет, зозулечко, ты может и есть, та меня уже нет.
Адреса он не оставил.
7
По ночам она слушала радио, хоть и глушили сильно. Сначала о Володе говорили почти каждую неделю, потом реже. Потом снова чаще: стали читать его очерки, непонятно как переданные из лагеря. Оксана слушала тихо, не плакала, боялась пропустить слово. Плакала потом, когда кончалась передача.
По субботам готовила посылки для сына и тех, у кого не было родственников. В лагере разрешали получать одну посылку в два месяца — лишнее отсылали обратно. Не разрешали присылать мед и шоколад, а вот домашнее печенье пропускали любое. Знающие люди дали Оксане секретный рецепт сверхкалорийных коржиков, только просили чужим не рассказывать, чтоб не дошло до кого не надо. Пара таких печенюшек делала сытным лагерный тощий обед.
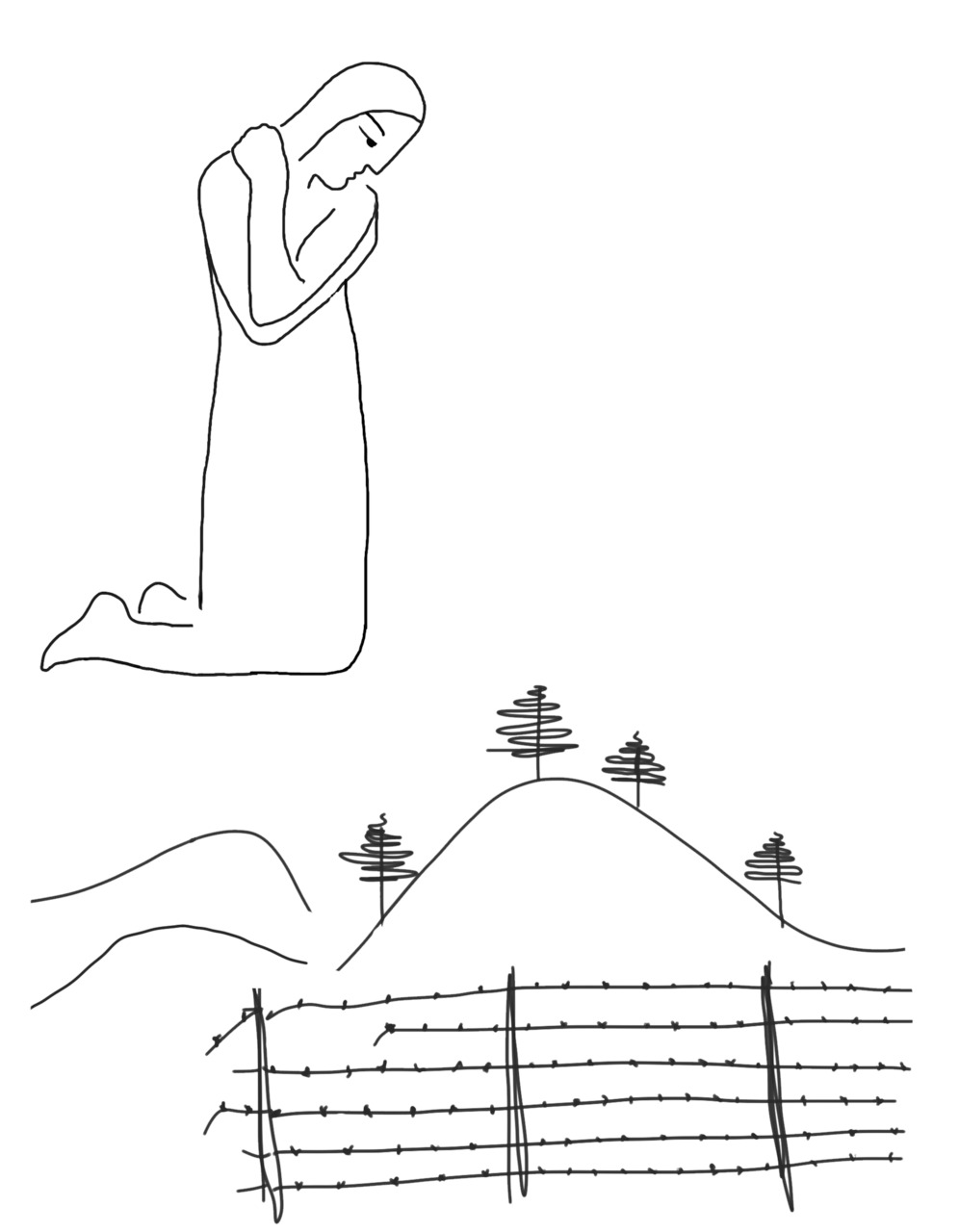
В ту субботу Оксана чувствовала себя неважно. Кажется, начинался грипп: болело над веками, ломило ноги. Собрала посылку, позвонила Володиному другу, попросила снести на почту, а он сказал, что на прошлой неделе уже носил.
— Совсем не соображаю, — расстроилась Оксана. — Может, все же кому-нибудь?..
— Нет, всем послали. Теперь уж только в ноябре.
Оксана легла спать, но мешочек с продуктами мучил ее: где-то люди голодные, а здесь, вот, лишняя посылка.
В ту ночь ей приснилось, будто она стоит на почте среди хмурых, бедно одетых людей. Очередь длинная, движется медленно. Сама она в бабушкином пальто, в хлопковых чулках, на голове вязаный серый платок. Пол цементный, по ногам дует, кошелка оттягивает руку. Догадалась поставить ее на усыпанный опилками пол и пинать ногой, когда двигалась очередь. Почтовая служащая глянула устало:
— Что это у вас? Порядков не знаете? Следующий! Проходите, гражданка, не задерживайте очередь.
Оксана отошла к темному окну, оперла кошелку на горячие ребра батареи и стала растерянно копаться в содержимом. Лампочка в казенном жестяном раструбе светила тускло, глаза застили слезы. Силилась и не могла понять, что не так, что нужно делать. Под руку настойчиво лез одинокий шерстяной носок. Искала пару, не находила, искала снова, горло сжимало от бессилия. На плечо легла чья-то рука, мужской голос произнес:
— Не плачьте, не надо плакать. Дайте я помогу.
Пожилой человек в телогрейке отвел Оксану к фанерному столу. Он был невысок, ходил скособочившись, приседал на каждом шагу и приволакивал ногу. Выложил продукты на стол, перебрал, уместил в посылочный ящик. На дне кошелки нашел пару шерстяному носку. Ловко забил крышку гвоздями. На пальцах у него была татуировка, по букве на каждом — должно быть, имя. Оксана не могла разобрать, что там написано.
— Вот и все! Посидите-ка, я за вас в очереди постою. Не надо, не плачьте, все будет хорошо!
Почтовая служащая приняла посылку и уложила, как кирпич, в невысокую стену таких же ящиков. Адреса никто не писал, он чудесным образом появился сам: размашистый почерк, зеленые чернила. Фамилия чужая, обратный адрес тоже.
8
Проснулась Оксана с головной болью, но ощущение было хорошим: пусть во сне, а кому-то помогла. Ангелы с потолка смотрели одобрительно. Продуктов на подоконнике не было. Странно, никто не заходил, ключей она никому не давала, да и дверь на цепочке.
Спросонья почти поверила, что ночью отправила настоящую посылку: память о почте была удивительно ясной. Поставила кофе, сварила яйцо, разбила ложечкой скорлупу. Побежали трещинки. Сон перестал казаться реальностью.
— Да что это я? Сон себе и сон… А продукты исчезли — ну так я стала лунатиком, куда-то их занесла. Неприятно, но ничего, за пятнадцать лет врачом навидалась и не такого. Это нервы, просто надо меньше нервничать. Меньше нервничать — вот и все.
Выпила кофе, стоя у балконной двери, глядя на черные деревья ботанического сада, и принялась искать продукты. Сначала в местах, где они могли оказаться, потом — где не могли.
На антресолях нашла работу покойного мужа, еще студенческую, еще когда он не пил. Тающая, нежная акварель: голые березы, лед на Днепре, заснеженный правый берег и белая черточка колокольни. Вспомнила, как он писал свою белую серию, как вместе ходили зимой на Труханов остров по новому пешеходному мосту. Вечером, при электрическом свете, эти акварели — белое на белом — казались пустыми листами бумаги.
Когда муж умер, его картины вдруг стали покупать. Это помогло доучиться на медицинском, хоть и трудно пришлось с маленьким Володей. Оксана тогда продала все работы мужа — хотела забыть последние годы и никогда не вспоминать. Володя спрашивал об отце, а что она могла сказать? Что этот человек так остро, так болезненно чувствовал, так плохо переносил любую несвободу, что если б не спился, то повесился бы? Спасибо, сын не в него — материнская порода, живучая. Только глаза отцовские — карие, почти черные.
Оксана искала продукты по всей квартире. Поднялась на чердак, где жильцы сушили белье, прошлась внизу под балконом. Дорожки уже подметены, листья собраны в кучу — дворничиха вставала рано даже по воскресеньям. Хорошая женщина, старательная, жалко ее, одна четверых дочек растит… Куда ж этот мешок задевался? Неужели унесла его на улицу? Ничего себе, сомнамбула… этак недолго и под машину угодить.
9
Вечером Оксана спрятала ключ в шкаф под простыни и заклеила бумагой замочную скважину. У кровати поставила таз с водой — народное средство разбудить лунатика. Не то чтоб очень надежное, лунатик может его обойти, но иногда помогает.
Хотела приготовить посылку, и сначала посмеялась над собой: придут же глупости в голову! Вот так люди сходят с ума. А потом все же отвесила на весах для младенцев ровно пять килограммов продуктов и поставила на окно за штору. Почему бы не сделать, как хочется, пусть это даже бессмысленный ритуал? Кому от этого плохо?
Во сне увидела двустворчатую дверь почты, запертую на висячий замок. Синяя облупившаяся краска, ржавые скобы, темно-коричневые от влаги — шел ледяной дождь. В застекленной рамке расписание работы: по воскресеньям с полуночи до пяти утра. Долго топталась на цементном крыльце со своей кошелкой, надеялась неизвестно на что, промокла, замерзла. Проснувшись, первым делом заглянула за штору — продукты на месте. Ну да, естественно.
Неделя была тяжелой, на участке грипп, у дворничихи заболели все четверо. Домой Оксана приходила поздно, ела наспех и валилась в постель. Засыпая, думала о ночной почте — и от этой мысли становилось легче. В субботу вечером снова заклеила замок; продукты были собраны загодя, мешочек стоял на подоконнике.
Обрадовалась, увидев во сне знакомую комнату, беленые мелом стены, окрашенные понизу казенной синей краской. Уложила ящик, отстояла очередь и с первого раза сдала посылку — великое дело опыт, даже в сновидениях.
Утром мешочка на подоконнике не было. В этот раз не стала очень уж искать — так, для очистки совести прошлась по квартире, позаглядывала в углы. Бумага на замочной скважине осталась целой.
10
Перед Новым годом Оксана стала принимать подношения от пациентов. Хороших продуктов было не достать, зарплаты не хватало, тем более на двойной набор посылок: для обычной почты и для ночной. Если дарили коньяк, выменивала у коллег на шоколад, важную часть в секретном рецепте коржиков. Не пропускала ни одной ночи на воскресенье, всегда боялась не попасть на почту — и всегда попадала.
Она перестала задавать себе вопрос, что это: чудо, сон или созданные ее воображением химеры. Боялась разбираться, слишком важны были для нее эти посылки. На почте высматривала пожилого мужчину, что помог ей в первый раз, и однажды заметила его прямо с порога.
— Как хорошо, что вы здесь! Я даже спасибо тогда не сказала.
Его звали Борис Матвеевич. Он был историком, занимался голодом двадцатых-тридцатых годов, пока не перестали пускать в архивы. Теперь в школе учителем — тоже дело. Он несколько лет расспрашивал людей в очередях, сличал рассказы, и многое разузнал. Почта невелика, десятка два отделений в разных местах. Из сытых стран сюда приходят вовсе единицы, зато у них продукты лучше. Где живут похуже, в корейских или, скажем, индийских селах — там народ толпится. Беднота несет рис, пшено, сушеные овощи: кто чем богат. Из наших деревень все больше ржаные сухари. Попадают сюда от безысходности. Мучается человек, хочет кому-то помочь, а сделать ничего не может.
— Да-да, я сама сюда так пришла! — обрадовалась Оксана.
Борис не знал, как доставляют посылки и кто пишет адрес зелеными чернилами. Сегодня он принес мешок с пшеном, и буквы на нем возникли иностранные: должно быть, в Африку пойдет, там засуха, неурожай на всем континенте, вымирают целыми селами.
Сдав свои посылки, они сидели в углу, разговаривали. На улицу не ходили: дырявые ботинки Оксаны сразу промокали в снежной каше. В этом сне всегда была гнилая зима, даже когда в реальности наступил май.
Каждый раз, прощаясь, Борис напоминал: ни с кем не говорить о почте наяву, а то, не про нас будь сказано, больше сюда не попадешь. Она и сама помнила, да и на стене видела плакат — тощий человек показывает на зрителя пальцем, а внизу красные буквы: «Я умираю от голода. Кто-то проговорился!»
Однажды Оксана спросила:
— А если мы с вами когда-нибудь… ну… в реальности встретимся… тоже нельзя о почте?
— Ни боже мой! Кстати, вы ж киевлянка, так? Я живу за музеем Западного и Восточного искусства, там еще мозаика во дворе — знаете?
— Да-да, там сквер на площади, детская площадка, Шевченко с голубями…
— Я буду ждать вас у памятника в субботу утром. Придете?
11
Бориса в сквере Оксана не нашла. Может, рано? Времени-то они не назначили. Ходила по дорожкам, бормотала:
— Ну и пусть! Ну и пусть я сошла с ума. Сумасшедшие — тоже люди. А он все равно придет.
Присела на гранитную ступеньку, раскрыла журнал. На страницу упала тень. Это был он, стоял все время у памятника, просто она не узнала его, пока не подошел вот так вплотную. И не могла бы узнать! Глаза те же, что во сне, а лицо молодое. И голос другой:
— Извините, вы не меня ждете? А давайте, будто бы меня? Ну, ну, что это у нас глаза на мокром месте! Знаете ли вы, что вот здесь, где стоит Тарас Шевченко, на этом самом постаменте прежде стоял Николай Первый? И тот, и другой усачи, но заметьте разницу: у одного усы вверх, у другого вниз… что бы это значило? Ну вот, так-то лучше — у вас милая улыбка.
Он протянул ей букет ландышей, и они пошли, не спеша, по бульвару, потом по Крещатику к Днепру. Наяву он оказался выше, вместо телогрейки серый плащ, сумка через плечо, шарф и берет, как у парижанина. Татуировки на пальцах не было, хромоты тоже, его и звали иначе: не Борис, а Денис, и был он не историк, а художник — но это все неважно, должна же чем-то отличаться действительность от сна. Ничего, думала Оксана, я наяву тоже другая. Расстались вечером, условились встретиться через неделю.
На почту Оксана в ту ночь не попала. Как же так, думала она утром, неужели проговорилась? Вроде нет, только охнула, когда он сказал, что художник. Он еще спросил:
— Вы не любите художников?
— Нет, просто давнее вспомнилось, — отговорилась Оксана.
Воскресенье она провела у родителей. Перебирала с мамой фотографии, надписывала имена и даты. Мама не всех уже помнила, это было грустно.
В понедельник вышла из дому — и увидела Дениса.
— Вы знаете, я решил не ждать до субботы. У меня сегодня совершенно свободный день. Можно, я вас провожу? — и он взял у нее из рук сумку.
Этой весной Оксана помолодела, ходила легко, улыбалась без повода и писала Володе веселые письма. Потолочным ангелам Денис тоже понравился.
12
— Оксанка, а давай, как поженимся, махнем на Ладогу, к моему бате? Места там — закачаешься! Тебе дадут отпуск летом?
— Погоди-погоди… Ты мне делаешь предложение?
— Ну! А что ж, ты думаешь, я тебе делаю?
Оксана хотела ответить в том же тоне, как бы между прочим, но не выдержала, бросилась ему на шею, рассмеялась, заговорила о чем-то, сама потом не помнила о чем.
Поженились тихо, без помпы. Привела мужа к родителям, посидели, выпили. Денис вообще-то не пил, но ради такого случая рюмку рябиновой настойки опрокинул. Отец потом басил по телефону:
— Ну, дочка, ну ты мужей выбираешь, хочь стой, хочь падай! То среди всех евреев Киева спроворилась найти пьяничку запойного, пусть земля ему будет пухом. Теперь из москалей вычипыла одного непьющего. А что оба малюют, так то из-за твоей хохлацкой красы, скажи спасибо матери. Художник мимо такой натуры пройти не может!
— Ой, тато, знали б вы, какую он меня встре… — и осеклась, испугалась. О почте же нельзя наяву.
Там ее руки были изношенными, с опухшими суставами — должно быть, и лицо под стать рукам. Так что вряд ли его привлекла красота. Хотелось расспросить мужа, как она выглядит в сновидениях, но днем нельзя, а во сне это не казалось важным. Как и прежде, они встречались в ночь на воскресенье, каждый со своей посылкой. Оксана путалась в именах мужа, но во сне он смеялся — и легко извинял ее. А наяву она не путала имен.
Когда и где он готовил свои посылки? Наверное, в мастерской — там среди холстов, что хочешь можно спрятать. Продукты тоже он брал непонятно где — видно, у него свои источники. Денис так убедительно делал вид, что не знает о ночной почте, что даже переигрывал. Как-то, в самом начале, воскресным утром спросил:
— А куда мешок с печеньем делся, вот тут стоял?
Она прижала палец к губам и взглянула так, что он осекся и больше не спрашивал. Денис у нее шутник, но есть, знаете ли, вещи, которыми шутить не следует.
13
Случалось, кто-нибудь из них не мог найти на почту дороги. Оксана всякий раз пугалась, не понимала почему. Потом во сне спрашивала у мужа, но этого даже он не умел объяснить.
Наяву с мужем трудно было поговорить серьезно — отшутится, обнимет, подхватит на руки, закружит — вот и весь разговор. Ни с того ни с сего, на пустом месте рассорился с Оксаниным отцом. Старик хотел его поддразнить, он всегда всех поддразнивал:
— Слухай, Денис, ото был у меня друг, всю жизнь Лениных писал. Так родня его как сыр в масле каталась! Кого б тебе такого писать, щоб гроши лопатою гребты?
Денис набычился, покраснел, слова отца показались ему упреком. Оксана пыталась объяснить, что отец хотел как лучше: помочь, подсказать. Ну, неудачно подсказал, но что ж обижаться-то на старого человека? Но толком поговорить не удавалось.
Зато на почте они разговаривали подолгу и совсем иначе — проще, откровенней. Как-то во сне она спросила у мужа: почему так? Почему днем он другой? Он усмехнулся:
— Не забывай, красавица, я тебе снюсь. Какого хочешь, такого и сочиняешь.
Оксана почувствовала, как у нее задрожали губы.
— Снишься? Как ты мог сказать такое? Не шути так больше, я тебя прошу!
— Ну не буду, не буду… Понимаешь, здесь я бывший историк, старый учитель, калека — мне мало нужно от жизни. А днем я художник. Амбициозный, талантливый, как черт — и не признанный, ни одной выставки за всю жизнь. А мне за сорок.
— Что ж ты не сказал? Я бы с тобой… мы бы вместе.
— Нет, красавица, это я должен сам.
Оксана вздохнула. Вот хотя бы этот разговор — он разве возможен с Денисом? Тот бы свел все в шутку или погромче включил телевизор.
14
Володю выпустили в августе восемьдесят седьмого — и не просто выпустили, а реабилитировали. Еще год назад это казалось фантастикой. В первые дни Оксана ходила за сыном по квартире, словно примагниченная, смотрела, не могла насмотреться, как он умывается, говорит по телефону, завтракает.
У него на левой руке не было последних фаланг двух пальцев. Оксана ойкнула, когда увидела, хотела рассмотреть, но Володя отнял руку:
— Все нормально, мам.
Понятно: в эти дела ей ходу нет. Сын теперь тепло одевался, не выносил сквозняков, спал, укрывшись с головой, а чуть похолодало, стал носить перчатки — и все равно кряхтел от боли, стоило озябнуть рукам. Оксана не сразу догадалась, что это последствия обморожения. В Киеве, у ее пациентов, такое бывало редко.
Володя стал неулыбчив, вечно торопился, ценил свое время. Дал ей тетрадку стихов, просил никому не показывать. Стихи Оксане не пошли: запутанные, смутные. Почему нельзя прямо сказать, что чувствуешь, зачем это месиво слов и образов? Сыну не призналась — что зря обижать.
Читала Володины материалы к статьям о Чернобыле: о молодых солдатах на уборке после аварии, об осколках радиоактивного графита в их карманах «на память», о подростках, тайно живущих в покинутых домах Припяти — читать было страшно, не читать невозможно. Перечитывала его лагерную прозу и всякий раз плакала. Володя никогда не рассказывал, как передавал написанное на волю — мало ли кому и когда этот способ может еще пригодиться?
Оксана тоже никому не говорила о рецепте коржиков. Ей хотелось спросить у Володи, хоть намеком, хоть как, не получал ли кто в лагере таинственных посылок. Впрочем, спохватывалась она, в том лагере, где он сидел, хватало помощи родственников и друзей. Ночная почта шла в другие места, к забытым людям, к тем, у кого никого нет.
15
Поначалу Оксана волновалась, как муж и сын поладят между собой. Мужчины держали дистанцию, резкий разговор случился только однажды — за ужином, когда речь зашла о перестройке.
— Все только начинается, — сказал Володя. — Если это чудище развалится без катастрофы, нам всем очень и очень повезет.
— Эх, глянуть бы на списки осведомителей! — сказал Денис. — И не где-нибудь, а в газете «Правда». Зачем-то ж она зовется «Правдой»?
Володя положил вилку:
— Денис Матвеевич, вы серьезно? Зачем позорить людей? Вам от этого будет легче?
— Ладно, смотри: вот идешь ты по улице, а навстречу гад этот ваш, стукач. Ты подашь ему руку?
— Кстати, — вдруг вспомнил Володя, — меня на днях куратор в КГБ вызывал — да, тот самый, он до сих пор ведет мое дело. Сказал, если я хочу уехать за границу, он поможет. Я ответил, что останусь из профессионального интереса, буду диссидентствовать. Его стараниями у меня нет другой специальности.
— А он? — спросила Оксана, стараясь не показать страха.
— Смеялся! Умный же человек. Знаете, о чем мы час проговорили? Как организовать реабилитацию вернувшихся из заключения. И если органы будут нам в этом помогать, мы примем их помощь.
Володя встал, нечаянно толкнув стол.
— Извини, мам, бегу, опаздываю.
Он ушел, аккуратно прикрыв дверь, не допил свой любимый компот из дулек — сморщенных мелких груш. Оксана начала убирать со стола и остановилась с тарелками в руках.
— Деня! А ведь он единственный, кто может подать тому человеку руку. Я не могу, ты не можешь, никто — только он. Понимаешь?
Муж пробурчал, что-то вроде того, что они об этом еще пожалеют — и включил телевизор на полную громкость.
16
После возвращения сына Оксана перестала попадать на почту. По субботам вместо знакомого помещения оказывалась на заброшенных пустырях, бродила с кошелкой вдоль дощатых заборов, переходила железнодорожные пути, пролезала под вагонами, аж сердце прыгало от страха: а ну поезд тронется? Казалось, почта рядом, еще квартал, еще поворот — но ее не было ни за этим углом, ни за тем.
Она скучала по казенной комнате с жестяным раструбом вокруг лампы, толпе хмурых, бедно одетых людей, увечному старику с татуировкой на пальцах, по разговорам с ним. Много месяцев, почти год она держала наготове пять килограммов продуктов, пока не поняла, что на ночную почту ей больше не попасть.
17
Зимой восемьдесят девятого у Дениса была персональная выставка, первая в жизни. На открытии Оксане вдруг неловко стало в окружении собственных голых изображений. Казалось, посетители разглядывают ее сквозь платье, сравнивают картины с моделью. Спасибо, муж писал не реалистично: на полотнах ее тело было угловатым — и то коричневым, как земля, то оранжево-фиолетовым, как облако на закате. Поначалу она куталась в белую шаль, одолженную у матери, но скоро привыкла, да и жарко стало. Сняла и забыла шаль на подоконнике.
Домой пришли ночью. Володи не было, он ушел после выставки с какой-то смешливой девушкой. Пора, ой, пора бы ему найти хорошую пару, не просиживать над рукописями до утра.
Оксана сбросила туфли и стояла в чулках у балконной двери, не зажигая света. Смотрела на фонари, на голые деревья ботанического сада. Шел снег, ложился на черные ветки. Голова кружилась — то ли от вина, то ли от усталости.
— Что ж это я, посылка еще не готова… Ах да, не нужно же.
И вдруг, без всякого видимого повода, она разрыдалась. Хотела успокоиться, не могла. Денис принес валерьянку, Оксана выбила у него из рук стакан, колотила кулаками в стену, задыхалась, рыдала до икоты. После, лежа у мужа на плече, смотрела на потолочного ангела и жаловалась:
— Что за судьба такая? Я обычный человек, зла не делаю. Почему я вечно должна что-то скрывать? На работе тоже… онкологии столько после Чернобыля, а слова не скажи: государственная тайна. С ума сойти можно… Чтоб им этими тайнами подавиться!
Крылатый ребенок смотрел жалостливо, все так же прижав пухлый палец к губам.
— Чего уставился? Это из-за тебя! Висишь тут над головой всю жизнь… Вот возьму рогатку, полетят пух и перья, не посмотрю и на ангельский чин!
Оксане казалось, Денис спит, а он вдруг заговорил:
— Хочешь, Оксанка, я его переделаю, уберу руку ото рта? Он, поди, устал, столько лет в одной позе — шутка ли?
Она прерывисто вздохнула.
— Пусть уж будет, он привык. Да и я привыкла…
— Слушай, у нас три картины продались, так?
— Да, надо дворничихиным девочкам сапожки купить, такая хорошая женщина, одна четверых тянет. И еще… я утром составлю список.
— А давай, как потеплеет, махнем куда подальше? Хоть бы на ту же Ладогу — батю моего проведаем. Места там — закачаешься. Тебе дадут отпуск летом?
— Дадут, конечно.
Проехала машина, тень оконного переплета промчалась по потолку. В подвижном свете Оксане почудилось, будто гипсовый ангел, не отнимая пальца от губ, насмешливо улыбнулся.
На Ладогу они не поехали — летнего отпуска Оксане не дали.
18
Осенью умер отец Дениса. Самолетом летели до Питера, потом ночь теплоходом до острова Валаам. Остановились у отцовского друга в избе. Отпевали красиво, по-старинному, Оксана плакала, жалела, что не успела повидаться со свекром. Вглядывалась в его лицо, старалась понять, что за человек он был при жизни. Насмешник и балагур, как Денис? Молчун, как здешние мужчины? Дед Матвей был стар, за восемьдесят. Последние двадцать лет жил на малом острове один, как отшельник.
Третьего дня дед Матвей приехал на моторной лодке за продуктами. Сидел на лавочке у магазина, ждал конца обеденного перерыва. Покалякал со знакомыми, выкурил беломорину, привалился к стене и задремал на ноябрьском солнышке. Продавщица пришла с обеда, хотела разбудить, а он мертвый. Оксана слышала, кто-то сказал на поминках: «Пока наш сельмаг откроется, помереть можно, дожидаючись». Передавать шутку мужу она не стала.
После похорон Денис взял отцовскую лодку съездить на остров, забрать двустволку и ордена. Позвонил на метеостанцию, спросил ледовый прогноз. Времени для поездки было немного: через неделю-другую в заливе начнется ледостав.
Остров оказался скалой в озере — во все стороны вода до горизонта. От каменной ступеньки, где Денис привязал лодку, поднималась вырубленная в камне лестница, наверху дюжины две сосен и бревенчатая изба в одну комнату.
Дверь стояла нараспашку. Двустволки не было, окованный железом ларь, где отец хранил припасы, валялся с откинутой крышкой. Забрали продукты и все ценное, а вещи поплоше раскидали и затоптали, будто назло. Денис с грохотом ставил лавки на место, ворчал.
— Это пришлые, местные так бы не сделали… Люди на похороны, а они… Гады!
Оксана вымела пол, протерла окно. Ходила по низкой горнице, трогала темные бревна стен, простые предметы в патине долгой жизни. Думала, как мало, в сущности, нужно человеку вещей, сколько в их городской квартире лишнего. Пахло дымом, табаком, старым деревом.
Денис попросил ее зажмуриться и за руку отвел на другую сторону острова по тропе, мягкой от опавшей хвои. Усадил к себе на колени, велел открыть глаза. Солнце опускалось в озеро, широкая дорожка переливалась всплесками — в середине сплошь оранжевыми, по краям реже, реже, и на самом краю лоскуты солнца сходили на нет в фиолетово-синей ряби. Сидели на вырубленной в камне скамье, обнявшись, согревая друг друга, пока не стемнело.
— Денька, ты с кем-то на этой скамейке смотрел закаты? Я вдруг почувствовала… Ты очень любил ту женщину?
— Не будем об этом. Давай лучше о нас. Ты мое солнышко. Не бросай меня никогда.
В натопленной горнице пили чай при свече, слушали, как шумит огонь, трясет ставни ветер. Оксана смотрела на седеющие волосы мужа, на большие ладони, охватившие алюминиевую кружку. От нежности щипало в носу, свеча щетинилась лучами. Старалась не моргнуть, чтоб не закапали слезы.
19
Утром не завелся мотор. Денис разобрал его на части, протирал тряпицами, кряхтел досадливо, хмурился, провозился весь день. Говорил, не сегодня-завтра за ними вышлют катер — если только друг отца не запил после похорон.
Друг, видимо, запил, катер не шел. Когда собирались на остров, надо было еще кому-то дать знать, но Денис не догадался, и теперь сердился на себя. Мотор починить не удалось, с утра решили идти на веслах.
Похолодало, рябь улеглась, вода почти не плескала в скалы. Денис ворчал: лучше уж буря с дождем, не замерзло бы в заливе озеро. К вечеру ударил мороз при полном безветрии.
Наутро Оксана вышла за порог, да так и стала, забыв прикрыть дверь. Солнце поднялось над горизонтом, дорожка от него шла узкая и прямая, как ствол корабельной сосны. Смотреть на нее было невозможно, как на само солнце. Оксана в жизни не видела такого большого пространства, покрытого ровным льдом. Денис присвистнул:
— Ну все! Пока как следует не замерзнет, отсюда только на вертолете или воздушной подушке. Если нас не хватятся, пойдем к берегу пешком, когда лед станет сантиметров шесть хотя бы — тут все зависит от погоды.
20
Денис жег на обрыве костры, бросал в огонь сырые ветки для дыма, выложил поленьями «SOS» — на случай, если пролетит вертолет. Целый день просидел с удочкой на берегу в старых отцовских валенках и тулупе, хоть и знал: у голых скал острова рыба не кормится, здесь рыбачат с лодки или со льда.
Отцовский друг, судя по всему, ушел в капитальный запой. Вертолет не летел, судно на воздушной подушке не шло. Поднялся ветер, нанес облака, потеплело. Открылись замысловатой формы полыньи, вода в них волновалась мелкой рябью. Ночами подмораживало, но лед был рыхлым, человека не держал.
Чтобы поменьше ходить на холод, наносили дров в избу. В первые дни хотелось есть, живот сводило болью, потом прошло. День и ночь они лежали на печи, вставали, когда выстуживалась изба, топили — и снова на печь. Кипятили воду, заваривали горькие веточки, сосновые иглы. Отмечали дни в календаре. Много спали, подолгу разговаривали.
Оксана рассказывала смешные врачебные случаи, истории из Володиного детства, пыталась читать стихи, но помнила только отрывки. Денис вспоминал детство, армию, как умерла мама, что отец рассказывал о войне. Он говорил серьезным, монотонным, будто сонным голосом — и открывался, как никогда не мог открыться до сих пор.
Кожа у обоих стала тонкой, старческой. Оксана думала: вот и состарились вместе, как я хотела, только не за много лет, а за пару недель. Тяжело было умирать, не попрощавшись с Володей.
21
Воскресным утром Денис разбудил Оксану и молча показал на стол. Окошко заиндевело, света пропускало мало. В сумерках на клеенке белело что-то, похожее на горсть снега.
Оксана села — слишком резко, закружилась голова. Опираясь на мужа, слезла с печи, подошла к столу. На клеенке горкой, безупречной как конус Фудзиямы, лежали продолговатые зерна. Сверху упало еще одно, сверкнуло дождевой каплей на фоне темной стены, стронуло равновесие конуса, обрушило маленькую лавину. Оксана подняла глаза: чердака в избе не было, на поперечных балках хранились весла и лыжи. Денис взобрался на стол, пошарил за балкой и достал небольшой мешок, зашитый через край лохматой бечевкой. Сбоку маленькая дыра — видать, мышь прогрызла. Вместо адреса на мешковине начерчена зелеными чернилами карта Ладожского озера, размашистая стрелка упирается в точку их островка. Через мгновение карта исчезла, остались только неясные зеленые пятна. Видно, прислали из Азии. Или из Африки — там тоже рис растят.
Денис проворчал:
— Что же я, дубина стоеросовая, под крышей раньше не пошарил? Знал же, отец заначки любит… как же я так?
Он досадовал, будто не знал о ночной почте. Оксана удивилась, как он хорошо притворяется.
Денис разрезал шов, и они опустили руки в мешок, в сыпучую шелковистость риса. Их пальцы встретились — теплые среди прохлады зерен. Денис что-то сказал, Оксана не услышала, он повторил. За шумом крови в ушах она разобрала три слова:
— …и увидишь Володю.
В горловине мешка перламутрово светилась головка чеснока. Оксана тоже всегда чеснок в посылки клала — для витаминов.
22
Через неделю на остров прилетел вертолет. А еще через месяц Оксана в последний раз увидела сон о ночной почте.
Она шла знакомой окраиной, среди замусоренных пустырей, вдоль темных домов и дощатых заборов, с трудом переставляла ноги в неуклюжих ботинках. Пальто отяжелело, промокло на плечах. Она перешла трамвайные пути, свернула за угол — и увидела старуху с пустой хозяйственной сумкой на сгибе локтя. Они встречались прежде на почте, и Оксана бросилась через дорогу:
— Бабушка, бабушка, вы меня узнаете?
Старуха остановилась, прислонила к забору палку, поправила очки. Обращение «бабушка» ей совсем не шло. Она была полной, высокой, с породистым крупным носом и высокими полукружиями подрисованных бровей. Пуховый платок поверх фетровой шляпки-таблетки, вытертые манжеты шубы, боты на пуговках по моде пятидесятых годов, величественная осанка.
— Узнаю, детка, как не узнать. Что ж вы запропали совсем? И друга вашего не видать, такой обязательный молодой человек, всегда помогал. Не случилось ли чего дурного?
— Нет, не случилось… То есть случилось, но хорошее. Денис, то есть Борис — он мой муж теперь. Вы не знаете, отчего я на почту не попаду? Ищу ее, ищу…
— Муж, говорите… И как, согласно живете? Вижу, вижу, вы прям расцвели. Сынок-то что?
— Вернулся Володичка, давно уже, слава Богу.
— Вот и ответ, детка. Вам на почту незачем теперь.
— Незачем? Как же так?
— Умница вы, а главного не поняли. Почта не одних получателей спасает, но и отправителей. И поди узнай, кому она нужнее. Меня, почитай, она одна на свете держит.
У старухи искривились губы, она отвернулась к забору, уперлась ладонями в занозистые доски, и спина ее затряслась. Оксана стояла рядом, гладила твердое ватиновое плечо. Наконец старуха распрямилась, вынула из рукава платочек, промокнула нос.
— Этого, детка, вам не понять. Может, с годами — но лучше не знайте этого никогда. Вы теперь справитесь и без почты.
— Да… но как же…
— Ничего, переможетесь как-нибудь. Ну, дай вам Бог здоровья. И мужу вашему, и сынку. Заботьтесь о них хорошенько.
Оксана проводила старуху до трамвайной остановки, помогла взобраться на ступеньки, помахала вслед штопаной варежкой. Незаметно кончился дождь. Трамвай ушел за поворот, а провода над головой все вздыхали, посвистывали от его невидимого движения, все роняли светлые ледяные капли.
Над проводами, среди барочных облаков, проступили знакомые очертания. Оксана всмотрелась: так и есть, ее потолочные ангелы — двое целых и одна сиротливая пяточка. Такими она их еще не видела: посеревшие, усталые, в псориазе облупленной краски. Улыбка того, что держит палец у губ, совсем жалкая.
— Ничего, — сказала Оксана ясным дневным голосом, — как потеплеет, сделаем ремонт.
И уснула спокойно, без сновидений.
Дмитрий Артис
* * *
У Бога за пазухой тесно,
и всё-таки лестно, поди,
пластами слоёного теста
лежать у Него на груди.
Забыться, отринув печали,
не ведать земной суеты,
когда упадают ночами
с небес ледяные цветы.
Его аккуратные Длани
любого к себе приберут.
Каких ещё надо желаний
святому и грешнику тут?
* * *
Четыре дня. За ними пятый.
Без изменений. Хорошо…
Идёшь, ни разу не помятый,
вдоль по квартире нагишом.
Не преисполненный отваги,
но будто бы навеселе.
Белее сна листы бумаги
лежат на кухонном столе.
Как за покойником помыты
полы, повсюду благодать,
и если пишешь слово «мытарь»,
то лишь бы рифме подыграть.
Перерабатываешь вроде
страстей вторичное сырьё —
почти приравнено к свободе
всё одиночество твоё.
Тебе ни голодно, ни тошно,
совсем расслабленный, пустой,
и никакого смысла в том, что
за пятым днём идёт шестой.
* * *
Пока ещё разводишься, но мир
уже теряет прежние приметы.
Повылезли, затёртые до дыр,
на божий свет, как на ориентир,
в твоём шкафу дремавшие скелеты.
Не различимы двери в темноте:
одна, другая комната, и будто
пельмени закипают на плите
чуть медленнее, хуже, и не те
желания раскачивают утро.
Не знают пары свежие носки,
изжога от спиртного и солений,
от воли и безволия тоски,
и больно так, что рушатся виски,
но в целом жить намного веселее.
* * *
Честнее быть несчастным человеком,
но я счастливый, кажется, вполне.
Какой петух с утра прокукарекал
и разбудил смирение во мне?
Всё тот же мрак, всё те же разговоры
с самим собой, и — бесконечный чай,
но точка вездесущая опоры
уже коснулась пальцев, невзначай.
Куда девались прежняя ранимость,
незащищённость? Будто сам не свой…
Земная ось легонько накренилась
и завертелась против часовой.
* * *
Когда электричка меня переедет,
останусь безногим лежать на снегу
и летом кататься на велосипеде,
как раньше катался, уже не смогу.
Не будет по улицам поздних шатаний
и ранних не будет, мол, жизнь невпопад,
поскольку навряд ли врачи-шарлатаны
мне ноги сумеют приделать назад.
Печали, проблемы, заботы, привычки
тревожить не будут — вернётся покой.
Вослед уезжающей прочь электричке
махнуть не забуду рукой.
* * *
Раньше сауна, лес, рестораны,
а теперь по судам, по судам.
Завелись в головах тараканы —
вот и маемся не по годам.
Не хватило для брака двужилий
всем известного слова на «ж».
Вроде толком ещё не пожили,
но своё отгуляли уже.
Адвокаты из лучшей конторы
закопаются в нашем белье,
в осознании снов, по которым
измеряется небытие.
Друг на друге завязаны туго —
и туда не рвануть, и сюда,
вот и выйти из брачного круга
не смогли без решений суда.
Будто чай из опилок заварен,
пьём и думаем: «Что же мы тут?»
Размножаются рыжие твари
и себя за стихи выдают.
* * *
И где мой дом теперь,
куда вернусь под вечер…
Уставший от потерь
приду никем не встречен.
Войду, открыв ключом
заржавленные двери, —
не думать ни о чём
и ни во что не верить.
Тут пыль, как чернозём,
хоть разлинуй на грядки
и прошлое в своём
унылом беспорядке.
Но где-то есть мой дом,
на этот не похожий —
там чистота кругом
и свет горит в прихожей.
В окне отражена
хрустальная подкова,
и ждёт меня жена
хорошего такого.
* * *
К служителям официальной церкви
питаю нежность, равную любви:
терпимы ритуалы и расценки —
услуги в пересчёте на рубли.
В каком бы храме ни был, замираю
при виде позолоченных икон.
Стремления к заоблачному раю
нижайший провоцируют поклон.
Ряды старушек, свечек батареи —
молитвой церковь русская полна,
а вкруг неё курсируют цыгане,
как менеджеры среднего звена.
Да, грешен, да, на исповеди не был,
признаться честно, дьявольски давно,
но верю в то, что мне кусочек неба
дарован будет Богом всё равно.
Ольга Аникина
Октавия
Первая их встреча после двенадцати лет взаимного молчания была абсолютно случайной. Эскалатор полз наверх, Ира от нечего делать разглядывала пассажиров, стоящих на встречной ленте. И вдруг — глаза, летящие по заданной траектории, словно падающие куда-то вниз — глазища на пол-лица, с вечным и каким-то виноватым ожиданием, застывшим в посыле взгляда. Вокруг глаз лохматые, длинные кудри неясного оттенка, а остальное не запомнилось, ни одежда, ни лицо — только этот выстрел сквозь волосы. В первое мгновение в Ириной голове не промелькнуло ни имени, ни императива — догнать, крикнуть, сделать хоть что-то — все сходилось в одном только слове «она» — вопросительном, тревожном слове. Пока слово звенело, «она» уплыла далеко вниз, Ира оглянулась, надеясь, что, все же обозналась — но Октавия, исчезая за людскими спинами, вдруг резко повернулась, посмотрела туда, где была Ира — и два ее пальца взлетели вверх — «виктори», любимый жест.
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.