
Бесплатный фрагмент - Если ты смеешься...
Армейcкая повесть
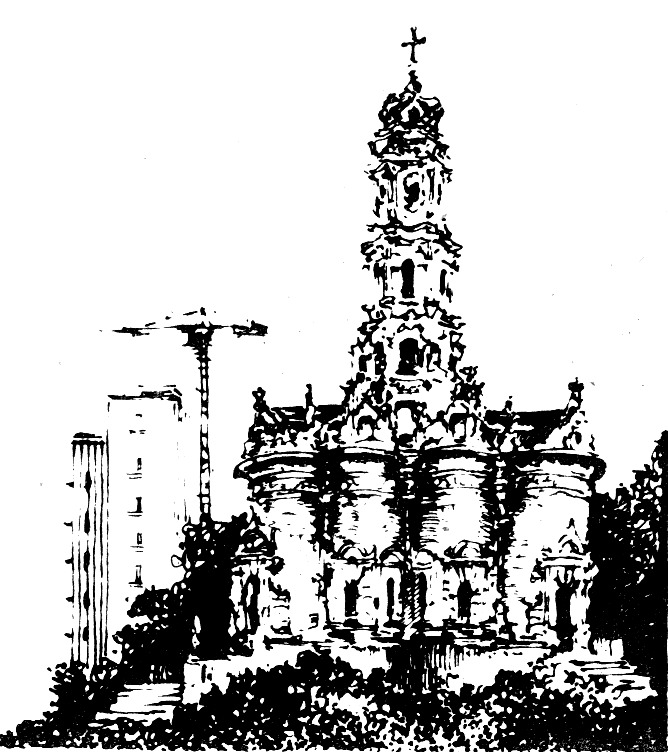
I
История переломной эпохи Никитиной жизни началась с грустной ноты.
Могила его отца была прямо за воротами городского кладбища. Умер отец, можно сказать, скоропостижно, от прободной язвы: потерял сознание в автобусе и через три дня после операции оставил сына сиротой. Хорошо ещё, в больничную палату, где лежал умирающий, накануне допустили. Парня поразили тогда руки лежащего под капельницей отца: восковые пальцы с синюшными ногтями.
— Как дела? — спросил Никита.
— Подшиваются, — едва слышно сострил отец.
— Самочувствие?
— Исключительное, — отец едва пошевелил кистью руки, отрубая все остальные вопросы. Тут до их слуха и донёсся разговор, который надолго определил отношение Никиты к отечественной медицине. Говорили рядом с неплотно прикрытой дверью палаты:
— А здесь кто?
— Махнов, умирающий.
По серому лицу отца прошло едва заметное движение, и, слегка приоткрыв рот с ровным чистым рядом зубов (никогда не курил) отец спросил:
— Обо мне, да?
В ужасе от услышанного, от страха, вырвавшегося в коротком вопросе человека, ещё вчера доводившего всех до колик остротами по поводу сеансов очередного телемага, Никита залепетал нечто идиотское: там, мол, ещё один Махнов, в соседней палате, старик совсем…
Памятник успел Никита поставить отцу перед армией. А вот цветочницу уже некогда. Да и могила, признаться, не совсем осела, полгода и прошло.
Никита сидел на скамейке и смотрел на потускневшее от дождя изображение в чёрном мраморе. Скоро выглянет из-за тучи весеннее солнце, и высеченные черты лица посветлеют, неравномерно: вначале прямой нос, затем складки у рта… А пока отец строго смотрит из глубины камня, потемнел от обиды: давно не заходил, сынок.
Никак не забыть его страх: «Обо мне, да?». На памяти Никиты отец всего лишь раз так испугался. В Ялте плыли к буйку: отец и Никита на надувном круге. «А у меня круг спускает!» «Да?»
За шутку Никита получил на берегу приличного «леща». Те медсестры, за дверью палаты, видно «лещей» не получают.
Рядом с оградой лежали два швеллера, приготовленные Никитой для цветочницы. Спрятать бы их пока. При помощи схороненной в кустах бузины лопаты Никита принялся их закапывать. Вскоре он ощутил чье-то присутствие. На скамейке сидел крупный голубь-сизарь с белым перышком на правом крыле. Тот самый, что прилетел и в день установки памятника. Работая, Никита исподтишка наблюдал за птицей. Голубь обошел ограду, потом вошел через открытую дверцу, взобрался на подставу памятника.
— Что, батя, — спросил Никита, — оцениваешь?
Отец был дотошным человеком, любил, чтобы работа выполнялась на совесть. На памятнике — ювелирно высеченная берёзка с надломленной большой веткой, под ней –тропинка, уходящая через ельничек на поле до горизонта. Отцу бы понравилось.
— И покормить тебя нечем.
Голубь взлетел на ограду, потом устремился в небо.
— У тебя, батя, просто физическая мёртвость, не духовная. А вот у меня, — Никита вздохнул. — У меня армия впереди.
Диплом и армия — это для Никиты было чересчур. Военкомату, конечно, низкий поклон за вежливое ожидание того момента, когда вечерник Махнов выйдет из ворот института с корочкой специалиста по приборам точной механики. И в Афганистан на войну не предлагали.
Главное, чтобы теща помогла, хотя бы до окончания женой Анной медицинского училища. Без профессии никак нельзя. Вот только почему медицина? Как Анна способна общаться с сестрами-хозяйками и акушерками, Никита не понимал. Однажды заглянув в женины тетради, он немного обалдел, столкнувшись с балладой о стрептококках. Сплошные кокки по всему «полю видимости» — так пишут в анализах. Очень содержательные тетради!
Он старался думать о том, что надо книжных полок докупить, а над кроватью репродукцию повесить. «Гибель Помпеи», например. Квартирка-то неуютная, словно въехать въехали, а мебель не привезли. Есть в ней что-то от общежитской обездоленности. Конечно, когда стены голы, не до претензий по поводу безвкусицы — все строго, как в больничной палате.
II
Недолго отдыхал Никита с молодой женой и сынишкой Илюшкой после защиты диплома. Всего неделю покрасовалась перед ним Анна в новом шерстяном джемпере, красном, с вывязанными зубчиками на груди.
Сидит рядовой Махнов на кирпичах рядом с полуразобранными стенами старого армейского клуба и пишет письмо, подложив под листок плоскую черепицу. Среда, банный день. Выдали ему совершенно новую майку салатового цвета, вручили семь рублей получки. Надо успеть что-нибудь купить в чайной — «чепке», пока их не стибрили.
Сидит Никита и думает, что бы такое Илюшке написать? Может, рассказать, что в папиной тумбочке, на нижней полке, живёт ма-аленькая собачка, по кличке Дембель, такая кроха, словно горошинка, но тоже продирает глазки по команде «Подъем!» в шесть утра… Наверное она и съела стержни от авторучки, сапожный крем и три почтовых конверта…
Служить за двести километров от дома — удача; на душе спокойней, даже мысли типа «близок локоток, да не укусишь» не лезут в голову.
Прижмет — не только локоток съешь.
«В армии хорошо», — говорил один приятель на проводах, Яков Качанкин, комсомольский вожак с резинового завода. Несмотря на то, что Качанкины жили в одной девятиэтажке с Махновыми, Никита познакомился с ними лишь после рождения сына Илюшки — жены в одном роддоме лежали. Что-то в этой фразе Якова есть, не ехидное и не глупое, нечто мужицкое, русское. Особый мир, грубоватый, подчас не очень веселый, но именно мужской. По крайней мере, дурак тут всегда дурак. …Только врёт секретарь комитета комсомола, сам-то не служил, кирзачи не стаптывал — отмазался.
— Мечтаешь?
Никита обернулся и увидел рядового Штапикова, тоже с весеннего призыва. Сергей Штапиков скуласт, угрюм и, по солдатской оценке, «тормозной» парень, запоздало соображающий; спит он на втором ярусе (как и положено новобранцу), рядом с Никитой. Каждую ночь «черпаки», рядовой Альтух или рядовой Митичев по кличке Митяй, заставляют его работать выключателем. По команде «Подъём — три секунды!» Штапиков должен спрыгнуть с койки, добежать до выключателя, зажечь свет и гориллой взмыть к себе — на второй ярус. Таким образом свет и выключался.
Слово «черпак» — видно от «черпать жизнь большой ложкой, вкушая радость привилегий, которые «духам» лишь снятся.
Никита скрежетал зубами в полудрёме, содрогаясь вместе с койкой — «эпицентром землетрясения». Ему не было жалко рядового Штапикова, и, наверное, причиной тому была столовая в соседней части, связистов-голубопогонников, — на обед рота Махнова ходила к ним. Никита сидел в столовой напротив Штапикова и поневоле наблюдал за процессом «приёма пищи»: ворочая скулами-жерновами с собакевическим всепожирающим устремлением, Штапиков словно собирался сожрать и тарелку.
— А ты гуляешь? — в свою очередь спросил его Никита.
— Митяй послал за сигаретами и хлебом.
Рядовой Штапиков поднял один из шлакоблоков, валявшихся возле стены клуба, и подобно метателю ядра, запустил далеко, очень далеко. Силен, бродяга; должно быть, вполне способен также отправить и Митяя, да вот беда — слаб характером. Никита однажды был свидетелем представления, когда Штапиков пятьдесят раз поднял тяжелую армейскую табуретку, держа ее за кончик ножки! Качок.
Воровато оглянувшись, рядовой Штапиков ловко расстегнул крючок на воротнике куртки «хэбэ» и растер бычью шею.
— Скажи, друг Сережа, как солдат солдату. Почему ты терпишь Митяя, позоришь свой родной Воскресенск?
— Ты еще армию не понял, — опустил глаза Штапиков.
А он, Штапиков, понимает. Дай срок, Сережа, и согласно неписанным, но устоявшимся законам, именно тебя будут бояться другие новобранцы. Митяй тебе и в подметки не сгодится!
Скоро построение, вечерняя поверка и — «отбой». А пока можно постоять на крылечке, покурить.
— Махно! Мах-но! — почти змеиное шипение со стороны штаба заставило Никиту насторожиться, а затем и встревожиться, потому что под одним из зарешеченных окон маячила тощая фигурка прапорщика Кольчужкина.
— Дзынь сюда!
Рядовой Махнов подошел.
— Глянь, — зашептал прапорщик, растягивая в полумраке свой тонкогубый рот в земноводную ухмылку. — Глянь, дылда. Да не на меня, в окно, в окно, на топчан! — и цепкие пальцы ухватили Никиту за локоть, грубо пихнули к темному окну медкабинета.
Никита не сразу привык к царящему за окном мраку, но вскоре различил на медицинской кушетке обнажённые тела. Отчётливо белели полные женские ноги с круглыми приподнятыми над мужским телом коленками.
— Это Ленин, — пояснил самодовольно Кольчужкин. — А на кого залез, не разберу. Может, ты признаешь? Я думал, опять латыш с Тонькой-учетчицей, но тот на жердь смахивает… Вон, вон, титьки светятся, признаешь?
Никита отпрянул от окна. Он уже понял, с кем слюбился «ветеран» Ульянов, по светлым длинным волосам женщины. Медсестра Наташа, голубоглазая и круглолицая девчушка, краснеющая маковым цветом по всякому пустяку. Не устояла, выходит, перед статным русым туляком-гренадером. А без одежды она куда полнее…
— Струсил ты, интеллигенция? — крикнул в спину Никите прапорщик, и тут же постучал в окошко, рявкнул: Боец, тебе помощь нужна? — его голос рассыпался старческим дребезжанием. — Куда? Стой! Держи свой штык… мозолистой рукой!
Не хватало еще, чтобы Ленин застал рядового Махнова за подглядыванием! К Никите «старички» относились пока спокойно, может, присматривались. Рыжий краснопогонник Дзюба, откомандированный к ним в хозчасть в качестве сварщика, было заявил:
— Подумаешь, — жена, дети, институт! Это никого не… «Дух» и есть «дух», а «духовенству» далеко до привилегий.
Но его никто не поддержал. Дзюба — чужой солдат. Он зол на весь белый свет. После первой же ночевки он обнаружил пропажу ремня — кожаного, расслоенного, с плоской маленькой бляхой, на которой лучики от звезды обточены, — стильного «черпаковского» ремня. Он хотел в отместку взять в оборот первого попавшегося под руку «духа» Махнова — койку заправлять, но младший сержант Хлюстов пресек поползновения залетного солдата: «Его не трогать». А вечером, когда рядовой Дзюба умывался после отбоя, кто-то умыкнул у него пилотку, отглаженную со всеми «стариковскими» премудростями.
— Что это за часть! — кипятился Дзюба, и круглое холеное личико его наливалось белой ненавистью. — Ничего без глаза не оставишь.
Отыгрался он на соседе сверху, «духе» Ткачуке: влил ему воды в ухо. Читинец Ткачук, рослый, незлобливый, замычал спросонок: «Ухо болеть будет. У меня уже было», — и тут же уснул богатырским сном. Дзюбе пришлось по сердцу добродушие Косолапого — не за походку и даже не за имя, а за медвежью силу, неторопливость и основательность, — так сразу окрестили рядового Ткачука, — и он сделал Мишке «велосипед», пихнув бумажку между пальцами ноги, и поджег. Ткачук со страшной силой задрыгал ногой.
В этот момент в помещение второго взвода вошел капитан Еремин.
— Откуда у нас клоун? — вежливо поинтересовался этот полный человек с непропорционально большой головой и круглым лицом. — Цирк в Москве, на Цветном бульваре. Дзюба, твои шуточки? — капитан подошел к притворившемуся спящим командировочному и схватил его за нос: — Сливу тебе за это, Дзюба. Сливу!
— Товарищ капитан, — загундосил Дзюба, — больно же!
— Сам ты «же»! Предупреждаю всех клоунов, — посерьезнел капитан. — Еще один фокус — и смените первый взвод на пакгаузе.
Тишина стала гробовой, ибо первый взвод разгружал вагоны с краской. Нижний ярус барабанов стоял на неочищенном от шлака дне вагона, и приковылявший с пакгауза рядовой Азингаров (в просторечье Зина) был черен и страшен. На ногтях проступали сине-красные пятна — отдавил в неосвещенном вагоне. Кому охота нести подобную боевую вахту?
…Рядовой Штапиков, который службу понимает, возвращается из самоволки. Не спешит. Атлетическая фигура слегка покачивается на ногах-тумбах. Подмышкой — батон белого хлеба. Голова у Штапикова даже в пилотке приплюснута, словно ему на голову когда-то упала плита.
— Эй, Штапиков! Кто, по-твоему, сильнее: Булгаков или Зощенко? — кричит ему ехидный липчанин, рядовой Турбин, очень умный парень, с высшим гуманитарным образованием.
— А кто вернее: Брюс или Шварценеггер?
Что ж, ответ достоин вопроса.
— А где второй батон?
— В лужу уронил.
Известно, что это за лужа такая. Наверняка съел по дороге, диплодок. Иначе бы и грязный хлеб принес. Зато он службу понимает!
Никита пока не понимал службу, потому что он только учится служить. Первые полгода в армии учишься, вторая половина года — служба, а дальше — подготовка к увольнению в запас. Главное, привыкнуть к мысли, что находишься на положении бессловесного животного, потерявшего гордость, заторможенно-трусливого, как Штапиков. Митяй отхлестал Штапикова пилоткой. Причем бил той стороной, где звездочка.
Махнов заметил за собой странную особенность: когда на него кричали, он ничего не понимал и делал все наоборот или вежливо переспрашивал — прямо отупение какое-то находит. Или врожденное упрямство? Тяжело представить нормальному человеку, считал Никита, и сугубо гражданскому тяготы армейской службы. Нет, ему не хотелось показаться слабым. Дожить бы вначале до осени: уйдут «дембеля», придут, на беду свою, новые «духи»… Но дни тянутся бесконечно, хоть Никита их не считает. Он даже не знает, какое сегодня число. Он служит в небольшой хозчасти. Говорят, это хорошо — попасть в такую часть. Никита не берется судить. Лучше всего — дома, с Анной и Илюшкой. Только до этого «лучше» — целая вечность.
За обедом рядовой Ткачук, помрачневший за время, пока в казарме живет командировочный Дзюба, отчитал Штапикова:
— Ты руки когда-нибудь моешь? Смотреть противно.
— Да ладно.
Штапикову плевать на гигиену. Ему грязь в жилу: не заставят пайки тащить для дежуривших в наряде. Рядовой Вовченко — тощий, почти прозрачный украинец с костистым лицом жертвы Освенцима, объявил за столом новость: у Ткачука день рождения. Рядовой Вовченко с Ткачуком друзья — один призыв, оба водители автопогрузчиков.
За обедом и поздравили. Махнов подарил Мишелю два почтовых конверта, а ребята угостили сахаром. Ткачук засмущался.
После обеда — свободные пятнадцать минут, можно черкануть письмо домой. Только быстро, потому что необходимо до развода на работы успеть напялить поверх «хэбэ» чёрный комбинезон.
— Ник, знаешь, что мне прапорщик Кольчужкин предложил? — внезапно доверительно шепнул Мишка. — Говорит, подцепи вилами погрузчика каркас со стеклами. Там лишние, списать надо. Инвентаризация!
— А ты что?
— Не знаю. Обещал в увольнение отпустить.
Кольчужкина солдаты не терпели. В душе старого остроклювого прапора было столько темного и ядовитого, что от него старались держаться подальше. Ясно, чего он добивался от Ткачука. Сбагрить налево стекло, списав его на разгильдяйство водилы.
— Плюнь на Кольчужкина, — посоветовал Никита. — Не связывайся.
В черных комбинезонах, скрывающих знаки различия, солдаты меняются. Недаром этот цвет называют цветом агрессивности. И подобно футболистам английской национальной лиги, играющим в черной форме, солдаты чаще получают наказание.
Славу Богу, Дзюбы не видно, это его на время командировки назначили командиром отделения новобранцев — «духов». Дзюба лежит на койке. Поутру он обнаружил пропажу брюк хэбэ и объявил, что будет болеть до тех пор, пока не принесут все его пропавшие вещи. Офицерам сказал, что наловился «зайчиков» во время сварочных работ. Рядовой Ткачук принес его пайку: три куска белого хлеба с салатом из свежей капусты, кусочек сала.
Рядом с Дзюбой спит сержант Васька Грицко из Афгана. Поступал в военное училище, но провалился и теперь дослуживал здесь. А, может, училище было зацепкой, чтобы вырваться на Родину? Не нам судить. Зубы у него ослепительные, сам загорелый, веселый. Об Афгане — молчок.
Всю ночь Грицко руководил разгрузкой на пакгаузе, и ему разрешено днем поспать. Больше всех злится из-за этого обстоятельства рядовой Штапиков: шипит в строю в затылок Никите:
— Только командовал, а теперь вылеживается, сволочь!
— Да ладно тебе, — отмахивается Вовченко. — Когда работаешь, служба быстрее идёт!
— Когда спишь, тоже, — не унимался Штапиков. У него под глазом фингал.
— Откуда сие? — интересуется прапорщик Кольчужкин, едва не касаясь своим остреньким носом массивного подбородка Штапикова.
— Не знаю, темно было. Поэтому не в тот глаз дали.
То есть не в левый. Значит, бил левша. Прапорщику ясно: Митяя работа. Понятно и солдатам…
— Ну, это дело поправимо, — говорит рядовой Митичев, то есть Митяй, и зловеще скалит свои измученные кариесом, выщербленные зубы. — Правда, Штапиков?
Ошеломленный таким поворотом дела Сергей идет в строю, как заведенный, даже Никите на пятки не наступает… Стукач! А ещё службу понимает.
Через час Никита узнал: прапорщик Кольчужкин отвел Ткачука в соседнюю часть, на «губу».
— За что?
— Погрузчиком переехал короб стекла. Ни одного целого!
Не удалось, выходит, Кольчужкину стекла сплавить. Рядовой Ткачук должен был лишь задеть каркас, но «не рассчитал» «косолапый» боец, отутюжил все пятьдесят стекол!
III
После ужина они заливают бетоном крышу нового хранилища. Жарко. Мысли о зубных щетках: во время очередной проверки Махнов получил нагоняй за некомплект предметов личной гигиены. Смешно наблюдать, как во время проверки солдаты лихорадочно передают из рук в руки различные мелкие предметы: кусочек мыла или носовой платок — лишь бы отвязался юморной капитан Еремин.
— Рядовой Махно! — на подъёмнике вместо люлек с цементом стоит Ерёмин. — На машинке печатаешь?
В штабе много работы, понимает Никита. Но ведь там рядовой Альтухов, москвич, большой спец по пишущим машинкам. Ладно, разберёмся.
— Новая машинистка объявилась, — острит не без зависти Митяй, ковыряя, по своему обыкновению, спичкой в зубах.
Рядовой Альтухов косоглаз, даже смотреть на него тяжело. Очки с дорогими линзами канули в казарменном бедламе, так и ходит он с глазами в разные стороны.
В учётном отделе рядом с машбюро Никита видит узкую спину латыша Модриса. Фамилия у «деда» трудная, не сразу выговоришь. Ледускрац — в переводе нечто вроде «ледяного берега». Модрис — парень холодный, молчаливый. Согнулся дугой над картотекой, перебирает карточки, что-то пишет в нарядах. Не иначе, ответственность материальную несёт. Куртка «хэбэ» ему коротка, едва ниже пояса.
Рядом с ним, за соседними столами — учётчицы, местные девчата: худенькая коротышка Верочка и дебелая в боевой раскраске — Тонька, зазноба латыша. Если скромняга Верка в солдат исподтишка глазками постреливает, то Тонька без комплексов: она и в часть устроилась ради солдат. Однажды рано утром застал её командир части — заспанную, помятую — на территории, она и бухнула: на работу, мол, пришла устраиваться. Вот и трудится с тех пор.
Рядовой Ледускрац, понятно, на них ноль внимания. Лишь изредка, когда принесенный Тонькой магнитофон чересчур громко начинает призывать: «Не смотри на меня, братец Луи-Луи-Луи! Не нужны мне твои поцелуи-луи-луи!», он поднимает голову и вежливо просит:
— Потише, пожалуйста, Тонешка.
Однажды Махнов спросил Модриса, почему прибалты Россию недолюбливают?
— Россия, Махно, нам культуру испортила.
И весь сказ.
Поэтому, наверное, латыши в учебных ротах от души измываются над новобранцами.
В дверях машбюро — рядовой Альтух:
— Хеллоу, май френд!
Псевдоангличанин грязен, как, должно быть, биография прапорщика Кольчужкина. В гудроне и краске. На куртке комбинезона хлоркой — «Альтух». Сейчас он гудронит металлические баки на ГСМ, те потом будут закопаны в землю и заполнены горючим.
Ему, привыкшему сидеть в штабе, «подвезло» работать в паре с орловцем Мещерой, деревенским, убийственно исполнительным парнем. У Мещеры странная фигура: он худ, в строю кандыбает, загребая сапожищами грязь. Его хорошо сейчас видно Никите из окна: покуривает, развалившись в пыли на солнышке. Чадит «Казбеком» — и хоть бы хны. Загулящий кот Мурр да и только.
— За что тебя из штаба турнули?
— Разобрал одну машинку, «Ятрань», починить хотел, а там пружинка пропала, — выражение лица у Альтуха наивное: обижают, ни за понюшку убить готовы, а он, Альтух, доброе дело хотел сделать. Левый глаз его смотрит спелой черешней на Махнова, а правый — в окно, на рядового Мещеру: Ну ты, если чего, — Альтух достаёт из кармана рукавицы и поправляет пилотку, — зови. Помогу. Кстати, не пялься на медсестру. Не советую.
В дверях — рядовой Мещера. Никите легко представить его где-нибудь на выгоне, в качестве пастуха. Сидит себе в седле, пощелкивает кнутом…
— Ты же сказал: «Крокодил» принесешь? — делает он замечание напарнику.
— Нет его нигде, — разводит беспомощно руками Альтух и бочком продвигается к двери.
— Ладно, хватит дурака валять. Метнулся башню строить. — Зовёт Мещера работать; не просто трудиться на благо Отечества, внося свой скромный вклад в развитие оборонного комплекса, а вкалывать до седьмого пота. Наверное, если собрать всю силу, затраченную им на физическую работу, то ее хватило бы для восстановления Вавилонской башни.
На столе, под стеклом — бумажка с отпечатанными рядовым Альтухом строками: «Армия — большая и дружная семья! Но лучше навсегда остаться сиротой». Жаль, капитан Ерёмин не видел: ходить бы Альтуху с кличкой «наш сирота».
Штапиков сунул голову в дверь.
— Приве-ет! — заискивающе тянет, почти блеет он, шпыняя глазами по комнатухе. — Махно, отпечатай мне «Клятву шофёра», а? Митяй послал… Только не к спеху.
— Почему?
— С табуретки читать придётся. Каждый вечер перед сном.
Это Штапикову кара за диалог с Кольчужкиным. Митяй после него на три дня кряду в наряд заступил дневальным. О Штапикове уже пошли анекдоты по поводу его аппетита и нежелания трудиться, до автоматизма дошёл. Достаточно кому-нибудь рядом остановиться дух перевести — глянь, а рядовой Штапиков уже сидит и тихонько мурлычет: «Белая ночь опусти-илась над го-ородом…» Со стола в столовой он подбирает все объедки, а если несет кому-нибудь пайку, то обязательно частично «уронит» её по дороге.
Никите любопытно, что предстоит читать воскресенскому качку с табуретки.
Ты горяча, как радиатор!
Поверь, твой двигатель — душа,
Ты — новый мой аккумулятор —
И без зарядки хороша!
Глаза твои, как фары, светят
И, как цилиндр, дышит грудь,
Как диффузор, трепещут губы…
Осанна завершилась такими словами:
И если я нарушу клятву,
Пусть коренные полетят,
Пусть коленвал в дугу согнётся,
И поршни в небо улетят!
Особенно Никите понравилось про поршни. Именно на эти детали автомобиля, по мнению Махнова, были похожи Штапиковские скулы, видные даже с затылка.
— У тебя хорошо, — заискивающе улыбнулся рядовой «дух» Штапиков. — Шкафчик с замочком. Сласти можно хранить.
В этом весь Штапиков. Сласти!
— Хошь анекдот?
— Занят, — замахал на него руками Никита. Похабень одна!
Неужели он и до армии был таким? Или в учебной роте качковую спесь поотшибли, и выявилось нутро? Учебку называют деревообрабатывающим комбинатом: привозят дубы, а выпускают липу. Никита не без наслаждения прислушивался к беседам опытных «дембелей». Это они прозвали Штапикова «курсантом» — колоссальной универсальной рабочей силой, абсолютно нежелающей трудиться!
— А ты, моржовый, чего тут делаешь?
— Я, товарищ майор… — Штапиков заметался в дверях, перегороженных сутуловатой фигурой майора Ушнарёва, прораба всех строительных дел части. У майора рачьи глаза, в зубах — полуизжеванная беломорина, в руках — пухлые папки с документами. Он всех солдат так называет: не рядовой, не боец, а хрен моржовый или покрепче.
— Я, товарищ… дядя Юра…
— Вот ведь хрен моржовый, — улыбается майор. — Марш работать! Племянничек нашёлся!
Махнов затаил дыхание. Штапиков сказал: «Дядя Юра»! Немыслимо, родственник, что ли? Стукач, как есть стукач несчастный.
— Отпечатаешь за две недели, до проверки, — майор положил на стол папки. — Обновишь наглядную агитацию в штабе, отпуск дам, краткосрочный. На трое суток, усёк? Но только осенью, не раньше. Можешь работать ночью.
Никита уважал в людях доброту и гуманность и, к счастью, у майора эти качества, вроде, наблюдались. По крайней мере, хотелось верить, что были. Конечно, офицерская доброта своеобразная…
***
Перед инвентаризацией шла сверка документации с наличием запчастей в хранилищах, и учётчицы задерживались допоздна. Верочка заглянула к Никите в машбюро уже затемно; ей потребовались бланки приемо-сдаточных актов. Рядовой Махнов достал ключик от шкафа, открыл его, и когда Верочка склонилась, шаря по полкам, не удержался — взял обеими руками ее за талию:
— Ты что? — резко выпрямилась Верочка, пытаясь отцепить Никитины руки. — Тоже считаешь, что все дозволено.
— А ещё кто? — Никита притянул девицу к себе и сцепил пальцы за её спиной, ощутив её тоненькое гибкое тело.
— Вон прапор ваш, клещ клещём, до Наташки лезет.
— Кольчужкин?
— Побожился, что родичам скажет, ославит на весь город, — поглядев в лицо Махнова, она с досадой пояснила: Если не даст. Недогадливый ты солдат. А ещё женатик. Никита вспомнил, что последнее время он замечал: медсестра уходит домой с заплаканными глазами.
— С огнём играет.
— Это Ленин — огонь, что ли? Смотри, не проговорись, — испугалась вдруг Верочка, блеснув в упор золотистыми искорками глазок. — Наташка от этого клеща никуда не денется. Она не Тонька, с той не пройдёт. А Наташка глупая, наивняк, такие и горят. Ленин уедет, а ей расхлёбывать.
— А с тобой? — спросил Никита, прижимая Верочку покрепче. — С тобой прошло бы?
— Смотря у кого, — и рядовой Махнов почувствовал, что она расслабилась, перестала отпихивать его кулачками, а потом прильнула к его груди. Никита с опаской взглянул в тёмное окно, заваренное металлическими прутьями в виде солнца, и вспомнил о мании прапорщика Кольчужкина следить за всеми и всюду, и поспешно выключил свет. Затем отпустил задвижку дверного замка; замок щёлкнул, поставив совершенно однозначную точку на Веркины сомнения и чисто риторические вопросы.
Поначалу Верочка ластилась, словно маленькая прохладно-вялая кошечка. У Махнова не было опыта общения с худенькими девицами-щепочками, вспыхивающими от одного прикосновения, поэтому его ждал приятный сюрприз. По мере того, как условности вместе с одеждой покидали Верочку, она становилась жарче, и внезапно для Никиты оказалась настолько возбужденной, что ему пришлось зажимать ладонью её ротик, потому что на страстные стоны могли сбежаться другие учётчицы, что в планы малоопытного и вовсе не без комплексов Махнова не входило.
После этого памятного вечера Никита стал приглядываться к штабным девчатам более внимательно, и однажды заметил, как прапорщик Кольчужкин ущипнул медсестру пониже спины. Наташа покорно опустила свои синие глазки, покраснела и понуро ушла в свой кабинет. Сломается, понял Махнов. Вот-вот сломается, и никакой Ленин не поможет. И вдруг вспомнил её, ту, в окне, с рядовым Ульяновым.
А что, собственно, странного? В жизни ей, как и любой другой женщине, предстоит ещё много раз быть послушной и доступной. В конце концов, её дело и её право выбора. И в начале концов, и в конце концов! А сплетни — не деготь на заборе, не смертельно. Подумаешь! Что, собственно, странного и страшного? Да ничего. Они все такие. И мы все такие. Мы — тетрадь в клеточку, мы клеточки, пустые и грубые. Что не впиши в квадратик, всё равно в квадратик. А они, местные, от нас и ждут ЭТОГО, и не справься я с Верочкой в машбюро, она бы в медкабинет пошла. А на меня бы ещё и обиделась!
IV
Со слезами на глазах читала Анна мужнино письмо: возможно, на побывку приедет. Это были слезы надежды и сдерживаемой преждевременной радости. Приедет ли? Нестерпимо хотелось второго малыша, и желание это становилось просто изнуряющим.
— Хорошо бы папа приехал! — громко вздыхал Илюшка. — Мы бы с ним мучились.
То есть замучает папу играми. Никита снился ей почти каждую ночь, и казалось, к несчастью. Не заболел ли? И в письмах словно чего-то недоговаривает. Может, забывать стал?.. Она и раньше догадывалась, что Ник не совсем прост, не рубаха-парень, и многое, открывающееся теперь в письмах, довольно холодное, эгоистичное даже отталкивало.
Всё равно, считала Анна, какой бы он ни был, главное — дождаться. И мамка чтоб не пилила: без высшего образования, мол, осталась, а муж после службы обрастет новым обществом, врастет в него — не вытащишь! Не так отесана.
Чушь, конечно, но… вода камень точит. Устаешь быть одной.
Илюшка тоже тоскует, раздражительный стал. Приболел даже. Слабенький, думает Анна, в меня.
Все началось с брюк. Захотелось Илюшке в тридцатиградусную жару надеть свои любимые шерстяные брючки, истерику закатил. Да такую, что сам себя напугал. Потом в кресле сидел бледный, как мел… Собралась с ним на следующий день пойти письмо мужу отправить. Моросило и пришлось набросить плащ, а вот пояс она решила не повязывать.
— Мам, ты толстая в плаще. Завяжи пояс.
— Не хочу.
— Ну, мамочка, завяжи! А то я с тобой никуда не пойду.
Анне казалось, что жизнь без Ника — безрадостная трясина, да еще, ко всему прочему, растущее с каждым днем желание — прямо либидо, как в медовый месяц. «Умираю…", — писала она Никите. И мамаша, человек стойкий и рассудительный, словом, прокурор, исподтишка наблюдая за ней, слезу пустила: забрили, мол, кормильца-то, придурки ненормальные!
Анна изводила себя и Ника письмами страстными, чувственными, слезливо-сентиментальными. Лишь когда Илюшка приболел, она несколько поостыла, стала писать реже. Бронхит, кашель по ночам. Анна не высыпалась, занятия в медучилище забросила.
Илюшкина подружка по двору, Танечка Качанкина, тоже заболела, и её мама, Маринка, уговорила Анну делать девочке уколы, три раза в день. Не могла Анна отказать, очень уж сын подружился с Танечкой.
— Таня, мы с тобой поженимся?
— Конечно, поженимся, ещё бы!
Ещё бы! Они, два ребёнка, настолько схожи характерами, упрямостью и тягой к лидерству, что в будущем будут или супругами, или врагами.
Как нужен сейчас Ник! Я, думала Анна, со своей частой сменой настроения, раздражительностью, нередко унынием и чувством неполноценности, короче, комплексами, и беззаботный Ник — мы всё-таки чудненько дополняем друг друга. Конечно, наши индивидуальные особенности однажды стушуются, потеряют остроту, но пусть это случится нескоро, очень нескоро.
С Маринкой Качанкиной не надо было откровенничать.
— Второго ребёнка? С ума сошла! Они только и ждут — нас в пелёнки зарыть…
Просто, жаль её, Маринку. По правде сказать, Анна недолюбливала: пять тысяч на книжке, в гардеробе — кожаное пальто, от покойной матери наследство, а одевается бедно, не скромничает — скаредничает, экономит на всем. На уколах даже: всё-таки каждый укол три рубля. Блок сигарет для Ника! Не попросишь…
Так хочется маленького, прямо хоть к Нику в армию езжай! Я ужасно счастливая, думала она. Страшно подумать о своей возможной судьбе, не познакомься она восемь лет назад с Ником! Нет, все равно мы были бы вместе, иначе невозможно; и город не очень велик, настоящий сводник.
Была и частичка вины: раньше надо было думать, раньше рожать! А теперь — бесконечные дни и ночи без Ника, они такие длинные и их так много, что Анне кажется, это навсегда.
Ой, Никита, мне страшно! Была у аллерголога. Илюшке ставили четырнадцать проб. Выявили два компонента: библиотечная пыль и шерсть овцы. Книги — в кладовку. Шерстяные вещи не носить. Хорошо, что у нас в Союзе днем с огнем изделия из чистой шерсти не найдешь.
Водит Анна сына на массаж, поит валерианкой. Спит Илюшка полусидя, на двух подушках — так кашель меньше мучает. Убеди меня, Ник, скажи, что все будет хорошо, в тысячу раз лучше прежнего…
Поздно вечером, когда Илюшка уже спал, и Анна, постелив себе постель, после душа собралась надеть пижаму, в дверь позвонили. Анна спешно накинула старенький мамкин халатик на голое тело и подошла к двери:
— Кто?
— Это я, — раздался знакомый низкий голос.
Яков!
Она быстро перетянула халатик пояском, запахнула ворот и открыла дверь. От Якова Качанкина сразу дохнуло коньяком и дорогим дезо. Впускать его в квартиру Анна не собиралась, но он так по-хозяйски шагнул на нее, что женщина невольно посторонилась. Захватчик!
— К матери духи завезли. Вот, достал. — И он вынул из красивого импортного пакета коробку. Это были французские духи, о которых мечтали многие женщины, «Опиум». Они стоили больше компенсации, которую военкомат выплачивал за Никиту. Мать Якова Качанкина работала в промторге, и комсомольский вожак резинового завода, как и подозревала Анна, изредка приторговывал дефицитными вещицами. Конечно, для своих, проверенных.
Она понюхала коробку, стараясь уловить сладковато-терпкий аромат, и со вздохом протянула духи Якову:
— Возьми, у меня нет таких денег. А у матери просить не буду.
— Аннушка, это подарок, — проникновенно промолвил Яков, и в его глазах засветилась плохо скрытая, а точнее, нескрываемая, почти агрессивная жадность. Жадность до неё, Анны. Даже желваки на его жестких скулах вздувались от волнения. — Ко дню рождения.
— До моего дня рождения два месяца, — под наглым взором Якова Анна почувствовала себя обнаженной. И на самом деле она вдруг спохватилась: под тонким хлопчатобумажным халатиком на ней ничего не было.
— Да за уколы это. Бери, бери, уколы стоят дороже… А ты без помады и краски еще красивее. Аннушка, у меня сегодня праздник. Можно? — Он достал из пакета бутылку армянского коньяка.
— Ты что? — испугалась Анна, чувствуя, что откровенный взгляд Якова все более гипнотизирует ее, переходит всякие границы, делает совсем беспомощной. «Ты мне желанна», — говорил этот взгляд. — А Маринка зайдёт?
— Все на даче, с ночевкой. Клубника усами заросла, — пояснил он и снял ботинки. Затем взял пакет с коньяком и спокойно, даже с достоинством продифилировал на кухню.
Анна юркнула в комнату, открыла шкаф и, схватив трусики, в одно мгновение натянула их на себя. А брошенную на кровать пижаму запихнула под подушку. Потом послушала, как хозяйничает на кухне поздний гость, — послышался звон рюмок, — она не стерпела, открыла дрожащими пальцами заветную коробочку, достала флакончик — настоящее сокровище! — и подушилась. Запах показался очень сильным, он словно заполнил всю квартиру. И Анна замахала перед лицом ладошкой, надеясь, что хоть немного первый резко-насыщенный запах рассеется, оставив ту необходимую устойчивую гамму нежного, элитного аромата, ради которого и платятся немыслимые деньги.
«Ах, не накрашена!» — Анна посмотрелась в зеркало в прихожей. Лицо ее было бледно и под глазами — круги. И волосы не помыла… Какая есть, никто его не звал.
Они выпили по рюмке, заели лимонными дольками с сахаром: предусмотрительный Яков, оказывается, и лимончик припас. Строгое, скуластое лицо гостя со слегка небритым подбородком, покраснело, словно под кожей играл огонь. Ладная широкоплечая фигура спортсмена и ярко блеснувший при сдержанной улыбке золотой зуб — это у секретаря комитета комсомола! — от всего его облика веяло мужественностью и серьёзностью.
— Что за праздник? — спросила она, придерживая ворот халатика, чтоб не распахнулся.
— Мне удалось уговорить директора прикрепить за мной «Волгу». Теперь не нужно клянчить в парткоме по любому поводу. Партия, конечно, — наш рулевой, но учиться рулить — задача молодежи.
Он уверенно стоял на ногах, этот человек, и прочно держал свое место в жизни, свой сегмент, свой пятачок. Неоспоримых мужских достоинств в нем было явно и убедительно больше, чем в Никите. А старше Никиты Яков был всего лишь на пару лет.
Под нежным и одновременно властным взглядом Якова Анна терялась и впадала в некий испуганно-аморфный транс. Она ещё не отдавала себе отчета, что Качанкин вдруг ошеломил её, сковал её волю, словно приобщая к иной, более яркой и насыщенной удивительными событиями и вещами жизни. В движениях кисти его руки, поднимающей рюмку, в неких других повадках и речах — угадывались, узнавались превосходство и пренебрежение к мелким условностям, комплексам, опутавшим обычных среднестатистических граждан.
— На брудершафт?
— Нет. — Если поначалу она не знала, куда деться от его немигающего бледно-голубого, почти серого взгляда, то теперь решилась, ответила благосклонно, уже без внутренней дрожи. — Без банальностей, пожалуйста.
Коньяк помог ей преодолеть внутреннюю сжатость, и прошло совсем немного времени — она почувствовала себя совершенно свободной и лишь по скользнувшему вниз взгляду Якова поняла, что халатик все-таки распахнулся.
Не мог Яков упустить такого случая и ограничить себя одним созерцанием ее нежно-манящих прелестей. Зачем себя обкрадывать? Анна… Что Анна? Не будет она кричать на весь дом…
Первая армейская осень. Что может быть зануднее! Дождь обрушивал на белесые, с разводами пота пилотки мелкие сухие крупинки града и набухшие от осенней влаги листья. Портянки не просыхали — самое скверное для солдата дело. В субботу утром, по обычаю, личный состав тащил свои постели во двор — просушка и выбивка. Но с ночи зарядил дождь. Ночью вся казарма трудилась на пакгаузе — разгружали палатки. Всё разгрузить до зари не успели и, чтобы не простаивали вагоны, решили закончить в субботу. Вот и прикинули солдатики: пока они будут ишачить на пакгаузе, постель промокнет насквозь — спать не захочешь. А спать надо, хоть с субботы на воскресенье отоспаться.
— Вынести постели! — разорялся прапорщик Мокашко, обозленный видом солдат, застывших возле своих коек. Один рядовой Штапиков попытался свернуть постель, но Митяй шикнул на него, и тот аж затрясся — дошло.
— Это приказ командира части! — рявкал Мокашко, постепенно бледнея и угрожающе двигая квадратной челюстью, словно собирался сточить свои зубы для устрашения.
— Так он же не знал, что дождь будет. Не синоптик, — по-крестьянски рассудил рядовой Мещера. И смутился своим ораторством. Прапорщик подскочил к Мещере.
— Выноси! Последний раз приказываю! За неподчинение дежурному части — знаешь что! — Мокашко поднёс кулак к глазам строителя Вавилонской башни.
— Попробуй, — тихо вымолвил Мещера и, словно совсем застыдившись, потупился. Мокашко, не размахиваясь, ткнул кулаком Мещере в губы. Солдат покачнулся и почти автоматически, наклонившись слегка вперед, ответил прапорщику дланью прирожденного землекопа. Только не в губы, а в челюсть.
— С-сука! — засипел Мокашко, дико оглядываясь и вырывая из кобуры пистолет. Солдаты стояли вокруг молча, не шевелясь. — Выполнять! Шестерых уложу!
Никита Махнов стоял в трёх шагах от Мещеры, подсчитал: первым — строитель башни, вторым — латыш Ледускрац, третьим — афганец Грицко, четвертым — он, Никита…
Пистолет поднялся до лба Мещеры, и в казарме вдруг стало темней — такими одинаково серыми стали лица солдат, шагнувших со всех сторон к прапорщику. Сердце застучало у Никиты, а ему хотелось бы, чтобы оно затаилось, стало маленьким, таким же, каким оно делается, наверное, на войне, чтобы труднее поразить его было, и ёмким, потому что бьется для всех, даже для тех, кто увильнул от армии.
— Назад! — пистолет опустился вниз, уставился дулом в пол. После выстрела — вновь глухая тишина. Пуля ушла в половицу между подошв избитых, изрезанных на стройке Мещериных сапог.
Никита готов был поклясться, что в какое-то мгновение по казарме — это неуловимо просквозило даже по косым глазам Альтуха — над Мокашко пролетела Смерть. Невидимая и неслышная, но по лицам солдат узнаваемая сразу — смерть прапорщика со странной неуклюжей фамилией.
И тут рядовой Штапиков поспешно свернул постель и направился к выходу. Пораженные его трусостью солдаты зашевелились, посторонились, пропуская его, а за ним и прапорщика.
Когда дождь утих, приехал командир части, подполковник Калдинов, крепкий как груздь; не скажешь, что год до пенсии. Он направил солдат с завтрака на пакгауз, а наряду приказал вынести постели на улицу. После отъезда командира дождь полил как из ведра, и спать рота все равно легла в промозгло-болотные жабьи постели. Рядовой Мещера получил трое суток гауптвахты, но отправили его лишь в понедельник, после разгрузки кирпича. Остальным — недельная учеба. Но об этом Никита узнал уже в санчасти, куда он свалился с ангиной.
Наутро, едва спала температура, Никиту изрядно «припахали»: и за пищей в столовую, и посуду со столов убирай, и полы мой. Трудотерапия. К вечеру — слабость, и боль слева в груди. Попросил у санитара-абхазца таблетку папаверина.
Санитар с желтой «соплей» ефрейтора на синих погонах (соседняя часть, где лежал Никита, была летной, строевой) долго размешивал ладонями таблетки, высыпав их из обувной коробки, словно костяшки домино «культивировал». Изредка останавливался и поднимал на Никиту выпуклые изюмины глаз:
— Папвэрин, да? — а когда подходили другие больные за лекарством, он всем без разбора давал две таблетки: белую и зеленую. Как в анекдоте: одну — от головы, другую — от задницы.
— Товарищ ефрейтор, вы где мединститут заканчивали? — сорвалось у Никиты.
— А что? — ефрейтор подозрительно уставился на Никиту. — Взял свой папвэрин, да? Вот и иди. Бери щетка с мылом — очко — десять минут — все блэстит, понял?
Чего же не понять? За десять минут отдраить туалет. Говори после этого, что любопытство — не порок.
— Сложно, наверное, медицине учиться? — бесёнок в Никите не мог угомониться. Ефрейтор даже на стуле откинулся — до того поразился наглости «молодого»:
— Какой сложно? Двадцать два барана, понял? Бери щетка с мылом и — очко!
Вопросов больше нет. Но все равно: почему он ефрейтор тогда? Баранов не хватило, что ли?
Трудотерапия, потом — укол пенициллина и перед сном можно посмотреть телевизор. Только посмотреть, не двигаясь со стула. Рядом с телевизором стоит аквариум с двумя рыбками: сумасшедшей «золотой» вуалехвосткой и меланхоличным бычком. Телевизор и аквариум запрещено трогать: еще испачкаешь или заразишь рыб. Над аквариумом армейский Ван-Гог, никогда не державший до службы кисти в руке, намалевал на стене Крымский пейзаж: море с яхтой и страшноватое с темными провалами узких окон, похожее на дом Ашеров в момент его гибели — Ласточкино гнездо.
— Махнов! Тебе письмо.
Да не одно, два! Молодец Аннушка-сударушка!
Никита ушел в палату, сел у окна, за которым сверхблизким горизонтом за двумя молодыми елочками — кирпичная стена. Под самым окном мелькнула знакомая фигура. Ба, да это Штапиков! Живой еще, значит. Интересно, кто его послал с письмами?
Жена писала, что вновь ругается с матерью, что бросила училище, нигде не работает. Сто раз уже выслушала, как замучена бедная мама, труженик заводской бухгалтерии.
К удивлению Никиты, жена теперь уверена, что он, скинув форму, не будет помогать ей по дому. А мама постоянно станет об этом говорить, пока Анна не попадет в психушку. Она сетовала на свою бесхарактерность. Не желала идти к друзьям, Качанкиным — на очередную годовщину их свадьбы. А вот пошла. Подарила Маринке и ее мужу Якову книжку о семейных праздниках. «Нам-то эта книженция вряд ли пригодится». Это замечание Аннушки заставило Никиту задуматься и более внимательно, настороженно вчитаться в беглые строки… Никита, оказывается, не хочет, чтобы родился второй ребенок! Когда он этого не хотел? Не нравятся ему эти Качанкины. Хотя бы потому, что оба из номенклатурных семей. Глава семьи Яков — секретарь комсомольской организации резинового завода, — лилипут с фигурой гимнаста, поистине карманный секретарь, слишком откровенно пялит свои наглые глазенки на Анну.
У женщин всегда бывают различные желания и капризы, а человек, известно, в своих постоянных желаниях иногда перестает понимать, чего ему нужно. Тогда жди любых неожиданностей.
Откуда эта злоба? — изумился внезапно Никита и раскрыл другое письмо, — может, оно повеселее? Просит писать чаще и пообстоятельнее, это помогает сохранить чувства в испытаниях разлукой.
— Махно! — кричит санитар из туалета. — Эй, папвэрин! Плохо блэстит. Щетка с мылом — десять минут — живо!
Санчасть, понятно, та же армия. И на обед выделяется всего семь минут. Не успел — щетка с мылом! Никита не мог есть быстро, не приучен. Ибо раб тот, кто ест по команде. Но есть и отличие: в санчасти не обязательно козырять дневальному у тумбочки, чистить сапоги и можно даже сходить в туалет без спроса.
Когда сбросившего пять килограмм веса Никиту выписали, санинструктор, зауважавший его за знание лекарств, произнес напутственную прощальную речь:
— Папвэрин! Человек привыкает ко всему, даже к высильце: падоргаица и упакоица. В армии обмэн мнэний: ко мне идёшь со своим, от мэна — с маым.
Прощай, санчасть, даст Бог, навсегда. Прощай, санинструктор — двадцать два барана!
Оказалось, что учёба в родной части затянулась на три недели: слишком, видать, разозлился командир на пальбу в казарме. Вместо перекуров и личного времени после обеда и ужина прапорщики терроризируют строевой. Ждут комиссию из Москвы.
Прапорщик Мокашко навел шмон в тумбочках похлеще, чем капитан Еремин. Конфисковал, гнида, старые письма, конверты и тетрадки — видите ли, не положено; выкинул из записной книжки рядового Вовченко не прочитанное еще письмо от отца. На Вовчика больно смотреть. Ему невеста не пишет, мать-алкоголичка затерялась где-то на зоне. Маршировать в строю он никак не желает по-человечески: тянет ногу, горбится и не поднимает верноподанно подбородок.
— Задавлю гада! — скрипит он зубами в строю. — Колесо новое на погрузчик поставлю и задавлю.
В столовую заходили под крики Мокашко «смирно» и «тяни мысок». Что-то не понравилось — заставляет маршировать на месте, а то и на землю кладет командой «вспышка с тыла!». Рота подходит к столовой грязная, с идиотской песней на устах:
Я приду с победою,
Сяду пообедаю.
Мать повесит бережно
Серую шинель!
Бред какой-то. Поэтому Вовчик вместо последней строчки иногда поет: «на фонарь „куска“!»
Команда: «Головные уборы снять!» Пилотка летит в левую руку. Сама летит, ей Богу! «В столовую слева по одному бего-ом… марш!» За тридцать секунд роте надо вбежать в столовую. Если кто-то, совершая бег на месте, вдруг рванулся раньше времени, натыкаясь на спину переднего, всех возвращают в исходную позицию. И время на обед сокращается. Потом стоят над своими местами за столом и ждут команды — «Рота, садись!» Если сесть не в одно мгновение, команду приходится выполнять снова. «Раздатчики пищи, встать!» Взлетают раздатчики, по одному от каждого отделения, они тоже должны выполнять команды синхронно. На еду остаётся семь-пять минут. Затем бегом строиться. Если после обеда рота идет невесело, колонну заворачивают для бодрости на плац. «Ходьба по отделениям на четыре счёта шаго-ом …арш! Раз…» Левая нога поднимается и замирает на весу; тянется, тянется мысок. Долго, пока не начинает дрожать. «Два!» Подошва с силой шлепает на плац. «Отставить, не разом опускаете». Нога вновь зависает и тянется выше, выше…
Бесплатный фрагмент закончился.
Купите книгу, чтобы продолжить чтение.
